| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Том 6. Наука и просветительство (fb2)
 - Том 6. Наука и просветительство (Гаспаров, Михаил Леонович. Собрание сочинений в 6 томах - 6) 7008K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Михаил Леонович Гаспаров
- Том 6. Наука и просветительство (Гаспаров, Михаил Леонович. Собрание сочинений в 6 томах - 6) 7008K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Михаил Леонович Гаспаров
Михаил Леонович Гаспаров
Собрание сочинений в шести томах. Том VI. Наука и просветительство
УДК 94(470+571)«19»(093.3)
ББК 83г
Г22
Редколлегия
Н. Автономова, М. Андреев, С. Гардзонио, Н. Гринцер, А. Зотова, О. Лекманов, И. Пильщиков, К. Поливанов (координатор проекта), Д. Сичинава, А. Устинов
Cоставление К. М. Поливанова, А. Б. Устинова
Михаил Леонович Гаспаров
Собрание сочинений в шести томах. Т.6: Наука и просветительство / Михаил Леонович Гаспаров. – М.: Новое литературное обозрение, 2023.
Первое посмертное собрание сочинений М. Л. Гаспарова (в шести томах) ставит своей задачей по возможности полно передать многогранность его научных интересов и представить основные направления его деятельности. Собранные в шестом – финальном – томе материалы знакомят нас с мыслями ученого о науке и людях в ней, о профессии и об исследовательских методах, о просветительстве и образовании, о месте филологии и вообще гуманитарного знания в нашей повседневной жизни. Том открывает книга «Записи и выписки», составленная Гаспаровым из фрагментов его записных книжек, дополненных воспоминаниями, письмами, ответами на анкеты и интервью. Статьи, рецензии, предисловия, заметки, программы и конспекты небольших лекционных курсов, мемуарные фрагменты, письма, анкеты и интервью, также включенные в том, в значительной степени дополняют эту книгу. Читатель – как будто изнутри, глазами одного из ярчайших ученых, одновременно филолога-классика, исследователя истории русской поэзии и стиховеда – сможет посмотреть на плодотворнейшую эпоху развития гуманитарного знания, которой оказались последние четыре десятилетия ХX века, представить логику исследовательской мысли, познакомиться с научными и литературными вкусами и предпочтениями М. Л. Гаспарова.
ISBN 978-5-4448-2310-4
© А. М. Зотова, 2023
© К. М. Поливанов, А. Б. Устинов, составление, 2023
© К. М. Поливанов, Д. В. Сичинава, статья, 2023
© Д. Черногаев, обложка, макет, 2023
© ООО «Новое литературное обозрение», 2023

РЫЦАРЬ ФИЛОЛОГИИ
ГАСПАРОВ О ЖИЗНИ, О ЛЮДЯХ, О НАУКЕ
Шестой том собрания сочинений М. Л. Гаспарова может показаться самым пестрым, но вовсе не следует полагать, что сюда просто собрано все, что не поместилось в предыдущие тома. Составители стремились не столько представить результаты трудов Гаспарова-ученого, сколько показать читателю самогó познающего Гаспарова.
Том открывает книга, сразу ставшая интеллектуальным бестселлером. «Записи и выписки» печатались сперва на страницах журнала, а затем, в 2000 году, были выпущены издательством «НЛО» как отдельное издание. Этой книге трудно подобрать точное жанровое определение, она, как и сам автор, многогранна и во многом парадоксальна. В значительной степени это коллекция заметок Гаспарова из его записных книжек, так что можно было бы говорить о прозе ученого, но – и, быть может, с не меньшим успехом – подошло бы к ней и определение «собрание верлибров». Тут, наверное, стоит вспомнить, что статьи, рецензии, заметки Михаила Леоновича всегда производили впечатление почти художественной прозы, при абсолютно строгой системе обстоятельного и доказательного научного рассуждения. Сам Гаспаров определял этот жанр как нечто традиционное, но в то же время можно увидеть в нем предтечу и едва ли не прообраз современных записей в «Фейсбуке», провоцирующих к комментариям и разнородным «лайкам». Это книга обо всем на свете: прежде всего, конечно, о слове, словесности и филологии, но также и о современности и древней истории, о языке и современниках, о политике и просвещении, об античности и постмодернистской поэзии, и, конечно, о людях, самых разных. Буквально каждый фрагмент книги все время провоцирует к соразмышлению.
В предисловии к первому изданию «Записей и выписок» Гаспаров писал:
У меня плохая память. Поэтому, когда мне хочется что-то запомнить, я стараюсь это записать. Запомнить мне обычно хочется то же, что старинным книжникам, которых я люблю: Элиану, Плутарху или Авлу Геллию, – интересные словесные выражения или интересные случаи из прошлого. Иногда дословно, иногда в пересказе; иногда с сокращенной ссылкой на источник, иногда – без. Сокращений я здесь не раскрывал: занимающимся историей они понятны, а остальным безразличны. Я не собирался это печатать, полагая, что интересующиеся и так это знают; но мне строго напомнили, что Аристотель сказал: известное известно немногим. Я прошу прощения у этих немногих.
Эти записи печатались в журнале «Новое литературное обозрение». Для книги я добавил к ним несколько статей на ненаучные темы – писанные по заказу, они тоже когда-то кого-то интересовали – и несколько экспериментальных стихотворных переводов, сделанных для себя.
Здесь, как и во всей книге, безусловно присутствует доля лукавства, несомненная игра с читателем, которому явно предлагается вспомнить о самых разных шутливых предисловиях, где авторы отчасти открывали свои карты, отчасти готовили к самого разного рода неожиданностям. То и дело присутствующая в книге ироничная игра совершенно не отменяет глубочайшей серьезности множества и коротких, и длинных фрагментов, составивших книгу.
Читатель вовлекается в игру всем наполнением и структурой книги: записи и выписки – длинные, короткие и совсем короткие – это цитаты из книг, воспоминаний, газет, архивных документов, отдельные слова и фразы из разговоров со знакомыми, их рассказы о чужих репликах (иногда бывает названо имя собеседника, иногда даются инициалы или одна буква), рядом могут оказываться и чисто филологические наблюдения, опять же иногда свои, иногда собеседников. Записям в книге даны заголовки, часто повторяющиеся («Жизнь», «Перевод», «Подтекст», «Заглавие», «История», «Престиж», «Предки», «Прогресс» – так озаглавлены многие записи), иногда уникальные («Зайцы и лягушки»); для других записей заглавием служит их первое слово. Некоторые записи и выписки включают и поясняющие реплики автора, которые тоже бывают и краткими, и развернутыми, но многое выписывается без комментариев. Какие-то записи целиком строятся как собственное наблюдение. Логику заглавия записей иногда бывает легко понять (как, например, в нескольких записях, названных «Подтекст»), а иногда читателю явно предлагается загадка.
Все записи расположены в четырех последовательностях, названных автором «От А до Я». (В первом издании алфавитный порядок касался только первых букв: так, после нескольких записей, озаглавленных «Любовь», шли несколько других, а затем еще несколько «Любовей», «Жизней», «Языков» и т. д. – сам этот «беспорядок», конечно, входил в состав игры с читателем, которую вел автор, во всех своих исследованиях всегда стремившийся к максимальной и ясно видимой упорядоченности.) Записи с одним и тем же заглавием помещаются часто в разных частях книги. Между четырьмя «алфавитами» Гаспаров поместил свои воспоминания «Моя мать», «Мой отец», «Война и эвакуация», «Школа», «Университет» и другие, об институте мировой литературы, где он много лет служил, о своих университетских профессорах, а также свои письма нескольким адресатам, ответы на разнообразные анкеты и интервью 1990‐х, статьи о переводе, стиховедении, античности, семиотике.
Замечательный книговед и редактор Аркадий Эммануилович Мильчин в книге «Как надо и как не надо делать книги. Культура издания в примерах» посвятил «Записям и выпискам» главу «Алфавитный беспорядок», упрекая издательство «НЛО» в том, что они не снабдили книгу алфавитным указателем вокабул:
Оригинальная книга М. Л. Гаспарова «Записи и выписки» (М., 2000) не может не восхищать любого читателя, способного ощутить интеллектуальную силу включенных в нее неординарных текстов.
К великому сожалению, эта прекрасно изданная книга, которую даже брать в руки приятно, подпорчена одним редакционным недоглядом.
Свои выписки автор оформил в виде словаря с вокабулами, расположенными по алфавиту в каждом из четырех блоков, одинаково названных «От А до Я». Внутри блока за статьями с заглавием на букву А следуют статьи с заглавием на букву Б, затем на букву В и т. д.
Однако если алфавитный порядок групп статей с заглавиями на одну начальную букву строго соблюден, то внутри каждой группы в расположении статей никакого порядка нет. Например, на с. 137–138 статья «Кукушка и петух» (с. 137) значительно опережает статьи «Катарсис» и «Канонизация» <…>. Да «Канонизация» и должна была бы предшествовать «Катарсису» <…>. И так по всей книге, во всех словарных блоках.
Правда, автор мог выбрать такое расположение вокабул на одну начальную букву вполне сознательно, исходя из замысла известного одному ему (например, по ассоциативной или иной связи между статьями). В конце концов, читать словарные блоки можно и подряд. Так что этим алфавитным беспорядком можно было бы пренебречь и даже не заметить его, если бы автор изредка не отсылал читателя от одной статьи к другой. Например, в первой статье «Коллективный труд» (их во втором словарном блоке две) содержится ссылка: см. также «Институт». В каком из блоков «словаря» нужно смотреть так озаглавленную статью, не указано. Приходится просматривать все статьи на И во всех четырех блоках. <…> Она нашлась только в четвертом блоке, причем между статьями «Исход» и «Извощичьи слова», то есть там, где, следуя алфавитному порядку, ее ожидать было нельзя1.
Собираясь напечатать вышеприведенные слова, Мильчин счел необходимым послать свои замечания Гаспарову и получил письмо, которое также опубликовал:
Глубокоуважаемый Аркадий Эммануилович!
Я, действительно, очень виноват перед Вами и перед другими коллегами, которые серьезно относятся к книге «Записи и выписки», – я понимаю все указанные Вами трудности, потому что и мне самому при необходимости очень трудно найти в ней нужные места (поэтому, в частности, мне не удалось истребить в ней некоторые повторения). Но это были требования жанра – не научного, имитирующего домашность. Поэтому же и алфавит соблюдает только первую букву: моими образцами были Элиан, Авл Галлий (и Стобей), а досужие греки соблюдали алфавит только в первых буквах. Простите мою покорность жанру и поверьте, что я бесконечно тронут Вашим вниманием. Я тоже много редактировал в жизни, понимаю Ваши заботы и со вниманием читал Вас в НЛО. Всего Вам самого хорошего…
Весь Ваш М. Г.2
Конечно же, ответ Гаспарова написан не без лукавства, «кажущаяся беспорядочность» записей, безусловно, в высшей степени продуманная, читателю, как уже было сказано, не всегда легко разгадать логику, но в этом очевидно присутствует элемент авторской игры с нами. Про одно можно сказать с уверенностью. В одной из дарственных надписей на шестой странице первого издания под предисловием и рядом с картинкой зайца Михаил Леонович написал «от зайца познающего». Познающий – это тот, кому абсолютно все собранное в книгу очень интересно, а дальше, как искусный педагог и искусный писатель, он умеет сделать это интересным своим собеседникам и своим читателям.
Наверное, почти все, кому довелось встречать Гаспарова, помнят, как он доставал записную книжку и записывал услышанную фразу, слово, наблюдение, многим доводилось и слушать, как он эти записи читал собеседникам. Записные книжки велись на протяжении десятков лет. Биолог Борис Николаевич Головкин, учившийся с Михаилом Леоновичем в последних классах школы, рассказывал:
Он все заносил, как уже было сказано, в записные книжки своим мелким, убористым, очень четким почерком. Мы дарили ему эти книжки, потому что они очень быстро кончались. Он всегда носил их при себе в кармане. Причем тематика была самая разнообразная. Я не буду говорить, какой тематике были посвящены две книжки, которые у меня есть и которые я на память храню, потому что это детские книжки, касающиеся наших детских, условно говоря, игр. Но это тоже страшно интересно, потому что там есть некоторые такие пародии, я не знаю, на какой оригинал, вроде «Голубая кошка вышла на дорожку. Было удивительно, удивительно слишком. Кошка не знала, лето иль зима. Оранжевую мышку взяла она под мышку, и мышка подумала, не сошла ли она с ума». Вот такие были стихотворения. Потом были другие, более «взрослые» стихи3.
Вошедшие в том кроме «Записей и выписок» статьи, заметки, рецензии, предисловия, конспекты, интервью, письма – так же как и сама эта книга – о литературе и науке, об их сходствах и границах, о нужности филологической профессии, о месте филологии и филологов в окружающей жизни.
Включенные в том интервью и ответы на анкеты дополняют материалы, которые в «Записи и выписки» включил сам Гаспаров. В 1990‐е годы, которые, наверное, были едва ли не лучшим десятилетием в истории страны, даже не только в ХX веке, самые разные издания обращались к Михаилу Леоновичу с просьбой об интервью. Оценка происходящего здесь и теперь, казалось бы, кабинетным ученым, погруженным в такие специальные области знания, как классическая филология и стиховедение, оказалась востребованной. И это не удивительно. Гаспаров постоянно и внимательно читал газеты и журналы, следя за жизнью страны не менее внимательно, чем за современной поэзией. Он отлично чувствовал и точно и продуманно формулировал свои ответы (интервью никогда не бывали устными).
Как Сергей Сергеевич Аверинцев («филологов много, а Аверинцев был один» написал Гаспаров) называл филологию службой понимания, так Михаил Леонович сформулировал, что филология – служба общения. Именно здесь, по его мнению, одна из обязанностей филолога в самом широком смысле: переводы («переводчики – скоросшиватели времени»), языки, адаптация для современников культуры давнего и сравнительно недавнего прошлого. Вспомним, что одной из самых популярных книг Гаспарова оказалась «Занимательная Греция»4. Автор стремился максимально облегчить, сделать одновременно доступным и увлекательным далекое прошлое, которое в его книге ощущается как имеющее самое прямое отношение и к настоящему. Гаспаров ценил издания, помогающие читателю, он сетовал, что только два раза напечатали «Войну и мир», где в качестве оглавления даны сверхлапидарные характеристики каждой главки, что не делают популярных кратких переложений длинных текстов разных эпох прошлого. Нельзя требовать от общества, чтобы все были историками и филологами, говорил Гаспаров, но именно историки и филологи, занимающиеся реконструкцией прошлого, должны облегчать восприятие накопленного за столетия опыта, мягко советовать не делать крышу из того, что в прошлом служило фундаментом, и наоборот.
Гаспаров был оптимистом, он надеялся, что следующим поколениям доведется жить чуть легче. Чрезвычайно выразительны его оценки политического прошлого:
– Чем был ХX век в истории России – революция, культ личности, война, оттепель, перестройка, распад СССР, социально-политические и нравственные итоги?
– Был цепью причин и следствий. В начале века Россия торопливо индустриализировалась вслед Западу. Будучи нищей, она делала это на французские (и иные) займы. За это нужно было платить участием в непосильной войне 1914 года. Такая война неминуемо вела к революции. (Отчего бывают революции? Оттого, что всякому народному терпению бывает конец; а заметить этот конец заблаговременно власть не умела.) Если бы русская революция слилась с германской, как рассчитывал Ленин, то во главе мирового социализма стояла бы Германия на месте России, а в хвосте его Россия на месте Китая. Европу спасла Польша: сто лет русской власти родили в ней такую всенародную ненависть, что она нашла силу для отпора 1920 года. России осталось строить социализм в отдельно взятой нищей стране. Такой социализм (кажется, Ленин считал его «государственным капитализмом»?) мог обернуться только сталинским режимом. О Сталине лучше всего сказано в Британской энциклопедии: «он сделал Россию из страны сохи страной атомной бомбы, но он хотел управлять страной атомной бомбы так, как управлял страной сохи». Чтобы выйти из этого противоречия, понадобилась оттепель, перестройка и демократизация. А демократизация означает деколониализацию, то есть распад Союза. Россия и за ней СССР был колониальной империей, хотя колонии были и не заморскими; в Европе пик деколониализации был в 1960 году (со всеми тяжкими последствиями для колоний и для беженцев из колоний), у нас этот пик – сейчас: как всегда, Россия отстает ровно на одно поколение. Никаких итогов нет: цепь причин и следствий продолжается.
– Кто в наибольшей степени (со знаком плюс или минус) оказал воздействие на ход истории ХХ века?
– В мире – наверное, Эйнштейн; в Европе – к сожалению, Гитлер; в России – заведомо Ленин: без него бедствия России были бы иными.
Из анкеты для Литературного музея
Для Гаспарова было чрезвычайно важно представление о просвещении, в котором он видел едва ли не главную миссию филолога. Гаспаров писал, что потребность узнавать новое заложена в природе человека так же, как стремление к утолению голода и размножению. Он преподавал не очень много, но публикуемые в настоящем томе материалы конспектов, которые он предварительно раздавал своим слушателям, позволяют увидеть эту сторону его просветительской деятельности как будто немного «изнутри». В своих лекциях, так же как и в докладах и статьях, он всегда умел достигать фантастической ясности. Сергей Аркадьевич Иванов в небольшой сопроводительной заметке к интервью Гаспарова в журнале «Итоги»5 обращает внимание на то социально-политическое значение, которое обретала эта ясность:
Основным видом антикоммунистической фронды была для советских гуманитариев нарочитая усложненность. <…> Правящая идеология навязывала примитивную картину мира, элементарные мотивации, безвариантные объяснения – фрондерствующая гуманитария отвечала бесконечным умножением числа факторов, ходов и связей. <…> Михаил Леонович Гаспаров – один из немногих, кто шел в это время совершенно противоположным путем – путем предельной божественной ясности. И оказалось, что она столь же, если не более убийственна для режима. Помню свое первое впечатление от лекции Гаспарова в середине 1970‐х о каких-то строго академических вещах, но мой приятель шепнул мне: «Такое ощущение, что сейчас воронки приедут», – и я чувствовал то же самое. Работы Михаила Леоновича помимо того, о чем они рассказывали, несли другое важное послание, причем не исключаю, что помимо воли автора: они указывали на оборотную сторону официальной идеологии, на ее лукавое велеречие, на синдром «голого короля», на тайное порочное пристрастие к непроговоренности, непроясненности, смутности, смазанности и недодуманности6.
Сам Гаспаров о связи политической жизни и просвещения отвечал в уже цитированной анкете литературного музея в начале 1990‐х:
– Как события современной общественной жизни воздействуют на ваше творчество, внутреннее состояние и социальное поведение? Какие из них считаете важнейшими? Участвуете ли в партиях и движениях?
– Важнейшие события: оттепель, потом перестройка, теперь борьба за демократизацию. По ним вижу, как нужно России просвещение, и стараюсь для него делать, что могу. Но в экономике и политике я не специалист и партиям и движениям бесполезен.
Гаспаров неоднократно подчеркивал, как важно для человека найти свое место в жизни, для него это был прежде всего выбор профессии, в которой он достиг чрезвычайно многого. Исследования культуры, выраженной в слове (снова цитируем его слова), строились на убеждении, что «литература отвечает человеческой потребности в прекрасном». Профессию он и понимал как службу доступа к прекрасному.
В этом томе, пожалуй, больше, чем в других, составители не стремились к строгой структуризации материала, разместив его в духе не раз обсуждавшейся Гаспаровым античной «пестроты», «разнообразия» (ποικιλία). Именно этим духом, несомненно, проникнуты сами «Записи и выписки», а материалы, размещенные в нескольких разделах этого тома, по-разному перекликаются с первым текстом и друг с другом. Читатель встретит схожие пассажи в разных жанровых контекстах (часть таких случаев отмечена редакцией) и может проникнуть в творческую лабораторию ученого, следя за трансформацией текста на пути от записной книжки или конспекта лекции к публикациям.
ЗАПИСИ И ВЫПИСКИ
ЗАПИСИ И ВЫПИСКИ 7
Моей жене
Алевтине Михайловне Зотовой
с благодарностью за всю жизнь
и на всю жизнь
Первое издание этой книги вышло в 2000 году. Главная ее часть – это действительно выписки из записных книжек, накопившиеся за тридцать лет и оказавшиеся интересными не только для меня. В новом издании набор их значительно обновлен. Добавлены материалы мемуарного характера, сокращена специальная терминология, исключены некоторые сугубо лингвистические или литературоведческие понятия. Несколько изменена и композиция книги.
Я филолог-античник, образцами моими были такие писатели, как Элиан, Плутарх и Авл Геллий, которые любили коллекционировать интересные случаи, мысли и словесные выражения. Иногда дословно, иногда в пересказе; иногда с сокращенной ссылкой на источник, иногда без.
Эта книга не научное сочинение, поэтому я позволил себе опустить большинство точных ссылок на источники или вообще обойтись без них. Кавычки в таких случаях означают, что мысль принадлежит не мне, а где-то услышана или вычитана, но я нахожу ее интересной. Сокращений я не раскрывал: занимающимся историей и филологией они понятны, а остальным безразличны. Пусть читатель простит мне эти вольности.
М. Гаспаров
I. ОТ А ДО Я
У этой книги 200–300 авторов, из которых я выбрал фразы, показавшиеся мне справедливыми.
Стендаль
Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, – и биография готова.
О. Мандельштам
А «Если ты сказал А и видишь, что ошибся, то говорить Б не обязательно», – говорит персонаж у Брехта (кажется, в «Ja-Sager»). – Не надо делать культа даже из верности самому себе. Впрочем, еще раньше говорилось: сказав А, не будь Б.
Авария «Христианство, а потом раскольничество начинались в расчете на скорый конец света, а потом переходили на аварийный режим: это и был мораторий страшных судов».
Автопародия У Пушкина в «Оде Хвостову» стих «А ты глубок, игрив и разен» копирует собственное «К морю»: «Как ты, могущ, глубок и мрачен». А из стиха «Прощай, свободная стихия» получилось «Прощай, любезная калмычка»; из «И блеск, и тень, и говор волн» – «И блеск, и шум, и говор балов», а из «Твой грустный шум, твой шум призывный» – «Мой первый друг, мой друг бесценный». Редкое скопление реминисценций.
Автопародия («Онегин» как автопародия южных поэм и т. д.). Не казался ли Пушкину «Беппо» автопародией «Дон Жуана»?
Авторитарность Когда Бахтин пишет: «Тургенев не понимал, что такое настоящий роман», – это похоже на марксистское «Пугачев не понимал, что такое настоящая революция».
Ад Вл. Соловьев: «Государство существует не затем, чтобы создать на земле рай, а затем, чтобы не дать ей превратиться в ад».
Ад На обсуждении диссертации в отделе теории ИМЛИ было сказано: «Так как Блейк был порождением ада, то не следует изображать его вдохновителем английского романтизма». Мне показалось, что это всерьез.
Адам В начале XVIII века объявили, что нашли список сочинений Адама и среди них… «Всемирную историю».
Актуализация второстепенных значений слова, по Тынянову, – это все равно что читать книгу, при каждом слове вспоминая весь набор его значений из толкового словаря. Приблизительно так работают искатели подтекстов. А еще более современные вместо толкового словаря смотрят в «Мифы народов мира».
Акцент Н. Трубецкой говорил: идеи Марра становятся менее бредовыми, если читать его статьи с грузинским акцентом (а Э. Чансес говорила, что «Улисс» понятнее с ирландским акцентом). А. Долинин: «Набоков отгораживался от американской культуры: в магнитофоне у него британский акцент вперемежку с русским».
Анаграмма «Поиски анаграмм – художественная работа: нужно, чтобы после тебя уже нельзя было ее не заметить», – сказал О. Ронен (по поводу того, что «Анчар» – сублимация от «саранча», на которую его послал «князь» Воронцов).
Была детская игра: из букв длинного слова составлять короткие слова, кто больше составит. (М. Ю. Лотман говорил, что у них в школе такая игра называлась «словяга».) Сколько можно составить слов в четыре и более букв из слова «электростанция»? Более 200. Поэтому мне не казалось странным, что из любого четверостишия можно вычитать какую угодно анаграмму. Однако думалось, что не зря же этим увлекались большие ученые; хотелось проверить. В. С. Баевский написал мне, что готовит для блоковской конференции доклад об анаграммах у Вл. Соловьева. Я спросил: «По каким стихотворениям? хочу попробовать сам, а потом свериться». Он назвал. Я взялся за первое (не помню какое), стал высчитывать особо частотные буквы, и из них безоговорочно сложилось слово «масло». Тут я понял, что хоть анаграмма, может быть, и великое дело, но мне оно противопоказано. (Работа Баевского напечатана: сб. «Целостность художественного произведения и проблемы его анализа…», Донецк, 1977; ср. «Блоковский сб.», III.) Это была та самая конференция, где Тименчик сказал: «если наша жизнь не текст, то что же она такое?»
Вс. Некрасов
Что анаграмма все-таки великое дело, меня обнадеживает Свифт, который в третьей части «Гулливера» уже издевался над этим методом; а Свифт гениально выбирал для издевательств только самые перспективные идеи во всех науках: всемирное тяготение, кибернетические машины, хлорофилл, мозговые полушария…
В детской книжке были головоломки: слова с переставленными буквами, восстановите слово – что такое «сляратюк»? «цинемаль»? «кечелов»? (кастрюля, мельница, человек).
Анакреон («А мне бы стать рубашкой, / Чтоб ты в меня оделась, / А мне бы стать водицей, / Чтоб мною ты умылась…») Ему подражала Цветаева: Штейгер был богат, но она купила и послала ему куртку с запиской: «Я хотела бы быть этой курткой» (С. Карлинский).
Ананас был нецензурным словом после одного манифеста около 1900 года, где абзац начинался: «А на нас Господь возложил…» (Ясинский).
Анекдот (одноклеточный, простейшая схема). Телефонный звонок: «Это номер такого-то?» – «Нет» (вариант: «У меня и телефона-то нет»). – «Тогда чего вы берете трубку?»
Анекдот Я сказал сыну: я – тот козел, которого в анекдоте вводят в тесную комнату, чтобы потом выгнать и людям стало бы легче. Сын, привыкший ко всему, сказал: «Никогда не мог подумать об этом с точки зрения козла!»
Анна Каренина «А ты трудись, я тебе помогу, вон Анна Каренина семь раз переписывала „Войну и мир“…» (Л. Рахманов). Естественно, потому что ритм имен одинаковый. Знаменитую хабаровскую железнодорожную станцию Ерофей Павлович я оплошно называл Ерофей Маркович (а собеседники мои – Ерофей Петрович).
Аполлон «Слог пиитический и аполлиноватый» хотел видеть в поэзии В. Тредиаковский.
Аристотель «Нехорошо читать опровержения Маймонида на Аристотеля, потому что человек засыпает над Аристотелем, не дочитав до опровержений». Эту хасидскую мудрость учитывали и при советской власти, но тоже непоследовательно.
Архаисты и новаторы Жуковский раздражал Тынянова тем, что был новатором, не будучи архаистом, а провинциал Тынянов ценил архаизм.
Архив Человек – точка пересечения социальных отношений. Вяземский об этом сказал: «Бог не дал мне фасы, а дал много профилей». Виднее всего это в архиве, где образ человека вырисовывается из писем к нему от разных лиц. Повесть об этом написал Апухтин. Человек в литературе – совокупность фрагментов, соответствующих этим отношениям. В традиционалистической литературе они располагались синхронистической мозаикой, в так называемой реалистической стали располагаться в диахронической перспективе: «Блажен, кто смолоду был молод…» и т. д.
Архипелаг «Жаботинский, как Гарибальди, представлял человечество архипелагом, где каждый народ – отдельный остров».
Архипелаг Э. Панофский писал: образованность немецкого студента – архипелаг цветущих островов, разъединенных безднами невежества; образованность американского – мощное сухое плоскогорье.
Ассигнации Щедрин писал в письме: «Говорят, будут продавать ассигнационную говядину, которая будет относиться к настоящей так же, как ассигнационный рубль к настоящему. Но если мы и дальше будем печатать ассигнационные стихи г-на Боровиковского, то журнал наш долго не продержится…» (цит. по памяти).
Аутентичность Набоков вносил изменения в свои поздние английские автопереводы и объявлял их самыми аутентичными, чтобы они быстрее нашли разноязычных переводчиков, чем если бы с русского. А. Н. Толстой переделывал «Гиперболоид» (и проч.) для каждого переиздания ровно настолько, чтобы получить гонорар как за новый текст. Когда планировали объем нового академического издания А. Толстого со всеми вариантами, об этом никто не подумал.
Афоризм «Мысли вприкуску» (источника не помню.) Жанр, в котором великие люди состоят при собственных изречениях.
Ахилл Издательская марка на книге: черепаха, а вокруг надпись: «Следом следует Ахилл».
Бабочки «Его эпитеты и метафоры, как бабочек, можно накалывать на булавки» (рец. на Набокова в «Современных записках»). В «Strong Opinions» Набоков отмечал, что бабочек коллекционировал Марат. Я вспомнил апокрифический херсонский сборник футуристов «Бабочки в колодце» / «Рыбочки в колодце».
Базаров Ю. Даниэль говорил: «Чем же плохо, что из человека будет лопух расти? Большой сочный лопух, которым прикроет голову от солнца красивая женщина». А Чуковскому в детстве мать сказала, когда он потерял ее рубль: «Что ж, подумай, как обрадуется тот, кто его найдет».
Башня «Не поэты, а публика живет в башне из слоновой кости», – цитирует Берберова Кл. Брукса.
Башня «По-французски – башня из слоновой кости, а по-русски – келья под елью», – переводил М. Осоргин.
Бедный «Упрощенность стихов Демьяна Бедного превзойдена лишь упрощенностью обычного изучения их» (из статьи о нем).
Бедный Слонима называли Мирским для бедных. «Для очень бедных», – поправлял Адамович.
«Безнаказанность – промежуток между преступлением и наказанием» (А. Бирс).
Безукоризненно Стихи харьковского поэта: «Хотел бы написать стихи я / Безукоризненно плохие, / Чтоб Раскин написал пародию / И тем прославился в народе я». В самом деле, какая редкость – безукоризненно плохие стихи! Впрочем, Ахматова говорила, что из каждого поэта можно отобрать книжечку безукоризненно плохих стихов. Подразумевала ли она исключение для себя?
Белесоватый Последние слова Тургенева: «Прощайте, мои милые, мои белесоватые». А у Толстого: «Не понимаю» (есть варианты). Ибсен, пролежав несколько лет в параличе, привстал, сказал: «Напротив!» – и умер. О. Люмьер, в 92 года (1954): «Моя пленка кончается». Кант: «Das ist gut». Ср. у Юшневского на могиле в Иркутске: «Мне хорошо. – Последние слова покойного». Наоборот, Ахматова, после камфоры: «Все-таки мне очень плохо». Н. Я. Мандельштам сиделке: «Да ты не бойся». Последние слова Эйнштейна остались неизвестны, потому что сиделка не понимала по-немецки.
Белка «Как живете?» – «Как все». – «Полоса черная, полоса белая?» – «Нет, пожалуй, колесо так быстро вертится, что они сливаются в очень серое».
Белка «Я готов быть белкой в колесе, но не в ста же колесах» (из письма).
Белые медведи И. Аксенов (в письме к С. Боброву): когда был у Пикассо, то сказал: «Что ж вы меня не спрашиваете о белых медведях, вы ведь полагаете, что они у нас по улицам бегают?» – «Нет, не полагаю, тогда бы их шкуры дешевле стоили; а то я хотел подарить одной даме, но цена – не подступишься! – И, помолчав, с надеждой: – Ну а волки-то хоть бегают?»
Белый Вера Станевич писала ему, что они с подругами на спиритическом сеансе вызвали его дух и он продиктовал им стихи [очень плохие]: «Люблю солнце, Шопэна, Пшибышевского и шоколад. Когда встречаю Вас на улице – восклицаю: это Андрей Белый!», – просила авторизовать. Потом приходила к нему под видом своей сестры, потом присылала открытку «22-го. Отчего? Вера» и т. д. (указано Н. А. Богомоловым). Это напомнило мне рассказ Нины Всеволодовны Завадской о том, как она познакомилась с Пастернаком: «на пари: „А вот слабо тебе позвонить Пастернаку, Шервинскому или Любошицу!“ – сказала Ксеня Коган; я тут же позвонила, сказала: „Я не могу сейчас объяснить, почему я вам звоню, но потом объясню“». Потом разминовывались; вернувшись из Марбурга, он сказал ей: «Знаете, боюсь, что вы опоздали… Выходите за Костю Локса, он очень хороший человек». Потом они дружили. Когда начинался дождь, Пастернак звонил ей, и они выходили гулять по Пречистенскому бульвару. Локсу был посвящен «Близнец в тучах», Поллукс – его анаграмма.
Сон в Петрозаводске . На букинистическом прилавке – книги: сборник Юнны Мориц, изданный за год до ее рождения; однотомник Мандельштама в изд. «Федерация», 1933, со статьей Тарасенкова, оранжевая серийная обложка, крупный шрифт, последнее стихотворение – «Держу пари, что я еще не умер…»; «Под сенью девушек в цвету», роман Милонии Пац, переплет желтый; П. Тычина, «Заметки о переводческом мастерстве: литературные курьезы, часть 3»; Ю. Герман, «Рассказы о майоре Г.», Л., «Сов. писатель», 1940. Я стою перед этим прилавком рядом с майором Г., он обменивается с продавцом непонятными словами о том, что, по моему разумению, должен знать и сам; а его вспомогательный лейтенант в это время за окном идет по следам неизвестного преступника, только что на наших глазах купившего в соседней лавке бидон керосину, чтобы поджечь в гавани шлюп «Диана», отправляющийся в кругосветное путешествие…
«Берберова не любила Пушкина». – «Несмотря на Ходасевича?» – «Именно из‐за Ходасевича. Она очень старалась идти в ногу со временем: даже Ходасевича не объявляла великим поэтом, пока к ней сами не потянулись интересующиеся. Но неприязнь к Пушкину была прочна» (разговор с Роненом).
Бердяева, Набокова и Камю сотрудница купила в селе Ночной Матюг близ Мариуполя. Был 1989 год. «Населенные пункты, названия которых можно произносить разве что в Государственной думе», – говорилось в фельетоне «Летописи» 1916 года.
Bildungsroman Считается, что развитие личности пришло в литературу с христианством: обращение преображало человека. Однако такое преображение было уже у Светония: приход к власти изменял Августа и Тита к лучшему, а Тиберия и Домициана к худшему. А есть ли развитие героя в «Гэндзи», где он все время движется по служебной лестнице и меняет имена-звания? («Римляне открыли понятие карьеры, – сказал В. Смирин, – афинянин к каждой новой должности шел от нуля, римлянин – от предыдущей должности».) Для Бахтина, конечно, нет; а для японца?
Благо А местный священник даже всенародно однажды выразился, что душа ее всегда с благопоспешением стремится к благоутешению ближнего, а десница никогда не оскудевает благоготовностью к благоукрашению храмов Божьих. Но Марья Петровна и сама знает, что она хорошая женщина (Салтыков-Щедрин).
Благо Во благоприсноувеселении и во всяких присноденственных благоключимствах с благопрозябшими от тебя чады твоими благодетельми моими во многочисленные веки здравствуй (письмо 1695 года из Азовского похода, «Русская старина», 1894, № 74, с. 247).
Благоутробие
Е. Костров
Благоутробие «С цесарекралевским благоутробным дозволением» – подзаголовок в «Славеносербских ведомостях».
Близ Курс лекций «Античность в русской поэзии конца XIX – начала ХX века» приходилось начинать «Спором философов об изящном», а кончать «Древней историей по „Сатирикону“». Вся поэзия укладывалась в эти рамки. «Голливудская античность», – сказал завкафедрой. Пушкин написал: «Феб однажды у Адмета близ угрюмого Тайгета», и отсюда появился Тайгет у Мандельштама, хотя от Адмета до Тайгета – как от Архангельска до Керчи. («Ассоциация со словом „тайга“», – сказал О. Ронен.)
Бог «Пора не о человеке, а о Боге подумать». А ему это нужно? – тогда я готов. Но если бы я был Богом, я не хотел бы, чтобы обо мне думали. – Так рассуждал Эпикур.
Бог В кружке Н. Грота и Вл. Соловьева тайным голосованием решали, есть ли Бог; большинство было в один голос (Письма Вл. С.).
Бог В. В. Розанов одним и тем же инициалом обозначал Бога и Боборыкина.
Бог Добрая старушка, умирая, говорила: «Да будет вознагражден Господь Бог за его милости ко мне» (Вяземский, Старая записная книжка).
Бог Киплинг после «Recessional» боялся, что его поймут как проповедь мирной политики. Так Цветаева в «Бог прав <…> вставшим народом» сказала больше, чем хотела, и делала испуганную приписку, что понимать надо наоборот.
Боз Статья С. Куняева в «Слове», 1989, № 12, про Л. Войно-Ясенецкого, «окончившего свой путь в бозе и в звании архиепископа Крымского», – судя по маленькой букве, это не Бог, а что-то другое. В той же статье была фраза: «но в ответ, несмотря на новые времена, опять услышал постылые кивоки в прошлое» (с. 6).
Болезнь «Чтобы болезни не очень мешали работе, а работа болезням» (из новогоднего письма). «Болезни земли» Пастернака – от сентенции «У земли много болезней, одна из них – человек».
Брюсов Как критик Брюсов умел откликаться даже на книги, которых не было: «Вчера, сегодня и завтра…» (VI, 507): «как стихотворец решительно ниже себя во всех своих новых стихах был и А. Белый (Королевна и рыцари 1921, Первое свидание 1921, Зовы времен, Берлин, 1922, и др.)».
(Рабкоровские стихи, цит. в «На лит. посту», 1925)
Вера В «Современной идиллии» Салтыкова-Щедрина Редедя рассказывает о Египте: арабы верят в Аллаха, а феллахи – во что прикажут. Точно таково было государство и у Платона, и у св. Владимира.
Верблюд «Ulbandus Review», славистический журнал Колумбийского университета: заглавие – готское слово, которым Ульфила обозначал элефанта, а в славянском оно дало верблюда. К символике взаимопонимания России и Запада.
Верлибр «Гитара спасла русскую поэзию от верлибра», – сказал В. М. Смирин.
Неизд. эпиграмма Б. И. Ярхо
Вийон А вдруг Вийонова прекрасная кабатчица, плачущая о молодости, вовсе никогда и не была прекрасной и это плач о том, чего не было? Так Мандельштам, по Жолковскому, пьет за военные астры, зная, что вина у него нет.
Вкус Не принимать плохое настроение за хороший вкус.
Вкус З. Гиппиус писала Адамовичу: «Сирина я, извините, не читала: отчасти по недостатку времени, отчасти из страха: а вдруг мне понравится? Понимайте это как знаете». Сам же Набоков (будто бы) считал первоклассными писателями Ильфа с Петровым, Зощенко и Олешу, а второсортными – Элиота и Паунда («Strong Opinions»). А в письмах хвалил Багрицкого и Сельвинского.
Власть Первым стихотворением Брюсова, которое я прочитал, было: «Власть, времени сильней, затаена / В рядах страниц, на полках библиотек…» Когда в «Мастерах перевода» выходил сборник Брюсова и нужно было название из автора, я предложил: «Власть, времени сильней». Б. Шуплецов сказал: «Нет, про власть не надо». Под стеклом на столе у него лежали фотография Солженицына и листок с надписью: «Моя дочь, уезжая, сказала: не могу жить в стране, где жестоко относятся к животным и к людям». Сборник озаглавили «Торжественный привет» – хотя это было из перевода французского стихотворения Тютчева, которое кончалось: «Торжественный привет идущих умирать».
Внешторг был при Петре I, ГПУ при Малюте, колхозы при Аракчееве, комсомольцы и выдвиженцы образовывали служилое сословие, а запрет на выезд был и при Грозном, и при Николае I.
Возведение в степень «Что отличает человека от животного? Being aware of being aware of being» (Набоков, «Strong Opinions»). Больше всего это похоже на парафразу Декарта у малоуважаемого Бирса: «Я мыслю, будто я мыслю, – стало быть, я мыслю, будто я существую».
Граф Хвостов
Возраст У внучки – кризис трехлетнего возраста. В Америке говорят «horrible two’s». Это Россия, как всегда, отстает: в онтогенезе как в филогенезе. (Впрочем, по мнению нынешних психологов, у детей нет года без кризиса.)
Война «Для Ленина, по Клаузевицу, политика – продолжение войны другими средствами» (М. Вишняк в «Современных записках»).
Война «Революция завершает неудачную войну, война удачную революцию».
Волость Modern parochial states, – выражался Тойнби; волостная великодержавность – вот чего хочется некоторым деятелям. (Журнал «Слово», 1989, № 12, с нападками на Сахарова, вышел через несколько дней после его смерти. «Они не знали, что управились и без них», – сказала А.)
Время В тюркских языках будто бы есть время: недостоверное прошлое.
Время Сабанеев, вспоминая башню Вяч. Иванова, удивленно писал: «…по-видимому, у всех нас было много свободного времени». Степун в «Современных записках» подтверждал: «У писателей, поэтов, публицистов, профессоров, присяжных поверенных и артистов было очень много свободного времени». М. Е. Грабарь-Пассек, дивясь толстым томам патрологии Миня, говорила: «Как только они успевали? впрочем, у них не было заседаний…» Я отвечал: «Зато какие долгие службы приходилось отстаивать!»
-вцы «Не случайно ведь толстовцы были, а достоевцев не было».
Из Г. Грасса
(конспективный перевод)
Гадания К. вырезал из газетных объявлений слова, склеивал в непонятные фразы, приклеивал на стенах комнаты, из-под потолка висела стрелка на нитке, каждое утро он раскручивал ее и вдумывался в фразу (Белоусов. Литературная Москва).
Гален писал: старику вреднее всего молодая жена и хороший повар.
Гегель Сухово-Кобылин в старости не узнавал родственников, но о Гегеле говорил не сбиваясь (Измайлов).
Гений Моцарт говорил о Бомарше: «Он же гений, как ты да я», а Пастернак писал Д. П. Гордееву о Божидаре: «Он же ничтожество, как вы да я».
Герб Сын сказал: гербом Москвы был, собственно, не св. Георгий, а «московский ездец», без нимба, чтобы не сквернить святое государственным (сейчас чувства противоположны); потом, что меньше известно, обелиск Свободы на скобелевском месте; позже, в 1990‐м, среди проектов – памятник Долгорукому. «В девизе можно написать: свято место пусто не бывает», – сказал я. «Ленинградцы обидятся», – возразил сын.
«Гигес пораздумал и предпочел остаться в живых» – самая психологически богатая фраза Геродота (I, 11).
Голова Выписка Эйзенштейна из Гране: в Китае человек называет свой рост только по плечи, потому что на плечах поклажа, а голова солдату не нужна.
Горло Е. В. А. заметила, что из‐за отвычки от русских разговоров у нее болит горло, а когда привыкала к французскому языку, болели лицевые мышцы.
Грех Она же спрашивала знакомого священника (библиографа по призванию), с какими грехами люди приходят на исповедь. Он ответил: «Один сказал: накричал на канарейку». Это или святой, или, наоборот, великий грешник, предпочитающий вспоминать пустяк, а не затаенное (от себя же) былое душегубство.
Грех «А какой самый большой грех, по-вашему? – Самосовершенствование, – сказал гнутый, – без боли другому не обходится» (Ремизов. Мартын Задека).
Гроб В Китае на гробовых лавках написано: «Товар долговечности» (В. Алексеев).
Грудь Смерть спасла Гумилева от участи Брюсова, которому кусали грудь оттого, что зубки выросли. «„Памятник“ Брюсова напоминает мне памятник Скобелеву», – писал И. Аксенов С. Боброву.
Гусиные перья: ими писали еще Клемансо и Анатоль Франс.
Да «„Да!“ – сказала она с мукой. – „Нет!“ – возразил он с содроганием. – Вот и весь ваш Достоевский!» – говорил Бунин Адамовичу. О. Ронен сказал: «Вы думаете, Набоков написал „Дар“ ради Чернышевского? Ему интересно было, почему вся Россия любила убогого Чернышевского, чтобы понять, почему вся Европа любит убогого Достоевского». (А потом в свой решающий момент Набоков сам воспользовался приемом Достоевского. В русской эмиграции он был элитарный писатель, а в Америке такой элитарностью никого было не удивить. Тогда, подобно тому как Достоевский взял криминальный роман и нагрузил психологией, Набоков взял порнографический роман и нагрузил психологией; получились «Лолита» и слава.)
Дальтонизм Николай I не различал некоторых цветов: на чертеже он спутал Днепр с шоссе, а Клейнмихель за это кричал на инженеров.
Дата К. Пигарев доказывал, что такое-то стихотворение Тютчева написано летом, потому что в нем описано лето. Хотя Фет, по точным датам, писал о весне в январе, а у Ахматовой «Мартовская элегия» написана в феврале.
Двадцать Жирмунский говорил, задумавшись среди лекции: «через двадцать лет пошлость становится стилем». Хочется добавить: а стиль пошлостью. Таков сейчас сталинский соц-арт.
Дворянство Гете: его «уездная жизнь предводителя литературного дворянства» (выражение Алданова).
Дебелые хозяйства немцев-колонистов. А ведь сначала Потемкин хотел было заселять Новороссию импортными английскими каторжниками (Кизеветтер).
14 декабря После первого залпа на Сенатской площади было странно тихо: с близкого расстояния картечь поражала смертельно, без стона (свидетельство современников).
«Дележ бывает опасен: вот если бы св. Мартин разрубил не плащ, а штаны…» – сказал И. О.
Дети Анахарсис на вопрос, почему не заводит детей, сказал: из любви к детям (Стобей, III, 120).
Дети З. Гиппиус писала в 1924 году, что кроме отцов и детей всегда есть дядья и племянники – не детьми же были Блок и Белый Брюсову и Бальмонту, а Есенин с Маяковским – Блоку. Марину Цветаеву Бальмонт называл своей литературной падчерицей.
Дети М. Цветаева (по Белкиной, с. 322): вначале дети родителей любят, потом дети родителей судят, потом они им прощают. Это она повторяет сентенцию Тэна (заметил К. Душенко), переиначенную потом Уайльдом.
Дети Меншиков говорил о Клейнмихеле: достроенный Исаакиевский собор мы не увидим, но дети увидят, мост через Неву мы увидим, но дети не увидят, а железную дорогу – ни мы, ни дети (Вяземский).
Дети Отцу новорожденного дают каши перловой с горчицею, перцем, хреном, солью, уксусом по ложке под сахаром, чтобы несколько помучился, как роженица (А. Терещенко. Быт русского народа). Родители крещаемого не присутствуют при крещении. «Почему?» – спросил некто. «Должно быть, чтобы совесть не зазрила», – отвечал священник (Вяземский).
Дети У А. Б. Куракина от разных любовниц было их около 70 (Рус. Старина, № 61, с. 213). Филарет за это отказался от похвального слова над ним.
Диалектика «Так как НН был диалектиком, т. е. хорошо понимал разницу между трупом и не-трупом, то он побежал по улице зигзагами и пригибаясь» (С. Бобров. Восстание мизантропов). Моя десятилетняя дочь, услышав это, сказала: «Неправда, при мизантропах ружей не было». Она имела в виду питекантропов. Декан филфака в Киеве имел прозвище Псевдантроп.
Диалог – быстрые обмены ролями между камнем и скульптором: то я его – долотом, то он меня – долотом.
Диалог со студентом: он распускает хвост, я подставляю ему зеркало.
Диалог Для меня в диалоге межсубъектного нет: я в диалоге только быстро меняюсь из субъекта в объект и обратно. При этом я – субъект, когда слушаю и от этого преобразовываюсь, а не когда говорю и влияю. Так же можно преобразовываться и в общении с камнем или «уважаемым шкафом».
Диалог Книги А. Зиновьева – образцовая модернизация жанра платоновского диалога. Как она непохожа на то, что под этим имел в виду Бахтин.
Дисциплина партийная. Когда Якобсона спрашивали: кто пять лучших поэтов после Блока? – он говорил: «Хлебников, Маяковский, Мандельштам, Пастернак, – а пятый… – и потуплялся: – Асеев, но если кто скажет – Кузмин, спорить не буду» (от К. Тарановского и О. Ронена).
Сон сына: как русская литература строила теремок. Лев Толстой стены клал, Достоевский балки накладывал (голос: «с петельками!»), Островский столпы становил, Некрасов гвоздики забивал, А. К. Толстой генералов на стенки вешал, Чехов лавочки ладил, Лесков печку клал (голос: «а Ремизов в трубу вылетал!»), Блок стекла стеклил, Брюсов конька на крышу ставил, Гиппиус щели конопатила, Есенин лики писал, Горький огород городил (голос: «а Скиталец в ворота стучал!»), а Маяковский пришел и все разорил.
Для «Пишу это для Вас, а не для читателей. Пусть для них я останусь посрамленным. Это делу не вредит» (Б. Томашевский – С. Боброву, май 1916, РГАЛИ, 2554, 1, 66). Ср. А. П. Квятковский в письме 26.3.1948 о своем «Словаре»: «…пусть уж бьют меня, меньше тумаков достанется другим, кто втянется в это малоблагодарное дело».
Добрый «Время такое, что легче быть талантливым, чем добрым».
Добрый Алданов о Прусте: мемуаристы в голос пишут, какой он был добрый, но прочитав его, уже не думаешь, есть ли на свете хорошие люди, а только – есть ли нормальные («Совр. записки», 1924, № 22).
«Зло, безнадежно, безысходно добр» был Добычин (Каверин. Эпилог).
Добродушный С. П. Бобров в «Интернац. литературе» (1940, № 7–8, с. 266) цитирует предисловие Фета к Катуллу – как Пушкин «сам добродушно признавался»: «И меж детей ничтожных мира всех, может быть, ничтожней он». Кто сейчас мог бы расслышать в этом «добродушие»?!
Доброжелательный Ибсену поклонился незнакомый молодой человек на улице, Ибсен сказал: «Юноша, я вас не знаю, но по лицу вижу вашу великую будущность». На другой день молодой человек опять его встретил и радостно поклонился, Ибсен сказал: «Юноша, я вас не знаю…» и т. д.
Добродетель «Человеку добродетельному и то нужна накидка в дождь» (Варрон, Мениппеи, с. 571).
Долг Орден Марии-Терезии, который дается тем, «кто исполнил больше, чем свой долг» (упом. у Алданова).
Долой «Революцию я встретил стихотворением „Долой меня“» (автобиография Ал. Вознесенского, РГАЛИ, 2247, 1, 22). «Не верь сначала старой няне, / потом учителю не верь, / потом писателю в романе / и самому себе – теперь».
Дон Что было награблено Наполеоном, то было отграблено и пошло на Дон.
«Друг ли вы самому себе?»; «Есть ли у вас друзья среди мертвых?» (из вопросника М. Фриша). Были логические головоломки: «Петр, Борис, Владимир, Григорий – летчик, доктор, учитель и садовод; кто есть кто, если Петр дружит с доктором, Борис играет в теннис с садоводом и т. д.? У меня в детстве они не разгадывались, потому что дружба казалась мне актом односторонним: если Петр дружит с доктором, это не значит, что доктор дружит с Петром. Если бы я был старше, я сказал бы: «как и любовь», – и процитировал бы эпод Горация или поговорку из Даля: «И ты мне друг, и я тебе друг, да не оба вдруг».
«Дурак», – закричал попугай; солдат вытянулся и ответил: «Виноват, ваше благородие, я думал, что вы птица».
Духовность «Что такое духовность? – Это когда нет и хлеба единого». «Декоративная духовность» – выражение О. Хрусталевой в 1989 году для поколения Евтушенко и Вознесенского; увидела бы она, что будет потом!
Духом перегибателен – фразеологизм.
Душа «Гиря на душе все та же, но хоть твердо стоит и не ерзает» (из письма).
Душа «Некоторые колдуны устраивают настоящие убежища для блуждающих душ, и если кто-нибудь потерял свою душу, то он может за установленную плату достать здесь другую» (Фрэзер).
Душа «НН ходит ко мне в душу, как в собственный ватерклозет», – жаловался кто-то в мемуарах акад. А. Н. Крылова.
Душа Карманы – «большие, накладные, глубокие – до дна души!» – заказывала М. Цветаева на пальто перед возвращением в Россию (письмо к А. Берг, 28 янв. 1938 г.).
Душа Стихи – это выражение того, что на душе? Да нет, это мы на душе у языка, и очень тяжелым камнем.
Дуэль Из-за музыки Листа у двух поклонниц чуть дело не дошло до дуэли (восп. Галахова о П. Н. Кудрявцеве). Я вспомнил, как М. Шагинян вызывала Ходасевича биться на шпагах.
Языков
Евреи «М. К. Тихонова сказала о Тынянове: он сделал Грибоедова евреем» (записи Л. Я. Гинзбург). «Так он и Пушкина сделал евреем!» – воскликнул О. Ронен. Лишь потом со слов Харджиева было напечатано, что любимым раздумьем Тынянова было: кто из русских писателей насколько был евреем?
«Если бы проглоченный кролик мог написать воспоминания об удаве…» – начала дочь.
Ё Пушкин писал через ять: «Всѣ те же ль вы» (не менялся ли ваш состав?); без ятя же, несмотря на отсутствие точек над ё, единодушно читается: «Всё те же ль вы» (по-прежнему ли вы такие, как были?). В «Анне Карениной» только точками над ё можно заставить читать фамилию Лёвин.
Женитьба Пал. Ант., VII, 309:
Ср.: «Я бездетный. Это наследственное. Бабушка была бездетная, мать бездетная…» – «Откуда же вы?» – «Я из Минска».
Женитьба Бедуина спросили: «Почему ты не женишься?» Он ответил: «Потому что для этого нужно сперва развестись с самим собой».
Ср. юмор в «Литературной газете» к 8 марта: «От себя не уйдешь, кроме как к другой».
Жизнь Воспоминания Н. Ге (младшего): гуляя вечером по Хамовникам, Толстой остановился у неплотно прикрытого ставня, постоял, подсматривая, сказал: «Как интересна жизнь!» – и пошел дальше.
Жизнь Записи Л. Я. Гинзбург. Она сказала Олейникову, что Брики страстно стремятся доказать, что они живы: Маяковский умер, а они живы. Олейников задумчиво ответил: «А ведь, в сущности, это так и есть…»
Жизнь Записка самоубийцы: «В жизни моей прошу никого не винить» (рассказ в «Новом журнале», 1942, № 3).
Жизнь Закарпатские вывески: «Великое похоронное предприятие», «Продажа виктуалов», «Торговля жизненными потребностями и прочим мешаным обиходом» (И. Эренбург. Виза времени, с. 245).
Жизнь У него же (там же) последний цадик говорит: «Рай – это память о добрых делах, а ад – это стыд. Всюду солдат учат по-своему, но всюду „раз-два“; но плох солдат, который в войну не забывает „раз-два“. А что вся жизнь, как не война?»
Заикание «Шкловский из своего умственного заикания создал жанр и стиль» (записи Л. Я. Гинзбург). «У него мысли как булавки, натыканные в подушечку», – говорила Э. Триоле.
Заповедь Serena Vitale о М. Цветаевой: она грешила не против седьмой заповеди, а против первой – не сотвори себе кумира. Я бы добавил: и против 1а – не разрушай его.
Звезда (с звездою?). В архиве я читал пустозвездные стихи.
Звериное число А сколько строк в печатном листе, нормальных строк по 60 знаков? 666 (звериное число) и 6 десятых.
Здоровье «Относитесь к вашему телу, как к автомобилю, – сказали мне. – Если будете заботиться – далеко уедете; если захотите таскать на себе – недолго пройдете».
Злоба дня В начале 1913 года, отделив Монголию от Китая, русские поручили буряту Джамсаранову издавать в Урге газету. В первом номере было написано о земном шаре, частях света, молнии и громе, формах правления, русско-монгольском договоре и проч. Номер бурно раскупался, потребовалось второе издание, а ламы жаловались хутухте, что круглая земля – это ересь (Б. Нольде. Далекое и близкое).
Знамение В Кампании заговорил бык; для отвращения беды его поставили на общественное довольствие (Ливий, 41, 13).
Игра «Чехов притворялся не-новатором, как другие притворяются новаторами».
«Идеи, как и вши, заводятся от бедности», – говорил К. Зелинский А. Квятковскому (РГАЛИ 391.1.20, письма Квятковского Пинесу). «Идеологическая малярия», – писал сам Квятковский. «За отсутствием крови пишем чернилами».
Изъявление Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух «был человек неизъявительный и довольно робкий».
Имя А «своенравное прозванье» Настасьи Львовны, о котором Баратынский написал небесные стихи, было «Попинька». Ср. у Вяземского в эпиграмме: «Его не попинькой, а Пыпинькой зовут».
Имя А у молодого Уайльда была пьеса из жизни русских нигилистов, где действовали Царь Иван, Принц Петрович, Алексей Иванасьевич, Полковник Котемкин и Профессор Марфа.
Имя Консула 169 года звали: Кв. Помпей Сенецион Росций Мурена Секст Юлий Фронтин Силий Дециан Гай Юлий Еврит Геркуланий Луций Вибулий Пий Августин Альпин Беллиций Соллерт Юлий Апр Дуцений Прокул Рутилиан Руфин Силий Валент Валерий Нигер Клавдий Фуск Сакса Урутиан Сосий Приск (Фридлендер).
Имя Прокофьев в детстве сказал матери: «Мама! я написал рапсодию Листа». Федр озаглавливал свои стихи: «Эзоповых басен книга такая-то». А у Шенгели есть четверостишие под названием «Стихи Щипачева» (РГАЛИ):
Инверсия «И звуков и смятенья полн» – это не замечалось, пока Цветаева во французском переводе не переставила «смятения и звуков», и все выровнялось и побледнело: смятение сперва, звуки потом.
Инверсия «Видение» Тютчева начинается парадоксом: живая колесница мирозданья (целое!) катится в святилище небес (часть!). А кончается двусмысленностью: лишь Музы (подлежащее?) девственную душу (объект?) в пророческих тревожат боги снах: правильное осмысление – лишь в предпоследнем слове. Есть ли этот синтаксис – иконическое изображение непостижимости мира?
Инерция «Портрет Портретыч» – называл Серов свои рядовые работы. Бывают и Доклады Докладычи, Статьи Статьинишны.
Инстинкт «Я, конечно, не люблю ее, а тянусь все тем же своим инстинктом – давать счастье» (Дневник А. И. Ромма, РГАЛИ, 1495, 1, 80).
Интеллигенция «Не хочу умирать, хочу не быть» (Цветаева в записях 1940 года). А Кузмин писал, что не хотел бы делаться католиком (или старообрядцем?), но хотел бы им быть. Был юбилей Эразма Роттердамского, И. И. Халтурин сказал: «Ваш Эразм – воплощение интеллигентского отношения к действительности: пусть все будет по-новому, только чтоб ничего не менялось».
Интересный Когда при мне говорили «интересная женщина», я не понимал. Мне объяснили: «Вот о Кирсанове ты ведь не скажешь: великий поэт, – ты скажешь: интересный поэт. Так и тут». Тогда я что-то понял. Кажется, теперь это словосочетание выходит из употребления.
Интернационал Вишняк говорил, что при разгоне Учредительного собрания «Интернационал» пели и разгонявшие, и разгоняемые.
Интернационал в пер. Колау Чернявского («Интернационал», Тифлис, 1927):
Интерпретация «Ты слушай не то, что я говорю, а то, что я хочу сказать!» – говорит жена мужу в анекдоте. Любители чтения между строк воображают такими всех классиков.
Интуиция Можно читать на неизвестном языке, подставляя под звуки и буквы чужих слов похожие из своего языка. В «Вестник древней истории» самоучка прислал расшифровку этрусского языка: этруски значит «это русские» (как же иначе?), поэтому их греческие буквы нужно читать как русские; надпись на вазовом рисунке (буквы: хи, коппа, дигамма, эта, пси, иота…) читается: «хрен жили русы». (И редакция должна была подробно объяснять, почему это не может быть напечатано.) Когда я смотрю на дерево, или здание, или стихотворение без подготовки и пытаюсь понять их интуитивно, мне все время кажется, что это я его толкую на манер «хрен жили русы». Когда я читаю деконструктивистский анализ – тоже.
Инфлюэнтик А Л. Андреев кричал Бунину: вся интеллигенция разделяется на три типа – инфлюэнтик, неврастеник и меланхолик!
Информация А. Н. Колмогоров любил Евтушенко больше, чем Вознесенского: информативнее. А Солженицына критиковал слева: за непрощение большевикам.
А мне Солженицына жалко. Я видел по телевизору интервью с ним после его возвращения в Москву – он держался живо, взволнованно, совсем не как учитель и пророк, и был даже привлекателен. Но передовые люди не будут его слушать, а реакционеры будут объявлять его своим, – зачем это ему? «Один день Ивана Денисовича» – рассказ гениальный, а «Архипелаг ГУЛАГ» – подвиг; но все, что он пишет про историю русской революции, с художественной стороны (мне кажется) посредственно, а с научной – наивно.
Искусство «Любишь ли ты музыку?» – спросил Ребиков мужика. «Нет, барин, я непьющий», – ответил тот («Летопись», 1916, № 2, с. 178). Ср. разговор извозчика с Шаляпиным: «Чем занимаешься?» – «Пою». – «Да нет, чем занимаешься?»
Искусство «Построить искусство легко просыпаться от сна» предлагал Хлебников.
«Испанцы суть умеренны и трезвы, выключая только простой народ. Также постоянны, искренни, глубокомысленны, горды, тщеславны, ленивы и сребролюбивы» (Ремизов. Россия в письмах).
«Историзм могли выдумать лишь те европейские нации, для которых история не была непрерывным кошмаром» (М. Элиаде).
История «Как же подданному знать мнение правительства, пока не наступила история?» (Козьма Прутков).
История Эдисон предложил Эйнштейну свои тесты: сколько километров от Нью-Йорка до Нью-Орлеана, какова температура плавления иридия и проч. Эйнштейн сказал: «Не знаю, посмотрю в справочнике». Современной культуре нужна не память прошлого, а справочник, в котором можно найти прецеденты на все случаи будущего. Такой справочник пробовал сделать Тойнби.
История современная В школьную программу ее ввели при Наполеоне III. «Угодничество сделано предметом школьного изучения» (дневник Гонкуров, окт. 1863 г.).
Каббала «Каббалпромстрой» – расшифровывается как «кабардино-балкарский».
Как таковое «Вы женщин любите?» – «Вы с похабством спрашиваете или без похабства?» – «Без похабства». – «Если вы про товарищеские чувства – не знаю, что и ответить. Женщину как таковую я наблюдал мало» (А. Адалис. Вступление к эпохе).
Календарь А. Белый, «Автобиографич. материал…» под Новый, 1893, год задумывал: «31 июня влюбляюсь в Маню Муромцеву…» У него как будто все годы состояли из одних мартобрей.
Калоши в армии разрешалось носить только с полковничьего чина (восп. Милашевского).
Канцелярия Император Леопольд в год осады Вены подписал 8256 бумаг («Ист. вестник», 1916, № 2, с. 612).
Количество и качество В. Перельмутер – о том, что не удается издать М. Тарловского. Сидел ли? Сидел, но меньше года. Раньше говорили: вот видите, сидел; теперь говорят: вот видите, меньше года. Он писал:
Колумбов день – первый понедельник октября. В справочнике написано: «Этот праздник – не для того, чтобы вспомнить открытие Америки, за которое нам так стыдно перед индейцами, а для того, чтобы полюбоваться красками осенней листвы».
Кольцовский стих «О душа моя, / О, настрой себя / К песнопениям, / Полным святости, / Ты уйми слепней / Матерьяльности…» – перевод О. Смыки из Синесия («Античные гимны», 283).
Комментарий Приятно писать в примечаниях: «Яссин – объяснить не можем»: как будто расписываешься в принадлежности к роду человеческому. Комментарий нужен, чтобы читатель знал, чего он имеет право не понимать (и, стало быть, что обязан понимать.) Ср. VII, Такое слово8.
Коммунизм «Примечания показались мне утопически подробными, какой-то коммунизм ученых мнений, где только поэзии нету места» (письмо А. К. Гаврилова о М. Альбрехте).
Коммунизм По Бабёфу, кто работает за четверых, подлежит казни как заговорщик против общества. Монахам тоже запрещалось умертвлять свою плоть больше других братьев.
Компиляция «Христос у меня компилятивный», – сказал Блок Б. Зайцеву; тот предпочел не понять.
Конец «В книгу вошли произведения более ста поэтов только с законченными судьбами» («Песнь любви», 1988).
«Красная Касталия», – сказал С. Аверинцев о первых проектах нынешнего РГГУ: «сотрудники Академии наук просят освободить их от Академии наук».
Крутой характер в значении «трудный» – метафора; крутой человек в значении «с твердым характером» – метонимия. Я додумался до этого словоупотребления, переводя Ариосто; а через несколько лет это слово разлилось по всему разговорному языку. Вероятно, в применении к паладинам оно стало звучать комично.
Первое употребление, как кажется, в: «Старик Моргулис зачастую / Ест яйца всмятку и вкрутую. / Его враги нахально врут, / Что сам Моргулис тоже крут». В первом классе дали задание составить фразу из слов: малыш, санки, горка, крутой, съехать. Все написали: «Крутой малыш съехал на санках с горки».
Кряду Толстой восхищался Щедриным (за «Головлевых»), но добавлял: «кряду его, однако, читать нельзя» (восп. И. Альтшуллера). А Кони он говорил: Щедрин пишет для страсбургских гусей, которых раздражают, чтобы печень разрослась для паштета. (Как налима розгами.)
Кто кого У Вортов кота и кошку зовут «Кто» и «Кого». Вот разница языков: Wer и Wem было бы хуже, а Qui и Quam лучше.
Кто о ком «Огонек» напечатал Ходасевича со статьей о нем Вознесенского. Как легко представить, что написал бы Ходасевич о Вознесенском. Или Гракх об Авле Геллии, или Авл Геллий обо мне.
Для вечера о Ходасевиче . Ходасевич – поэт, но едва ли не большего уважения, чем поэзия, заслуживает его отказ от поэзии. Его последнее десятилетие было не внутренним «засыханием» и не досадным следствием внешних обстоятельств, оно было – как и конец Блока или Цветаевой – логическим выводом из сознательно принятой позиции. Он считал, что поэзия – это не вещание всемирных истин и тем более личных страстей, а это изготовление зеркала, чтобы, заглянув в него, увидеть свое ничтожество. Это орудие нравственности в мире без Бога. Когда ты увидел себя со стороны (об этом раздвоении Ходасевич писал не раз) и, что мог, – исправил, а перед тем, чего не мог, – опустил руки, то остается только умереть или замолчать. Отказавшись от поэзии, он хоронит себя и свою эпоху в прозе. Он не консервирует свои чувства и приемы, он не плачется о прошлом и не заигрывает с будущим (или наоборот), а судит о них вневременно, как покойник, как житель некрополя: исчужа, холодно и сухо. Его мерило – Пушкин; а чтобы иметь право мерить Пушкиным, нужно объединиться с ним в смерти, потому что объединиться с Пушкиным в жизни может только Хлестаков. Он не считает, что с ним «погибла вся вселенна». Он знает, что культура работает, как мотор, в котором должны быть вспышка за вспышкой, но такие, чтобы не взрывали машину. Если ты сам не можешь вспыхивать и не хочешь взрывать, то следи, как механик, чтобы машина хорошо работала, – а для этого имей трезвую и беспристрастную голову. Именно за эту трезвость Мирский его обозвал: «любимый поэт всех, кто не любит поэзию» (то есть, в частности, филологов). Он учит умирать мужественно, потому что нехорошо, когда эпоха умирает с эгоцентрическим визгом. Такой урок всегда своевременен.
Культура С. Аверинцев на Цветаевской конференции сказал: для предыдущих поколений любовь к Цветаевой была делом выбора, для нас она заданность. Та же тема, что и у Ю. Левина, когда тот отказался делать доклад о Мандельштаме, потому что Мандельштам уже не «ворованный воздух».
Курганова письмовник Фразы, которых я не мог разъяснить И. К. «Мне любезнее отказаться от всего аристотического трибала, нежели подумать открыть столь важную тайну… Я нахожусь, как Андрофес, в сладчайших созерцаниях толиких дивных изрядств… Он говорил по-гречески, по-латыне или по-маргажетски…»
РГАЛИ 2180. 1. 51: Марк Тарловский, упражнение на тройные рифмы , ради которого он совместил несовместимое: октавы с пародией на Державина. Вот истинная преданность поэзии: ради красного словца он не пощадил не то что родного отца, но и себя, потому что не мог не понимать, что хотя бы от 10‐й строфы уже вела прямая дорога к стенке. А был, говорят, большой трус.
Ода на Победу
9–13 мая 1945
Лаз Я беспокоился, что, переводя правильные стихи верлибром, открываю лаз графоманам. Витковский сказал: «Не беспокойтесь: графоманы переводят только уже переведенное, им этот лаз не нужен. Делают новые переводы Киплинга на старые рифмы».
Ламарк «А японцы после войны выросли в среднем на 10 см, чтобы не страдать неполноценностью в мировом сообществе. Ламаркисты говорят: от волевого напряжения; а дарвинисты: оттого, что кушать лучше стали, благодаря японскому чуду».
Латынь «Кокто переложил „Эдипа“ на телеграфную латынь» (В. Вейдле).
Легкий О. Седакова была секретарем у поэта К. А., нужно было готовить однотомник. Он был алкоголик, но легкий человек: лежал на диване и курил, а она предлагала сокращения. «Ну, сколько строчек стоит оставить из этого стихотворения?» – «Одну». – «Это неудобно, давайте четыре». Смотрел с дивана на обрезки на полу и говорил: «Другой бы на это дачу выстроил».
Легковооруженный арьергард национальной классики, уже ощутимо инородный, – таковы кажутся Чехов и Анатоль Франс.
Ленинизм Ходасевич в дискуссии об эмигрантской литературе писал о будущем русской поэзии: «сочетание русской религиозности с американской деловитостью». Это почти точная копия последнего параграфа «Вопросов ленинизма»: «сочетание русского размаха с американской деловитостью».
Лесков показывал Измайлову иерусалимский крест из слоновой кости, а в середине стеклышко с непристойной картинкой. «В том, что делаю дурного, – не нахожусь на своей стороне» (Толстому, 12 июля 1891 г.). «Нехорошо иметь неопрятное прошлое» («Юдоль»).
Летний сад Все удивлялись, что герцог Лейхтенбергский женился на Н. С. Акинфиевой. «Это все равно, что купить Летний сад, чтобы иметь право в нем прогуливаться», – сказал Тютчев (Феоктистов).
Лимерик сочинения И. О.:
Литературная экология «Лучше уж написать историю советской заплечной критики (включая хедер имени Марселя Пруста, там тоже стояла дыба): тогда литература сразу явится как нечто производное. А что непроизводное – восхвалим, ибо это и есть ценность».
Лица В нью-йоркском метро на лицах сидящих и стоящих те же выражения, что и в Москве: усталые, озабоченные, немного отупелые. Одеты, конечно, лучше, в ватниках никого нет, но лица – такие же.
Лица. Была роскошная история Рима Г. Парети, семь фолиантов изд. UTET с картинками на каждом развороте. Обычно такие бывают фальшиво-популярными, но эта была по-настоящему научной. Чтобы заполнить картинками все развороты, там во множестве печатали бюсты неизвестных римлян. Их дошло множество, каждая семья держала их в красном углу, как фотографии дедов, но воспроизводятся они редко: чем брать неизвестного, проще лишний раз напечатать Юлия Цезаря. А здесь они шли страница за страницей, низколобые, бритые, «смотри, как просты и квадратны лица», и становилось ясно, что именно такие, с мечом и плугом, могли завоевать мир и, завоевав, не выпустить. И что именно с такими иудейская война могла быть только до последней капли крови. А в конце седьмого тома было маленькое послесловие от автора и под ним, вместо подписи, портрет Парети величиной с почтовую марку, впалые щечки, лысинка и бородка.
Лоб Предмет «труд» в школьной программе: «это чтобы не камнем, а лбом орехи расшибать», – пояснил Б. Житков (письма, РГАЛИ, 2185, 1, 4).
Логика «Не ищите логики там, куда вы ее не клали», – сказали мне, когда я слишком долго старался понять статью НН.
Логика Был тест на классификацию карточек с картинками, дерево и таракан оказались в одной группе. Испытуемый объяснил: потому что никто не знает, откуда взялись деревья и откуда взялись тараканы. (Рассказывала Б. Зейгарник.) Неизвестно, читал ли он обэриутов.
Логика Из воспоминаний Чуковского. Мережковский сказал: «Люди делятся на умных, глупых и молдаванов; ваш Репин – молдаван». Гиппиус из соседней комнаты крикнула: «И Блок тоже молдаван!» Самое замечательное: «В ту минуту мне показалось, что я их понял».
Логика Виды медов были: вишневый, смородинный, мозжевельный, обварный, приварный, красный, белый, белый-паточный, малиновый, черемховый, старый, вешний, с гвоздикой, княжий и боярский (Терещенко. Быт рус. народа, с. 204). «Квас черствый, квас сладкий, квас выкислый», – перечислял Ремизов в «Учителе музыки».
Логика сочинительная: в водевиле Ильфа и Петрова персонаж боится ревнивого мужа: «Он ведь еврей, а это почти караим, а это почти турок, а это почти мавр, а мавр – сами знаете!..» Та же схема в известном анекдоте о ссоре мужа и жены: «…Ах, так я неправа? Значит, я вру! Значит, я брешу! Значит, я собака! Господи, он меня сукой обозвал!» Именно на это похожа система доказательств в интерпретациях разных поэтов у К.
Любовь «С получением сего предлагается Вам в двухчасовой срок полюбить человечество» (С. Кржижановский. О проблемах викариата чувств).
Любовь «Цветаева, видимо, любила своих любовников по обязанности поэта, а мужа – по-настоящему», – сказала НН.
В. Шкловский говорил Л. Я. Гинзбург: «Лиля Маяковского ненавидит за то, что гениальный человек он, а не Ося». – «Так Брика она любит?» – «Разумеется».
Любовь В. Вейдле: французская литература была для Пушкина родителями, которых не выбирают, а женой, которую выбирают по любви, была английская.
Любовь Он любит Мандельштама без взаимности; я тоже, но хотя бы стараюсь эту любовь заслужить.
Любовь Т. Масарик напоминал: сен-симонисты, чтобы теснее связать человека с человеком и приучить людей к любви, рекомендовали, например, пришивать пуговицы у сюртуков сзади, чтоб брат брату помогал при застегивании. И все мы с удовольствием пришиваем своим братьям пуговицы сзади, чтобы они никак не могли их сами застегнуть («Современные записки»).
Макиавелли Г. Федотов о Ключевском: «Какой огромной выдержкой, почти макиавеллистической, нужно было обладать, чтобы читать курс одновременно в духовной, военной и университетской аудитории, сорок лет увлекая студентов и не навлекая подозрительности начальств».
Маркс Критик сказал, что «Приглашение на казнь» – это «Мы» в постановке братьев Маркс («Strong opinions»).
Материальный стимул Уточкин на стадионах летал не выше двух метров от земли, чтобы из‐за заборов не глазели неплатившие.
Матизмы – термин из немецкой монографии о русской матерной лексике. Е. Солоновича просили перевести сонеты Аретино, он ответил: «Не получится, там все необходимые слова свои, а у нас какие-то неестественные, как будто из тюркских пришли». Оказывается, нет: никаких тюркских корней, только название главного органа почему-то из албанского.
Мать Б. Хелдт: «Мария Шкапская, как настоящая мать на суде Соломона, предпочла спасти свою поэзию, отрекшись от нее… Самая неоцененная поэтесса».
Мафия Вор ворует, мир горюет; вор попал, а мир пропал (Пословицы XVII в., изд. П. Симони).
Маяковский «У Данте все домашнее, как у Маяковского, а у Петрарки и Тассо уже отвлеченное», – говорила Ахматова Чуковской.
Медведь До 1815 года Россия и Польша барахтались на Восточной равнине, как два медведя в одной берлоге, царапаясь, но чувствуя, что они одной породы. И за сто лет потом возненавиделись до потери породы, больше, чем при любых самозванцах.
Метод «Этот метод тем полезнее, что сказать нам нечего, а говорить надо» (Квинтилиан, VII, 1, 37).
Мещанство Ренан восторгался г-ном Омэ: «Если бы не такие, нас всех давно бы сожгли на кострах».
Мидас Поэт – это «царь Мидас, [который] бреется сам и сам бегает к камышовой кочке» (письма Шенгели к Шкапской, РГАЛИ).
Минин Это Мельников-Печерский открыл, что его звали Сухорук («Отечеств. записки», 1842, № 8).
Мир Ощущение перед миром: «у нас этого не проходили» (письма А. Квятковского к Д. Пинесу).
Полонский, I, 366
Млекопитающие Есть икона – Богоматерь Млекопитательница. Гоголь путал ее с Троеручицей.
Могила Дорошевича на Волковом кладбище – рядом с Белинским. С Белинского началось заселение Литературных мостков, справа лег Добролюбов и т. д.; а потом оказалось вакантное место слева и пригодилось Дорошевичу.
Может быть Адамович о Пушкине: «бессмертья, может быть, залог» – осторожность, кружится голова от неизвестности, тогда как Лермонтов с бессмертьем неразлучен и панибратствует. Считать ли подтекстом Пушкина «великое peut-être»?
Аннотация для Ленинской библиотеки: печатные карточки с такими аннотациями рассылались по областным, городским и сельским библиотекам, чтобы библиотекари знали, какую книгу ставить на выставку в день моряка, а какую в день рыбака.
А. Чепуров. Еще биография пишется… Л., 1983. «Я знал человека – на вид неказист, По сути – большой, рядовой коммунист…»; «Кому – летать, кому – ходить, Кому дорога – море. Соединяет жизни нить И радости, и горе…»; «Люблю я русскую природу, Люблю, не чаю в ней души И в ясный день, и в непогоду, В открытом поле и в глуши…»; «Мы произносим имя Ленин – И словно дружим с высотой. Весь шар земной, весь мир овеян Его прекрасною мечтой…»; «Вновь пугают, грозятся, Метят в самое сердце огнем. А чего мне бояться – Я живу в государстве своем!..» Такими стихами, простыми, прямыми и патетичными, выражает здесь свои мысли и чувства лауреат Государственной премии РСФСР ленинградский поэт Анатолий Чепуров, чей поэтический путь начался на приневском фронте, и до сих пор «еще биография пишется…» В новую книгу поэта вошли стихи о временах года, о казахской степи, о Пушкине («Уж с той поры я с ним знаком, Когда под стол ходил пешком…»), «Поэмы из дальневосточной тетради» и публицистический цикл «Слушая будущее».
Молодость кончалась лет в 25: «Ты молода и будешь молода еще лет пять иль шесть», – говорят осьмнадцатилетней Лауре. В «Кн. Лиговской» о 25-летней сказано: еще не совестно волочиться, уже трудно влюбиться (заметил Адамович). Лаврецкий был «старик» в 43 года, Ленин имел прозвище «Старик» в 34; где средняя жизнь недолга, стариками кажутся рано (Валентинов). «По дурную сторону тридцати» назывался пожилой возраст в XVIII веке. Ленин говорил Кржижановскому: «Худший из пороков – быть старше 55 лет».
Молодость «Что молодость? конец хазовый жизни!..» (Ф. Глинка. Таинственная капля).
Мораль «Есенин занял место Надсона: не любить его – признак моральной дефективности. У Надсона – болезнь силы, у Есенина – болезнь веры» и т. д. (Мирский, 211). До Есенина самоубивались на могиле Чехова.
Мороз Потоптал мороз цветочек – и погибла роза. / Жалко, жалко мне цветочка, жалко и мороза (Шевченко).
Мудрость русского народа: формулой ее Лесков считал пословицу: «Гнем – не парим, сломим – не тужим». «Стараться, так вовсю, а что выйдет или не выйдет, не наше дело» (Ремизов. Петерб. буерак).
Мысль «Я хочу высказать несколько мыслей», – начинает оратор.
«…Стоял на чтении словес Божиих, да не утолстеют мысли» (Ремизов. Подорожье).
«Мышеловка не бегает за мышью. Мышеловка стоит и ждет. Мышь приходит сама». (Из анекдота.)
Сон А. Кладбище, конторская изба, на подоконнике блюдца с пеплами, и начальница говорит: «Вы можете послать вашему покойнику письмо, у нас есть компьютер». – ? – «Вам же, наверное, хочется сообщить ему о том, что произошло без него?»
Народ «Пока народ безмолвствовал, можно было верить, что он народ, а как заговорил – расползся на социальные группы».
Народность – «у нас дважды два тоже четыре, да выходит как-то бойчее». Православие: «если Бога нет, то какой же я штабс-капитан?» Для Самодержавия формулу русской классики я пока не смог найти.
Народный язык (volgare) У А. Егунова (Николева) есть рассказ о петербургском митрополите, который будто бы для привлечения слушателей стал в Казанском соборе служить литургию по-французски, был сослан на Камчатку и там проповедью по-камчадальски («Если любви не имею…») поднял рождаемость в вымиравшем населении. Но в 1845 году действительно был проект при одной из церквей Бердичева учредить православную службу на идише для привлечения прозелитов; отложили, потому что накладно было обучить попов языку и перевести молитвенники («Совр. записки»).
Нарцисс «Шершеневичу не хватало самовлюбленности, и он ее нервно компенсировал. Вообразить его поступки у Северянина немыслимо» (разговор с О. Б. Кушлиной).
Настрой вместо настроение: это слово («настрой души») было уже у Анненского в статье о Бальмонте. А загадочное никчменный вместо никчемный – у Пяста. Ср. V, Волнительный.
Naturgefühl «Хороши у Господа декораторы» (В. Жаботинский. Пятеро). К красоте природы я невосприимчив, но мне всегда казалось, что если бы я мог поговорить с Богом и расспросить его, какие горы и долины было легче делать, а какие труднее, то я научился бы что-то воспринимать.
Заболоцкий ужасался, как безобразна бабочка с близкого взгляда. Дневник Пришвина: «Как трудно птицам небесным: шишки под крыльями, высиживай, таскай червей… Мы можем любить природу [с тех пор, как] мы больше ее: любим и не спрашиваем о взаимности». Так пейзаж с горами и морями вошел в моду лишь после того, как альпийские обвалы и средиземноморские бури стали безопасны новым дорогам и кораблям.
Точно так же лишь после того, как историзм отделил человека от прошлого, стало возможно это прошлое не спокойно-связно переосмыслять, а эмоционально-прерывисто пере-переживать: появилась романтическая автобиография. Кажется, об этом страхе времени писали меньше, чем о страхе пространства. Я смотрю по сторонам на людей и вещи, как античный человек на природу: как на потенциальную угрозу.
Национализм С. П. Бобров пересказывал английский роман: кто-то умирает и чувствует, что растворяется, как сахар в воде, в потоках света; ему не хочется растворяться, он начинает мысленно ругаться и богохульствовать, и, действительно, свет отступает, – но как только он останавливается, наплывает опять и т. д. (Очень похоже на Поплавского – «не религиозный опыт, а религиозные опыты», «не просто святость, а интересная святость», – писал о нем Бердяев: он хотел сохранять индивидуальность хотя бы ценой рембообразного зла.) Так и современным культурам не хочется растворяться в мировой, и они националистически ругаются. Ср.:
Хр. Моргенштерн
Начальство Статья в «Русской мысли» 1913 года, после балканских войн: у русского солдата кроме общеизвестных его боевых качеств есть еще одно: неприхотливость к начальству. Это значит: если над французским солдатом офицер дурак, то боеспособность солдата падает до нуля, а у русского только вдвое. А. сказала: «Это относится не только к солдату».
«Не бойся, не надейся, не проси». Не просить я научился смолоду, не надеяться учусь постепенно, не бояться – не могу.
Не верь глазам своим В репинских «Пенатах» на двери, похожей на окно, была надпись «Здесь дверь» (восп. Ал. Вознесенского). А в длинном больничном коридоре на одной из стандартных белых дверей я сам видел приколотую бумажку: «Не входить, это шкаф».
Не у нас «Беспристрастие и здравый смысл наших суждений касательно того, что делается не у нас, удивительны» (Пушкин, по поводу «Истории поэзии» Шевырева).
«Не судите, да не…» Притча Ремизова: во сне архангел показывает ругателю душу ругаемого: куда скажешь, туда и пойдет, в ад или в рай. «Нет казни больше, чем судить».
Негроторговец «Научиться у меня можно лишь одному: не любить свои стихи и с зоркостью негроторговца разглядывать по статям чужие; и то и другое – штука невеселая» (письма Шенгели к Шкапской, РГАЛИ).
Нейтральный Авангардистская невнятность содержания текста и понятные пятна на непонятном фоне – это вывернутая наизнанку старая практика, где фон был понятен, а наиболее важные моменты отмечались необычной приподнятостью, т. е. невнятностью.
Необходимость «Не полная, не худая, так только, необходимого виду» (восп. Т. Чурилина, РГАЛИ).
Несостоявшийся талант великого полководца (встретил в раю капитан Стормфилд), нереализовавшийся талант великого подлеца. Стремление не быть «добровольцем оподления» (Лесков), молитва: «Дай, Боже, прежде умереть, чем…». Солон говорил: не называй никого счастливым прежде смерти; так и здесь: не называй никого порядочным прежде смерти.
Никогда Ван Гог часто вспоминал египетскую надгробную надпись: «Феба, дочь Тмуи, жрица Осириса, никогда ни на кого не жаловавшаяся».
Никогда Никогда не случается неожиданного, никогда не сбываются предчувствия, никогда не верны заведомые известия (Тургенев – Полонскому, 6 сент. 1882 г., предсмертные уроки). Ср. пословицу: «Хорошее случается, а худое сбывается».
Ничего Л. Леонов справил 94-летие, его спросили, что он мог бы сказать современным писателям, он сказал: «Ничего».
Ничего Лучше ничего не сказать, чем сказать ничего (будто бы Сковорода).
Ногти Адамович откуда-то помнил: Платон Зубов, уже в 1820‐х, рассказывал, что, когда шел к Екатерине, у него «ногти тряслись от отвращения». Алданов умолял найти источник, но не удалось.
Ностальгия У Гомера любовное обилие подробностей – от ностальгии по недавнему, но невозвратному прошлому; ближайшая аналогия – «Пан Тадеуш», но в нем ностальгия больше по пространству, чем по времени. В. Смирин добавил: так в I главе «Онегина» – ностальгия по петербургскому пространству, в VIII главе – по молодому времени; они перекликались темами большого света (в начале иронически, в конце уважительно, потому что за пределами «Онегина» ему уже грозит новое мещанство), темами хандры и книг.
Ночь В «Горных вершинах», несмотря на «тьму ночную», являются зрительные образы: «не пылит дорога» и, видимо, «не дрожат листы». В оригинале, наоборот, ночь складывается только из осязания (Hauch) и слуха (Schweigen), а по имени не названа.
Нужный «Не уезжаю, потому что я там не нужна; здесь я тоже не нужна, но здесь все мы не нужны, а там…»
Обезьянствовать «Француз играет, немец мечтает, англичанин живет, а русский обезьянствует» («Гоголь в письмах и воспоминаниях», 1931).
Обличать М. Салтыков-Щедрин, из писем Николая I к Поль де Коку: «Любезный статский советник Поль де Кок! Получив ваше письмо, что мне, как неограниченному повелителю миллионов, полезно по временам выслушивать обличения, я сейчас же послал за протоиереем Баженовым и, когда тот явился, приказал ему обличать меня. Но посмотрите, что он сказал: армия твоя наводит страх на всех твоих врагов, флоты твои по самым дальним морям разносят славу твоего имени, а чиновники с кротостью и любовью пасут вверенное им стадо. Судите сами по этим словам, как трудно управлять таким государством, как Россия!»
Обломов По нему Рильке учился русскому языку, а Цветаева потом негодовала.
Общение Яновский спросил Шестова: «Почему вы читаете лекции по писаному?» Шестов ответил: «Нет сил смотреть на лица». С. М. Соловьев тоже читал лекции, закрыв глаза.
Обязательный «За невольный грех и бог не взыскивает… Одно слово: обязательное было время» (Мамин-Сибиряк. Варнаки).
Ожидание эстетическое «Классицист вызывает читательские ожидания и удовлетворяет их, а романтик вызывает – и не удовлетворяет» (Т. Шоу). А дальше, вероятно, возникает ожидание неудовлетворения, и, чтобы обмануть его, нужно удовлетворить его и т. д. Так М. Дмитриев объяснял спор романтиков с классиками.
Озвучивать Катулл, 34, гимн Диане: «Чтоб владычицей гор была, И хребтов зеленеющих, И укромных хребтов вдали, И озвученных речек». Переводчик – Н. Шатерников. А неверный друг у него – назван Иуда (РГАЛИ).
ПИСЬМО ИЗ ОКСФОРДА:
Дорогая И. Ю.,
сообщаю, что английский город Оксфорд – весь каменно-серый и травянисто-зеленый: серые циклопические стены колледжей и зеленые их дворы с лужайками: никогда не видел такой яркой зелени. Мне сказали: «Ваш колледж называется Новый, но вы не думайте, он современник Куликовской битвы». Со времен Куликовской битвы все они сто раз перестраивались, но не теряя замшелого вида. Всего этих колледжей 36, и как они складываются в университет, не знает даже мой пригласитель, который служит там двенадцать лет. Самый молодой строен перед войной, он гладенький, но тоже несокрушимо серый, острокрыший и с непременной колокольней, хотя церкви в нем нет. В остальных – тяжелые церкви, с входной стены тебе в спину смотрит орган, с передней вместо иконостаса – четыре яруса готических святых, тоже узких, как трубы органа. «Это, конечно, реставрация, настоящих святых повыкидывали в пуританскую революцию». И наоборот, на главной улице высокий конус из узких стрельчатых арок – памятник протестантским мученикам. А вокруг главной библиотеки – полукруглая решетка с каменными квадратными столбами, на каждом бородатая греческая голова, но выглядят они почему-то не как гермы, а как тын царя Эномая с мертвыми черепами.
На боках колледжей – каменные доски с именами выпускников, погибших в двух войнах; на одной доске – два немецких длинных фон-имени: «они вернулись в отечество и отдали жизнь за него». Говорят, из‐за этой доски был когда-то скандал. Внутри, в темном банкетном зале – портреты на стенах: темная парсуна в берете, сутана с отложным воротником, кафтан с пудреным париком, диккенсовские бакенбарды. Это попечители, к науке они не относятся. Банкет – при свечах, догорели – кончился.
За стенами (стены толстые, снаружи жарко, внутри холодно) теснятся домики без садиков, дымовые трубы гребешками, а между домиками бегают двухэтажные автобусы желтого цвета. На одном обшарпанном домике написано: «Здесь проповедовал Уэсли» (в XVIII веке), а на другом, совершенно таком же: «Здесь жил Голсуорси». Не сразу соображаешь, что из первых этажей на тебя глядят не витрины и офисы, а деревянные крашеные двери частных квартир на крепких замках. Поперек города и университета идет старая городская стена, тоже серые глыбы на сером цементе, а вокруг тоже зеленые лужайки. Но это что! Настоящая гордость – квадратная узкая башня, такая же каменно-щербатая, XI век, норманны строили, а на ней часы с новеньким голубеньким циферблатом.
У Маяковского в американских очерках раздел начинается: «Океан – дело воображения»: и в простом море не видно берегов, но вот когда подумаешь, что такое безбрежье – на неделю назад и на неделю вперед, то оценишь. Так и Оксфорд: идешь мимо домов, а как посчитаешь, сколько веков с них смотрит, становится неуютно.
«Оксфорд» значит «бычий брод» – первое мелкое место на Темзе, где можно было перегонять коров из северной Англии в южную. Местные слависты переводят: «Скотопригоньевск». Я встретился там со старым знакомым, античником и славистом сразу. Я рассказывал, как Бродский говорил о Фросте: «для европейца за каждым деревом стоит история, а для американца пустота, ангуасс». Он спросил: «А для русского?» – «Не знаю». – «Наверное, Бродский тоже не знает».
Когда я прилетел, паспортист спросил: «Цель?» – «Научная конференция». – «Физика или что?» – «Филология». – «Что такое филология?» – «Лингвистика и тому подобное». Он с улыбкой поставил печать…
Омовение Б. Житков в письме к Бахаревой 31 сент. 1924 г.: «По поводу „Мойдодыра“ один здешний композитор говорит, что здесь все судьбы русской интеллигенции за последнее время. Умывание – это омовение от прошлой идеологии; упорствующие остались без брюк – [а] стоило пойти навстречу, как и прозодежда, и бутерброд».
-опа Шенгели в рабочей тетради набрасывает на полях рифмы: капитана Боппа, крика и вопа, прыга и гопа, Родопа, Эзопа, подкопа, раскопа, окопа, скопа, копа, Перекопа, микроскопа, (теле-, спектро-, стерео-, хромо-, перископа), холопа, безблошно и бесклопо, антилопа, Пенелопа, остолопа, эскалопа, галопа, циклопа, Канопа, протопопа, Партенопа, укропа, стропа, метопа, филантропа, мизантропа, оторопа, Меропа, потопа, топа, Каллиопа, гелиотропа, ослопа, салопа, салотопа, поклепа, тропа, Антропа, эфиопа, Синопа, сиропа, притопа-прихлопа, Степа, растрепа, питекантропа, пиропа, землекопа, рудокопа, недотепа, Конотопа, губошлепа, хвостотрепа… (РГАЛИ, 2861, 1, 10, л. 87об.). У Брюсова, Багрицкого, Цветаевой тоже бывали такие заготовки рифм на полях.
Опасность «Революция толкнула С. Булгакова на опасный путь осознания происходящего».
Опиум В приютах его давали шалунам перед приходом знатных посетителей («Рус. старина», 1890).
Опояз Чуковский цитирует С. Джонсона: Ричардсон смотрит на часы и видит, как они сделаны, а Филдинг смотрит и видит, который час.
Оптимизм Агитстихи З. Гиппиус 1917–1919 годов удивительно похожи на людоедские стихи В. Князева того же времени и на «Убей его» Симонова. Если люди в войну нуждаются в таких лютых стимулах, чтобы убивать друг друга, то, право, о человечестве можно думать лучше, чем обычно думают.
Оптимизм Самая оптимистическая строчка в русской поэзии, какую я знаю и вспоминаю в трудных случаях жизни, это в «Коринфянах» Аксенова. Медея зарезала детей, сожгла соперницу, пожар по всему Коринфу, Ясон рассылает пожарников «и на Подол, и на Пересыпь», хор поет гимн огню со строчкой «укуси? укуси? укуси?», вестники браво рапортуют, что все концы выгорели дотла, – и Ясон, выслушав, начинает финальный монолог словами:
Оригинальность Девочка хочет обрезать роскошную косу, чтобы сделать «оригинальную прическу». «Оригинальная – это какая?» – спрашивают родители. «Оригинальная – это как у всех», – убежденно отвечает дочь.
Борис Лапин
Орфография Александр I жалел о невозможности запретить указом букву ять (Греч). Кажется, это реминисценция из разговора императора Тиберия с грамматиком, который сказал: «Ты пишешь законы Рима, а не законы языка».
От и До План воспоминаний Г. Шенгели: «Северянин, Волошин, Мандельштам, Дорошевич, Багрицкий, Брюсов, Бальмонт, Белый, В. Иванов, Рукавишников, Грин, Ходасевич, Цветаева, Есенин, Шершеневич, Маяковский, Пастернак, Антокольский, Аксенов, Бобров, Петников, Гатов, Кузмин, Нарбут, Ахматова, Адалис, Шишова, Олеша, Катаев, Ильф, Арго, Бурлюк, Бунин, Л. Рейснер, Рыжков, <нрзбр>, Шкловский, Шкапская, Хлебников, Глаголин, Ходотов, Мурский, Дядя Ваня, А. Литкевич, Сюсю, Француз». То же в «Ямбах»: «Он знал их всех и видел всех почти: / Валерия, Андрея, Константина, / Максимильяна, Осипа, Бориса, / Ивана, Игоря, Сергея, Анну, / Владимира, Марину, Вячеслава / И Александра: небывалый сонм, / Четырнадцатизвездное созвездье!» Велимира и Федора в стихах нет.
Отец Массон о гвардейском офицере, который в 25 лет продал всех мужиков и оставил баб, чтобы заселять поместье собственными силами.
«Отцеубийство – это воздаяние добром за зло» (записи Хаусмена). Я вспомнил начало рассказа Бирса: «Однажды я убил моего отца, и по молодости лет это произвело на меня сильное впечатление. Я пошел посоветоваться к полицейскому начальнику. Он меня понял: он и сам был отцеубийцей с большим стажем…»
Отцеубийство Александр I не любил Кутузова не только из‐за Аустерлица, но и потому, что накануне 11 марта Кутузов с женой тоже были на ужине у Павла I.
Отцеубийство В Китае, писал Марко Поло, за все уголовные преступления можно от смертной казни откупиться деньгами, кроме трех: отцеубийства, матереубийства и не по форме вложенного в конверт казенного письма (нет, кажется, за неправильно написанный адрес императора).
Отечество «Великая всемирная Отечественная война» было написано на обложке песенника 1914 года.
Отечество Один перчаточник, изобразив на вывеске огромную ручищу, просил разрешения подписать стих из «Димитрия Донского»: Рука Всевышнего отечество спасла. Неизвестно, разрешили ли (Вяземский).
Отечество С. Ав. сказал: «Не нужно думать, что за пределами отечества ты автоматически становишься пророком».
«Отче наш» было напечатано в конце передовицы «Биржевых ведомостей» – никто не заметил (Ясинский).
Отказ Выписка из К. Ф. Мейера в дневнике А. Е. Дорофеева (РГАЛИ): легче отказаться от желаний совсем, чем наполовину. Зощенко повторял: не так важно исполнять желания, как иметь их.
Отпуск «Все мы покойники в отпуску» – слова баварского Евг. Левинэ. До него это написала, сидя в тюрьме, Роза Люксембург. Но еще раньше был комик Алексид в «Тарентинцах» (цит. у Афинея), только многословнее.
Оценочность Стихи делятся не на хорошие и плохие, а на те, которые нравятся нам и которые нравятся кому-то другому. А что если ахматовский «Реквием» – такие же слабые стихи, как «Слава миру»? См. VII, Поэзия.
«Gesta Romanorum» («Римские деяния» с «прикладами» и «выкладами») мы с М. Е. Грабарь-Пассек переводили для сборника «Памятники латинской литературы XIII века», который три раза проходил через издательство «Наука», но на всякий случай так и не вышел.
33. О тщеславии. Повествует Валерий о том, что некий муж по имени Ператин сказал со слезами сыну своему и соседям: «О горе, горе мне! есть у меня в саду злосчастное древо, на коем повесилась моя первая жена, потом на нем же вторая, а ныне третья, и посему горе мое неизмеримо». Но один человек, именуемый Аррий, сказал ему так: «Дивно мне, что ты при стольких удачах проливаешь слезы! Дай мне, прошу тебя, три отростка от этого дерева, я хочу их поделить между соседями, чтобы у каждого было дерево, на котором могла бы удавиться его жена». Так и было сделано.
Нравоучение. Любезнейшие! Сие древо есть крест святой, на коем был распят Христос. Сие древо должно быть посажено в саду человека, дондеже душа его сохраняет память о страстях Христовых. На сем древе повешены три жены человека, сиречь гордость, вожделение плоти и вожделение очей. Ибо человек, идя в мир, берет себе трех жен: первая – дщерь плоти, именуемая «наслаждение», другая – дщерь мира, именуемая «алчность», третья – дщерь диаволова, именуемая «гордость». Но если грешник по милости Божией прибегает к покаянию, то сии три жены его, не домогшись взыскуемого, удавляют себя. Алчность удавляется на вервии милосердия, гордость – на вервии смирения, наслаждение – на вервии воздержания и чистоты. Тот, кто просит себе отростки, есть добрый христианин, который и должен домогаться и просить доброго не только для себя, но и для ближних своих. Тот же, кто плачет, есть человек несчастный, возлюбивший плоть и все плотское паче, нежели то, что от Духа Святого. Однакоже и его человек добрый часто может наставлением повести по верному пути, и войдет он в жизнь вечную.
68. О том, что не должно умалчивать правду даже под угрозою смерти. В царствование Гордианово был в его державе некий благородный рыцарь, имевший красавицу жену, которая почасту изменяла в верности мужу своему. Однажды пустился супруг ее в долгое странствие, а она немедля призвала к себе своего любовника. А была у нее служанка, разумевшая язык птиц. И когда тот любовник пришел, в то время были во дворе три петуха. В полночь, когда любовник возлежал с госпожою, пропел первый петух, и, услышав это, госпожа спросила служанку: «Скажи мне, дражайшая, что сказал петух своим криком?» Та ответила: «Сказал он, что ты дурно поступаешь пред господином своим». Госпожа сказала: «Пусть зарежут того петуха!» Так и сделали. В положенный срок пропел второй петух, и спросила госпожа служанку: «Что сказал петух своей песнею?» Та ответила: «Сотоварищ мой умер за правду, и я готов смерть принять за правду его». Госпожа сказала: «Пусть зарежут петуха!» Так и сделали. А потом запел и третий петух, и спросила госпожа служанку: «Что сказал петух своим голосом?» Та ответила: «Слушай, смотри, но ни слова, чтоб жить подобру-поздорову!» И сказала госпожа: «Этого петуха не убивать!» Так и сделали.
Нравоучение. Любезнейшие! Сей царь есть Отец наш небесный; сей рыцарь – Христос; супруга его – душа, с коею он вступил в брак чрез крещение; соблазнитель же ее – диавол, завлекший ее обманами мирскими; почему всякий раз, как мы уступаем греху, мы изменяем Христу. Служанка же есть твоя совесть, ибо она негодует на грех и непрестанно побуждает человека к добру. Первый пропевший петух есть Христос, ибо Он первый поборол грех; видя сие, иудеи его убили, как и мы ежечасно убиваем его подобным образом, когда предаемся греху. Под вторым пропевшим петухом разумеются святые мученики и иные многие, проповедавшие Его путь и учение; и они тоже ради имени Христова были убиты. Под третьим же петухом, сказавшим «Слушай, смотри…» и прочее, можно разуметь проповедника, которому должно печься о возвещении истины, но в сии дни он не осмеливается ее гласить. Потщимся же паки страшиться Господа и возвещать истину, да приидем мы ко Христу, который есть истина.
106. О том, что следует бдительно противостоять козням диавольским. Жили некогда три товарища, и пустились они в странствие. Случилось так, что не оказалось у них никакого пропитания, кроме лишь хлебного ломтя, а были они весьма голодны; и сказали они друг другу: «Если разделим этот хлеб на три части, ни единый своей частью не насытится; давайте же здесь возле дороги ляжем спать, и кто из нас увидит самый удивительный сон, тот и возьмет весь хлеб». И легли. А тот, кто подал совет, встал и, пока они спали, съел весь хлеб и ни крошки товарищам не оставил. Пробудившись, сказал первый: «Дражайшие! видел я, будто с неба спустилась золотая лестница, и ангелы по ней нисходили и восходили, и душу мою на небо вознесли, и узрел я и Отца, и Сына, и Духа Святаго, и велико было в душе моей веселие». Второй же сказал: «А я видел, как демоны железными и огненными крючьями извлекли душу мою из тела и жестоко ее мучили, говоря: доколе Бог царит в небеси, дотоле ты здесь будешь пребывать». Третий же сказал: «Мне же привиделось, будто некий ангел предстал и молвил: хочешь ли видеть, где суть твои спутники? И я ответил: даже очень хочу, ибо страшусь, не похитили бы они хлеб наш насущный. И привел он меня к вратам небесным, и по его велению просунул я голову сквозь те врата и увидел тебя восседящего на златом престоле, а пред тобой яства и вина в изобилии. А засим привел он меня к вратам преисподним, и там увидел я тебя казнимого и спросил, доколе тебе сие, а ты мне ответил: во веки веков! поспеши же съесть наш хлеб, ибо ни меня, ни друга нашего ты более не увидишь. Тогда встал я и по слову твоему съел наш хлеб».
Нравоучение. Любезнейшие! под сими тремя спутниками надлежит понимать три рода человеков. Под первым – сарацинов и иудеев, под вторым – богатых и сильных мира сего, под третьим – людей совершенных и богобоязненных; хлеб же сей есть царство небесное, и по заслугам каждого сему дается больше, иному меньше. Первые, сиречь сарацины и иудеи, спят во грехах своих и верят, будто обладают небесами: сарацины по слову Магометову, иудеи же по закону Моисееву, но вера сия есть не более, нежели сновидение. Вторые, сиречь богатые и сильные мира сего, хоть и знают, без сомнения, от своих проповедников и исповедников, что, скончавшись во грехах без покаяния, низойдут они в геенну на муки вечные, однакоже, невзирая на сие, грехи грехами умножают, как и в Писании сказано: «Где сильные мира сего, кои с псами и соколами забавлялись? мертвы они и в преисподнюю низошли». Третий же сотоварищ, кто ни во грехах, ни в вере ложной не вкушает сна, но бдит, совершая дела добрые, совет ангела выполняя, сиречь дары Духа Святаго приемля, тот жизнь свою таким путем направляет, что хлеб, сиречь Царство небесное, обретает.
«П» Лингвистическая статистика: набиравшие покойного М. П. Погодина знали, что для статей его нужно запасаться в особенном обилии буквой «П» (Восп. Гилярова-Платонова). Теперь это назвали бы гипограммой собственного имени.
Павлик Морозов Не забывайте, что в Древнем Риме ему тоже поставили бы памятник. И что Христос тоже велел не иметь ни отца, ни матери. Часто вспоминают «не мир пришел я принесть, но меч», но редко вспоминают зачем.
Паганель Брюсов говорил, что Бальмонт, «когда захотел переводить Ибсена, стал изучать вместо норвежского шведский язык» (восп. Ал. Вознесенского).
Память Письмо от М. Червенки: «Благодарю Вас за второй экземпляр Вашей книги и за все следующие, если Вы захотите их прислать: видимо, у нас с Вами общая не только любовь к стиху, но и забывчивость – о моей я мог бы рассказать много анекдотов, но уже их забыл».
«Панегирик – дурацкое слово, вроде пономаря» (Цветаева в письмах).
Паркет Разговор с С. Ав.: «Когда Мандельштам обзывал Ахматову паркетной столпницей за однообразие словаря, то ведь собственный его словарь в это время был едва ли не беднее…» – «Ну, это просто значило, что он перешел на другую паркетину».
Пародия А. Платонов в некрологе Архангельскому писал, что пародия – это путь к обновлению языка. Не ключ ли это к стилистике Платонова?
Пародия Всякий конспект может быть воспринят как пародия полноты: даже Пушкин – как конспект мировой культуры.
Пародия Полежаев – пародия на Овидия, как Николай I пародия на Августа.
Партийность «Пастернак по натуре был беспартийным, как Маяковский – партийным, а Мандельштам – надпартийным» (В. Марков).
Мне позвонили из «Сов. энциклопедии» и предложили сделать однотомный словарь по поэтике, в одиночку или с кем хочу. Я задумался: про пиррихий, антиметаболу и даже ретардацию я напишу, а вот про партийность или народность? Но, задумавшись, придумал определение: партийность – верность идеологии, которую не сам выработал. Коммунистическая П. советской литературы, а еще пуще – христианская П. средневековой литературы. (Потом я нашел у Брехта обратное: «Для искусства беспартийность означает принадлежность к господствующей партии».) Словарь не вышел: в поисках соавторов я написал Жолковскому, он ответил письмом на латинской машинке, что v skorom vremeni uezzhaet. Это единство содержания и формы произвело на меня впечатление, и я прекратил поиски, а «Энциклопедия» скоро передумала.
Перевод нужен отдельный не только для чтения и для сцены, но и для каждой постановки. Козинцев ставил не «Гамлета», а пастернаковский перевод: подставить под его кадры перевод Лозинского невозможно.
Перевод «Кто дает буквальный перевод Писания, тот лжет, а кто неточный, тот кощунствует» (Иехуда бен Илаи. Цитируется в предисловии к переводу Новалиса, а оттуда взято эпиграфом к переводу Моргенштерна).
Перевод К. не мог напечатать статью против переводов Маршака; тогда он стал рассуждать: «Маршак – еврей, кто у нас против евреев?» – и напечатал ее в альманахе «Поэзия». Хотя сам был еврей с отчеством Абович.
Перевод Самая переводимая книга – Микки-Маус, затем Ленин, затем Агата Кристи; Библия отодвинулась на четвертое место (данные на 1988 год).
«Искусство тяжелая проблема вообще. А искусство перевода вообще тяжелая проблема», – пародическая речь в воспоминаниях Е. Благининой. См. Свобода.
Перевод Самый точный стихотворный перевод, который я сделал, – это автоэпитафия Пирона:
Существует история, будто Пирон вдруг подал на вакансию в ненавистную ему Академию. Друзья удивлялись, он говорил: «А вот меня выберут, произнесут в честь меня речь, будут ждать ответной, а я вместо этого только скажу: „Спасибо, господа!“ – и послушаю, как они мне ответят: „Не за что“…» Л. И. Вольперт сказала: «А вы понимаете, в чем здесь пуант? Вообразить, что Пирона примут в Академию, – возможно; а вот вообразить, что, принятый, он обойдется без ответной речи, – это уже невозможно». С такой структурой есть английские анекдоты о чудаках.
«Переводы – Сибирь советской интеллигенции» (Кл. Браун в книге о Мандельштаме). Иначе: «Бежать в служенье чужому таланту из собственной пустоты» (дневн. А. И. Ромма, РГАЛИ).
Переводы Тайна русского народа была бы понятнее иностранцам, если бы они могли читать не только Достоевского, а и Щедрина. Но Достоевский переводим (как детектив и как философский трактат), а Щедрин непереводим, и не из‐за реалий и аллюзий, а потому что стилистическое богатство его ехидства абсолютно непередаваемо. Передать исхищренную точность щедринских слов мог бы разве Набоков, но для Набокова Щедрин не существовал. (А ведь было у них общее свойство – способность уничтожить одним словом. Их сравнивал еще Бицилли.)
Е. Витковский сказал: «Передо мной положили два текста перевода Семенова-Тян-Шанского из Горация, такие, что я спросил: это разные?» Я объяснил: это я редактировал старые переводы для однотомника 1970 года, в некоторых текст совсем исчезал за правкой, и лишь, словно в окошечках, виднелись первоначальные слова. «Да, знаю; я однажды редактировал Эйхендорфа, так там и окошечек не осталось».
Когда дело дошло до верстки, я заметил, что в одном стихотворении в окошечках уже не те слова; посмотрел в оглавление, там другая фамилия – это соредактор поставил вместо старого перевода молодой. Я рассказал об этом случае Т. Луковниковой из секции переводчиков, она сказала: «Это что! А вот у нас был переводчик – процитировал четверостишие в чужом переводе, изменив одно слово, а потом, при переиздании того перевода, потребовал подписать его двумя именами». – «Назвала?» – спросил Витковский. «Нет, я честно не интересовался». – «Это М., а правил он перевод Н.»
Перестройка «В машине есть мертвые точки, которые надо проскакивать, а не проскочишь – стоп». «Европы сразу не заведешь». «Люди лыковой культуры». «А я себя чувствую, как на корабле с течью» (Б. Житков, письма 1921 г., РГАЛИ, 2185, 1, 4). О себе: «Всех хочу сделать счастливыми, а характер аракчеевский». С Лениным он виделся, стажируясь в Копенгагене, тот расспрашивал о положении в России.
Песня Н. Я. Мандельштам пишет запевами и припевами: в конце каждого абзаца об О. М. или о чем угодно у нее следует суждение о нашей подсоветской жизни, как сентенция в конце античного монолога.
Петля «Он изобрел пуговицу, а петлю-то изобрел я». – «И вы поссорились?» – «Конечно» (А. Жид. Новая пища).
Г. Оболдуев
Пилос Есть знаменитое стихотворение: «…Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал», автор – К. Петерсон. Е. О. Путилова установила, что это был тайный советник, пасынок Тютчева, а потом уточнила, что это был другой К. Петерсон, не тайный, а титулярный советник. Так Воейков о некотором тщеславном литераторе поместил объявление: «У действ. ст. сов. такого-то пропала собака» и т. д., а в следующем номере исправление опечатки: «Следует читать: у губ. секр. такого-то»; Пушкин считал это лучшей сатирой Воейкова (Вяз., 8, 505). Я вспомнил греческую пословицу: «Есть кроме Пилоса Пилос, но есть еще Пилос и третий».
Плаж Цветаева считала, что «пляж» вместо «плаж» – вульгаризм (письма Шаховскому). Это понятно, «плаж» – архаичнее: при Мятлеве рифмовали «par là – орла», в ХX веке «voilà – земля». У Брюсова есть стихотворение «На плаже»; напрасно издатели, очень бережные даже к брюсовской пунктуации, все-таки переделали его в «На пляже».
Плюрализм – против чего? Против сингуляризма? Русский плюрализм с дитей без глазу.
Подлинность С. Аверинцев в интервью («Огонек», 1986, № 32) призывал уважать старину и ценить подлинность. Мне, не имея отца и деда, трудно понять первое и, будучи переводчиком (как и С. Ав.), трудно понять второе. Подлинность подлинна только тогда, когда не замечается. О. Седакова сказала: а Умберто Эко в докладе, наоборот, очень пространно и патетично рассуждал, что никакой подлинности на свете нет и быть не может. Но когда пошли обедать, он так вдумчиво вникал в меню, что я подумала: нет, кое-что подлинное для него есть.
Подтекст «Каждое честное клише мечтает кончить жизнь в знаменитых стихах» – цитируется у К. Келли.
Подтекст «Раскрывать подтексты собственной эрудиции».
Поколение Три поколения русских мужиков: косноязычные с междометиями, говоруны-краснобаи и уклончиво молчащие (Тургенев у Гонкуров, 1 февр. 1880 г.).
Политика «Политика, ж., греч., – наука гос. управленья; виды, намеренья и цели государя, немногим известные, и образ его действий при сем, нередко скрывающий первые. Политика – тухлое яйцо (Суворов). Вообще уклончивый и самотный образ действий. Политик, м., – умный и тонкий (не всегда честный) гос. деятель, вообще скрытный и хитрый человек, умеющий наклонять дела в свою пользу, кстати молвить и вовремя смолчать» (Словарь Даля).
Политики В начале перестройки главной радостью была мысль: «Как много у нас, оказывается, есть политиков!» А теперь, глядя на общую борьбу, мучишься мыслью: как мало у нас политиков для такого большого народа.
«Политиколепная Апофеозис» назывался панегирический сборник в честь Петра I в 1709 году. Ср. «Царь Максимилиан, зверолепный и богометный».
Понимание «Все простить значит ничего не понять» (Степун. Из писем прапорщика).
Понимание «Ты пойми нас, а не то мы тебя поймем!» – говорят у А. Платонова: общество разговаривает с человеком так, как до него разговаривала природа.
Понимание Анкета в «Аргументах и фактах»: кто, по-вашему, лучше всех поймет вас в несчастье? Сдвиги после 2000 года: реже упоминаются мать-отец, муж-жена, сын-дочь, наравне – брат-сестра, человек в похожем положении, чаще – случайный встречный, собака, кошка.
Понимание Понимание – это то, что можешь пересказать, восприятие – то, чего и не можешь; принимать одно за другое опасно. Из хасидских притч: «Вы мою проповедь не поймете, но все равно слушайте, потому что, когда придет Мессия, вы его тоже не поймете, поэтому привыкайте».
Рассказывал Ю. Шичалин. На вступительном экзамене девочка изумительно прочла «Пророка». «А кто такой серафим?» – «Херувим». (Я бы удовлетворился.) «А что такое зеница? десница?» Не знает. Ш. обращается к ожидающим очереди: «Есть ли кто-нибудь, кто знает, что такое десница?» Мрачное молчание и из угла унылый голос: «Я знаю, только объяснить не могу».
Понимание «Деструктивизм учит нас не понимать привычных классиков». – «Не надо, мы и так их не понимаем!» – «Вы неинтересно не понимаете, а мы учим интересно не понимать».
Попыхи «Признаться, самому до смерти / Мне надоели попыхи: / Куда тебя ни сунут черти, / Весь мир исполнен чепухи» (Фет).
Порнография Лев Толстой порицал за порнографию «Последнюю любовь» Тютчева (Н. Гусев). А у Брюсова «Ennui de vivre» понравилось ему больше «Каменщика».
Порядок Воспоминания дочери о Шолом-Алейхеме: «Когда все у него на столе расставлено в порядке, он не пишет: сидит и любуется на порядок».
Пошлость «Что такое poshlost’? – подражания подражаниям, фрейдистские символы, траченые мифологии, „момент истины“, „харисма“, абстракционизм роршаховских пятен, рекламные плакаты и „Смерть в Венеции“. Когда мне станут подражать, я тоже стану пошлостью, но еще не знаю, в каком контексте» (Набоков. Strong opinions).
Поэзия – «исповедь водного животного, которое живет на суше, а хотело бы в воздухе» (К. Сандберг, цит. в словаре Роже).
Правда «Говорить всегда правду – это тоже эстетская прихоть», – говорил Олейников (в тех самых разговорах, в которых Заболоцкий сказал, что хочет взять фамилию Попов-Попов, вероятно вспомнив генерала Май-Маевского). А Аксенов говорил: «На всякий вопрос можно ответить так, чтобы это было правдой» (Благородный металл).
Права «В связи с посмертной реабилитацией восстановить тов. Введенского А. И. в правах члена СП СССР с 27 сентября 1941». Подлинный документ от 19.6.1964. А то еще было постановление: в уважение к заслугам посмертно принять М. Кульчицкого, П. Когана и др. в члены Союза писателей. Какое самоуважение нужно для такого почета!
Предки «Истинный мистик, как истинный джентльмен, никогда не теряется: ряд перевоплощений так же бодрит, как ряд предков» (Биография Йейтса; транскрибировать ирландскую фамилию биографа не могу).
Предки «Кто твой отец?» – спросили мула. «Я от кобылы-одиночки», – ответил мул. Нынешнему возрождению русского дворянства следовало бы взять девизом «Наши предки Рим спасли». Генеалогическое дерево, генеалогический пень.
Предки «Старец Шварец» Саши Черного был правнуком знаменитого масонского святого.
Предки У Белинского прадед неизвестен, дед – сельский священник, отец – военный лекарь с репутацией вольнодумца, мать – мелкая дворянка. Как у всех русских пишущих людей, замечает Михайловский: «немножко дворянства, немножко поповства, немножко вольнодумства, немножко холопства» (А. Волынский).
Пришельцы З. Гиппиус, как и А. Белый, была пришелицей, только с неуютной планеты.
Прогресс В младших классах меня били, в старших не били, поэтому я и уверовал в прогресс.
Прогресс Для вас прогресс банальность? Но только благодаря прогрессу мы с вами и разговариваем: тысячу лет назад мы бы оба умерли во младенчестве. Цитируя трогательные слова Достоевского о слезинке ребенка, забывают, что столетием раньше они не имели бы никакого смысла: детская смертность была такова, что жалость к ребенку была противоестественна. В середине XVIII века в Англии, а затем во всей Европе начался демографический взрыв (одни говорят – от успехов медицины, другие – от улучшившегося питания), и чувства переменились. Ср. Романтизм.
Прогресс Читатели нового времени удивлялись: почему Эдип, получив пророчество, что убьет отца, не стал избегать любого убийства или хотя бы столкновения с любым стариком, а вместо этого сразу подрался с незнакомым Лаием? Ответ: просто в Греции невозможно было прожить жизнь, никого не убивши, хотя бы ополченцем в будничной межевой войне. Вот что такое прогресс.
«Прогресс не выдумка, потому что для позднего человека открыта возможность общения с гораздо более широким кругом „вечных спутников“» (Бицилли).
Проза «Мужчинам Цветаеву нужно начинать с прозы», – сказала при мне веская писательница. Я долго думал почему, но ничего не придумал.
Проза «Что такое проза?» – спросили известную детскую писательницу на встрече с юными читателями. Она ответила: «Вот однажды я потеряла страницу рукописи, пришлось восстанавливать несколько дней, потом нашла прежнюю, и оказалось – слово в слово».
Профессионализм «Профессиональная красавица» – хочется сказать о С. Андрониковой или Глебовой-Судейкиной. А об Андрее Вознесенском – «профессионально молодой».
Профиль «Вы говорите в профиль», – сказал Волконский Цветаевой.
В университете под большим портретом Ломоносова в фойе неизвестный человек меня спросил: «А почему он всегда изображается в таком повороте? нет ли профилей?» Я объяснил. «А то я пишу фигурные стихи, на машинке, цветными лентами (так трудно достать!) – и в профиль получается узнаваемо, а в фас – вот я только что делал Горбачева – очень трудно!»
Психоанализ Его формула: «стоит ли мучиться, что ты хуже других, только оттого, что это правда?» На вопрос, что тебе дала философия, стоик отвечал: «С ней я делаю добровольно то, что без нее делал бы подневольно».
Публицистика «Чехов относился к России как врач, а на больного не кричат» (Ремизов. Петерб. буерак).
Расстрел Курочкин сказал о Плещееве, что с 1848 года он так и ходит недорасстрелянный (Скабичевский).
Революция В «Литературной учебе» была статья о том, что Николай II был прав даже в 1914 году, потому что для искупления Россия нуждалась в войне. «Может быть, и в революции?» – «Пожалуй, но чтобы во главе ее были истинно православные» – «А-а, это как в Иране».
Революция Каменную старуху Веру Фигнер робко спросили: «А если бы вам удалось победить – что тогда?» Она ответила: «Созвали бы земский собор, учредительное собрание, оно приняло бы конституцию – убогую, скаредную, мещанскую; и мы бы поклонились и отошли прочь, потому что это и была бы народная воля». Щедрин, отвечая благодарностью на известную аллегорическую картинку, поднесенную студентами к юбилею, писал: «Только вот на горизонте у вас просвет виднеется; я понимаю, что это по жанру так положено, но мы-то с вами знаем, что на самом деле никакого просвета нет». Если не помнить об этом чувстве обреченности, нельзя понять русскую революцию.
Редактор «По редакторскому опыту я могу по переводу сказать, добрый переводчик или злой», – говорила Ольга Логинова.
Религия Пятница так объяснял Робинзону, какая религия у его племени: надо взобраться на самую высокую гору и крикнуть: «О-о-о!»
Ремарка «Нынешняя революционная поэзия – это ремарка поведения статистов революции, а высоких зрелищ зритель молчит и думает про себя» (А. Ромм. Поэзия ремарки – РГАЛИ, 1525, 1, 128, в «Гиперборее», рядом со ст. Б. Грифцова «О необязательности литературы»).
Ритм Два главных гимнических ритма, Aeterne rerum conditor и Pange, lingua, gloriosi, в точности соответствуют двум русским: «Идет коза рогатая» и «Прилетели две тетери, поклевали, улетели».
Риторика Напрасно думают, что это – умение говорить то, чего на самом деле не думаешь. Это – умение сказать именно то, что ты думаешь, но так, чтобы не удивлялись и не возмущались. Умение сказать свое чужими словами – именно то, чем всю жизнь занимался ненавистник риторики Бахтин. Музы в прологе к «Феогонии» говорят:
Издавали «Историю всемирной литературы», я писал введение к античному разделу. Н. из редколлегии в яркой речи потребовал приписать, что Греция создала тип прометеевского человека, который стал светочем для прогрессивного человечества всех времен. Я выслушал, промолчал и написал противоположное – что Греция создала понятие закона, мирового и человеческого, который выше всего и т. д., – но пользуясь лексикой, свойственной Н-у. И Н. и все в редколлегии остались совершенно довольны. Кто хочет, может прочитать в I томе «Истории всемирной литературы».
Родительного падежа Открытка 1964 года, с картинкой: «Наилучших пожеланий в Новом году!» (в архиве Квятковского).
Романтизм был последствием демографического взрыва, который начался в середине XVIII века в Англии, а потом волнами разошелся по Европе. До этих пор человечество много тысяч лет боролось с природой за выживание, и большие эпидемии или неурожаи могли уничтожить его даже не вполовину, а целиком. Чтобы выстоять, оно сплачивалось в общество. Ситуации борьбы были однообразные, важно было копить опыт и хранить традиции. В XVIII веке стало ясно, что победа одержана, человечество спаслось от вымирания. Борьба с природой из оборонительной превратилась в наступательную, ситуации ее сразу сделались гораздо менее предсказуемыми, коллективного опыта для них было уже недостаточно.
Говорят, в звериных стаях есть особи-маргиналы с нестандартным поведением: их держат в унижении и пренебрежении, однако не убивают. А когда стая оказывается в нестандартной опасной ситуации, их выпускают вперед: если погибнут – не жалко, а если не погибнут, то, может быть, отыщут выход. Вероятно, в человеческой стае тоже есть такие маргиналы с таким отношением к ним; теперь спрос на них вырос, они и стали романтическими героями. От них требовалась только нестандартность поведения – любая: можно было быть святым или злодеем, в новом мире мог пригодиться и тот и другой. Двоемирие и проч. было обоснованием постфактум; житейское поведение, «романтизм и нравы», бравада необычностью ради необычности и т. д. были следствиями. Романтизм начала XIX века и модернизм начала ХX века были двумя волнами («почему я должен рассуждать как отцы?» – «почему я должен рассуждать как профессора химии?»). Все очень стройно, лишь одно заставляет сомневаться: в середине XVIII века был не один, а два демографических взрыва, второй – в Китае, и ни индивидуализма, ни романтизма там не произошло. Почему бы это?
Рубик В принстонской библиотеке старая часть расставлена по одной классификации, новая – по другой, и кусочки этих частей растасованы по шести этажам в непредсказуемом расположении: больше всего похоже на кубик Рубика.
Рынды В Китае XVII–XVIII веков для безопасности государя его телохранители при троне были вооружены деревянным оружием.
ПИСЬМО ИЗ РИМА:
…В Риме самое пугающее – автомобили, вдвое быстрее наших, и полчища мотороллеров, быстрее автомобилей. Перейти улицу – подвиг. У тротуаров парковка в два ряда – не знаю, как они выезжают. Всюду ремонтные леса и пыль – отстраиваются к 2000-летнему юбилею Господа Христа. В Колизее среди обглоданных временем арок светлыми пятнами глядят гладенькие новоотстроенные стены и своды – вдруг его тоже решили восстановить? Перед Колизеем – статисты в псевдолегионерских одеждах (золотой шлем, красный плащ), можно сняться рядом; говорят, это с тех пор, как зачастили японские туристы. В прошлый раз я смотрел на форум сверху и ничего не мог разобрать в его кирпичной каше – теперь прошел понизу, как будто между зернами этой каши, но все равно ничего не мог разобрать. Дома с садиками называются виллами, в такой вилле Монтефьори была наша конференция; раньше там жила любовница первого всеитальянского короля, а потом был женский монастырь, и чугунные перила до сих пор украшены крестами…
Сам «НН слишком рано пошел своим путем, пренебрегая сделанным другими» (слова А. Н. Колмогорова).
Само «Раздел 7. Нечто о средствах к устранению самоповешения у народов финского племени» («Вестн. Имп. Рос. геогр. об-ва», 1853).
Сахара Гумилев говорил Г. Иванову: я ее не заметил, я сидел на верблюде и читал Ронсара. Так Кусиков, когда его устыдили, что нехорошо жить в Париже и не видать Версаля, поехал в Версаль, просидел полный день в трактире и вернулся в Париж.
Сверху Александр I в 1814 году в Лондоне просил у вига Грея доклад о средствах создания в России оппозиции.
«Свобода нужна не для блага народа, а для развлечения», – говорил Б. Шоу.
Свобода Гиппиус – Берберовой, 27 авг. 1926 г.: свобода ни с чем не считаться – «это, скорее, рабство и покорность желанию собственной левой ноги»; Ходасевичу, 22 сент. 1926 г.: «Пишущий должен знать, что ему предоставлена свобода самому ограничивать свою свободу, а достоин ли он такой свободы – это редактор, конечно, решает…».
Свобода В чукотском языке нет слова свободный, есть сорвавшийся с цепи; так писали в местной газете про Кубу. Поэт М. Тейф говорил переводчикам: «Даю вам полную свободу, только чтобы перевод был лучше оригинала» (восп. Л. Друскина).
Свобода собраний Петровский указ – «фендриков разгонять фухтелями, понеже что фендрик фендрику может сказать умного?» (Письма Шенгели к Шкапской, РГАЛИ).
И. Сельвинский
Связность текста (лингв.). У А. М. Топорова, «Крестьяне о писателях», 1930 год, о поэме Пастернака говорится: «Связанных слов нисколь нетути. Добрый человек скажет одно слово, потом завяжет его, еще скажет, опять завяжет. Передние, середние и задние – все завяжет в одно. А в этом стиху слова, как скрозь решето, сыпятся и разделяются друг от дружки». (Книга очень похожая на «Народ на войне» Федорченко.)
Святой На вечере памяти М. Е. Грабарь-Пассек С. Аверинцев начал так: «Лесков говорил, что в России легче найти святого, чем честного человека, – так же можно сказать, что легче найти гения, чем человека со здравым смыслом и твердым вкусом…» и т. д.
Селянка Мережковский приставал к Чехову с вечными вопросами, а тот говорил: «Не забудьте, что у Тестова к селянке большая водка нужна». Ср. в «Даме с собачкой»: «Если бы вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!» – «А давеча вы были правы, осетрина-то с душком».
Алданов: «Надо было наговорить столько лишнего, сколько мы наговорили, чтобы понять, как он был прав, когда молчал». Это А. Лютер сказал, что у Достоевского люди не едят, чтобы говорить о Боге, а у Чехова обедают, чтобы не говорить о Боге.
Середина «Итак, немного о себе. Я родился около середины века, в 1932 году…» (В. Цыбин. О своем. Избр. произв., 1989, т. 1, с. 5).
Середина странствия земного «В 35 плюс-минус два года люди или умирают, или меняют жизнь: бросают работу, жен и т. д.», – объясняли мне. Даже Высоцкий сочинил про это песню. У Петра I в этом возрасте была Полтава, у Цветаевой – ее звездный 1926 год, когда она лихорадочно дирижировала двумя великими поэтами. Блок весной 1918‐го часто повторял, что ему 37 лет (восп. Книпович). А Жуковский, верный себе, в 37 лет написал: «Победителю-ученику от побежденного учителя».
Синоним В. Марков комментирует стих Бальмонта из «Зарева зорь»: Твой поцелуй – воистину лобзанье – «строка, которую должны бы цитировать специалисты (но не цитируют)».
Ситуация В. Холшевников сидел, ждал электричку, подошел пьяный: «Вы интеллигентный человек, и я интеллигентный человек, вы меня поймете: я артист, мой отец у Соколова перед Распутиным пел, а теперь от нас образованности требуют. Ну скажите, зачем интеллигентному человеку образованность? артисту не образованность, а талант нужен!» и т. д., а в конце сказал загадочную фразу: «Ситуация превозмогает сибординацию!!»
Скверное «Как о человеке обо мне может рассказать Экстер, как о собеседнике – Бердяев, а все самое скверное – это тоже бывает нужно – Эльснер», – писал Аксенов Боброву.
Об Эльснере рассказывал А. Е. Парнис. Эльснер был с Аксеновым шафером на киевской свадьбе Гумилева и Ахматовой и уверял, что это он научил Ахматову писать стихи. (Аксенов потом собирался писать параллельный анализ сочинений Ахматовой и Вербицкой под заглавием «Писарство и чистописание».) Почему не эмигрировал? – «Хотел посмотреть, чем кончится». В Тифлисе имел хобби: жениться и отсылать жен за границу (как?). Зарабатывал сочинением диссертаций для грузин. Последняя вдова настаивала, чтобы его похоронили на Мтацминде – но пока грузины об этом советовались, перевезла прах в Москву и похоронила… (в кремлевской стене? подымай выше!) в Переделкине рядом с Пастернаком.
Скелет Емельянов-Коханский, автор «Обнаженных нервов», хотел выпустить и вторую книгу, «Песни мертвеца», с новым своим портретом в виде скелета, но встретились цензурные трудности (Белоусов).
Слава Бальмонт об автобиблиографии Брюсова: «делопроизводитель собственной славы» (из письма Е. Архиппова Альвингу, РГАЛИ, 21, 1, 11). Твардовский о Маршаке: «крохобор собственной славы» («Знамя», 1989, № 8). А потом – юбилейная речь.
Слава Флобер восхвалял «Войну и мир» (это цитируется), но признавался, что не дочитал до конца ее философию. Мировая слава пришла к Толстому, когда он начал тачать сапоги (Алданов).
Славянство «День святителей Кирилла и Мефодия был отпразднован обедом, данным в залах Дворянского собрания. Против царской ложи была водружена хоругвь, принесенная в дар слепцом-писателем Ширяевым. Меню было составлено из одних исключительно славянских названий. Посреди него была изображена географическая карта славянских земель с надписью: «Одним бы солнцем греться нам» (Неведенский).
Слово «Теперь я буду говорить не для того, чтобы нечто сказать, но дабы не умолчать», – сказал протоирей Сергиевский, приступая к догмату Святой Троицы.
Сложность А. И. Ромм о Пастернаке: «…и у него сложные отношения с женой, которая любит музыку Прокофьева и такие слова, как „яркое переживание“» (РГАЛИ, 1495, 1, 80).
Слон В Париже в 1945 году выходила русская газета «Честный слон». «Отчего такое веселое название?» – спросил я. «Ну все-таки война кончилась…» – ответил Л. Флейшман.
Служба М. Ф. Андреева спросила Муромцеву-Бунину: «Сколько лет вы служите Ивану Алексеевичу?» Муромцева, однако, обиделась. Е. Архиппов писал Альвингу: «Чем живете, чему поклоняетесь? Какое имя владеет Вами?» (РГАЛИ).
Служба Юродивый Никитушка за вызов к Александру I получил чин 14‐го класса (Мельгунов).
Смерть «Просить Господа Бога, чтобы снял меня с иждивения» (Цветаева – Пастернаку). «Умер как большая, отслужившая вещь» (она же).
Совесть «Впрочем, попы стыдились таких проповедей, но не совестились» (Гиляров-Платонов). Я вспомнил знаменитую статью В. Н. Ярхо «Была ли у древних греков совесть?».
Сократ «Познай самого себя»: гусеница, которая познает себя, никогда не станет бабочкой (А. Жид).
Сократин Сын моей сотрудницы мечтал изобрести лекарство «сократин», чтобы можно было не болеть, но сократить жизнь с конца за счет невыполненных болезней.
Спарта «Способность относиться к себе со спартанской суровостью умиляла его до слез» (Ходасевич об Александре I).
Спонтанный «Вы не позволяете себе спонтанных движений». Мои спонтанные движения всегда кого-нибудь ушибают. Самое безобидное мое спонтанное движение – считать рифмы Мариенгофа.
Сталин «В Европе XV века власть почти повсюду принадлежала Сталиным» (Алданов).
Старое и новое Ларошфуко: «Многие борются против нового не оттого, что привержены к старому, а оттого, что первые ряды поборников нового уже заняты, а быть во вторых они не хотят». – «Это о нашем НН.», – сказала И. Ю. Подгаецкая.
Стиль «Ввиду моего стиля, который мне противен, но от меня не зависит…» (письма И. Аксенова к С. Боброву). «Стиль мове гу» из «Бани» Маяковского – шутка, записанная еще Д. Философовым: «стиль мове гу, как выразился один столяр».
Стиль «По сторонам от дороги, вправо и влево, волочились горемычные облака; исподволь угнетали душу убогие ужасы предместья; ныли телеграфные столбы, и качался, тужился против ветра, виляясь в педалях, упрямец велосипедист… Но тут, буравя мозги, заверещал мстительный – за вчерашнее с кряком ковыряние в его спине – будильник, к нему тупо подтопали, цапнули за глотку, он брызнул по пальцам душителя предсмертным клекотом и затих. В одеяльное шерстяным рупором ущельице гляделось скудное утро. Я думал тихо: умереть бы». Кто это? Набоков? Нет. – Мало кому известный Иванников.
Стиль И. Тронский говорил В. Ярхо: нельзя ради стиля переводить коров Гелиоса быками Гелиоса – какой дурак станет держать быков стадами?
«Странно, право, что эти люди ничего не понимают, но гораздо страннее, что это для меня странно» (Фет Л. Толстому, 21.01.1879).
Страхоговение «Нигде высшую церковную иерархию не встречали в качестве преемников языческих волхвов с бóльшим страхоговением, как в России, и нигде она не разыгрывала себя в таких торжественных скоморохов, как там же. В оперном облачении с трикирием и дикирием в храме, в карете четверней с благословляющим кукишем на улице… со смиренно-наглым и внутрь смеющимся подобострастием перед светской властью, она, эта клобучная иерархия, всегда была тунеядной молью всякой тряпичной совести русского православного слюнтяя» (Ключевский, Письма, 1968 г.).
Сон сына , самый главный. Книга в серии сказок издательства восточной литературы: «Эскимосский Христос – Фрол Иванович Дрохва-Тетерников: местные сказки и предания. К 150-летию со дня рождения». Вначале – запись автобиографии. Ему смолоду было предсказано погубить девять душ. Впрямь был буен, секом, еще при крепостном праве убил деревенского соседа, сдан в солдаты, убил шестерых горцев, за храбрость взят в денщики сибирским губернатором, зарезал его восьмым и бежал к эскимосам вместе с другим денщиком, Петрушкою, взяв лишь Библию и букварь, а был неграмотен. Перекамлал насмерть главного шамана, женился на Белой куропатке, его вдове, воспевался под именем тетерева на разных диалектах («взлетел на ветку и стал гласить Нагорную проповедь…»), переложил Библию на эскимосский язык: «Царь Соломон ушел от дел, эхой! и тогда пришли тулы, эхой! и опережали зайцев, эхой! и прыгали через костры, эхой!» Когда приехала ревизия, назвался миссионером, стал читать попу свою Библию; на II кн. Царств поп сказал: «А ведь это ересь!» – но эскимосы Тетерникова отстояли. Друг его Петрушка, записывавший его учение, вдруг объявил, что Фрол – это Бог Отец, а Христос – он сам; Фрол распял его на льдине, это был девятый. Женившись на оленухе и на нерпе, объединил тундровых и приморских эскимосов; укрывал беглых политкаторжан, и они через год были неотличимы от местных. Когда на его девятом десятке случилась революция и пришли комиссары, то политкаторжане вышли навстречу с бубнами и дудками. Фрола как героя отвезли в Ленинград консультантом при Институте народов Севера, но Библию, как дурман, изъяли и сожгли, все цитаты из нее – по американскому изданию. Умер в 1930 году, дети его попытались явиться в Ленинград, но скоро были отправлены под конвоем обратно.
Структурализм Интервью с дизайнером А. Логвином: «Только ясность оправдывает провокацию, ясность на уровне структуры, а не на уровне вкуса. Как с женщиной: приводишь, она вроде вся офигительная. Ложишься в постель и понимаешь, что на самом деле она вся совершенно деструктурная. Чего-то много или мало. Что-то тебя обламывает, и понимаешь, что надо уходить из койки». – «Можно это оставить в тексте?» – «Конечно. У меня как раз очень структурная жена» («Итоги», 1996, № 26).
Стул «Нашествие французов и за ним последовавшее нашествие крестьян на ту же Москву с целью грабежа» впервые вынесло в провинцию стулья вместо лавок (Гиляров-Платонов).
Судьба «На Олимпе было решено, что греки и троянцы взаимоистребятся, но не было решено, кто кого; поэтому боги разделились в поддержках» и т. д. А Троя потом продолжала существовать незримо, как град Китеж.
Суздаль «Ударя с тыла в табор их / с дружиной суздальцев своих» – но суздальцы, как и нижегородцы, на Куликовом поле не были, а держали тылы. Москва пересилила Тверь денежной помощью Новгорода, который дружил через соседа.
Сурков Стенич говорил о Гумилеве: если бы был жив, перестроился бы и сейчас был бы видным деятелем ЛОКАФа (восп. Н. Чуковского).
Суффикс «А. Н. Толстой очень любит слово задница и сетует о его запретности: прекрасные исконно русские слова – горница, горлица, задница…» (записи Л. Я. Гинзбург). По-японски эта часть тела называется «ваша северная сторона».
Счастье Филологический анекдот из сб. Азимова. Отплывает пароход, в последнюю минуту по трапу вносят старшего помощника, мертвецки пьяного. Проспавшись, он читает в судовом журнале: «К сожалению, старший помощник был пьян весь день». Бежит к капитану, просит не портить ему карьеру. «Поправки в журнале не допускаются, но сделаю что могу». Назавтра читает: «К счастью, старший помощник был трезв весь день».
Счастье «Подумайте, нет ли у вас садомазохизма», – сказал психотерапевт. «Конечно, Поликратов комплекс: за счастье нужно платить». – «А вы уверены, что вы счастливы?»
Свеж металлический ветер осенью.
Росинки нефритовы и жемчужно круглы.
Светлый месяц чист и ясен.
Красная акация душиста и ароматна.
Надеемся, что вы процветаете в постоянном благополучии…
Вы думаете, это стихи? Нет, это китайское деловое письмо.
Там «А у вас там, под Москвой, говорят, война идет?» – спрашивали архангельские мужики Н. Я. Брюсову в 1904 году.
Тезаурус В 4-язычном разговорнике Сольмана самые общие категории – размер, форма, вес, вид – оказываются подрубриками раздела «Одежда».
Температура «Каковы ваши жгучие несчастия?» – спрашивало доброе письмо из‐за границы. А у меня нет жгучих, у меня холодные.
Тень «У Алданова слова не отбрасывают тени», – вежливо выражался Набоков.
Тень Д. Н. Бразуль, зав. худотделом «Рабочей газеты», пил только пиво, но так, что пытался открывать дверь редакции, хватаясь за тень от ручки. Кожебаткин (уже в изд-ве МТП), грузный и беззубо улыбающийся орел-стервятник в пенсне, носил женские чулки, потому что в них теплее, а в портфеле имел любые книги, серебряный набалдашник без трости, подвязки и всегда бутылку вина. В. А. Попов, редактор «Вокруг света» и «Следопыта», вылечился от запоя новым способом, «электричеством через женщин», но как – не говорил (Восп. Д. Дарана, РГАЛИ, 2436, 1, 42).
Техника «Акмеизм обрек себя на поощрение бездарности, ибо всякая школа, желающая сделать поэзию трудной, делает ее легкодоступной» (Мирский).
Тот «Если есть тот свет, то там только наслаждаются природой и искусством, а кто не натренирован к этому и больше любил выпить, покурить да в кино, тому скушно, вот и все наказание» (И. С. Ефимов). Похожим образом Эриугена истолковывал ад.
Totentanz Из Триция Апината, XVI век (найдено в цитате):
«Трагедия есть лишь недоудавшаяся комедия» – эпиграф у К. Келли к главе о Тэффи.
Традиция «Искусство Г. Адамовича и Г. Иванова – аптекарское: смешивают в новых дозировках и комбинациях влияния старых поэтов» (восп. Н. Чуковского).
Традиция М. Пруст серьезно называл себя последователем Дж. Эллиот (упом. у Алданова).
«Традиций не рвать, идей не водить, святынь не топтать» – из С. Кржижановского (там, где дальше про Словарь умолчаний).
Тринадцать: дурная слава этого числа – недавняя, от контрреформации XVII века, по месту Иуды среди апостолов (В. Марков).
Тютчев «Для служилого дворянства Россия была государством, и пейзажи могли быть европейские; для отстраненного – поместьем, и природа в них – только собственного имения. Как непохоже на пейзажное западничество Тютчева и Пушкина цветущее евразийство поэта петровской индустриализации Ломоносова и поэта тропически-агрессивного екатерининского крепостничества Державина» (Д. Мирский).
Тюфяк Мандельштамовское «Страшен чиновник: лицо как тюфяк» английский переводчик перевел «the face like a gun» и сделал примечание про «тюфяк» по-турецки и по-гречески.
Убийство «Нам с ней не котят крестить», выражение Ремизова («Петерб. буерак»). Из жалости топить котят в теплой воде – это не выдумка «Записей Ковякина», это было и в мемуарах (не у Шкловского ли?). Топившая хозяйка могла ответить на попреки: «А если б вас самих топили, вам все равно было бы, да?»
Угадайка Литературные премии, эта игра в угадайку с будущим. Или благодарность живым за то, что им уже некуда меняться.
Уже В Енисейске хозяйка спрашивала: «Убил, что ли, кого?» – «Нет». – «Украл?» – «Нет». – «Так за что же это тебя?» – «Я поляк». – «Такой молодой, а уже поляк!» Так Федор Сологуб говорил дочке Кривича: «Такая маленькая, а уже внучка Анненского!» Анненского он не любил.
Упругий нрав находил Ермолов у адмирала Чичагова. Ср. «с верною супругой / Под бременем судьбы упругой» (эвфемизм вместо упрямый). «Упругая литературная карьера Набокова».
Упругость Показатель моральной упругости армии – при каком проценте потерь она ощущает свое поражение? У турок в Плевне – 20%, у итальянцев при Кустоцце – 4%.
Утешение
Стихи Магницкого-душителя из «Аонид» (цит. у Вяземского).
Ушлый Опустя пору учиться, что по ушлому гнать (Даль).
Учение Мандраит сказал Фалесу: «Проси чего хочешь за то, что научил меня этому расчету». – «Прошу: когда будешь учить ему других, не приписывай его себе, а назови меня» (Апулей).
Сон. Дом престарелых актеров. Морщинистый старик представляет меня величавой паралитической старухе: «Он молодой, но все знает про наше время». От такой гиперболы я замираю, но старуха только спрашивает: «А он не еврей?»
Фамилия Полковник Чеботарев в «Игроках» в цензуре стал Чемодановым, а то фамилия не дворянская (С. Аксаков Гоголю, 6 февр. 1843 г.).
Фамилия Приснилось, что меня зовут: Михаил Леонович Рава-Русская.
Фанатик «Я за всю жизнь не встречал ни одного фанатика – таково уж было невезение» (Алданов в очерке об убийце Троцкого).
Феминизм в литературе мог бы быть полезнее всего, если бы взялся переписывать мировую литературу с женской точки зрения, в переводе на женский язык: «Подлинная Анна Каренина» и проч. В таком случае первым феминистом мог бы оказаться Овидий в «Героинях»: Троянская война с точки зрения Брисеиды. Что говорят феминистки об Овидии? приветствуют или разоблачают?
«„Анна Каренина“, может, уже была, – сказал А. Осповат. – Митчелл написала „Унесенных ветром“ после того, как в 1932 году вышел новый перевод „Карениной“, и ее включили в колледжную программу. Я просил студентов поискать, не обыгрывается ли у нее поезд, – кажется, нет. В Америке читать лекцию о „Карениной“ идешь как на убой: тут тебе не позволят рассуждать о поэтике, а потребуют однозначно оценить ее поступок».
Философия У НН талант исследовательский, а душевный склад творческий: не филолог помогает философу, а философ давит филолога.
Флот В «Русском вестнике», 1902, № 2, с. 185, в исторической статье была фраза: «Главным врагом русского военного флота всегда было море».
Формализм «Типот подарил трехлетней дочери книжку о животных, она равнодушно перелистала львов и тигров, а о зебре спросила: это еще что за ерунда?» (записи Л. Гинзбург).
«Функционирование государства отвратительно, но не более, чем функционирование человеческого организма» (Е. Лундберг).
Школьный вечер в Принстоне, дети сочиняли истории и рассказывали родителям. «Жили и дружили девочка Дженни и мальчик Альфред. У Дженни на шее всегда был зеленый бантик; Альфред спрашивал: „Почему?“, а Дженни отвечала: „Не скажу“. Они выросли, поженились, состарились, и Альфред все спрашивал, а Дженни отвечала: „Не скажу“. А когда Дженни стало совсем плохо, она сказала Альфреду: „Вот теперь развяжи мне бантик, и ты кое-что поймешь“. Он развязал, и у Дженни отвалилась голова». Идиллическая страшилка.
Хелефеи и фелефеи Я раскрыл Библию, открылась Вторая книга Царств, 20:7: «И вышли за ним люди Иоавовы, и хелефеи и фелефеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри». Я обрадовался и написал открытку В. П. Григорьеву: вот какой хлебниковский (или хармсовский) язык я нашел в Писании. Он ответил: «Хармсовский, но не хлебниковский, потому что звука ф в „звездном языке“ не было».
Ходить «Розанов входил, семеня и перебирая руками; Мережковский как гроб; Гиппиус – на костях и пружинках; Вяч. Иванов танцуя, а Горький урча» (Ремизов. Петерб. буерак).
Хорей 5-стопный: «Выхожу один я на дорогу…» и т. п. Гумилев объяснял ученикам, что всегда, когда поэту нечего сказать, он пишет: «Я иду…» (восп. Н. Чуковского). Тогда считалось, что самоед, везя этнографа на нартах, поет: «Я еду…».
Хорошо «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо» (Лук. 6:26). Ср. VII, Все.
Хорошо Старик в деревне учил: «Ты делай хорошо, а плохо само получится».
Хотеть «Все можно сделать, если захотеть, только захотеть нельзя, если не хочется» (Дневн. А. И. Ромма, РГАЛИ). Ср. Отказ.
Храбрость «За два года стали храбрее в смысле способности все перенести и трусливее в смысле нежелания что-либо переносить» (Ф. Степун. Из писем прапорщика).
Цветаев И. В. был хорошим ученым, автором свода италийских диалектных надписей, но отказался от большого научного будущего ради просветительского дела. Дочь прославляла его, но этого – главного! – поступка его жизни она не заметила. Потому что амплуа в ее воспоминаниях были расписаны твердой рукой и вся жертвенническая часть была отведена матери.
Чай «Константин и Николай в 1825 году подносили друг другу Россию, как чай, от которого из вежливости отказываются».
Чайник Когда начиналась I Мировая война и Германия уже объявила войну России, был момент: а вдруг Франция дрогнет и не вступится за Россию? Мольтке пришел в ужас, сказал, что план войны разработан на два фронта и менять его на ходу – смерти подобно. Тогда в ноте Франции написали, что если и не будет воевать, то пусть для гарантии впустит в Туль и Верден немецкие гарнизоны, и война пошла своим чередом (Лиддл-Харт). Это напоминает анекдот о математике: «Как вскипятить чайник? – Налить воды, зажечь газ и поставить чайник на огонь. – А как вскипятить уже налитый чайник? – Вылить воду, погасить газ, и тогда задача сводится к предыдущей». Психоаналитики говорят, что мы всю жизнь сводим новые задачи к предыдущим именно таким образом. Когда Фоменко начинает с «предположим, что мы не знаем того, что знаем» о древней истории, то мы тоже присутствуем при энергичном выливании воды из исторического чайника.
Человек И. М. Брюсова сказала Д. Е. Максимову, выслушав об Андрее Белом: «Я его знаю, он может быть и человеком». В. П. Григорьев говорил: «Я как лингвист ручаюсь: написать такую книгу, как „Мастерство Гоголя“, не имея словаря языка Гоголя, невозможно; а Белый написал. Могу только предположить, что, когда он писал, он помнил собрание сочинений Гоголя наизусть от переплета до переплета». Я ответил: «А я как стиховед ручаюсь: написать за два месяца словарь рифм на -ар-, не имея обратного словаря русского языка, невозможно; а Белый написал».
Честь «Всем людям свойственно, потерпев крушение, вспоминать о требованиях долга и чести» (Плутарх. Антоний).
Честь «Из чести лишь одной я в доме сем служу», – говорит девка в «Опасном соседе». «Теперь бы сказали: на общественных началах», – догадалась А.
Чихнуть «Только славянофилы сидели в позе человека, который собрался чихнуть, да никак не чихнет» (Энгельгардт о 1868 годе).
Херасков.
«Что делать?» была последняя книга, которую читал Маяковский перед самоубийством.
Шаг вправо, шаг влево Орвеллом трудно восхищаться не потому, что его антиутопия для нас привычный быт (так Вересаев, побывавший на войне, не мог восхищаться «Красным смехом»: «Андреев забыл, что есть такая вещь – привычка»), а еще и потому, что его и наш быт мало чем отличается от всеевропейской казармы. Просто там дан приказ: «Шаг вправо, шаг влево – обязательны, за неисполнение – моральный расстрел», и все засуетились. Когда был отдан такой приказ? Наверное, при Руссо.
Школа О школах, «где учат технике страдания», мечтал Ал. Вознесенский (РГАЛИ, 2247, 1, 22). «И, грозный вождь на многолюдьи, ты так направил все мечи, что палачей не судят судьи, а судей судят палачи».
Штука Что Россия – шестая часть света (в смысле: шестой континент), сказал еще Краевский, а «Эта штука сильнее „Фауста“ Гете» – Гоголь, по поводу пушкинской сцены из Фауста.
Сон сына. Фейерверк в 75 залпов к юбилею Ленинской библиотеки и вислоусый пиротехник из Лихтенштейна, который говорил: «Ваша держава слишком велика, чтобы быть счастливой», а потом, напившись прохладительных напитков: «…слишком велика, чтобы быть великой».
ЭА и АИ «Будь счастлива» по-марсиански будет Evai divine («Вест. иностр. лит-ры», 1900, № 4, с. 283, о швейцарской галлюцинатке). У Гумилева это из фантазий Руссо, будто первоначальные языки были пением гласных и лишь потом в них вторглись артикулирующие согласные.
Экзамены Лисы-оборотни в Китае тоже сдают экзамены; за 500 лет успешной практики они получают вечное блаженство.
Экология Когда осуждают хорошего писателя за то, что он нехороший человек, – это все равно, что осуждать завод за то, что он дымит и лязгает.
Экономика Всякая дешевизна – перед дороготнею (Пословицы Симони, 87).
Элита (животноводч.). Стихи из радиопьесы А. Володина: «Между сытыми, мытыми / извиваюсь элитами, / свою линию гну: / не попасть ни в одну».
Эпиграфика С. Ав. рассказывал: в клозетах библиотеки Британского музея он впервые увидел надписи со ссылками на источники. Несмотря на обильные надписи, чтобы не делать надписей.
Этика Эйхенбаум был не менее этически озабочен, чем Бахтин, но Бахтин решал свои этические проблемы на поступках литературных героев («это живые люди…»), а Эйхенбаум – на поступках их авторов.
Этика борьбы. Муж поэтессы Марины Цветаевой, благороднейший человек, в эмиграции стал агентом советской разведки: получал деньги от НКВД, участвовал в политическом убийстве. Как он мог? Те, кто недоумевают, забывают, что он был офицер, он знал, что на войне обманывать и убивать своих неэтично, а врагов – этично: иначе не выживешь ни сам, ни твои «свои». А «своих» он выбирал по одному принципу – за слабых против сильных. В 1918‐м он не разделял идей белой гвардии, но примкнул к ней, потому что она была слабее, чем красные; в 1930‐м он не разделял идей коммунистов, но примкнул к ним, потому что Россия была слабее, а капиталистическое окружение сильнее (об этом тоже забывают).
Эфир Из письма Н. В. Завадской: «Не упоминается ли у Локса Эсфирь Шуб? Он был в нее влюблен и говорил, что поведение у нее было трудное и приходилось иногда бить мокрым полотенцем. Наверное, была наркоманкой. Локс тоже склонялся и мне тоже предлагал эфир: говорил, что будут очень интересные цветные видения. Но я дольше двух минут не выдержала, банку выбросила за окно, а ему сказала, что лучше сама выдумаю все цветные видения, чем нюхать такую гадость. И он перестал, даже с некоторым облегчением. Что он Станевич не любит – понятно: была страшна собой и умна и остра для компенсации. А Анисимов был бедный и вызывал жалость».
Юбилей Был опрос к 200-летию, какие стихи Пушкина знают люди. На первом месте оказалось «Ты жива еще, моя старушка?», на втором «Выхожу один я на дорогу», на третьем «У лукоморья дуб зеленый». «Помните рассказ Толстого о саратовском мещанине, помешавшемся на том, что не мог понять, чем так знаменит и славен Пушкин?» (Адамович).
Что сказал бы об этом юбилее сам Пушкин? Сказал бы: «И ведь даже не извинятся».
Я «Мое физическое „я“ оказывается ненужным и неудобным приложением к моей работе. Между тем без него обойтись нельзя» (из письма О. Мандельштама Н. Тихонову, март 1937).
Я «Что б я ни делал, всегда нахожу что-нибудь между истиной и мною: это нечто – сам я; истина сокрыта мне одним мною. Есть одно средство увидеть истину – удалить себя, почаще говорить себе, как Диоген Александру: отойди, не засти солнца» (Чаадаев).
Я Восп. Н. Русанова начинаются: «У Паскаля сказано: „Я – вещь ненавистная“…»
Язык «Как хорошо было бы перевести Бодлера на церковнославянский язык, как бы он зазвучал!» – говорил Ю. Сидоров Локсу.
Язык Знание французского языка развивает самонадеянность, а греческого – скромность, – доказывали Николаю I члены ученого комитета, вырабатывавшего гимназическую программу; но Уваров понимал нереальность, а Пушкин писал о ненужности, и греческий не ввели.
Язык Уваров послал Гете свою немецкую статью, тот написал: «Пользуйтесь незнанием грамматики: я сам 30 лет работаю над тем, как бы ее забыть» (опять из Алданова).
Языкознание После смерти Ланского Екатерина в свои 50 с лишним лет была в таком горе, что излечилась только попыткою составить сравнительный словарь всех языков по Кур де Жебелену, исписала гору бумаги без всякой научной пользы, однако исцелилась.
Ять В. Виноградов: «Убирайся ты к матери на ять голубей гонять» – загадочный источник фразеологизма.
II
И ко всему, что будете вспоминать,
мысленно прибавляйте: «а надо было б выть».
М.-Л. Б.
МОЯ МАТЬ
По-английски говорят: self-made man. Тургеневский Базаров переводил это: «самоломный человек». Моя мать была self-made man; сказать self-made woman было бы уже неточно.
Я не люблю называть себя интеллигентом, но иногда приходится говорить: «интеллигент во втором поколении». В первом была она. Ее мать, моя бабушка, была из крепких мещан заволжской Шуи; в церкви из их семьи поминали «рабов божиих Терентия, Лаврентия, Федора, Вассу, Харлампия…». Эту кондовую Шую она ненавидела всей душой. Чтобы выбраться оттуда, она вышла замуж за моего деда – шляпа-котелок, усы колечками, непутевый шолом-алейхемовский тип, побывал в Америке, работал гладильщиком в прачечной, не понравилось. До революции служил коммивояжером (дорожные открытки с видами самых захолустных российских городов кипами распирали старый альбом), после революции – аптекарем или провизором по таким же городам, вроде Решмы и Вичуги. Если первым предметом ненависти для бабушки была Шуя, то вторым был он. Когда в 70 лет он приехал передохнуть в Москву, бабушка сказала матери: «Покупай ему билет куда угодно, или я натолку стекла ему в кашу». «И натолкла бы», – говорила мать.
Бабушка не работала, от деда помощи было мало, мать начала зарабатывать в старших классах школы: брала править корректуры. В Москве было два университета, на всякий случай она подала заявления в оба, сдала экзамены и в оба прошла. В 1926 году для человека из нерабочей семьи это было почти немыслимо. Филологических факультетов не было, был «факультет общественных наук», там изучали все на свете, в том числе узбекский язык и артиллерию. Потом пошла мелким сотрудником в газету «Безбожник», орган Союза воинствующих безбожников под началом Емельяна Ярославского. Подшивки «Безбожника» я листал в детстве – о мракобесии и растленных нравах церковников, со свирепыми карикатурами. Душевных сомнений ни у кого не было: даже бабушка на моей памяти ни разу не вспоминала о церкви. Здесь, в «Безбожнике», мать встретила моего отца.
Семейная жизнь детей часто складывается по образцу родителей: бабушка прогнала своего мужа, мать – своего. Она была замужем за горным инженером Лео Гаспаровым из Нагорного Карабаха. «Карабах – это вверх по степи от Баку, а потом плоскогорье, как гриб, а на нем, как в осаде, одичалые армяне». Знакомый журналист отыскал даже остатки деревни, откуда Гаспаров был родом, у Шуши. Гаспаров возил туда мать показывать родным: они не понимали по-русски, она по-армянски. Она сбежала через неделю. Всю жизнь они жили врозь; я не удивлялся, горный инженер – значит, в разъездах. Только в первую зиму войны мы жили у него в Забайкалье, и мать каждую неделю ходила по битой дороге за несколько верст на почту за письмами от моего отца.
После войны она работала редактором на радио и ненавидела его так, что радио дома всегда было выключено. Потом, много лет, редактором в Ленинской библиотеке. Нужно было зарабатывать на бабушку и меня. Днем на службе, вечером под зеленой лампой за пишущей машинкой; каждый вечер я засыпал под ее стук. Я видел ее только работающей. За мною присматривала бабушка. О бабушке я ничего не скажу: она умерла, когда мне было четырнадцать, но на месте памяти о ней у меня сразу осталось белое пятно. Лицо ее я помню не вживе, а по фотографиям: на довоенной – круглое и деловитое, над чашкой чая, на послевоенной – изможденное, волосы клочьями и взгляд в пространство. Маленьким, над книжкой про летчиков, я спросил ее, что такое «хладнокровный». Она ответила: «Вот мать твоя хладнокровная, а я нет».
Мне до сих пор трудно понять, что такое эдиповский комплекс: отец и мать для меня слились в ее лице. Жизнь сделала ее решительной: она всегда знала, что нужно сделать, а обдумать можно будет потом. Она любила меня, но по принципу: «застегнись, мне холодно». Когда я познакомился с моей женой, я сказал о матери: «Если бы она захотела, чтобы я убил человека, я убил бы: помучился, но убил». Жена не поняла. Потом перевела на свой язык и сказала: «Да, если бы она сказала, чтобы ты на мне не женился, ты помучился бы, но не женился».
Я никогда не видел ее смеющейся.
Ей было тридцать семь, когда оказалось, что в нашей стране нет науки советской психологии. Учредили Институт психологии и объявили прием в аспирантуру без ограничения возраста. Она пришла и сказала: «Я никогда в жизни не занималась психологией, но я умею работать; попробуйте меня». Институтом заведовал С. Л. Рубинштейн, в молодости философ, учившийся в Марбурге с Пастернаком. Он понял ее, дал пробную работу и принял в аспирантуру. Диссертация была о борьбе физиолога Сеченова в 1860‐х годах за материалистическую психологию. Она вышла книгой, стиль правил мой отец. Потом мать перешла на работу в институт, защитила докторскую, выпустила еще две книги по истории русской психологии. В них все было по-марксистски прямо, материализм против идеализма, идеализм чуть-чуть что не назывался поповщиной и мракобесием. «Иначе уже не могу», – говорила она. Но Рубинштейна она любила безоговорочно всю жизнь. После смерти отца смерть Рубинштейна была для нее самым тяжелым ударом.
Наступала усталость: сын, который молчал, невестка, которую приходилось терпеть, внучка, а потом и правнучка, на которых приходилось кричать. Я уже не боялся ее, я жалел ее, но так же молча и бездеятельно. Когда я с удивлением стал членом-корреспондентом, мне сказали: «Если бы вы знали, какая это радость для вашей матери». Она тяжелела и слабела. Стала изредка говорить о прошлом (но никогда – об отце): чаще о дедовом семействе, чем о бабушкином. («Жили в городе Бердичеве два брата Ниренберги, оба лавочники, Исай богатый, а Абрам бедный…» – сродни Исаевичам были художник Нюренберг и писатель Шаров, из Абрамовичей вышел только мой дед.) Больше всего врезалось в память, как в десять лет в южном городке Ейске, где было посытнее, но нечего читать, она нарочно читала держа книгу вверх ногами, чтобы на подольше хватило: это был «Фрегат „Паллада“» Гончарова. Потом я узнал, что при Христе так умели читать тору, потому что учились, сидя на полу со всех сторон.
У нее был рак горла, но оперироваться она не хотела. Сперва вспухла шея, потом пропал голос, остался только свистящий шепот, потом стало невозможно дышать. В больнице она металась тяжелым телом по постели, раскрывая красный рот и умоляя об обезболивающем. Когда она умерла, тело ее, как полагалось, выставили в морге, чтобы собравшиеся сослуживцы и родственники сказали добрые слова. Служитель в белом халате спросил: «Партийная?» Я ответил: «Нет». Тогда он, не спрашивая, накрыл ее не красным, а белым покрывалом с вышитыми черными крестами и молитвенной вязью по краям. В газете «Безбожник» это называлось мракобесием, но уже начинались годы, когда на такие вещи перестали обращать внимание.
МОЙ ОТЕЦ
На моей памяти он работал редактором в издательстве Академии наук. Когда он умер, византинисты из Института истории выпустили свою очередную книгу – перевод византийской хроники – с посвящением ему на отдельном листе: светлой памяти такого-то. Он не был византинистом, просто он был очень хорошим редактором.
О том, что он мой отец, мать сказала мне, только узнав о его смерти, – высохшим голосом и глядя в пространство. Я ответил: «Да, хорошо».
В сочинениях Пушкина печатается портрет Дельвига: мягкое лицо, гладкие волосы, спокойный взгляд из-под маленьких очков. Однажды я сказал бабушке: «как он похож на Д. Е.» Она ответила: «Что ты вздор несешь, это на тебя он похож». Наверное, чтобы задуматься, чей я сын, было достаточно и этого. Или прислушаться к женщинам во дворе («К вам отец приходил, никого не застал и ушел»). Но я не то чтобы ни о чем не догадывался, а просто запретил себе об этом думать, если мать, по-видимому, не хочет, чтобы я думал.
Он был не «наш знакомый», а «ее знакомый». Приходил несколько раз в неделю, медленный и мягкий, здоровался с бабушкой и со мной, закрывалась дверь в комнату матери, и за дверью было тихо. Иногда подолгу звучал рояль, это играл он. Возле рояля лежали ноты: сонаты Бетховена, романсы Рахманинова, советские песни («Вышел в степь Донецкую…» и др.). Мать потом сказала, что в этом подборе все имело свой, понятный им смысл.
Я рос с ощущением, что отца у меня нет. Таких семей было много вокруг: те разошлись, а те погибли. У меня было твердое представление, что отец в семье – нечто избыточное, вроде опорного согласного при рифме. Для самоутверждения я привык думать, что наследственность – вещь если не выдуманная, то сильно преувеличенная. Генетика в то памятное время была лженаукой. Только теперь, оглядываясь, я вижу в себе по крайней мере три вещи, которые мог от него унаследовать. Три и еще одну.
Первое – это редакторские способности. Я видел правленные им рукописи моей матери. Это была ювелирная работа: почти ничего не вписывалось и не зачеркивалось, а только заменялось и перестраивалось, и тяжелая связь мыслей вдруг становилась легкой и ясной. Когда я редактировал переводы моего старого шефа Ф. А. Петровского из Цицерона и Овидия, превращать их из черновиков в беловики приходилось мне. Кажется, моя правка имела такой же вид. Однажды в разговоре с одним философом я сказал: «Я хотел бы, чтобы на моей могиле написали: он был хорошим редактором». Собеседник очень не любил меня, но тут он посмотрел на меня ошалело и почти с сочувствием – как на сумасшедшего.
Второе – это вкус к стилизаторству. Еще до войны, служа в «Безбожнике», отец сочинял роман XVIII века «Похождения кавалера де Монроза, сочинение маркиза Г**, с францусскаго переведены студентом И. Е., часть осьмая, Санкт-Петербург, 1787». Это была действительно часть осьмая, без начала и конца, поэтому появления лиц (Одноглазой, дюк Бургонской…), свидания, поединки, похищения, погони были сугубо загадочны. Язык был изумительный, каждая машинописная строчка была унизана поправками от руки, на оборотах выписывались слова и сочетания для дальнейшего использования: «Ласкосердой читатель!..» В шкафу у нас долго лежали грудой отработанные им книжки: «Омаровы наставления», «Князь тьмы», «Золотая цепь» – до войны они были недороги. «Письмовник» Курганова я читал и помнил страницами, как Иван Петрович Белкин. Я вспоминал об этом, став переводчиком.
Другой его стилизацией был роман «Сокровище тамплиеров, в трех частях с эпилогом, сочинение сэра А. Конан-Дойля, 1913» – с Шерлоком Холмсом, индийской бабочкой «мертвая голова», убийством на Риджент-стрит, чучелом русского медведя, лондонским денди, шагреневым переплетом и иззубренным кинжалом. Его он сочинял в эвакуации и посылал по нескольку страниц в письмах к моей матери («песни в письмах, чтобы не скучала»). Военная цензура удивлялась, но пропускала.
Третье, что я от него унаследовал, – это вкус ко второму сорту, уважение к малым и забытым, на фоне которых выделяются знаменитые. Не только к советским песням рядом с Бетховеном: моя мать была воспитана на Бахе и Моцарте, а он, познакомившись с ней, осторожно учил ее любить и Чайковского и Верди, на которых тоже полагалось смотреть свысока. Это не было эстетской причудой, это был разночинский демократизм: все в культуре делают общее дело. Я много занимался второстепенными поэтами: мне хотелось, чтобы первостепенные не отбивали у них нашей благодарности. Когда сейчас не любят Брюсова или Маяковского (или Карла Маркса), мне тоже хочется, любя или не любя, за них заступиться – просто как за обижаемых.
Я не знаю, почему они с моей матерью не были женаты, не знаю, кто были жена и сын моего отца. Когда нам с А. сказали, что он умер (ночью был сердечный приступ, вызывали «скорую», запретили вставать, а утром он все-таки встал, чтобы поехать за город к двум Еленам – было 3 июня, и умер), мать вместе с названной в честь нее трехлетней внучкой была на даче. Прежде чем сообщить ей, нужно было проверить, не ошибка ли это. Мы метались в издательство, в справочное бюро, по полученному домашнему адресу, – дверь на темную лестничную площадку приоткрылась, в щели мелькнул молодой человек и сказал нам: «Да». Он был моих лет.
Самые, наверное, точные слова о нем написала мне много лет спустя старая женщина Н. Вс. Завадская, приятельница молодого Пастернака, знавшая моих отца и мать еще по «Безбожнику» («Когда он сказал мне: „У Елены Александровны родился сын“, – у него было такое лицо, какого я никогда не видела…»). Она написала: «В нем была доброжелательность к людям без внимания к их жизни». Доброжелательность без доброты – таким помню его и я. Таким, к сожалению, чувствую и себя.
Н. Вс. пишет об отце: любил Гейне, читал Бёрне, берёг «Красное и черное», но больше всего им владел один роман Золя – о машинисте на поезде, который потерял управление и мчится неизвестно куда. Этот паровоз из «Человека-зверя» помнят все читавшие. О том, что его спокойствие, медлительность, мягкость были не от природы, а от самоукрощения, я, конечно, не знал; думаю, что знали немногие.
Откуда он родом, мать не знала сама. Отец его служил в провинциальном банке и ездил по Южной России. Украинский язык он знал хорошо; мать говорила, что в нем была то ли сербская, то ли болгарская кровь; еврейскую отрицала, но я не очень этому верю. В Москву он приехал в двадцать лет из города Ромны. Высшего образования у него никогда не было (и он всегда чувствовал эту ущербность): всему, что знал, он научился сам. Мне предлагали навести справки о его однофамильцах, но мне он понятнее таким: без роду, без племени. Когда он умер, ему было 53 года. Я сейчас старше.
МОЕ ДЕТСТВО
«Ваше первое воспоминание?» – спросили меня. Я ответил: «Лето, дача, терраса, ступеньки вверх на террасу. Серые, потрескавшиеся, залитые солнцем. На верхней ступеньке стоит женщина, я вижу только ее босые толстые ступни. А перед террасой слева направо опрометью бежит рябая курица». (При желании, наверное, из этого можно сразу вычитать многое. Например, страх перед женщиной: я боюсь поднять глаза на ее лицо. А из этого вывести многое другое в моей жизни. Не знаю только, что бы здесь означала курица.)
Перед террасой была хозяйская клумба. Однажды я сорвал на ней цветок. Этого делать было нельзя. Мать спросила меня: «Какая у тебя любимая игрушка?» Я показал на лошадь-качалку. Она подошла и оторвала ей хвост.
Говорят, когда меня оставляли одного в комнате, то, чтобы я ничего не повредил, меня привязывали на длинную ниточку к ножке стула. Я этого не помню: вероятно, это было слишком неприятно. Моя взрослая дочь, детский психолог, узнавши об этом, всплеснула руками и воскликнула: «И они еще думали, что у них вырастет нормальный ребенок!» Мне кажется, я с тех пор всю жизнь чувствовал себя несвободным – не на цепи, а вот на такой длинной ниточке.
Мне в первый раз дали в руки ножницы: вырезывать бумажные фигурки. Это было интересно. Захотелось попробовать, можно ли так же резать и материю. Я разрезал край скатерти, и сразу стало страшно. Когда это увидела мать, она отобрала у меня ножницы, оттянула пальцами джемпер у меня на груди и одним взмахом вырезала в нем дыру размером с пятак: «Вот теперь всю жизнь будешь так ходить!» Самое ужасное было, что всю жизнь. Я помню этот джемпер как сейчас: со спины голубой, спереди полосатый, черный с желтым, как брюшко насекомого. Он был крепкий, его потом зашили и носили еще лет десять. Мне казалось, я грудью чувствую то место, где была дыра.
Когда я делал что-нибудь не так, мне говорили: «Что о тебе люди подумают!» и «На тебя смотреть противно!» Первого я не понимал: не все ли равно, что подумают чужие люди, если так плохо думают свои – те, которые могут сделать со мной что хотят? А что на меня смотреть противно, я запомнил на всю жизнь. Я сказал, что любимой игрушкой моей была лошадь-качалка, кажется черная. Но я ее почти не помню, не помню и других игрушек. Помню только кубики с буквами. Не те, большие, где при А был нарисован арбуз, а при Б – барабан, а другие, маленькие, серые с черными буквами, где ничто не отвлекало внимания. Было интересно, что А-М – это одно, а М-А – это совсем другое. Бабушка вспоминала, как я позвал ее: «Посмотри, что получилось!» Выложилось слово «Хвалынск». Это из советской сказки: жил в городе Хвалынске старик, и послал он трех своих сыновей узнать, что на свете самое прекрасное. Один стал танкистом, другой летчиком, третий моряком, и все трое сказали, что самое прекрасное на свете – наша Советская страна.
Я играю с кубиками в углу, косой пыльный свет падает из окна, бабушка у стола что-то произносит, я переспрашиваю: «Кто это – Пушкин?» – «Как, ты не знаешь, кто такой Пушкин?!» Через несколько месяцев я твердил Пушкина часами наизусть: «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет…» Недавно прошел тридцать седьмой год, год больших расправ и пушкинского юбилея. О расправах я не знал, а от юбилея остались книжки с картинками, конфетные коробочки в виде томиков с бакенбардами на обложке, лото «Сказки Пушкина». Будь я старше, это могло бы погубить для меня любую поэзию, но мне было четыре года.
Мы жили в двух комнатах коммунальной квартиры, в коридор меня не выпускали, соседей я даже не знал в лицо. Я рос при бабушке. Чтобы ей было легче, меня отдали в детскую группу: утром отвести, вечером привести, днем десяток детей из средних семей играет и занимается под присмотром пожилой степенной женщины с румяными щеками. Я в первый раз оказался среди детей – я забился в угол, под рояль, и ревел целый день. Больше меня туда не отводили.
Во второй детской группе, куда я попал, было легче. Это там, за игрой в песок, я вдруг понял, что все, что мы делаем, может быть уложено в слова и фразы, закругленные, как в книге. Опираясь животом на перила, я говорил: «Опираясь животом на перила, он говорил: „Несомненно, людоед не смог бы ворваться в замок…“»
Солнце бьет сквозь деревья, мы играем во дворе, один мальчик принес модель аэроплана, сколоченную из дощечек вкривь и вкось, она не летает, я с азартом ее ругаю. Меня окликают, я бегу к скамейке, где сидят взрослые, мне говорят: «А ты не критикуй, а посоветуй, как лучше». Я мчусь обратно и с ходу кричу: «А лучше попробовать поставить крыло вот так…» Слышу за спиною смех и удивляюсь старшим: сами велели и сами смеются?.. Но запомнил. Потом началась война.
ВОЙНА И ЭВАКУАЦИЯ
В витрине соседнего магазина среди волн лиловых тканей стояли две большие японские вазы с изогнутыми красавицами. Бабушка, остановившись, сказала: «Война с Японией – это еще ничего, а вот с Германией!..» Ночью я проснулся с криком, сбежались взрослые, желтый свет. «Боюсь войны с Германией!» Меня успокаивали: войны не будет, а если и будет, то наша армия сильная и т. д.
Война началась через несколько месяцев. Небо было серое, мы шли с матерью по дачной тропе через кустистый луг, навстречу бежала молодая незнакомая женщина, голова закинута, волосы по ветру: «Вы еще не знаете? Война! Молотов выступал по радио!» И мы заспешили домой.
Стали шуршать газеты. Была фотография первого немецкого перебежчика и бодрый разговор с ним. «Мама, кто такой Гитлер?» В Москву меня перевезли за два дня до отъезда; улицы глядели ослепшими окнами в косых бумажных крестах, чтоб не сыпались стекла. «Если будет воздушная тревога, не пугайся и не плачь, спокойно пойдем в бомбоубежище». Но в эти два дня тревоги не было. День отъезда был 6 июля, на отрывном детском календаре – шуточная картинка с мальчиком в панамке, заблудившимся в лесу: «мама, где я?» Бескрайний асфальт предвокзальной паперти, тесные кучки ждущих на чемоданах и узлах. Это здесь мне показалось, что подменили мать: будто она отошла на десять минут, а вернулась чужая женщина, похожая на нее. Такой она и осталась для меня на всю жизнь.
Первый переезд – провал в памяти. Только конец его: высадка, ночь, тьма, путаница станционных рельсов под ногами, непровеянный сон в голове; потом серое утро в чужой квартире и, с высоты откоса, серая Волга до горизонта – город Горький.
Зной, пыльная, медленная дорога, мы в телеге, лошадиный хвост качается как маятник, а по сторонам – пустые поля.
Вокзальные залы, бескрайние, низкие, с тусклым, душным воздухом, плотно усиженные тесными семьями на кучках узлов или в оградах чемоданов. «Не ходи туда, тот мальчик очень грязный!» Оттого что нельзя было перейти через зал, он казался еще больше.
Поезда, медленные и тряские, где трудно повернуться среди сидящих и лежащих, а по проходу пробирается молодой хрипящий и трясущийся нищий, из розового обрубка руки торчит белая кость. («Только бы не теплушка!» – говорила бабушка.) Бесконечно-гулкий мост над серой ширью за окном, это Обь. По вагону ходит мятая газетная вырезка, два мелких столбца стихов с картинкой сверху, и пожилой сосед серьезно передает ее шестилетнему мне. Это «Жди меня», и запоминаются непонятные «желтые дожди».
Забайкалье: складки холмов, щетинящихся хвоями, окаменелые глиняные колеи и колдобины на дороге, бревенчатые избы по сторонам, в одной живем мы. Это называется Шахтама́, ударение на последнем слоге. Мерзлые стекла, в раскрытую дверь входит пар, а потом человек в ватнике. «Товарищ…» – обращается к нему заискивающе мать. «Я гражданин, а не товарищ», – поправляет он.
Конторская комната набита народом, светло от заоконного снега и лилово от махорочного дыма. Мать наклоняется ко мне: «По радио будет Сталин, сейчас ты услышишь его голос», – и голос сквозь треск, спокойный и со странным выговором. Это ноябрь 1941-го. Через месяц, ночью (я уже в постели) из‐за беленой перегородки доносится едва слышимое радио: «Освобожден Можайск», – и я облегченно вздыхаю в подушку: о Можайске взрослые тревожно говорили каждый день.
Опять поезд и холмистые скаты за окном, бурые лбы скал под вздыбленными елками и соснами – Урал; и я у окна ловлю в них декорации сцен бесконечной сказки, которую я сочиняю, засыпая.
Тесная комната, дотемна разгороженная шкафами, – это Свердловск; белый квадратный фасад ввысь – это под Свердловском Асбест; до неба – горы мелких сухих камней, пересыпающихся под ногами, по ним лезешь-лезешь вверх, а все ни с места, – это отвалы шахт, это под Асбестом поселок Изумруды. (Правда изумруды: соседкина дочь показывает мне камешек с блестящей зеленой крупинкой, найденный там, в отвале.) Сперва низкий барак, почти пустая комната, кровать поперек, бурьян за окном; потом – единственное в поселке двухэтажное здание, внизу контора (там машинисткой работает моя мать), перед домом на солнце чертежные доски с листами, где калька превращается в синьку. В жилой комнате бочка с черной водой, воду носят ведрами. Отломи на стене кусок штукатурки – под ним казарменно-ровными рядами коричневые спины ждущих своей ночи клопов.
За углом двухэтажки – желтая глиняная яма среди мокрой густо-зеленой травы. Стоя у стены, я разминаю тугой комок глины и вдруг впервые понимаю, что этот комок – одно, а цвет его – другое, а тугое ощущение в пальцах – третье. Этот момент понимания запомнился тревогой на всю жизнь. Глина была желтая и резалась перочинным ножом.
Самое частое слово в разговорах – Сталинград. «Так немцы взяли Сталинград?» – «Нет, они воюют и воюют в городе». Когда началось победное наступление, учредили новые мундиры с погонами, фотографии их были напечатаны на непривычных к тому газетных листах. (А в учебнике русского языка еще писалось: «суффикс -ьё вороньё, офицерьё».) Это было уже зимой, и слепящий снег был так тверд, что из него можно было не лепить, а высекать.
Я был тихий, местные в насмешку спрашивали в Забайкалье: «Ты девчонка или парнишка?»; на Урале: «Ты девка или парень?» Соседка по бараку, тяжелая и твердая, сказала матери: «Он у вас все фразы до конца договаривает».
ШКОЛА
До войны в школу шли с восьми лет, в войну стали идти с семи. В первом классе я не учился, а когда возвратились из эвакуации в Москву, пошел сразу во второй: непривычный среди привычных.
Школа обдала шквалом многоголовья, многоголосья, людоворота по трем этажам – в вихрях пыли, исполосованной рыжим солнцем сквозь тусклые стекла. Было тесно и бедно. Потертые куртки, заплатанные локти, осунувшиеся лица, хваткие глаза: все разные, и все на одно лицо. Все движенья быстрые, все слова непонятные, все порядки неизвестные. Все мои ответы невпопад, а за это бьют. Бьют по правилам, и этих правил они всегда знают больше, чем я. Штукатурка сыплется с отсырелых стен на пол, и когда падаешь, то видишь, какой он грязный и затоптанный.
Между переменами были уроки. Сидели по трое на двухместных партах, крашенных черным по изрезанному дереву; в дырке – одна на троих жестяная чернильница с лиловатой водицей. Впереди – серая от старости, исцарапанная доска, на которой почти не виден бледный мел. Накануне на фронте взяли четыре города, их названия нужно было записать в тетрадку. Я пишу: Ельня, Глухов, Севск, Рыльск – так радиоголос перечислял их в приказе. На меня посмотрели странно: на доске они были названы в другом порядке. Оказалось, что я близорук: все видят доску, а я не вижу. Через месяц я стал носить очки: «Очкарик! четырехглазый!» На перемену нужно было их снимать: собьют.
Потом хаос теснящихся лиц стал рассыпаться на роли: мрачный силач, вертлявый крикун, забияка, блатной, увалень, шут. Когда через год перевелся в другую школу, я увидел вокруг те же маски, и между ними было уже легче найти себе место.
Я бреду из школы по слякотному переулку, меня нагоняют ражие и зычные старшеклассники. Один уже заносит руку меня ударить. Другой говорит: «Не тронь, я его знаю, он хороший парень: вот я ему скажу, и он у меня наземь сядет, – а ну сядь!» Я подсовываю под себя в грязь облупленный портфель и сажусь на него, думая только об одном: как бы он не сказал: «Чего жульничаешь? не на портфель, а на тротуар!» – а на тротуаре липкая, черная грязь. Но нет, сегодня он не злой, и парни, хохоча, проходят мимо.
Уроки, тесные и душные, были передышками между драчливой толчеей перемен; болезни – передышками между обреченностями на школу. Ветрянка, краснуха, свинка: не поворотить шею, не почесаться под повязками. Тетка на работе, троюродный брат до поры в школе; придет злой, начнет командовать, будет плохо. Но пока можно долго лежать под комковатым одеялом и читать Жюль Верна в старой книжке с узким газетным шрифтом и с ятями. Тихо. Краем глаза я вижу под столом черный комочек с хвостиком; не успел я подумать «мышь», он уже мелькнул и исчез.
Наше разоренное жилье в Замоскворечье привели в порядок: в окнах уже не фанера, и в щелях не свистит ветер. В третий класс я иду уже в другую школу. Здесь спокойнее, и я уже привык. Но все так же тесно, занятия идут в две смены, и когда мы во второй, то на уроках сумерки, а на лицах усталость. В голове пусто, слова учительницы шелестят мимо слуха, взгляд бродит по карте мира на стене, где среди лиловой и серой Африки одиноко надписан город Мурзук. Возвращаюсь домой по переулкам, от фонаря к фонарю, и вдруг понимаю: вот сейчас я вспоминаю Жюль Верна, а на прошлом углу я думал о чем-то другом, уже не помню о чем, но мысль не прерывалась; наверное, если ее всю, от утра до вечера, вытянуть и записать, то это и буду настоящий я, а остальное неважно.
Тяжелей всего было в пятом классе. Начинается созревание, в ребятах бродят темные гормоны, у всех чешутся кулаки подраться. Я ухожу в болезнь: у меня что-то вроде суставного ревматизма, колени и локти как будто скрипят без смазки. Врачи говорят: это от быстрого роста. Больно, но не очень; однако я притворяюсь, что не могу ходить, и восемь месяцев лежу на спине, не шевеля ногами. Изредка из школы приходят учителя, и я отвечаю им про Карла Великого, водоросль вольвокс и лермонтовские «Три пальмы». Видимо, я хорошо выбрал время: когда кончился этот год и я пошел в седьмой класс, то меня уже не били. Возрастной перевал остался позади.
Моего школьного товарища звали Володя Смирнов; он утонул на Рижском взморье, когда нам было по двадцать лет. Он был сыном Веры Васильевны Смирновой, критика, и Ивана Игнатьевича Халтурина, детского писателя (того, который сделал книгу В. К. Арсеньева «Дерсу Узала»). Я сказал: «Нас не очень сильно били: нас было неинтересно бить», Ив. Игн. откликнулся: «Ты всю жизнь себе так построил, чтобы тебя было неинтересно бить». Наверное, правда.
Потом, на четвертом курсе университета, у нас была педагогическая практика: по два урока русского языка и словесности в средней школе. Это было несерьезно: постоянная учительница сидела на задней парте, под ее взглядом ребята смирно и нехотя слушали неумелых практикантов. Но мне не повезло: нам с напарницей достался как раз пятый класс, в котором как раз заболела учительница, и мы должны были целый месяц управляться одни. Это было адом: я словно опять тонул в кипящем буйстве гормонального возраста. Потом по ночам мне долго снились кричащие головы на грядках парт.
Это были дети 1945 года рождения; потом мне было забавно думать, что самые близкие мои товарищи по науке – тоже 45‐го года рождения и могли быть среди них.
А вообще школа была хорошая.
Я сказал Нине Брагинской: от меня требуют воспоминаний, а они мне мучительно не даются. Она ответила: «И понятно: как ученый, вы стараетесь быть прозрачным стеклом, чтобы видно было не вас, а только ваш предмет; а мемуарист, о чем бы ни писал, всегда в конечном счете пишет о себе». Я сказал: я не помню и не люблю моего детства, а в воспоминаниях возвращаюсь именно к нему. Она ответила: «И это понятно: воспоминания о детстве никто не может проверить, а в воспоминаниях о зрелом возрасте всегда приходится оглядываться, что об этом написали или напишут другие. Посмотрите мемуары НН: интересный человек, необычная жизнь, но так скован образом русского интеллигента, что в толстой книге нечего читать». Я вспомнил, как Веру Васильевну Смирнову уговаривали написать воспоминания о Пастернаке, а она весело отговаривалась: «Сперва покажите мне воспоминания Зинаиды Николаевны». Она тоже жила в Ирпени летом 1930-го, и З. Н., стоя у плиты, радостно рассказывала ей, как Борис Леонидович только что в лесу стал перед нею на колени в хвою и объяснился в любви, и шутила, не передать ли ей Генриха Густавовича (Нейгауза, ее первого мужа) Вере Васильевне, как котенка в хорошие руки? Но у Веры Вас. была своя трудная жизнь, и было не до того. Воспоминаний Зинаиды Николаевны ей не показали, и поэтому своих она не написала.
Здесь мне нужно написать о моем товарище, который утонул. Мы с женой, ничего не зная, приехали в Дубулты, стали искать Веру Васильевну, нам сказали: «А-а, это у которой несчастье!» – не «с которой», а «у которой», и все стало ясно. Но я не могу этого сделать: об очень хороших людях писать слишком трудно. Пусть вместо этого здесь будет перевод чужих стихов. Мы с ним любили английские стихи и греческие мифы.
Джон Мильтон
Ликид 9
В этой монодии сочинитель оплакивает ученого друга, несчастным образом утонувшего в плавании из Честера чрез Ирландское море в год 1637. По сему случаю предсказывается конечное крушение развращенного клира, бывшего тогда в силе.
УНИВЕРСИТЕТ
Вступительных экзаменов в МГУ я не сдавал: у меня была серебряная медаль, с которой тогда принимали по собеседованию. Спросили, что я читал из античной литературы, я долго перечислял, на полперечне вспомнил: «Ах да, Гомер». Больше вопросов не задавали.
Сейчас классическое отделение на филологическом факультете МГУ – одно из самых престижных. В 1952 году, наоборот, туда загоняли силою. Сталин под конец жизни захотел наряду со многим прочим возродить классические гимназии: ввел раздельное обучение и школьную форму, а потом стал вводить латинский язык. Для этого нужно было очень много латинских учителей, их должны были дать классические отделения, а на классические отделения никто не шел: молодые люди рвались ближе к жизни. Поэтому тем, кто не набрал проходной балл на русское или романо-германское отделение, говорили: или забирайте документы, или зачисляйтесь на классическое. На первом курсе набралось 25 человек, из них по доброй воле – двое; как все остальные ненавидели свою античную специальность, объяснять не надо. Прошло три года, Сталин умер, стало ясно, что классических гимназий не будет, и деканат нехотя предложил: пусть кто хочет переходит на русское, им даже дадут лишний год, чтобы досдать предметы русской программы. Перешла только половина; двенадцать человек остались на классическом до конца, хорошо понимая, что с работой им будет трудно. И, окончив курс, почти все остались так или иначе при античной специальности: преподавали в «педе» или в «меде». Кроме тех, кого увело в сторону ощутимое призвание – как В. Непомнящего, который сделался пушкинистом. Это значит, что на классическом отделении были очень хорошие преподаватели: они учили так, что студенты полюбили ненавистную античность.
Нас было две группы: в нашей греческий вел А. Н. Попов, латынь – К. Ф. Мейер, в параллельной латынь вел Попов, греческий – Ж. С. Покровская. С. И. Радциг читал историю литературы.
Заведующим кафедрой был Н. Ф. Дератани – партийный человек, высокий, сухой, выцветший; когда-то перед революцией он даже напечатал диссертацию об Овидии на настоящей латыни, в которой, однако, вместо in Tristibus всюду было написано in Tristiis. (Это правда.) Он уже был именем нарицательным: «Дератани» называлась хрестоматия по античной литературе, по которой учились сорок лет. Читал он нам историю латинского языка и авторов, очень скучно. Горацием я занимался у К. П. Полонской, однако на пятом курсе Дератани перечислил меня к себе, потому что предполагалось, что диплом я напишу хорошо.
Самым популярным был С. И. Радциг – белоснежная голова над черным пиджаком, розовое лицо, сутулые плечи и гулкий голос, которым он пел над завороженными первокурсниками строчки Гомера по-гречески и пересказы всего остального. Все фразы у него, и не только в лекциях, а и в разговорах, выгибали спины интонационными дугами и кончались гулкими ударами – никто из учившихся у него не мог этого забыть. Он читал общий курс античной литературы на всех отделениях филфака и даже на факультете журналистики, и когда выпускники при встрече обменивались воспоминаниями, то паролем было: «А Радциг!..» Но глубже, чем для первого курса, он не рассказывал никогда и ничего.
Больше всего мне дали преподаватели языков.
А. Н. Попов (тоже нарицательный: «Попов и Шендяпин» назывался учебник латинского языка) – с седой бородкой, круглый, быстрый, дирижирующий указкой, со вкусом выговаривал интонационную дугу протасиса и аподосиса. Ни на секунду не дававший отвлечься, он был особенно хорош, когда изредка отвлекался сам: прижмуривал глаза и диктовал для перевода на греческий стихи А. К. Толстого (условные предложения: «И если б – курган-твой-высокий – сравнялся бы! с полем пустым – то сла-ава – разлившись-далеко – была-бы-курганом-твоим») или приводил примеры из семантики, старой, понятной, по Бреалю («по-русски клеветать – от клевать, а по-гречески диабаллейн – разбрасывать худую молву, отсюда – сам диавол —клеветник»). Я бывал у него изредка и после университета и любовался его твердой и умной законченностью, но ничего нового в этих разговорах мне не открылось.
К. Ф. Мейер, медленный, усталый, с больной ногой, тяжело опиравшийся на палку с набалдашником в виде белого горбуна, не отвлекался никогда; но латинские склонения и спряжения выстраивались у него побатальонно с такой несокрушимой дисциплиной, что следить за ними было интереснее, чем за любыми отвлечениями. Я до сих пор не перестаю восхищаться его педагогическим талантом.
Все они были дореволюционной формации, все они пересиживали двадцать пореволюционных лет кто как мог: Дератани писал предисловия к античным книжкам «Академии» (выводя всех поэтов из товарно-денежных отношений, это было как заклинание), Попов, кажется, работал юрисконсультом, Мейер преподавал математику в артиллерийском училище. Когда перед войной филологию возобновили и С. И. Соболевский стал собирать преподавателей, Мейер сказал было: «Да мы, наверное, все забыли…» – но Соболевский ответил: «Не так мы вас учили, чтобы за какие-то двадцать лет все забыть!» – и Мейер смолк.
Знали мы о своих учителях мало. Когда во время хрущевской оттепели Кремль открыли для посетителей, кто-то из нас спросил Радцига: «Сергей Иванович, а вы бывали в Кремле?» – «Я там жил!» (это было, когда в незапамятные времена он проходил военную службу, но когда и как, сказано было невнятно). Такие проговорки были редки, по-человечески мы представляли себе наших преподавателей плохо и по молодой бесчувственности интересовались ими мало, хотя и бывали группами у них дома на предэкзаменационных консультациях.
Что такое наука, они не задумывались: наука – это то, чему их учили в молодости и чему они в том же виде должны были учить нас в старости. Древние языки нужно было знать, чтобы читать античных авторов, а читать авторов – чтобы знать языки. Изредка Попов, отвлекаясь, вспоминал хорошие книги, которые читал в молодости: того же Бреаля или «Тацита» Буассье. Или Радциг бранил переводы Вячеслава Иванова из Эсхила. Темы курсовых и дипломных работ были тоже на гимназическом уровне: условные предложения в «Меморабилиях» или образ Креонта в «Антигоне». До них не добиралась даже советская идеология. Самостоятельным интересам было взяться неоткуда. О том, что в науке бывают нерешенные вопросы, мы не задумывались. Только однажды худенький А. С. Ахманов, рассказывавший нам историю греческой философии, мимоходом бросил: «Прежде чем спорить, что такое реализм, нужно договориться, что такое res». А в 1955 году В. Звегинцев, читая нам, второсортным отделениям – славистам, восточникам, античникам, – краткий курс общей лингвистики, сказал: по такому-то вопросу такие-то думают так-то, такие-то так-то, а общего мнения нет. Это было ошеломляюще: до того нам с кафедры объявлялись только истины в последней инстанции.
Можно было дожить до диплома, не прочитав ни одной иностранной книги по своему предмету. Тем более что новые языки мы знали неважно: один язык на первых двух курсах, а потом недолгие попытки факультативов или самоученичество. О том, что существует библиографический ежегодник «L’Année philologique», без которого не может существовать античник, мы не слышали ни разу: я узнал о нем случайно, в предисловии к какой-то английской книге было написано «сокращения в сносках – по АР», я подумал: «вот какой еще, оказывается, есть журнал», пошел искать, а меня направили в справочный отдел. Эта старозаветность переменилась уже после нас – когда заведовать кафедрой стала Тахо-Годи, а среди студентов оказался Аверинцев. «Когда К. П. Полонская вслед за Аверинцевым вместо „новая комедия“ стала говорить nea, мы поняли, что началась другая эпоха», – сказала мне Т. Васильева.
На первом курсе курсовые писали по русскому языку, на втором (когда праздновался 2400-летний юбилей Аристофана как борца за мир) я писал сопоставление, по-нынешнему выражаясь, структурных особенностей «Мистерии-буфф» Маяковского и комедий Аристофана, которые знал, конечно, только по переводам. Потом, вплоть до диплома, писал о литературных сатирах и посланиях Горация: пробовал увязать их с общественной и политической борьбой при Августе. Вот и влияние советской идеологии: ему ничуть не мешал мой интерес к русским формалистам, которые были совсем не в моде.
Способностей к языкам у меня не было, поэтому я сразу уклонился не в языки, а в литературу. По-латыни читать было легче, чем по-гречески, поэтому латинской литературой я занимался больше – читал сверх программы Светония и Валерия Максима. История языков преподавалась скучно, Эрну и Нидерман были сухи, а общее языкознание нам дали только поздно и кратко – жаль. Трудно ли было учиться? Интересному – нетрудно, а скучному труднее, как всегда. Интересов, кроме учебы, у меня не было (ходил на лекции Бонди по стиховедению, но это тоже учеба), характер у меня необщительный (с одногруппниками два года оставался на «вы»), поэтому о студенческой жизни рассказывать не решаюсь. Курсом старше нас на классическом училось только три человека, а перед этим три года приема на отделение вообще не было, так что и тут – ни общения, ни преемственности. Легенд на кафедре не было, а если и были, то до нас не доходили. Им неоткуда было взяться: классическая филология всего пятнадцать лет назад была восстановлена как наука, а до этого пятнадцать лет не существовала. При нас на подоконниках стояли коробки с кучами старых бумаг – это были аккуратно написанные от руки программы курсов, распланированных еще в войну в Ашхабаде, где воссоединялся факультет.
Учился я главным образом по книгам и потом объяснял молодым студентам: «Университет – это пять лет самообразования на государственный счет, с некоторыми помехами вроде посещения лекций, но преодолимыми».
ИМЛИ
В Институте мировой литературы – на Поварской, бывшей Воровского, бывшей опять же Поварской, – я прослужил тридцать лет и три года. До мировой литературы в этом доме было управление коннозаводства, а до коннозаводства – дворянский особняк: желтые стены, белые колонны, в бельэтаже – музей Горького, свет и блеск, в тесном и темном нижнем этаже – институт.
Актовый зал – бывший бальный, с хорошей акустикой. Но концы поменялись: где был оркестр, там грядки стульев, а где танцевали, там зеленый стол президиума и кафедра с капризным микрофоном. Шепот в зале хорошо слышен в президиуме, а речи из президиума плохо слышны в зале.
Над президиумом огромный черный бюст Горького. Когда, скучая на заседаниях, смотришь на него, то видишь, что он противоестественно похож на Ленина: как будто Ленину надели косматые волосы и усы Буревестника. По стенам были витрины про мировое значение Горького: обложки по-арабски, афиши по-венгерски, фотографии «На дне» по-китайски. Потом витрины убрали, а в углу под потолком повесили строем фотографии директоров института за сорок лет: от Луппола до Сучкова.
Когда реабилитировали Луппола, в стенгазете напечатали статью «Первый директор нашего института». Перед газетой стояли Егоров и Наркирьер. Один сказал: «Ну вот, уже можно писать историю института». Другой ответил: «Нет, знаете, лучше подождать: ведь Луппол был не первым директором, первым был Каменев».
Когда я поступал в институт, директором был старый рапповец Анисимов: большой, рыхлый, покрякивающий, покрикивающий. Когда молодой Палиевский, либерально призывая свежим взглядом взглянуть на советскую литературу, спешил оговориться: «…нет, конечно, Авербах был злым гением РАППа», – то Анисимов, раскинувшись в кресле, благодушно ворчал: «Ну какой же Леопольд гений? помните, Яков Ефимович?..»
(Яков Ефимович, Жорж Эльсберг, тучное туловище, гладкая голова и глаза как пули. У него припечатанная слава доносчика и губителя. Выжившие возвращались и даже пытались шуметь, но он все так же величаво управлял сектором теории. О разоблаченном Эльсберге кто-то сказал: зачем бить лежачего? Столович ответил: «Он не лежачий, он ползучий». Я не был с ним знаком, но однажды он остановил меня в коридоре, сказал: «Ваша статья о Горации мне понравилась», – и пожал руку. Когда буду писать «мои встречи со знаменитыми людьми», напишу: видел в подворотне Пастернака, чокнулся с Игорем Ильинским, на военном деле меня учил маршировать Зализняк, а Эльсберг пожал мне руку.)
Читать статьи Анисимова никто не мог. И все-таки старая М. Е. Грабарь-Пассек смотрела на него снисходительно. «Вы не думайте, я много преподавала на рабфаках, знаю эту породу из низов, они хорошо рвались к науке. Ну а потом, конечно, каждый делал свою жизнь по-своему».
Самый громкий из рапповцев, Ермилов, демагог всех литературных режимов, тоже кончал век в ИМЛИ. Я его не видел, а только слышал: общеинститутские собрания были многолюдны, не вместившиеся в зал слушали из‐за дверей, с широкой балюстрады над мраморной лестницей. У Юрия Олеши в «Трех толстяках» был такой капитан Цереп, от голоса которого возникало ощущение выбитого зуба. Вот такой голос был у Ермилова. О чем он говорил, я не помню.
В этом же зале, в красном и черном, говорились гражданские слова над умершими, и с балюстрады было видно, как по лестнице сплывал в толпе гроб с Анисимовым. Лицо в гробу было похоже на кучу теста.
Здесь же выдвигали на большую премию воспоминания генерального секретаря товарища Брежнева: «Малая земля», «Возрождение», «Целина». Д. Д. Благой, ветеран идеологической пушкинистики, – круглая голова в тюбетейке, розовая улыбка и незрячие глаза за очками – с ликующим звоном в голосе восклицал, что это классика исторической прозы, достойная стоять рядом с «Капитанской дочкой» и «Тарасом Бульбой». Зачем он это делал? – спрашивала потом Л. Я. Гинзбург, – членом-корреспондентом он уже был, а полным академиком все равно не стал бы. Значит, бескорыстно, по велению души.
(В молодости Благой писал стихи. В журнальную страницу с его стихотворением в рамочке из розочек была завернута греческая грамматика из библиотеки С. И. Соболевского, которую нам пришлось разбирать; а на обороте начиналась научно-фантастическая повесть: «Ясным весенним утром 1951 года от Кронштадта отплывал ледокол „Святой Георгий“ под командой графа такого-то, направлявшийся исследовать Северный полюс…».)
Однажды дирекция захотела от нашего античного сектора какой-то срочной внеочередной работы. Я с наслаждением сказал: «Никак нельзя, не запланировано». Директор – почти просительно: «Ну, на энтузиазме – как Возрождение». – «Возрождение было индивидуалистическое, а у нас труды коллективные». Лица окружающих стали непроницаемыми, а мне объяснили, что речь идет о «Возрождении» товарища Брежнева. «В таком случае прошу считать сказанное игрой слов». Это было уже при директоре Бердникове – том, который когда-то, в 1949‐м, был деканом в Ленинграде и делал там погром космополитов, а помощником его был Ф. Абрамов, позже – уважаемый писатель.
При директорах были заместители, ученые секретари, парторги. Заместителем был В. Р. Щербина («Ленин и русская литература»). Директора сменялись, а он сидел: бурый, деревянный, поскрипывающий, с бесцветными глазами, как будто пустивший корни в своем кресле. Почерк у него был похож на неровную кардиограмму. Мы спрашивали институтских машинисток, как они с такого почерка печатают, они сказали: «Наизусть».
(А мне хочется помянуть его добром за то, что я слышал от него запомнившийся рассказ – в застолье, после защиты одного грузинского диссертанта. Ездил он по делам Союза писателей в Тбилиси к их начальнику Григорию Леонидзе. Кончили дела, пошли в ресторан, отдыхают. Подходит официант, говорит: «В соседней комнате пирует бригада рабочих, сдавших постройку, они узнали, что здесь поэт Леонидзе, и хотели бы его приветствовать». Пошли в соседнюю комнату. И там каждый из этих рабочих поднял тост за поэта Леонидзе, и каждый прочитал на память что-то из его стихов, и ни один не повторился. Но это уже не относится к Институту мировой литературы.)
Когда Щербина кончился, заместителем директоров стал П. Палиевский. На одной конференции в этом же зале он мне сказал: «Я всегда восхищаюсь, как четко вы формулируете все то, что для меня неприемлемо». Я ответил: «Моя специальность – быть адвокатом дьявола».
Здесь устраивались историко-литературные юбилеи. Каждый сектор подавал план на будущий год: будут круглые даты со дня рождения и смерти таких-то писателей. Вольтер и Руссо умерли в один год, их чествовали вместе. «Всю жизнь не могли терпеть друг друга, а у нас – рядом!» – сказал Аверинцев.
«Ну, у вас, античников, как всегда, никаких юбилеев?» – устало спросил, составляя план, секретарь западного отдела старый циник Ф. С. Наркирьер с отстреленным пальцем. «Есть! – вдруг вспомнил я. – Ровно 1900 лет назад репрессированы Нероном сразу Сенека, Петроний и Лукан». – «Репрессированы? – проницательно посмотрел он. – Знаете, дата какая-то некруглая: давайте подождем еще сто лет».
Юбилейные заседания были очень скучные, явка обязательна. На пушкинском юбилее рядом тосковала Е. В. Ермилова – та, у которой в статьях даже Кузмин получался елейным и богоугодным. Когда в третий раз с кафедры процитировали «На свете счастья нет, но есть покой и воля», она вздохнула: «А что же такое счастье, как не покой и воля?» Я подумал: «а ведь правда»…
Сучков
Считалось, что лучшим директором Института мировой литературы на нашей памяти был Б. Сучков: умный и не злой. Я тоже так думаю. Но моя приязнь к нему – скорее за одно-единственное слово, сказанное с неположенной для директора интонацией.
Он был сытый, важный, вальяжный, барственный. Когда-то начинал делать большую карьеру при ЦК, вызвал зависть, попал на каторгу, после возвращения был в редколлегии «Знамени», а потом стал директором ИМЛИ. Говорил по-немецки, а это в Институте мировой литературы умел не каждый. Переводил на официальный язык Фейхтвангера, Манна и Кафку, и оказывалось: да, в их мыслях ничего опасного нет, их можно спокойно печатать по-русски. А роман Достоевского «Бесы» нужно не замалчивать, а изучать, потому что это – предупреждение о китайской культурной революции. Тогда, в 1971‐м, только такая логика и допускалась.
К институтским ученым он относился с откровенным презрением. На расширенном заседании дирекции говорил: «Ну вот пишете вы о революционных демократах, а кто из вас читал Бокля? Поднимите руки!» Ни один маститый не поднял. Мне стало так стыдно, что я поднял руку, – хоть и не имел на это права: я читал не Бокля, а Дрэпера.
Наш античный сектор готовил сборники «Памятники средневековой латинской литературы». До этого о такой поповской литературе вообще не полагалось говорить. В 1970‐м вышел первый том, в 1972‐м второй. Мы, конечно, отбирали тексты самые светские и просветительские, но все равно в них на каждой странице были и Бог Отец, и Сын, и Дух Святой, все с большой буквы. Кто-то заметил и обратил на это внимание высокого начальства. Высоким начальством был вице-президент Академии Федосеев, имя его было нарицательным еще со сталинских времен.
Мне позвонили из института: в 10 часов явиться к директору. Я пришел, его еще нет, жду у него в кабинете. Размашисто входит Сучков; снимая пальто, вполоборота говорит: «Ну что, неприятности из‐за вас?!» Я не успел поставить голос и спросил по-обыкновенному просто: «От кого?» И он, шагая от дверей к столу, так же, по-разговорному просто ответил: «От Федосеева». А потом сел за директорский стол и начал говорить по-положенному – официально и властно. Вот эту человеческую интонацию одного только слова я и запомнил, потому что больше ни при каких обстоятельствах, никогда и ни от кого из начальства я таких не слышал.
Официальных разговоров было еще много. Весь сектор вызывали к директору, и он объяснял нам, какая была мракобесная средневековая культура. Мы говорили «понимаем», но, видимо, недостаточно убежденно, и Сучков усиливал гиперболы. Когда он сказал, что в европейских монастырях процветало людоедство, я заволновался и раскрыл рот. Аверинцев, сидевший рядом, меня удержал. Потом он сказал мне: «Вы хотели выйти из роли».
Венцом события должно было быть осуждение работы на заседании Отделения литературы и языка под председательством командующего филологией, академика М. Б. Храпченко. Я написал признание ошибок по всем требованиям этого жанра и прочитал его по бумажке. Бумажка у меня сохранилась.
Сосредоточившись на историко-литературных проблемах, мы упустили из виду ближние цели нашей науки в условиях современной идеологической борьбы вообще и антирелигиозной пропаганды в частности. Показ и разбор памятников отодвинул на второй план их прямую оценку с точки зрения сегодняшнего дня. За выявлением гуманистических тенденций в культуре средневековья утратилась критическая характеристика средневекового религиозного обскурантизма в целом, крайне актуальная в современной идеологической обстановке. Ошибки такого рода привели к объективизму, к потере идейно-политического прицела, к идеологической близорукости в работе. Предложенный в книге подбор текстов (одну пятую часть которого составляют тексты с религиозной тематикой) может быть ложно понят массовым читателем. Руководящие высказывания Маркса и Энгельса о средневековье и средневековой культуре не использованы в должной мере. Коллектив античного сектора признает указанные критикой ошибки «Памятников средневековой латинской литературы» и примет меры к тому, чтобы полностью изжить их в дальнейшей работе.
После такого отчета обсуждение на отделении стало вялым. Взбодрить его попробовал Р. А. Будагов, академик по романской филологии (когда-то элегантно читавший нам, первокурсникам, введение в языкознание по товарищу Сталину). Какой у него был интерес, я не знаю. Вот тут Сучков взметнулся громыхающим голосом: «Мы признаем свои ошибки, но мы не допустим, чтобы ошибки идеологические выдавались за политические. Книга прошла советскую цензуру и была признана пригодной для издания; те, кто в этом сомневаются, слишком много на себя берут…» и т. д. Конечно, он защищал собственную репутацию, но делал это не за наш счет – и на том ему спасибо.
Третий том «Памятников средневековой латинской литературы» был уже готов к печати; его вернули на доработку под надежным надзором Самарина. Дорабатывали его трижды, всякий раз применительно к новым идеологическим веяниям. Один раз он даже попал в издательство, два месяца редактировался до идеального состояния и все-таки был возвращен – на всякий случай. Так он и не вышел за тридцать лет.
Через год после того заседания Аверинцев летел на конференцию в Венгрию: дальше тогда не пускали. В самолете ему случилось сидеть рядом с Храпченко. Храпченко посмотрел на него проницательно и сказал: «А ведь неискренно покаялся тогда Гаспаров! неискренно!»
Я почти уверен: причиной всему было то, что в «Памятниках латинской литературы» слово «Бог» было напечатано с большой буквы. Это раздражало глаз Федосеева и других. Но теперь, кажется, наоборот, слово «Бог» полагается писать с большой буквы даже у Маяковского.
Самарин
Так наказывают властиНеумеренные страсти.П. Потемкин
В институте умер очередной директор, наступило междуцарствие. Все имена возможных кандидатов были какие-то слишком бледные. «А почему не Самарин?» – спросил меня знакомый историк. «Он не член партии». – «Странно, – задумчиво сказал мой собеседник, – его нужно бы принять в партию honoris causa». Позже я узнал, что Самарин все-таки был членом партии, но, кажется, вскоре после войны его исключили (не по политическим, а по морально-бытовым мотивам), чем, видимо, и объяснялась его сверхосторожность во всем – избегал любого риска.
Роман Михайлович Самарин заведовал в университете романо-германской кафедрой, а в институте мировой литературы зарубежным отделом. Круглый живот, круглая голова, круглые очки, гладкие волосы. Круглые движения и круглые слова. Западную литературу нам, античникам, изучать было необязательно, но на Самарина мы ходили: читал он красиво. «И вот Боэций с друзьями, сидя в саду, обсуждал диалоги Платона, а из‐за ограды виллы слышались песни проходивших солдат на непонятном готском языке. Последний римлянин старался их не замечать; но за ними было будущее». О Боэции в это время мало кто знал даже понаслышке. Но писал Самарин очень мало и очень блекло. Он был карьерист, но осторожнее многих: помнил, что слова – серебро, а молчание – золото. Он много знал не только о Боэции. В наш античный сектор хотел поступить Г. С. Кнабе – античник, он служил на кафедре немецкого языка во ВГИКе. Самарин возражал. Мы думали, что по антисемитству (Кнабе евреем не был, но это неважно). Оказалось, нет. М. Е. Грабарь-Пассек пришла вместе с Кнабе к Самарину, я был при них как секретарь сектора. Сели за тесный стол, и Самарин спросил: «Ну-с, так что с вами было такого-то июня 1944 года?» Выяснилось, что в этот день Кнабе поссорился с воксовским начальством и взял назад уже поданное заявление в партию. Дальнейший разговор стал уже ненужным.
В самаринском отделе работал тогда еще молодой Г. Гачев; его отец только что был посмертно реабилитирован. Гачев писал о различном образе космоса в различных национальных сознаниях. «Как будто взбесившаяся газета заговорила языком Андрея Белого!» – тоскливо заметил С. Аверинцев. Но Самарин не любил Гачева за что-то другое. Обсуждалась его работа «Индийский космос глазами древних греков»: если ее не утвердят, то его уволят. Позвали меня как античника, спросили первым. Я сказал: по-видимому, хорошо и утверждения заслуживает, но, конечно, я не специалист и т. д. Самарин стал направлять дальнейшие прения: «Видите, так как античник не считает себя специалистом, то будем осторожны…» Когда он повторил это в третий раз, я сказал: «Еще раз: считаю, что заслуживает утверждения». Работу утвердили, но Гачева все равно уволили. В нашем античном секторе не было тогда заведующего, я больше года числился исполняющим обязанности. Мне сказали: «Директор давно хочет сделать вас заведующим, но Самарин против: он не прощает вам того гачевского заседания». Я не поверил. Но, видимо, это было так: когда меня наконец объявили заведующим, Самарин вызвал меня, встал из‐за стола и зычно спросил: «Ну как, будем дисциплинированными?» Я сделал соответственное лицо и ответил: «Так точно!»
Он был родом из Харькова. В начале 1920‐х годов там был хороший культурный центр, оттуда вышел А. И. Белецкий, друг моего шефа Ф. А. Петровского: украинский академик, мемориальный бюст у подъезда. Лет через десять после самаринской смерти я познакомился в писательском Доме отдыха со старой, доброй и умной переводчицей А. Андрес (письма Флобера и проч.). Она тоже была из Харькова, хорошо знала отца Самарина – гимназический, а потом школьный учитель, это он сделал людьми всех, кто вышел из Харькова. О сыне она говорить избегала. Однажды она упомянула Белецкого. Я ничего не сказал, но она перебила себя: «Вы, верно, слышали, будто Роман Михайлович – незаконный сын Белецкого? Нет? Этот слух пустил сам Роман Михайлович уже после войны – потому что старый Самарин в 1942‐м не успел эвакуироваться, оставался в Харькове при немцах и Роман Михайлович боялся, что ему, сыну, это испортит карьеру. А Белецкий появился в самаринском доме, когда Роману было уже лет четырнадцать». После этого я стараюсь о Самарине не вспоминать.
Соболевский
Античным сектором в институте заведовал Сергей Иванович Соболевский. Когда я поступил под его начальство, ему шел девяносто второй год. Когда он умер, ему шел девяносто девятый. Было два самых старых античника: историк Виппер и филолог Соболевский. Молодые с непристойным интересом спорили, который из них доживет до ста лет. Виппер умер раньше, не дожив до девяноста восьми. Он был хороший ученый, я люблю его старый курс греческой истории. Зато Соболевский знал греческий язык лучше всех в России, а может быть, и не только в России.
Он уже не выходил из дому, сектор собирался у него в квартире. Стол был черный, вроде кухонного, и покрыт газетами. Стены комнаты – как будто закопченные: ремонта здесь не было с дореволюционных времен. У Соболевского было разрешение от Моссовета не делать ремонта, потому что от перекладки книг с его полок может потерять равновесие и разрушиться весь четырехэтажный дом в Кисловском переулке.
Над столом с высочайшего потолка на проводе свисала лампочка в казенном жестяном раструбе. Соболевский говорил: «А я помню, как появились первые керосиновые лампы. Тогда еще на небе была большая комета, и все говорили, что это к войне. И правда, началась франко-прусская война».
Чехов для него был писатель непонятный. «Почему у него архиерей умирает, не дожив до Пасхи? жалко ведь!» «Анна Каренина» была чем-то вроде текущей литературы, о которой еще рано судить. Вот Сергей Тимофеевич Аксаков – это классик.
Он был медленный, мягкий, как мешок, с близорукими светлыми глазками; рука при пожатии – как ватная. Почерк тоже медленный, мелкий и правильный, как в прописях. Подпись – с двумя инициалами и до последней буквы с точкой на конце: С. И. Соболевский. Иначе – невежливо. Семидесятилетний Ф. А. Петровский расписывался быстрым иероглифом, похожим на бантик с фитой в середине, но что с него взять? – молодой.
«Никогда не начинайте писем „уважаемый такой-то“, только „многоуважаемый“. Это дворнику я могу сказать: „уважаемый“».
Античных авторов он читал, чтобы знать древние языки. Когда нужен был комментарий о чем-то кроме языка, он писал в примечании к Аристофану: «Удод – такая птица». О переходе Александра Македонского через снежные горы: «Нам это странно, потому что мы привыкли представлять себе Индию жаркой страной, но в горах, наверное, и в Индии бывает снег». О «Германии» Тацита: «Одни ученые считают, что Тацит написал „Германию“, чтобы предупредить римлян, какие опасные враги есть на севере; другие – что он хотел показать им образец нравственной жизни; но, скорее всего, он написал ее просто потому, что ему захотелось». Две последние фразы – из «Истории римской литературы», которую мне дали редактировать, когда я поступил в античный сектор; я указал на них Ф. А. Петровскому, он позволил их вычеркнуть.
«Вот Соломон Яковлевич Лурье пишет, что Евангелие похоже на речь Гая Гракха: „У птиц – гнезды, у зверей – норы, а человеку нет приюта“. Ну и что? Случайное совпадение. Если Евангелие на что и похоже, то на Меморабилии Ксенофонта», – говорил он. И правда.
Из античных авторов он выписывал фразы на грамматические правила, из фраз составлял свои учебники греческого и латинского языка – один многотомный, два однотомных. Фразы выписывались безукоризненным почерком на клочках: на оборотах рукописей, изнанках конвертов, аптечных рецептах, конфетных обертках. Клочки хранились в коробках из-под печенья, из-под ботинок, из-под утюга – умятые, как стружки. Он был скуп.
«Какая сложная вещь язык, какие тонкие правила, а кто выдумал? Мужики греческие и латинские!»
Библиотеку свою, от которой мог разрушиться дом, он завещал Академии наук. У Академии она заняла три сырых подвала с тесными полками. Составлять ее каталог вчетвером, по два дня в неделю, пришлось два года. Среди полных собраний Платона ютились пачки опереточных либретто 1900 года – оказывается, был любителем. В книгах попадались листки с русскими фразами для латинского перевода. Некоторые я запомнил: Недавно в нашем городе была революция. Люди на улицах убивали друг друга оружием. Мы сидели по домам и боялись выходить, чтобы нас не убили.
«Преподавательское дело очень нелегкое, – говорил он. – Какая у тебя ни беда, а ты изволь быть спокойным и умным».
Была там и мелко исписанная тетрадка, начинавшаяся: «Аа – река в Лифляндии… Абак… Аббат…» Нам рассказывали: когда-то к нему пришел неизвестный человек и сказал: я хочу издать энциклопедию, напишите мне статьи по древности, я заплачу. – «А кто будет писать другие разделы?» – «Я еще не нашел авторов». – «Давайте я напишу вам все разделы, а вы платите». Так и договорились: Соболевский писал, пока заказчик платил, – кажется, до слова «азалия».
Когда ему исполнилось девяносто пять, университет подарил ему огромную голову Зевса Отриколийского. «И зачем? Лучше бы уж Сократа». За здоровье его чокались виноградным соком. От Академии пришел с поздравлением сам Виноградов, он жил в соседнем доме. Оказалось, кроме славянской филологии в духовной академии Виноградов слушал и античность у старого Зелинского на семинарах-privatissima и помнил, как Зелинский брызгал слезами оттого, что не мог найти слов объяснить, почему так прекрасна строка Горация. С Соболевским они говорили о том, что фамилию Суворов, вероятно, нужно произносить Су́воров, Souwaroff: «сувор» – мелкий вор, как «сукровица» – жидкая кровь.
«А Сергей Михайлович Соловьев мне так и не смог сдать экзамен по греческому языку». Это тот Соловьев, поэт, который дружил с Белым, писал образцово-античные стихотворения и умирал в мании преследования; врач говорил: «Посмотрите мне в глаза. Разве мы хотим вам дурного?» – а он отвечал: «Мне больно смотреть людям в глаза».
Работал Соболевский по ночам под той самой лампой с жестяным абажуром. В предисловии к переводу Эпикура он писал: «К сожалению, я не мог воспользоваться комментированным изданием Гассенди 1649 года. …В Москве он есть только в Ленинской библиотеке, для занятия дома оттуда книг не выдают, а заниматься переводом мне приходилось главным образом в вечерние и ночные часы, имея под рукой все мои книги… Впрочем, я утешаю себя той мыслью, что Гассенди был плохой эллинист…» и т. д.
В институте полагалось каждому составлять планы работы на пятилетку вперед. Соболевский говорил: «А я, вероятно, помру». Когда он слег и не мог больше работать, то хотел подать в отставку, чтобы не получать незаслуженную зарплату. Петровский успокаивал его: «У вас, Сергей Иванович, наработано на несколько пятилеток вперед».
Он жил неженатым. Уверяли, будто он собирался жениться, но невеста перед свадьбой сказала: «Надели бы вы, Сергей Иванович, чистую рубашку», – а он ответил: «Я, Машенька, меняю рубашки не по вторникам, а по четвергам», – и свадьба разладилась. Ухаживала за ним экономка, старенькая и чистенькая. Мы ее почти не видели. Лет за десять до смерти он на ней женился, чтобы она за свои заботы получила наследство. Когда он умер, она попросила сотрудников сектора взять на память по ручке с пером из его запасов: он любил писчие принадлежности. Мне досталась стеклянная, витая жгутом, с узким перышком. Я ее потерял. Правда, потом, после публикации этих воспоминаний, мне специально привезли такую же из Венеции.
СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ
Есть такая награда – Государственная премия Российской Федерации: отдельно за литературу и искусство и отдельно, кажется, за науку и технику. При Сталине она называлась Сталинской премией (и выплачивалась не из бюджета, а из гонораров за переиздания его трудов), после Сталина – Государственной премией СССР, а после СССР все запутались и уже не помнили, откуда она взялась и что значит. Получали ее идейно выдержанные писатели и артисты, иногда хорошие, иногда плохие.
Было «общество независимой интеллигенции» под названием «Мир культуры». В нем числились писатели Фазиль Искандер, Андрей Битов, композитор Шнитке, режиссер Любимов, Аверинцев, академик Лихачев, митрополит Питирим, а дела делали люди менее знаменитые и мало мне знакомые. Я думал, что оно давно развалилось, а оказалось, оно еще существовало. Когда я был в американской командировке, мне позвонила жена и сказала, что «Мир культуры» выдвинул меня на Государственную премию. Я сказал: «С ума они сошли». Выдвигать можно было работы последних лет, а у меня таких работ было всего лишь научно-популярная книжка по занимательному стихосложению и перевод с латинского стихов Авсония со статьей и комментарием; кто такой Авсоний, об этом даже среди филологов знал не всякий.
Кто присуждал премии, я не знаю. Список награжденных оказался пестрым. Там были эстрадная звезда Алла Пугачева, руководитель иконописной школы архимандрит Зинон, старый фронтовой поэт Юрий Левитанский, православный композитор Свиридов и Лидия Чуковская (за «Записки об Ахматовой» – бывшая Сталинская премия!); там же оказался и я. Позвонили по телефону, сказали жене: 7 мая будут торжественно вручать аттестаты. «Где?» – «В Георгиевском зале». – «Где это?» С презрением в голосе объяснили: в Кремле. «У вас, конечно, есть машина?» – «Нет». – «Тогда за вами заедут».
Приехала широкая рассидистая машина, в ней сопровождающая дама. При въезде в Кремль – вдали видны огромные буквы «Россия»: это на гостинице в Зарядье. При входе в зал – картина во всю стену, вроде очень пестрой гигантомахии: кони, кольчуги и луки, видимо Ледовое побоище или Куликовская битва. В зале скамьи обтянуты георгиевскими цветами, рыжим и черным, чтобы сидеть на них задом. «Вон – три микрофона, средний с орлом – президентский, когда вызовут – подойдите туда, а для ответного слова – к правому». От мысли об ответном слове («две-три фразы!») мне стало нехорошо. Постепенно набирался народ: мешковатый седой Левитанский; режиссер Покровский с носом как хобот; «вон в первом ряду кудрявые затылки: рыжий – это Пугачева, а черный – Киркоров».
Полный свет, музыка-туш, входит Ельцин с калашной улыбкой, все встают, как перед учителем. Перед орленым микрофоном он читает одобрительные слова: сперва обо всех («почтить высший смысл жизни и ее предназначение…»), потом о каждом. Поэт Владимир Соколов – съеженный, с палочкой и бабочкой – получает Пушкинскую премию и говорит ответные слова: «Пушкин с нами всегда…». За Чуковскую получает премию ее дочь и говорит за нее речь: «В своих записках я старалась создать образ Ахматовой…». Каждому – красный диплом, коробка с орлом, рукопожатие сверху вниз, цветы, поворот в фас, вспышка фото, музыка-туш, аплодисменты. Ельцин – крупный и тяжелый, лауреаты рядом кажутся маленькими (у Гоголя о Собакевиче сказано: «похож на средней величины медведя»). Запнулся на ударении: «ико́нопись? иконопи́сь?» – из публики подсказывают, но неправильно. К дамам наклоняется и целует в щечку. Кругленькая архитекторша, возвращаясь на свое место, удовлетворенно говорит: «Теперь неделю не буду умываться». Маленькая высохшая Юлия Борисова, которая играла Клеопатру, роняет медаль и падает, путаясь в длинном платье: она больна, ее недавно избили хулиганы на улице. Толстая Пугачева, лицо – как розовая маска, мини-юбка и легионерские ремни по голеням, говорит: «Эта премия – олицетворение народной любви…» – и жертвует ее пострадавшим от сахалинского землетрясения. Только Левитанский сказал неположенное: «Я был на двух войнах, и мне горько, что эту премию мне дают, когда идет третья…» Третья – это чеченская.
Заключительное слово Ельцина: «Вы должны возрождать великую духовность России…» Я записал.
Когда меня поставили к микрофону, я сказал: «Когда я начинал, моя отрасль филологии была несуществующей – идейно подозрительной. Теперь, как я понял, стиховедение получило государственное признание: я благодарен от лица всех ученых, которые им занимаются. Премию получила книга переводов из латинской поэзии. Пушкин сказал: переводчики – почтовые лошади просвещения; я чувствую себя вот такой лошадью, которой после очень большого перегона засыпали овса». Кроме пушкинского у меня на уме был другой подтекст, из Гумилева: «Мой биограф будет очень счастлив, будет улыбаться два часа, как осел, перед которым в ясли свежего насыпали овса…» – но я его не подчеркивал. Так как это была единственная шутка за всю церемонию, то ее показали в «последних известиях» по телевизору; потом меня поздравляли с фразой про овес. А когда говорили «поздравляем с премией!», я отвечал: «Со Сталинской!» – и поздравлявшие смущались.
Премии я был рад по двум причинам: во-первых, деньги всегда нужны, а во-вторых, вторым кандидатом на премию по литературоведению был Никита Струве с книгами «Мандельштам» и «Литература и православие»; если премирующие предпочли не его – значит, критерий «православие – самодержавие – народность» еще не стал определяющим для нашего начальства. Не знаю, надолго ли.
ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРГЕЕ БОБРОВЕ
Когда мне было двенадцать лет, я гостил летом в писательском Переделкине у моего школьного товарища. Он был сыном критика Веры Смирновой, это о нем упоминал Борис Пастернак в записях Л. Чуковской: «Это человеческий детеныш среди бегемотов». Он утонул, когда нам было по двадцать лет. Тогда, в детское лето, у Веры Васильевны была рукопись, которая называлась «Мальчик». Автором рукописи был седой человек, большой, крепкий, громкий, с палкой в размашистых руках. Он бранился на неизвестных мне людей, бросался шишками, собаку Шарика звал Трехосным Эллипсоидом, играл в шахматы, не глядя на доску, читал Тютчева так, что я до сих пор слышу «Итальянскую виллу» его голосом, и уничтожал меня за недостаточный интерес к математическим наукам. Его звали Сергей Павлович Бобров; имя это ничего нам не говорило.
Через два года вышла его книга «Волшебный двурог» – вроде «Алисы в стране математических чудес», где главы назывались схолиями, отступления были интереснее сюжета, шутки – лихие, картинки – Конашевичевы, а заглавная геометрическая фигура с полумесяцем не имела никакого отношения к действию. За непедагогическую яркость книгу тотчас разгромила твердая газета «Культура и жизнь». Следующая «занимательная математика» Боброва появилась через несколько лет и была надсадно-бледная. Но мы уже знали, что Бобров был поэтом, и читали в старых альманахах «Центрифуги» («такой-то турбогод») его малопонятные стихи и хлесткие рецензии: «Ну что же, дорогой читатель, наденем калоши и двинемся вглубь по канализационным тропам „Первого журнала русских футуристов“…»10. Видели давний силуэт работы Кругликовой – усы торчат, губы надуты, над грудой бумаг размахивается рука с папиросой, сходство – как будто тридцати лет и не бывало. Это была невозвратная история. Когда потом в оттепельной «Литературной Москве» вдруг появились два стихотворения Боброва, филологи с изумлением говорили друг другу: «А Бобров-то!..»
Когда мне было двадцать пять лет, в Институте мировой литературы начала собираться стиховедческая группа. Ее можно было назвать клубом неудачников. Все старшие участники помнили, как наука стиховедения была отменена почти на тридцать лет, а их собственные работы в лучшем случае устаревали на корню. Председательствовал Л. И. Тимофеев, приходили Бонди, Квятковский, Никонов, Стеллецкий, один раз появился Голенищев-Кутузов. У Бонди была книга о стихе, зарезанная в корректуре. Штокмар в депрессии сжег полную картотеку рифм Маяковского. Нищий Квятковский был принят в Союз писателей за считаные годы до смерти и представляемые в комиссию несколько экземпляров своего «Поэтического словаря» 1940 года собирал по одному у знакомых. Квятковский отбыл свой срок в 1930‐х на Онеге, Никонов в 1940-х – в Сибири, Голенищев в 1950-х – в Югославии: там, в тюрьме у Тито, он сочинял свою роспись словоразделов в русском стихе (все примеры – по памяти), вряд ли подумав, что это давно уже сделал Шенгели.
Бобров появился на первом же заседании. Он был похож на большую шину, из которой наполовину вышел воздух: такой же зычный, но уже замедленный. После заседания я одолел робость и подошел к нему: «Вы меня не помните, а я вас помню: я тот, который с Володей Смирновым…» – «А‐а, да, конечно, Володя Смирнов, бедный мальчик…» – и он позвал прийти к нему домой. Дал для испытания два своих непечатавшихся этюда, «Ритмолог» и «Ритор в тюльпане», и один рассказ. В рассказе при каждой главе был эпиграф из Пушкина (А. П.), всякий раз прекрасный и забытый до неузнаваемости («Летит испуганная птица, услыша близкий шум весла» – откуда это?). В «Риторе» мимоходом было сказано: «Говорят, Достоевский предсказал большевиков, – помилуйте, да был ли такой илот, который не предсказал бы большевиков?» «Илот» мне понравился.
Я стал бывать у него почти каждую неделю. Это продолжалось десять лет. Когда я потом говорил о таком сроке людям, знавшим Боброва, они посматривали на меня снизу вверх: Бобров славился скверным характером. Но ему хотелось иметь собеседника для стиховедческих разговоров, и я оказался подходящим.
Как всякий писатель, а особенно вытесненный из литературы, он нуждался в самоутверждении. Первым русским поэтом нашего века был, конечно, он сам, а вторым – Пастернак. Особенно Пастернак тех времен, когда он, Бобров, издавал его в «Центрифуге». «Как он потом испортил „Марбург!“ Только одну строфу не тронул, да и то потому, что ее процитировал Маяковский и сказал: „гениальная“». Уверял, что в молодости Пастернак был нетверд в русском языке: «Бобров, почему вы меня не поправили: „падет, главою очертя“, „а вправь пойдет Евфрат“? – а теперь критики говорят: неправильно». – «А я думал, вы нарочно». С очень большим уважением говорил об отце Пастернака: «Художники знают цену работе, крепкий был человек, Борису по струнке приходилось ходить. Однажды спросил меня: у Бориса настоящие стихи или так? Я ответил». Ответил – было, конечно, главное. Посмертно опубликованную автобиографию Пастернака «Люди и положения», где о Боброве было упомянуто мимоходом и неласково, он очень не любил и называл не иначе как «апокриф». К роману «Доктор Живаго» был равнодушен, считал его славу раздутой. Но выделял какие-то подробности предреволюционного быта, особенно душевного быта: «очень точно». Доброй памяти об этом времени у него не было. «На нас подействовал не столько 1905 год, сколько потом реакция – когда каждый день раскрываешь газету и читаешь: повешено столько-то, повешено столько-то».
Об Асееве говорилось: «Какой талант! И какой был легкомысленный: ничего ведь не осталось. Впрочем, вот теперь премию получил, кто его знает? Однажды мы от него уходили в недоумении, а Оксана выходит за нами в переднюю и тихо говорит: вы не думайте, ему теперь нельзя иначе, он ведь лауреат». Пастернак умирал гонимым, Асеев признанным, это уязвляло Боброва. Однажды, когда он очень долго жаловался на свою судьбу со словами «А вот Асеев…», я спросил: «А вы захотели бы поменяться жизнью с Асеевым?» Он посмотрел так, как будто никогда об этом не задумывался, и сказал: «А ведь нет».
«Какой был слух у Асеева! Он был игрок, а у игроков свои суеверия: когда идешь играть, нельзя думать ни о чем божественном, иначе – проигрыш. Приходит проигравшийся Асеев, сердитый, говорит: „Шел – все церкви за версту обходил, а на Смоленской площади вдруг – извозчичья биржа и огромная вывеска ‘Продажа овса и сена’, не прочесть нельзя, а это ведь все равно, что ‘Отца и Сына!’“ А работать не любил, разбрасывался. Всю „Оксану“ я за него составил. У него была – для заработка – древнерусская повесть для детей в „Проталинке“, я повынимал оттуда вставные стихи, и кто теперь помнит, откуда они? „Под копыта казака – грянь! брань! гинь! вран!“»
Читал стихи Бобров хорошо, громко подчеркивая не мелодию, а ритм, – стиховедческое чтение. Я просил его показать, как «пел» Северянин, – он отказался. А как вбивал в слушателей свои стихи Брюсов, показал – «Демон самоубийства», то чтение, о котором говорится в автобиографическом «Мальчике»: «Своей – улыбкой, – странно – длительной, – глубокой – тенью – черных – глаз – он часто, – юноша – пленительный, – обворожает – скорбных – нас…» («А интонация Белого записана: Метнер написал один романс на его стихи, где нарочно воспроизвел все движения его голоса, какой, не помню». Я стал расспрашивать о Белом – он дал мне главу из «Мальчика» с ночным разговором, очень хорошую, но ничего не добавил.)
«Брюсов не только сам все знал напоказ, но и домашних держал так же. Мы сидим у него, говорим о стихах, а он: „Жанночка, принеси нам тот том Верлена, где аллитерация на л!“ – и Жанна Матвеевна приносит том, раскрытый на нужной странице». Кажется, об этом вспоминали и другие: видимо, у Брюсова это был дежурный прием. «Мы его спрашивали: Валерий Яковлевич, как же это вы не отстояли „Петербург“ Белого для „Русской мысли“? Он разводит руками: „Прихожу я спорить к Струве, он выносит рукопись: „А вы видели, что тут целая страница – о том, как блестит паркетина в полу? По-вашему, можно это печатать?“ Смотрю – и верно, целая страница. Как тут поспоришь?» «Умирал – затравленный. Эпиграмму Бори Лапина знаете: „И вот уж воет лира над тростью этих лет“? Тогда всем так казалось. Когда он умер, Жанна Матвеевна бросилась к профессору Кончаловскому (брат художника, врач): „Доктор, ну как же это?“ А он буркнул: „Не хотел бы – не помер бы“».
«А Северянина мы всерьез не принимали. Его сделал Федор Сологуб. Есть ведь такое эстетство – наслаждаться плохими стихами. Сологуб взял все эти его брошюрки, их было под тридцать, и прочитал от первой до последней. Отобрал из них что получше, добавил последние его стихи – и получился „Громокипящий кубок“. А в следующие свои сборники Северянин стал брать все, что Сологуб забраковал, и понятно, что они получались один другого хуже. Однажды он вернулся из Ялты, протратившись в пух и прах. Там жил царь, – так вот, когда Северянин ездил в такси, ему устраивали овации громче, чем царю. Понятно, что Северянин только и делал, что ездил в такси. А народ тоже понимал что к чему: к царю относились – известно как, вот и усердствовали для Северянина».
Одно неизданное асеевское стихотворение я запомнил в бобровском чтении с первого раза. «Сидел Асеев у меня вечером, чай пили, о стихах разговаривали. Ушел – забыл у меня пальто. Наутро пришел, нянька ему открыла, он берет пальто и видит, что на окне стоит непочатая бутылка водки. Он ужасно обижен, что вчера эта бутылка не была употреблена по назначению, и пишет мне записку. Прихожу – читаю (двенадцать строчек – одна фраза): „У его могущества, / кавалера Этны, / мнил поять имущество, / ожидая тщетно, – / но, как на покойника, / с горнего удела / (сиречь, с подоконника) / на меня глядела – / та, завидев коюю / (о, друзья, спасайтесь!), / ввергнут в меланхолию / Юргис Балтрушайтис“». Следовало пояснение об уединенных запоях Балтрушайтиса. «Почему „кавалера Этны“?» – «Это наши тогдашние игры в Гофмана». – «И „Песенка таракана Пимрома“ – тоже?» – «Тоже». Но точнее ничего не сказал.
Бобров несколько раз начинал писать воспоминания или надиктовывать их на магнитофон; отрывки сохранились в архиве. Я прошу прощения, если что-то из этого уже известно. «Но, – говорил Бобров, – помните, пожалуйста, что Аристотель сказал: „известное известно немногим“». – «Где?» – «Сказал – и все тут». Я остался в убеждении, что эту сентенцию Бобров приписал Аристотелю от себя, – за ним такое водилось. Но много лет спустя, переводя «Поэтику» Аристотеля (которую я читал по-русски не раз и не пять), я вдруг на самом видном месте наткнулся, словно впервые, на слышанные от Боброва слова: «Известное известно немногим». Аристотель и Бобров оказались правы.
О Маяковском он упоминал редко, но с тяжелым уважением, называл его Маяк. Рассказывал, как однажды сидели в СОПО (Союзе поэтов), пора вставать из‐за столиков, Маяковский говорит: «Что ж, скажем словами Надсона: „Пожелаем тому доброй ночи, кто все терпит во имя Христа“ и т. д.» Бобров поправил: «Пожелаем, только это не Надсон, а Некрасов». Маяковский помрачнел: «Аксенов, он правду говорит?» – «Правду». – «Вот сволочи, я по десяти городам кончал этим свои выступления – и хоть бы одна душа заметила».
Хлебников пришел к Боброву, не зная адреса. Бобров вернулся домой, нянька ему говорит: «Вас ждет какой-то странный». – «Как вы меня нашли?» Хлебников поглядел, не понимая, сказал: «Я – шел – к Боброву». Входила в моду эйнштейновская теория относительности, Хлебников попросил Боброва ему ее объяснить. Бобров с энтузиазмом начал и вдруг заметил, что Хлебников смотрит беспросветно-скучно. «В чем дело?» – «Бобров, ну что за пустяки вы мне рассказываете: скорость света, скорость света. Значит, это относится только к таким мирам, где есть свет; а как же там, где света нет?» Я спросил Боброва, а каковы хлебниковские математические работы. Он сказал, что их носили к такому-то большому математику (я забыл к какому), он читал их неделю и вернул со словами: «Лучше никому не показывайте». Кажется, их потом показывали и другим большим математикам и те отзывались с восторгом, но как-то уклонялись от ответственности за этот восторг.
«Хлебников терпеть не мог умываться: просто не понимал, зачем это нужно. Поэтому всегда был невероятно грязен. Оттого у него и с женщинами не было никаких романов».
По складу своего характера Бобров обо всех говорил что-нибудь неприятное.
«И Аксенова женщины не любили. Он был тяжелый человек, замкнутый, его в румынском плену на дыбе пытали, как при царе Алексее Михайловиче. Книгу его „Неуважительные основания“ видели? Огромная, роскошная; он принес рукопись в „Центрифугу“, сказал: „издайте за мой счет и поставьте вашу марку, мне ваши издания нравятся; я написал книгу стихов ‘Кенотаф’, а потом увидел, что у вас стихи интереснее, и сжег ее“. [Не ошибка ли это? Судя по письмам Аксенова, они в это время были знакомы лишь заочно.] Так вот, „Основания“ он написал для Александры Экстер, художницы, а она его так и не полюбила. А потом для Любови Поповой, художницы, он устроил у Мейерхольда постановку „Великодушного рогоносца“, ее конструкции к „Рогоносцу“ теперь во всех мировых книгах по театру, а она его тоже так и не полюбила». Мария Павловна, жена Боброва, переводчица (ее прозвище было Белка, Лапин ей когда-то посвятил стихи с геральдикой: «Луну грызет противобелка с герба неложной красоты; но ты фарфор, луны тарелка, хоть и орех для белки ты…»), попробовала вступиться за Аксенова; Бобров набросился на нее: «А ты могла бы?» – «Нет, не могла бы».
Поэт Иван Рукавишников, Дон Кихот русского триолета, «был алкоголик последней степени: с одной рюмки пьян вдребезги, а через полчаса чист как стеклышко».
Наталья Бенар (та, которая, когда умер Блок и все поэтессы писали грустные стихи, как у них был роман с Блоком, одна писала грустные стихи, как у нее не было романа с Блоком) «носила огромные шестиугольные очки – чтобы скрыть шрамы: какой-то любовник разбил об нее бутылку». («Спилась из застенчивости», – прочитал я потом о ней у О. Мочаловой.)
«Борис Лапин (какой талантливый молодой человек!), кажется, был вначале кокаинистом».
«Вадим Шершеневич обращался с молоденькой женой как мерзавец, а стоило ей сказать полслова поперек, он устраивал такие сцены, что она начинала просить прощения. Тогда он говорил: „Проси прощения не у меня, а у этой электрической лампочки!“ – и она должна была поворачиваться к лампочке и говорить: „Лампочка, прости меня, я больше не буду“, – и горе ей, если это получалось недостаточно истово, – тогда все начиналось сначала».
«Борис Садовской, чтобы подразнить Эллиса, в номерах „Дон“ натянул на бюст чтимого Данте презерватив. Эллис, чтобы подразнить Садовского – лютого антисемита, который больше всего на свете благоговел перед Фетом и Николаем I, – показывал ему фотографию Фета и говорил: „Боря, твой Фет ведь и вправду еврей, посмотри, какие у него губы!“ Садовской сатанел, бил кулаком по столу и кричал: „Врешь, он – поэт!“»
«Сергей Павлович, – спросил я, – а это Садовского вы анонсировали в „Центрифуге“: „…сотрудничество кусательнейшего Птикса: берегитесь, меднолобцы“?» – «Садовского». – «Как же он к вам пошел, он же ненавидел футуризм?» – «А вот так».
«Левкий Жевержеев, который давал деньги футуристам на „Союз молодежи“, был библиофил. Это особенная порода, вы ее не знаете. Был я у него, кончился деловой разговор, встали: „Сейчас я покажу вам мои книги“. Отдергивает занавеску, там полки до потолка, книги – такие, что глаза разбегаются, и все в изумительных переплетах. Я, чтобы не ударить в грязь лицом, беру том „Полярной звезды“, говорю: „Это здесь, кажется, был не переиздававшийся вариант такого-то стихотворения Баратынского?..“ – и вдруг вижу, что том не разрезан, а на лице у Жевержеева брезгливейшее отвращение. „Почему?“ – спрашиваю. „А я, молодой человек, книг принципиально! не! читаю!“ – „Почему?“ – „Потому что книги от этого пор-тят-ся“».
«А вы знаете, что в „Центрифуге“ должен был издаваться Пушкин? „Пушкин – Центрифуге“, неизвестные страницы, подготовил Брюсов. Не потому неизвестные, что неизданные, а потому, что их никто не читает. Думаете, мало таких? целая книга! [Я вспомнил эпиграфы, подписанные А. П. Потом в архиве Брюсова я нашел этот его договор с «Центрифугой».] На Пушкине мы однажды поймали Лернера. Устроили публикацию окончания пушкинской „Юдифи“ – будто бы найдено в старых бумагах, в таком-то семействе, где и действительно в родне были знакомые Пушкина. Лернер написал восторженную статью и не заметил, что публикация помечена, если по новому стилю, первым апреля. Этот номер „Биржевки“, где была статья Лернера, мы потом в каталогах перечисляли в списке откликов на продукцию издательства».
Говоря о стиховедении, случилось упомянуть о декламации, говоря о декламации – вспомнить конструктивиста Алексея Чьи!черина, писавшего фонетической транскрипцией. «У него была поэма без слов „Звонок к дворнику“. Почему? Потому что очень страшно. Ворота на ночь запирались, пришел поздно – звони дворнику, плати двугривенный, ничего особенного. Но если всматриваться в дощечку с надписью, и только в нее, то смысл пропадет и она залязгает чем-то жутким: „ЗъваноГГ – дворньку!“ Это как у Сартра: смотришь на дерево – и ничего, смотришь отдельно на корень – он вдруг непонятен и страшен; и готово – ля нозе. Чичерин анонсировал какие-то свои вещи с пометкой „пряничное издание“. Мы с женой получаем посылочку, в ней большой квадратный пряник, на нем неудобочитаемые буквы и фигуры, а сысподу приклеен ярлычок: „Последнее сочинение Алексея Чьи!черина“. Через день встречаю его на Тверской: „Ну как?“ – спрашивает. „Спасибо, очень вкусно было“. – „Это что! – говорит, – самое трудное было найти булочную, чтобы с такой доски печатать: ни одна не бралась!“»
Когда он о ком-нибудь говорил хорошо, это запоминалось по необычности. Однажды он вдруг заступился за Демьяна Бедного: «Он очень многое умел, просто он вправду верил, что писать надо только так, разлюли-малина». Я вспомнил Пастернака: о том, что Демьян Бедный – это Ганс Сакс нашего времени.
Был поэт из «Правды» Виктор Гусев, очень много писавший дольниками, я пожаловался, что никак не кончу по ним подсчеты; Бобров сказал: «Работяга был. Знаете, как он умер? В войну: в Радиокомитете писал целый день, переутомился, сошел в буфет, выпил рюмку водки и упал. И Павел Шубин так же помер. Говорил, что проживет до семидесяти, все в роду живучие, а сам вышел утром на Театральную площадь, сел под солнышко на лавочку и не встал». Мария Павловна добавила: «В Доме писателей был швейцар Афоня, мы его спрашивали: „Ну как, Афоня, будет сегодня драка или нет?“ Он смотрел на гардероб и говорил: „Шубин – здесь, Смеляков – здесь. Будет!“»
Я не проверял этих рассказов: если они недостоверны, пусть останутся как окололитературный фольклор. Этот Афоня, кажется, уже вошел в историю словесности. Извиняясь за происходящее, он говорил: «Такая уж нынче эпошка».
Бобров закончил московский Археологический институт, но никогда о нем не вспоминал, а от вопросов уклонялся. Зато о незаконченном учении в Строгановском училище и о художниках, которых он знал, он вспоминал с удовольствием. «Они мастеровые люди: чем лучше пишут, тем косноязычнее говорят. Илья Машков вернулся из Италии: „Ну, ребята, Рафаэль – это совсем не то. Мы думали, он – вот, вот и вот (на лице угрюмость, руки резко рисуют в воздухе пирамиду от вершины двумя скатами к подножью), а он – вот, вот и вот (на лице бережность, две руки ладонями друг к другу плавными дугами движутся сверху вниз, как по извилистому стеблю)“». Кажется, это вошло в «Мальчика».
Наталья Гончарова иллюстрировала его первую книгу, «Вертоградари над лозами», он готов был признать, что ее рисунки лучше стихов: стихи вспоминал редко, рисунки часто. Ее птицу с обложки этой книги Мария Павловна просила потом выбить на могильной плите Боброва. Ларионова он недолюбливал, у них была какая-то ссора. Но однажды, когда Ларионов показывал ему рисунки – наклонясь над столом, руки за спину, – он удивился напряженности его лица и увидел: Гончарова сзади неслышно целовала его лапищи за спиной. «Она очень сильно его любила, я не знал, что так бывает».
«Малевич нам показывал свой квадрат, мы делали вид, что нам очень интересно. Он почувствовал это, сказал: „С ним было очень трудно: он хотел меня подчинить“. – „Как?“ – „А вот так, чтобы меня совсем не было“. – „И что же?“ – „Я его одолел. Видите: вот тут его сторона чуть-чуть скошена. Это я нарочно сделал – и он подчинился“. Тут мы поняли, какой он больной человек».
Я сказал, что люблю конструкции Родченко. «Родченко потом был не такой. Я встретил его жену, расспрашиваю, она говорит: „Он сейчас совсем по-другому пишет“. – „Как?“ – „Да так, говорит, вроде Ренуара…“ А Федор Платов тоже по-другому пишет, только наоборот: абстрактные картины». – «Абстрактные в каком роде?» – «А вот как пришел ковер к коврихе, и стали они танцевать, а потом у них народилось много-много коврят».
Федора Платова, державшего когда-то издательство «Пета» (от петь), я однажды застал у Боброва. Он был маленький, лысый, худой, верткий, неумолчный и хорохорящийся, а с ним была большая, спокойная жена. Шел 400-летний юбилей Сервантеса, и чинный Институт мировой литературы устроил выставку платовских иллюстраций к «Дон Кихоту». Мельницы были изображены такими, какими они казались Дон Кихоту, – надвигались, вращались и брызгали огнем; это и вправду было страшно.
Больше всего мучился Бобров из‐за одной только своей дурной славы: считалось, что это он в последний приезд Блока в Москву крикнул ему с эстрады, что он – мертвец и стихи у него – мертвецкие. Через несколько месяцев Блок умер, и в те же дни вышла «Печать и революция» с рецензией Боброва на «Седое утро», где говорилось примерно то же самое; после этого трудно было не поверить молве. Об этом и говорили, и много раз писали; С. М. Бонди, который мог обо всем знать от очевидцев, и тот этому верил. Я бы тоже поверил, не случись мне чудом увидеть в забытом журнале, не помню каком, чуть ли не единственное тогда упоминание, что кричавшего звали Струве. (Александр Струве, большеформатная брошюра о новой хореографии с томными картинками.) Поэтому я сочувствовал Боброву чистосердечно. «А рецензия?» – «Ну что рецензия? – хмуро ответил он. – Тогда всем так казалось».
Как это получилось в Политехническом музее, для меня стало понятнее из записок О. Мочаловой, которые я прочел много позже (РГАЛИ, 272, 2, 6, л. 33). После выходки Струве «выскочил Сергей Бобров, как будто и защищая поэзию, но так кривляясь и ломаясь, что и в минуту разгоревшихся страстей этот клоунский номер вызвал общее недоумение. Председательствовал Антокольский, но был безмолвен». Кто знает тогдашний стиль Боброва, тот представит себе впечатление от этой сцены. Струве был никому не знаком, а Боброва знали, и героем недоброй памяти стал именно он.
Собственные стихи Боброва были очень непохожи на его буйное поведение: напряженно-простые и неуклюже-бестелесные. На моей памяти он очень мало писал стихов, но запас неизданных старых, 1920–1950‐х годов, был велик. Мне нужно было много изобретательности, чтобы хвалить их. Но одно его позднее стихотворение я люблю: оно называется «Два голоса» (1-й – мужской, 2-й – женский), дата – 1935. На магнитофоне было записано его чтение вдвоем с Марией Павловной: получалось очень хорошо.


Проза его – «Восстание мизантропов», «Спецификация идитола», «Нашедший сокровище» («написано давно, в 1930‐м я присочинил конец про мировую революцию и напечатал под псевдонимом А. Юрлов») – в молодости не нравилась мне неврастеничностью, потом стала нравиться. Мне кажется, есть что-то общее в прозе соседствовавших в «Центрифуге» поэтов: в повестях Боброва, в забытом «Санатории» Асеева, в ждущих издания «Геркулесовых столпах» Аксенова, в ставшей классикой ранней прозе Пастернака. Но что именно – не изучив, не скажу.
Одна его книга, долго анонсировавшаяся в «Центрифуге», так и не вышла, остались корректурные листы: «К. Бубера. Критика житейской философии». Где-то, по анонсам, было написано, что это был первый русский отклик на философию Мартина Бубера. Это не так: «К. Бубера» – это Кот Бубéра (так звали кота сестер Синяковых, сказал мне А. Е. Парнис), а книга – пародия на «Кота Мурра», символизм и футуризм, со включением стихов К. Буберы (с рассеченными рифмами) и жизнеописанием автора. Последними словами умирающего Буберы были: «Не мстите убийце: это придаст односторонний характер будущему». Мне они запомнились. Таким образом, и тут вначале был Гофман. Через двадцать с лишним лет после смерти Боброва мне удалось опубликовать «К. Буберу» (с небольшим моим предисловием) в Америке, в Стэнфордском университете.
Из переводов чаще всего вспоминались Шарль ван Лерберг, которого он любил в молодости («Дождик, братик золотой…»), и Гарсиа Лорка. Если бы было место, я бы привел здесь его перевод «Романса с лагунами», о всаднике дон Педро, он очень хорош. Но больше всего он гордился стихотворным переложением «Поэмы о поэте» Сы Кун-ту, двенадцатистишия с заглавиями: «Могучий хаос», «Пресная пустота», «Погруженная сосредоточенность», «И омыто, и выплавлено», «Горестное рвется» и т. д.
«Пришел однажды Аксенов, говорит: „Бобров, я принес вам китайского Хлебникова!“ – и кладет на стол тысячестраничный том, диссертацию В. М. Алексеева. Там был подстрочный перевод с комментариями буквально к каждому слову». В 1932 году Бобров сделал из этого поэтический перевод, сжатый, темный и выразительный. «Пошел в „Интернациональную литературу“, там работал Эми Сяо, помните? такой полпред революционной китайской литературы, стихи про Ленина и прочее. Показываю ему, и вот это дважды закрытое майоликовое лицо (китаец плюс коммунист) раздвигается улыбкой, и он говорит тонким голосом на всю редакцию: „Това-ли-си, вот настоящие китайские стихи!“» После этого Бобров послал свой перевод Алексееву, тот отозвался об Эми Сяо: «профессиональный импотент», но перевод одобрил. Напечатать его удалось только в 1969 году в «Народах Азии и Африки», стараниями С. Ю. Неклюдова.
Мария Павловна рассказывала, как они переводили вместе «Красное и черное» и «Повесть о двух городах»: она сидит, переводит вслух на разные лады и записывает, а он ходит по комнате, пересказывает это лихими словами и импровизирует, как бы это следовало сочинить на самом деле. И десятая часть этих импровизаций вправду идет в дело. «Иногда получалось так здорово, что нужно было много усилий, чтоб не впасть в соблазн и не впустить в перевод того, чего у Диккенса быть не могло». Мария Павловна преклонялась перед Бобровым безоглядно, но здесь была тверда: переводчик она была замечательный.
С наибольшим удовольствием вспоминал Бобров не о литературе, а о своей работе в Центральном статистическом управлении. Книгой «Индексы Госплана» он гордился больше, чем изданиями «Центрифуги». «Там я дослужился, можно сказать, до полковничьих чинов. Люди были выучены на земской статистике, а земские статистики, не сомневайтесь, умели знать, сколько ухватов у какого мужика. Потом все кончилось: потребовалась статистика не такая, какая есть, а какая надобна; и ЦСУ закрыли». Закрыли с погромом: Бобров отсидел в тюрьме, потом отбыл три года в Кокчетаве, потом до самой войны жил за 101‐м километром, в Александрове. Вспоминать об этом он не любил, кокчетавские акварели его – рыжая степь, голубое небо – висели в комнате не у него, а у его жены. (Фраза из воспоминаний Марии Павловны: «И я не могла ничего для него сделать, ну разве только помочь ему выжить». Я и вправду не знаю, как выжил бы он без нее.) Первую книжку после этого ему позволили выпустить лишь в войну: «Песнь о Роланде», пересказ для детей размером «Песен западных славян», Эренбург написал предисловие и помог издать – Франция считалась тогда союзником.
О стихе «Песен западных славян» Пушкина он писал еще в 1915 году, писал и все десять своих последних лет. Несколько статей были напечатаны в журнале «Русская литература». Большие, со статистическими таблицами, выглядели они там очень необычно, но редактор В. Г. Базанов (писатели-преддекабристы, северный фольклор) был человек хрущевской непредсказуемости. Бобров ему чем-то понравился, и он открыл ему зеленую улицу. Литературоведы советской формации были недовольны, есениновед С. Кошечкин напечатал в «Правде» заметку «Пушкин по диагонали» (диагональ квадрата статистического распределения – научный термин, но Кошечкин этого не знал). Сорок строчек в «Правде» – не шутка, Бобров бурно нервничал, все его знакомые писали защитные письма в редакцию, даже академик А. Н. Колмогоров.
Колмогоров в это время, около 1960 года, заинтересовался стиховедением, этот интерес очень помог полузадушенной науке встать на ноги и получить признание. Еще Б. Томашевский в 1917 году предложил исследовать ритм стиха, конструируя по языковым данным вероятностные модели стиха и сравнивая их с реальным ритмом. Колмогорову, математику-вероятностнику с мировым именем, это показалось интересным. Он усовершенствовал методику Томашевского, собрал стиховедческий семинар, воспитал одного-двух учеников-стиховедов. Бобров ликовал. А дальше получился парадокс. Колмогоров, профессиональный математик, в своих статьях и докладах обходился без математической терминологии, без формул, это были тонкие наблюдения и точные описания вполне филологического склада, только с замечаниями, что такой-то ритмический ход здесь неслучаен по такому-то признаку и в такой-то мере. Математика для него была не ключом к филологическим задачам, а дисциплиной ума при их решении. А Бобров, профессиональный поэт, бросился в филологию в математическом всеоружии, его целью было найти такую формулу, такую функцию, которая разом описывала бы все ритмические особенности такого-то стиха. Томашевский и Колмогоров всматривались в расхождения между простой вероятностной моделью и сложностью реального стиха, чтобы понять специфику последнего, – Бобров старался построить такую сложнейшую модель, чтобы между нею и стихом никакого расхождения бы вовсе не было. Колмогоров очень деликатно говорил ему, что именно поэтому такая модель будет совершенно бесполезна. Но Бобров был слишком увлечен.
Здесь и случился эпизод, когда Бобров едва не выгнал меня из дому.
В «Мальчике» Боброва не раз упоминается книга, которую он любил в детстве, – «Маугли» Киплинга, и всякий раз в форме «Маули»: «Мне так больше нравится». Не только я, но и преданная Мария Павловна пытались заступиться за Киплинга – Бобров только обижался: «Моя книга, как хочу, так и пишу» (дословно). Такое же личное отношение у него было и к научным терминам. Увлеченный математикой, он оставался футуристом: любил слова новые и звучные. Ритмические выделения он называл «литавридами», окончания стиха – «краезвучиями», а стих «Песен западных славян» – «хореофильным анапестоморфным трехдольным размером». Очень хотел применить к чему-нибудь греческий термин «сизигия» – красиво звучал и ассоциировался с астрономией, которую Бобров любил. Громоздкое понятие «словораздел» он еще в 1920‐х годах переименовал по-советски кратко – «слор». Мне это нравилось. Но потом ему понадобилось переименовать еще более громоздкое понятие «ритмический тип слова» (двухсложное с ударением на первом слоге, трехсложное с ударением на третьем слоге и т. п.): именно после таких слов, справа от них, следовали словоразделы-слоры. Он стал называть словоразделы-слоры «правыми слорами», а ритмические типы слов (сперва устно, а потом и письменно) – «левыми слорами». Слова оказались названы словоразделами: это было противоестественно, но он уже привык.
Колмогоров предложил ему написать статью для журнала «Теория вероятностей» объемом в неполный лист. Бобров написал два листа, а сократить и отредактировать дал мне. Я переделал в ней все «левые слоры» в «ритмотипы слов», чтобы не запутать читателя. Отредактированную статью я дал Боброву. Он, прочитавши, вынес мне ее, брезгливо держа двумя пальцами за уголок: «Возьмите, пожалуйста, эту пародию и больше ее мне не показывайте». Все шло к тому, чтобы тут моим визитам пришел конец. Но статью нужно было все-таки обработать для печати. Я был позван вновь, на этот раз в паре с математиком А. А. Петровым, учеником Колмогорова, удивительно светлым человеком; он потом умер от туберкулеза. Мы быстро и согласно сделали новый вариант, сохранив все «левые слоры» и только внятно оговорив, что это не словоразделы, а слова. Бобров был не очень доволен, но работу принял, и Колмогоров ее напечатал.
От этой статьи пошла вся серия публикаций в «Русской литературе», а потом и большая книга. Книгу он сдал в издательство «Наука», но издательство не спешило, а Бобров уже не мог остановиться в работе и делал новые и новые изменения и дополнения. Когда редактор смог взяться за рукопись, оказалось, что она уже устарела, а новый вариант ее был еще только кипящим черновиком. Работу отложили, книга так и не вышла. Материалы к ней легли в архив, но из них невозможно выделить никакую законченную редакцию: сам Бобров в последние годы уже не мог свести в них концы с концами.
Сосед Боброва по писательскому дому Ф. А. Петровский, мой шеф по античной литературе, спросил меня: «А вы заметили, в какой подробности устарел силуэт Кругликовой?» Я не знал. «Там у Боброва в руке папироса, а теперь у него в прихожей казенная вывеска: „Не курить“». При мне Бобров уже не курил, не ел сладкого – у него был диабет. Полосы бурной активности, когда он за неделю писал десятки страниц, чередовались с полосами вялого уныния. Кажется, это бывало у него всю жизнь. («Вы недовольны собой? да кто ж доволен собой, кроме Эльснера?» – писал ему еще в 1916 году Аксенов.) Однажды среди стиховедческого разговора он спросил меня: «Скажите, знаете ли вы, что такое ликантропия?» – «Кажется, оборотничество?» – «Это такая болезнь, которой страдал царь Навуходоносор». – «А-а». – «Вы ничего не имели бы против, если бы я сейчас немного постоял на четвереньках?» – «Что вы!» Он встал на коврик возле дивана, постоял минуту, встал, сел и продолжал разговор.
«Сколько вам лет?» – спросил он меня однажды. «Двадцать семь». – «А мне семьдесят два. Я бы очень хотел переставить цифры моего возраста так, как у вас». Он умер, когда ему шел восемьдесят второй, это было в 1971 году.
С. С. АВЕРИНЦЕВ
Из разговоров Аверинцева
Разговоры эти начались почти пятьдесят лет назад. Я учился на последнем курсе классического отделения, а он на первом. Ко мне подошел высокий застенчивый молодой человек и спросил моего мнения, почему имя такого-то пифагорейца отсутствует в списке Ямвлиха. Я честно сказал, что никакого мнения на этот счет не имею. Знакомство состоялось, рекомендации были предъявлены самые авторитетные – от Пифагора. Как этот первый разговор продолжался дальше, я не помню. Второй разговор, через несколько дней, был проще: собеседник попросил помочь перевести ему фразу с первой страницы латинского учебника. Это была строчка из «Энеиды»: Non ignara mali, miseris succurrere disco. Я ее очень люблю, он оказался тоже к ней неравнодушен. Думаю, что это единственный раз я в чем-то помог Аверинцеву: потом уже помощь была только от него – мне.
Когда-то мы обещали друг другу написать некрологи друг о друге. Мне очень не хотелось выступать в этом жанре. Я хотел только пересказать кое-что из его суждений на разные темы – то, что запомнилось или записалось. Односторонний интерес к темам целиком на моей совести. Стиль – тоже: это не стенограммы, а конспекты. Сенеке случалось мимоходом пересказывать несколько фраз Цицерона (специалисты знают эти места), – так вот, стиль этих записей относится к настоящему стилю Аверинцева так, как стиль Сенеки к стилю Цицерона. Кое-что из этого вошло потом в опубликованные им работы. Но мне это лучше запомнилось в том виде, в каком проговаривалось в беседах или докладах задолго до публикаций.
«Античная пластика? Пластика – совсем не универсальный ключ к пониманию античности, скорее уж ключ – это слово. Средневековье из античной культуры усваивало именно словесность. Это теперь античность – зримая и молчащая, потому что туристов стало больше, а знающих язык – меньше».
«Романтизм насильственно отвеял из античности ее рационалистичность, и осталась только козьмопрутковская классика – „Древний пластический грек“, „Спор древних греческих философов об изящном“». (Теперь мне самому пришлось читать курс «Античность в русской поэзии конца XIX – начала ХX века» – и начинать его именно со «Спора философов об изящном».)
«Пушкин стоит на переломе отношения к античности как к образцу и как к истории, отсюда его мгновенная исключительность. Такова же и веймарская классика».
«Мы уже научились легко говорить „средневековый гуманист“; гораздо труднее научиться говорить (и представлять себе): „ренессансный аскет“, как Томас Мор».
«Риторика есть продолжение логики другими средствами». (Да, риторика – это не значит говорить не то, что думаешь; это значит: говорить то, что думаешь ты, но на языке тех, кто тебя слушает. Будем ли мы сразу подозревать в неискренности человека, который говорит по-английски? Некоторым хочется.)
«Пока похвала человеку и поношение человека розданы двум собеседникам, это риторика; когда они совмещаются в речи Гамлета, они уже не риторика».
«Верлену была нужна риторика со свернутой шеей, но все-таки риторика».
«Время выражается словами чем дальше, тем косвеннее: чем лет двадцать назад возмущались словесно, сейчас возмущаются в лучшем случае пожатием плеч». – «А в прошлом?» – «Может быть, все Просвещение, erklährte Aufklährung, и было попыткой высказать все словами».
«Новаторство – это традиция ломать традиции».
«В „Хулио Хуренито“ одно интеллигентное семейство в революцию оплакивает культурные ценности, в том числе такие, о которых раньше и не думали: барышня Леля – великодержавность, а гимназист Федя – промышленность и финансы. Вот так и Анна Ахматова после революции вдруг почувствовала себя хранительницей дворянской культуры и таких традиций, как светский этикет <…> А у Надежды Яковлевны точно таким же образом слагался ретроспективный миф о гимназическом образовании, при котором Мандельштам даже с фрагментами Сапфо знакомился не по переводам Вяч. Иванова, а прямо на школьной скамье».
«Мне бы хотелось написать рефутацию историософии Пастернака в „Охранной грамоте“: венецианская купеческая республика осуждается человеком 1912 года, окруженным Европой 1912 года, то есть той самой разросшейся купеческой республикой, с выводом: к счастью, искусство к этому не имело никакого отношения».
«Как Пастернак был несправедлив к Венеции и буржуазии, так В. Розанов – к журналистике: не тем, что бранил ее, а тем, что бранил ее не как журналист, а как некто высший. Каждый из нас кричит, как в „Русалке“: „Я не мельник, я ворон!“ – поэтому ворóн летает много, а мельница не работает».
В. С. сказал о нем: «Аверинцев по-современному всеяден, а хочет быть классически монокультурен». Я присутствовал при долгой смене его предпочтений – этой погоне вверх по лестнице вкусов с тайными извинениями за прежние приязни. Его дразнили словами Ремигия к Хлодвигу: «Фьер сикамбр, сожги то, чему поклонялся…» Но сжигать без сожаления он так и не научился.
«Я все чаще думаю, что пока мы ставим мосты над реками невежества, они меняют свое русло, и новое поколение входит в мир вообще без иерархических априорностей».
«Вам на лекциях присылают записки не по теме?» – «Нет, я слишком зануда». – «А мне присылают. Прислали: верите ли Вы в Бога? Я ответил однозначно, но сказал, что здесь, на кафедре, я получаю зарплату не за это».
«В нашей культуре то нехорошо, что нет места для тех, кто к ней относится не прямо, а косвенно, – для меня, например. В Англии нашлось бы оберегаемое культурой место чудака».
У него попросили статью для «Советской культуры». Он отказался. Посланная сказала: «Мне обещали: если вы напишете, меня возьмут в штат». Он согласился.
«Как ваш сын?» – спросил он меня. «Один день ходил в школу и опять заболел; но это уже норма, а не исключение». – «Ведь, наверное, о нем, как и обо мне в его возрасте, больше приходится тревожиться, когда он в школе, чем когда он болен?»
У него росла дочь. «Я думаю, с детьми нужно говорить не уменьшительными, а маленькими словами. Я бы говорил ей: пес, но ей, конечно, говорят: собачка». Ничего, сама укоротит.
«Сперва я жалел, а потом стал радоваться, что мои друзья друг на друга непохожи и нетерпимы и поэтому невозможен никакой статичный Averinzev-Kreis».
«Как вы живете?» – спросил он. «Я – в беличьем колесе, а вы, как я понимаю, под прессом?» – «Да, если угодно, вы Иксион, а я Сизиф».
Мы с ним очень много лет работали в одном институте и секторе. Привык он к обстановке не сразу. Как-то на общеинститутском собрании, сидя в дальнем ряду, мы слушали одного докладчика. С. Ав. долго терпел, потом заволновался и шепотом спросил: «Неужели этот человек существует в самом деле?» Я ответил: «Это мы с вами, Сережа, существуем как воля и представление, а в самом деле существует именно он». Аверинцев замолчал, но потом просительно сказал: «Можно я покажу ему язык?» Я разрешил: «Можно». Он на мгновение высунул язык трубочкой, как нотрдамская химера, и после этого успокоился.
Во время другого похожего выступления он написал мне записку латинскими буквами: «Kogo on chočet s’est’?» Я ответил греческими буквами: «ΝΑΒΕΡΝΟΕ, ΝΑΣ Σ ΒΑΜΙ, ΝΟ ΝΕ Β ΠΕΡΒΟΥΙΟΥ ΟΤΣΕΡΕ∆’».
Еще на одном собрании он тихо сказал мне: «Вот так и в византийской литературе: там когда авторы спорят между собою, то они настолько укоренены в одном и том же, что трудно понять, о чем спор. Морально-политическое единство византийской литературы. Мы лучше приспособлены к пониманию этого предмета, чем западные византинисты».
Я заведовал античным сектором в Институте мировой литературы, потом уволился, и заведовать стал С. Ав. Ни охоты, ни вкуса к этому занятию у нас одинаково не было. С. Ав. сказал: «Наш покровитель – св. Целестин: это единственный римский папа, который сложил сан, когда увидел, что был избран только для политической игры. Избрали нового, и это был Бонифаций VIII».
«Я понимаю, что мы обязаны играть, но не обязаны же выигрывать!» Кажется, это сказал я, но ему понравилось.
«Миша, мне кажется, что мы очень многих раздражаем тем, что не пытаемся съесть друг друга». – «И мне так кажется».
Его все-таки приняли в Союз писателей, хотя кто-то и посылал на него в приемную настойчивые доносы. На официальном языке доносы назывались «сигналами», а на неофициальном «телегами». «В прошлом веке было слово доносчик, а теперь? сигнальщик?» «Тележник», – сказал я. – «А я думал, что телега (этимологически) это только о том, что связано с выездами и невыездами».
При первых своих заграничных командировках он говорил: «Посылающие меня имеют вид тоски, позабавленности и сочувствия».
Возвращаясь, он со вкусом пересказывал впечатления от разницы местных культур. «Ехал я в Швейцарию, а возвращаюсь из Женевы – это совсем разные вещи». «Итальянский коллега мне сказал: напрасно думают, что монашеский устав – норма для соблюдения; он – идеал для вдохновения. Если в уставе написано, что в такой-то момент мессы все должны подпрыгнуть на два метра, а вы подпрыгнете на 75 сантиметров, то в Баварии вам сделают выговор за нарушение устава, а у нас причтут к святым за приближение к идеалу». Однажды я усомнился, что австрийская культура существует отдельно от немецкой. «Мой любимый анекдот 1918 года, – сказал С. Ав. – Сидят в окопе берлинец и венец; берлинец говорит: „Положение серьезное, но не безнадежное“ – „Нет, – говорит венец, – положение безнадежное, но не серьезное“». В самые последние годы нам все чаще приходилось вспоминать эти реплики.
«Купол св. Петра – все другие купола на него похожи, а он на них – нет».
«Римская культура – открыта, римские развалины вродились в барочный Рим. А греческая – самозамкнута, и Парфенон, повернутый задом к входящему на акрополь, – это все равно, что Т. М., которой я совсем не нужен». (Здесь была названа наша коллега, прекрасный человек и ученый, которая, однако, и вправду ни в чем не соприкасалась с тем, что делал С. Ав.) «А разве это исключение, а не норма?» – спросил я.
«При ошибках в языке собеседник-француз сразу перестает тебя слушать, англичанин принимает незамечающий вид, немец педантически поправляет каждое слово, а итальянец с радостью начинает ваши ошибки перенимать».
Когда у него была полоса любви к Хайдеггеру, он уговаривал меня: «Почитайте Хайдеггера!» Я отвечал, что слишком плохо знаю немецкий язык. «Но ведь Хайдеггер пишет не по-немецки, а по-хайдеггеровски!»
«Мне кажется, для перевода одного стихотворения нужно знать всего поэта. Когда я переводил Готфрида Бенна, мне случалось переносить в одно стихотворение образы из другого стихотворения. [Его редактор рассказывал мне, как с этим потом приходилось бороться.] По отношению к каждому стихотворению ты определяешь дистанцию точности и выдерживаешь ее. И если даже есть возможность и соблазн в таких-то строчках подойти к подлиннику ближе, ты от этого удерживаешься».
«Тракль так однообразен, что перевести десять его стихотворений легче, чем одно».
«Евангелие в переводе К. – это вроде переводов Маршака, Гинзбурга и Любимова».
«Переводить плохие стихи – это как перебелять черновики. Жуковский любил брать для перевода посредственные стихи, чтобы делать из них хорошие. Насколько это лучше, чем плохие переводы хороших стихов!»
«Ин. Анненский должен был испытывать сладострастие, заставляя отмеренные стих в стих фразы Еврипида выламываться по анжамбманам». Да, античные переводы Анненского садистичны, а Фета – мазохичны; но что чувствовали, переводя, Пастернак или Маршак, не сомневавшиеся в своей конгениальности переводимым?
«Тибулл в собственных стихах и в послании Горация совершенно разный, но ни один не реальнее другого, – как одно многомерное тело в разных проекциях».
«Киркегор торгуется с Богом о своей душе, требуя расписки, что она дорого стоит. Это виноградарь девятого часа, который ропщет».
«Честертон намалевал беса, с которым [надо] бороться, а Борхес сделал из него бога».
«Бенн говорил на упрек в атеизме: разве я отрицаю Бога? я отрицаю такое свое Я, которое имеет отношение к Богу».
Ему неприятно было, что Вяч. Иванов и Фофанов были ровесниками («Они – из разных эонов!») и что Вл. Соловьев, в гроб сходя, одновременно благословил не только Вяч. Иванова, но и Бальмонта.
«Как слабы стихи Пастернака на смерть Цветаевой – к чести человеческого документа и во вред художественному! …Жорж Нива дал мне анкету об отношении к Пастернаку; почему в ней не было вопроса: если Вы не хотите отвечать на эту анкету, то почему?».
«Мне всегда казалось, что слово „акмеизм“ применительно к Мандельштаму только мешает. Чем меньше было между поэтами сходства, тем громче они о нем кричали. Я пришел с этим к Н. Я. „Акмеистов было шестеро? но ведь Городецкий – изменник? но Нарбут и Зенкевич – разве они акмеисты? но Гумилев – почему он акмеист?“ Н. Я.: „Во-первых, его расстреляли, во-вторых, Осип всегда его хвалил…“ – „Достаточно! А Ахматова?“ Н. Я. произносит тираду в духе ее „Второй книги“. Так не лучше ли называть Мандельштама не акмеистом, а Мандельштамом?»
«Игорь Северянин, беззагадочный поэт в эпоху, когда каждому полагалось быть загадочным, на этом фоне оказывался самым непонятным из всех. Как у Тютчева: „природа – сфинкс“ и тем верней губит, что „никакой от века загадки нет и не было у ней“».
«Когда Волошин говорил по-французски, французы думали, что это он по-русски? У него была патологическая неспособность ко всем языкам, и прежде всего к русскому! Преосуществленье!»
«Шпет – слишком немец, чтобы писать несвязно, слишком русский, чтобы писать неэмоционально; достаточно немец, чтобы смотреть на русский материал со стороны, достаточно русский, чтобы…» Тут разговор был случайно прерван.
«Равномерная перенапряженность и отсутствие чувства юмора – вот чем тяжел Бердяев».
Разговор об А. Ф. Лосеве (сорокалетней давности). «Он не лицо и маска, он сложный большой агрегат, у которого дальние колеса только начинают вращаться, когда ближние уже остановились. Поэтому не нужно удивляться, если он начинает с того, что только диалектический материализм дает возможность расцвета философии, а кончает: „Не думаете же вы, будто я считаю, что бытие определяет сознание!“»
«Вы неточны, когда пишете, что нигилизм Бахтина – от революции. У него нигилизм не революционный, а предреволюционный. В том же смысле, в каком Н. Я. М. пишет, будто символисты были виновниками революции».
«Бахтин – не антисталинское, а самое сталинское явление: пластический смеховой мир, где все равно всему, – чем это не лысенковская природа?»
«Был человек, секретарствовавший одновременно у Лосева и Бахтина; и Лосев на упоминания о Бахтине говорил: „Как, Бахтин? разве его кто-нибудь еще читает?“ – а Бахтин на упоминания о Лосеве: „Ах, Ал. Фед., конечно! как хорошо! только вот зачем он на философские тетради Ленина ссылается? мало ли какие конспекты все мы вели, разве это предмет для ссылок?“»
«Отсутствие ссылок ни о чем не говорит: Бахтин не ссылался на Бубера. Я при первой же встрече (к неудовольствию окружающих) спросил его – почему; он неохотно ответил: „Знаете, двадцатые годы…“ Хотя антисионизм у нас был выдуман позже».
«Бубера забыли: для одних он слишком мистик, для других недостаточно мистик. В Иерусалиме показать мне его могилу мог только Шураки. Это такой алжирский еврей, сделавший перевод Ветхого Завета, – а для справедливости и Нового, и Корана. Это переводы для переводчиков, читать их невозможно, но у меня при работе они всегда под локтем. Так забудут и Соловьева: для одних – слишком левый, для других – слишком правый».
«На своих предшественников я смотрю снизу вверх и поэтому вынужден быть резким, так как не могу быть снисходительным».
Одному автору он сказал, что феодализм в его изображении слишком схематичен, тот обиделся. «Можно ли настолько отождествлять себя с собственными писаниями?!»
«Вы заметили у Н. фразу: „символисты впадали в мистику, и притом католическую“? Как лаконично защищает он сразу и чистоту атеизма, и чистоту православия!»
«В какое время мы живем: В., мистик, не выходящий из озарения, выступает паладином точнейшего структурализма, а наш П. – продолжателем Киреевского!»
«Была официальная антропофагия с вескими ярлыками, и был интеллигентский снобизм; синтезировалась же инвективная поэтика самоподразумевающихся необъявленных преступлений. Происходит спиритуализация орудий взаимоистребления».
«Нынешние религиозные неофиты – самые зрелые плоды сталинизма. Остерегайтесь насаждать религию силой: нигилисты вырастали из поповичей».
«Необходимость борьбы против нашей национальной провинциальности и хронологической провинциальности».
Он сдал в журнал статью под заглавием «Риторика как средство обобщения», ему сказали: «В год съезда такое название давать нельзя». Статью напечатали под заглавием «Большая судьба маленького жанра».
«История недавнего – военного и околовоенного – времени: 80 процентов общества не желает ее помнить, 20 процентов сделали память и напоминание о ней своей профессией. А вот о татарах или об Иване Грозном помнили все поголовно и без напоминания».
«Сталинский режим был амбивалентен и поэтому живучее гитлеровского: Сталин мог объявить себя отцом евреев или антимарровцем, а Гитлер – за А говорить только Б. „Кто здесь еврей, решаю я“ – это приписывается Герингу, но сказано было в начале века венским К. Люгером, заигрывавшим одновременно с антисемитами и евреями».
«Становление и конец тоталитаризма одинаково бьют по профессионализму и поощряют дилетантизм: всем приходится делать то, чему не учились».
«Современной контркультуре кажется, что 60‐е годы были временем молодых, а нам, современникам, казалось, что это было время оттаявших пятидесятилетних».
Он обиделся, когда его назвали «человеком 70‐х годов». Я удивился: а разве были такие годы?
Его выбрали народным депутатом. «Я вспоминал строчку Лукана: Мил победитель богам, побежденный любезен Катону! – и чувствовал себя Катоном тринадцать дней, когда на съезде ни разу не проголосовал с большинством».
«На Межрегиональной группе депутатов я однажды сказал: мы здесь не единомышленники, а товарищи по несчастью, поэтому…».
«А. Д. Сахаров составил свой проект конституции, первым пунктом там значилось: „Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и счастье“. В предпоследнем разговоре я сказал ему: „Права на счастье государство гарантировать не может“. – „Но ведь это, кажется, есть в американской конституции?“ – „Нет, в американской Декларации“ (и то не „счастье“, а „стремление к счастью законными способами“). Текст изменили. В самом деле, гарантировать можно разве только честь и достоинство, да и то бывает очень трудно: например, александрийские евреи очень боролись за то, чтобы их секли так-то и так-то, – не оттого, что менее болезненно, а оттого, что менее унизительно».
«Пушкин был слишком эгоцентрист, когда написал Чаадаеву, что не хотел бы себе отечества с иной судьбой. Себе – может быть, а отечеству он мог бы пожелать судьбу и получше».
И вместо заключения: «Нам с вами, Миша, уже поздно писать воспоминания…»
К сожалению, из нас двоих первым умер С. Аверинцев, и некролог пришлось писать мне. Вот он.
Сергей Сергеевич Аверинцев
Сергей Сергеевич Аверинцев был филолог – Филолог с большой буквы, как сказали бы в полуказенном стиле недавних времен. Конечно, он был гораздо больше чем филолог. На нынешнем языке следовало бы сказать: культуролог. Но это слишком нынешнее слово, и Аверинцев его не любил. Не в последнюю очередь потому, что в нем не было той этимологии, которая есть в слове «филология». Филология – значит любовь к слову. Из всех русских -логий это единственная, в которой есть корень «любовь». Это и придает науке филологии особое измерение – человеческое. О нем Аверинцев писал в статье «Похвала филологии» – когда он в 1968 году получил премию Ленинского комсомола за свою работу о Плутархе и едва ли не в первый раз был приглашен выступить в массовой печати; об этом же он писал и в фундаментальной статье «Филология» для Литературной энциклопедии.
Любовь – опасный соблазн: когда этимология разрешает человеку что-то любить, он тотчас ищет в этом права чего-то не любить. Этот соблазн был чужд Аверинцеву: филолог должен любить всякое слово, а не только избранное. Мне дорога его реплика: «Как жаль, что мы не в силах все вместить и все любить». Мало того, когда разрешено любить, то кажется, что разрешено и внушать, навязывать эту любовь своим ближним и дальним. Этого соблазна он тоже избегал: в предисловии к книге «Поэты», к десяти замечательным признаниям в любви к писателям от Вергилия до Честертона, он писал: «Я надеюсь, что читатель не причтет меня к числу заклинателей и гипнотизеров от гуманитарии – хотя бы потому, что у меня нет той нечеловеческой уверенности в себе, которая обличает последних». Это не случайные слова: молодые слушатели, толпами стекавшиеся на его выступления, радовались подпасть именно под такой гипноз. Но сам он совсем не был этому рад. Он говорил: «Кончая лекцию, мне всегда хочется сказать: а может быть, все совсем наоборот».
Любить – это большая ответственность. У каждого любящего возникает в сознании образ «мой Пушкин» (и т. п.), но не каждый умеет помнить, что настоящий Пушкин больше и важнее этого «моего». В том же предисловии к «Поэтам» Аверинцев писал: «Мне хотелось не столько сделать их „моими“, сколько самому сделать себя – „их“». Не так важно, нравится ли Вергилий нам; важнее, понравились ли бы мы Вергилию. Причастность культуре требует от нас смирения, а не самоутверждения. Он говорил: «Рассуждать о падении культуры бесполезно, пока мы не научимся видеть истинных врагов культуры в самих себе». Филология – это универсальное знание, вырастающее из текстов, но возвращающееся к ним в смиренной заботе о понимании. Филология – это служба общения культур; но она не притворяется диалогом. Прошлые культуры не имели в виду нас и не разговаривают с нами. Филолог – не собеседник прошлой культуры, а скромный толмач при ней, пересказывающий слова, не к нему и не к нам обращенные.
Склад его характера был закрытый, монологический, даже с кафедры не наставляющий, а подающий пример для самостоятельной мысли. «Мысль не притворяется движущейся, она дает не указание пути, а образец поступи. Хорошо, когда читатель дочитывает книгу с безошибочным ощущением, что теперь он не знает больше, чем не знал раньше». Но добиться этого ощущения у читателей – и особенно у слушателей – ему решительно не удавалось: наоборот, всех переполняло ощущение окрыляющего понимания. Тому были свои причины. С культурами мы знакомимся, как с людьми: сперва видим в них сходство с нами, а потом отличия от нас. Рассказывая об этих культурах, Аверинцев начинал сразу со второй стадии – с высокой планки знакомства. Поэтому они рисовались необычными, загадочными и пленительными: чудом понятыми. Эту иллюзию чуда переживал каждый, кто слышал его лекции и публичные выступления.
Эти памятные выступления привлекали народ, как при риторах Второй софистики. Он очень хорошо говорил – так, как только и можно при таком ощущении ответственности перед словом. «При советской власти так хорошо говорить уже было диссидентством», – писал младший современник. Я был на первых разрешенных ему лекциях – на историческом факультете, по византийской эстетике. Он ставил очень высокую планку, эти лекции понятны были немногим, но ощущение причастности к большой науке и большой культуре было у всех. Он не радовался такому эффекту, но понимал, что это нужно людям. Он писал: «История литературы – не просто предмет познания, но одновременно шанс дышать „большим временем“, вместо того чтобы задыхаться в малом». Вот это ощущение дыхания большим временем передавалось слушателям безошибочно. Им казалось, что это главное. Но для Аверинцева, для филолога, для толмача мировой культуры, это все-таки не было главным.
Слово – это мысль, любовь к слову – это чувство. Соотношению их в слове учит наука риторика – та, о которой Аверинцев писал так много и настойчиво. У Аверинцева было редчайшее качество, которое знали только близкие собеседники: он точно знал, говорит ли он в данный момент как человек мыслящий, с доказательствами, или как человек чувствующий, с убеждением. В публичных выступлениях оно терялось. Его аудитория, утомленная позднесоветской догматичностью, пленялась иррациональной одушевленностью и пропускала мимо слуха рациональную строгость. Его глубочайшее уважение к европейскому рационализму, родившемуся из риторики, не находило отклика у читателей и слушателей. Спрос был не на Аристотеля, а на Платона. Аверинцев очень много сделал для русского Платона: он перевел «Тимея». Но в последние годы он говорил: «Меня огорчает нынешняя мода на Платона. Поэтому мне все больше хочется написать апологию Аристотеля. Платон современен, а Аристотель актуален». И писал: «Теория слишком долго была поглощена тем, чтобы объяснить для образованного любителя почитавшееся самым непонятным: архаику и авангард. Похоже, что мы дожили до времен, когда Вергилий и Рафаэль стали непонятнее того и другого, а потому более нуждаются в объяснениях».
Все, что мы знаем, – по крайней мере все, в чем мы можем сами дать себе отчет, который называется «рефлексия» и которого многие, по романтической привычке, так не любят, – все это мы знаем через слово. Это слово не бесплотно: у него есть грамматика, стилистика, поэтика, риторика. Не зная этой органики слова, мы напрасно будем воображать, что постигаем какой бы то ни было дух. Как широко и высоко ни простирались мысли Аверинцева в этой области духа, связь со словом не терялась никогда. Это не всем казалось нужным. Он считал себя учеником А. Ф. Лосева, и Лосев очень ценил его, но говорил: «Только зачем он занимается такими пустяками, как поэтика?»
«К нему приходили за универсальной духовностью», – было сказано в одной статье. Это так. Но лозунгового слова «духовность» я за многие годы разговоров не слышал от Аверинцева ни разу. В книгах его оно попадается, но редко. Потому что Духовность раскрывается нам только через Словесность. И понять слово, несущее духовность, можно только через склонения риторики и спряжения поэтики. Их недостаточно чувствовать: им нужно учиться, а научившись, учить им других. Он говорил мне: «У нас с вами в науке не такие уж непохожие темы: мы все-таки оба говорим о вещах обозримых и показуемых». Выражаться иррационально, пользоваться словом для заклинания и гипноза – это значит употреблять слово не по настоящему назначению. Когда чья-нибудь метафора начинала самоутверждаться, притязая на всеобъясняющий смысл, – например, что греческая культура пластична, а всякая культура диалогична, – он умел унять ее здравым переспросом. Не нужно бояться рефлексии: она не отчуждает, она приближает. Избегать рациональности, избегать рефлексии – значит отдаляться от взаимопонимания: иррационализм опасен. «Нынче в обществе нарастает нелюбовь к двум вещам: к логике и к ближнему своему» – это вещи взаимосвязанные.
«История духа и история форм духа – разные вещи: христианство хотело быть новым в истории духа, но нимало не рвалось быть новым в истории таких его форм, как риторика». Причастность к засловесному духу и к словесным формам духа сосуществовали в нем, не подменяя друг друга. Божье слово тоже имело свою поэтику и риторику. Он не спросил бы, как Карл Краус: «Если в начале было Слово, то на каком языке?» – но понял бы этот вопрос. Вера без слов мертва есть.
Он не отождествлял христианства с православием, и многим это не нравилось. «Он не был духовным конформистом», – с пониманием писал он про Григория Нарекаци. В лучшей статье, которую я о нем читал, было сказано: «В других условиях такой человек, как Аверинцев, мог бы, наверно, возглавить какую-нибудь церковную реформу: в нем присутствует как необходимый для всякой религии традиционализм, так и полнейшая незашоренность, бескомпромиссная отвага мысли, не говоря уж о знаниях. Но, видно, время Аверинцева для русского православия еще не наступило».
Первая его книга была о традиционном Плутархе, вторая о малоизведанной византийской поэтике, третья о христианском интернационале «от Босфора до Евфрата». Параллельно, как что-то саморазумеющееся, раскрывалась Европа, от Юнга, Шпенглера и Хёйзинги до Брентано и Си-Эс Льюиса; и Россия, до Мандельштама и Вячеслава Иванова. Казалось естественным, что во всем этом он был как дома; мало кто верил, что свой немецкий язык он знал не отроду, а только со студенческих лет. «Сейчас переводят таким слогом, как будто русский язык уже мертвый и его нужно гальванизировать», – говорил он с обидою о переводах, где стилем считалось употребление «сей» и «коий». Когда за три года до смерти он позволил себе напечатать свои «Стихи духовные», это тоже были стихи филолога: он не изменил своей сути, даже входя в тот мир – и в духовное, и в стихи, – где о филологии у нас принято забывать. (Стихи Вячеслава Иванова тоже были стихами филолога.)
И последней его работой был перевод и комментарий к синоптическим Евангелиям.
Я говорю о том, какой это был большой ученый. Я не могу говорить о том, какой это был большой человек: для этого человеческого измерения моя филология не имеет слов. «О чем нельзя сказать, о том следует молчать». Те, кому выпало счастье расти, слушая его выступления и читая его статьи и книги, расскажут о том, как это помогало им выживать в нелучшие годы советской жизни. Я могу лишь сказать, что быть рядом с ним и видеть, как он сам рос и становился самим собой, было, может быть, еще большим счастьем, радостью и жизненным уроком.
Филологов много, Аверинцев был один. Потому что сейчас больше ни у кого между нами нет такого целомудренного ощущения человеческого измерения филологии – связи между человеком и тем, что больше человека: словом и Словом.
ИЗ АНКЕТ И ИНТЕРВЬЮ
В конце XIX – начале XX века была такая модная салонная игра – отвечать на анкеты. Одну такую анкету, которую, говорят, дважды заполнял Марсель Пруст, мне предложила моя немецкая коллега Мария-Луиза Ботт на конференции о Пастернаке в Марбурге весной 1991 года. Самое трудное – отнестись к такой анкете серьезно. Трудности привлекают; я старался.
1. Что для Вас самое большое несчастье? – Сделать подлость
2. Где Вам хочется жить? – Взаперти
3. Что для Вас совершенное земное счастье? – Делать свое дело
4. Какие недостатки Вы извиняете скорее всего? – Беззлобные
5. Ваши любимые герои в романах? – Князь Мышкин
6. Ваша любимая фигура в истории? – Сократ
7. Ваши любимые героини в действительности? – Не встречал
8. Ваши любимые героини в литературе? – Тоже
9. Ваш любимый художник? – Рембрандт и Мондриан
10. Ваш любимый композитор? – Нет
11. Какие свойства Вы цените больше всего в мужчине? – Ясность ума
12. Какие свойства Вы цените больше всего в женщине? – Спокойствие сердца
13. Ваша любимая добродетель? – Нет
14. Ваше любимое занятие? – Книги
15. Кем или чем Вам хотелось бы быть? – Человеком
16. Главная черта Вашего характера? – Робость
17. Что Вы цените больше всего в Ваших друзьях? – Непохожесть на меня
18. Ваш главный недостаток? – Бесчувственность
19. Ваша мечта о счастье? – Отдых в могиле
20. Что для Вас было бы самым большим несчастьем? – См. вопрос № 1
21. Кем Вам хочется быть? – См. вопрос № 15
22. Ваш любимый цвет? – Синий
23. Ваш любимый цветок? – Нет
24. Ваша любимая птица? – Der Zaunkönig (королек из басни Гриммов)
25. Ваш любимый писатель? – Пушкин
26. Ваш любимый лирик? – Верлен
27. Ваши герои в действительности? – Не встречал
28. Ваши герои в истории? – Оставшиеся неизвестными
29. Ваши любимые имена? – Constantia
30. Что Вы презираете больше всего? – Ничего
31. Какие исторические фигуры Вы презираете больше всего? – Никого
32. Какие военные достижения Вы уважаете больше всего? – Того генерала, которому поставили памятник за то, что он не пролил ничьей крови
33. Какие реформы Вы уважаете больше всего? – Нужные
34. Каким естественным даром Вам хотелось бы обладать? – Добротой
35. Как Вам хочется умереть? – Вовремя
36. Ваше теперешнее расположение духа? – Усталость
37. Ваш девиз? – На лицевой стороне: «Non ignara mali, miseris succurere disco» (Горе я знаю – оно помогать меня учит несчастным – из «Энеиды»); на оборотной: «Возьми все и отстань» (из Салтыкова-Щедрина).
На что, по-Вашему, больше всего похожа эта анкета? – На разговор Панурга с Фредоном.
Из интервью
– Какая, по-Вашему, связь между наукой и идеологией?
– Идеология как система навязываемых взглядов существует всегда, если не как догма, то как мода. Я могу выделить и то, что во мне от марксизма, и то, что от реакции на него. Моим стиховедению и общей поэтике одинаково неуютно и в советском, и в послесоветском идеологическом климате: там они слишком далеки от обязательной идейности, тут – от обязательной духовности. Сказать то, что ты хочешь сказать в науке, можно всегда: на то мы и учимся риторике. Смена режима сказалась в том, что раньше мне нужно было треть сил тратить на риторические способы приемлемым образом высказать то, что я думаю, а теперь этого не нужно; так что я полагаю, что теперь жизнь все-таки пока лучше. Во всяком случае, для меня, старого и безопасного. Лучше ли для молодых, которые должны пользоваться понятиями Деррида и Флоренского, как мы должны были понятиями Маркса, – в этом я не так уверен.
– В чем Вы больше западный, а в чем российский?
– Все хорошее в науке – общее для России и Запада. Все недостатки в ней – национальные: от русской, немецкой и прочей ограниченности. Если мне укажут мои недостатки (со стороны виднее), то скорее всего они окажутся российскими.
– Каково будущее России? С какими процессами Вы его связываете?
– Все то же: Россия по-прежнему будет взбегать через ступеньку вслед Западу и когда-нибудь сравняется с ним. Так взбегая, трудно не падать; сейчас она упала и расшиблась о ступеньки, а встанет ли она с левой ноги или с правой, не так уж важно.
– Точно ли так уж безразлично, встанет Россия с правой ноги или с левой?
– Первый год, два, пять – не безразлично, а потом все равно придется продолжать начатое.
– Почему Вы стали филологом?
– Боюсь, что единственный честный ответ – потому что филология ближе моему душевному складу. А как складывался этот склад – тема слишком далеко выходящая за пределы анкеты. У меня в детстве было пристрастие к звучным непонятным словам, поэтому древняя история привлекала меня экзотическими именами, а стихосложение – словами «ямб» и «хорей». У меня было ощущение, что мороженое почему-то нравится мне меньше, чем сверстникам, а стихи Пушкина больше, чем сверстникам, но я не мог им объяснить почему: поэтому я стал интересоваться не только тем, какое мороженое и какие стихи приятнее, а и тем, как они сделаны. Потом и эти предметы, и этот подход закрепились для меня как средства ухода не столько даже от действительности, сколько от соперничества с окружающими. Любить стихи Пушкина умеют многие, и, конечно, у них это получается лучше, чем у меня; а знать, как они устроены, умеют немногие, и здесь мне легче чувствовать себя не хуже других. Влияние среды: вероятно, в детстве мне легче было получить ответ, что значит такое-то слово, и труднее – как устроена такая-то вещь. Влияние книг: в школьном возрасте мне попали в руки Шкловский и Томашевский, и они говорили об устройстве литературных произведений интереснее, чем советские учебные и ученые книги.
– Если бы отменились все лекции, конференции и плановые работы, чем бы Вы занялись в это свободное время?
– Я академический работник, лекций читаю мало, так что от отмены лекций такой прибавки свободного времени я бы не почувствовал. А если бы не стало плановых работ, оказался бы в затруднении: не знал бы, что же людям от меня нужно. Но тут непременно кто-нибудь о чем-нибудь попросил бы помимо всякого плана, и все встало бы на прежние места.
– Если бы филология в институтах и университетах кончилась (а иногда кажется, что мы близки к этому), то могли бы Вы найти место в каком-либо секторе гуманитарного рынка?
– В дипломе, который я получил после университета, написано: «специальность: классическая филология, а также преподавание русского языка и литературы в средней школе». Пошел бы преподавать словесность в среднюю школу, хотя это гораздо тяжелее и хотя педагогических способностей у меня нет.
– Многие из Ваших коллег сегодня работают в зарубежных университетах, а Вы задумывались об эмиграции?
– Я в России люблю не землю («русские» березки, церкви, избы – для одних, городские каменные дворы их детства – для других), а язык и культуру, а она всегда со мной, так что для моего существования это трагедией бы не было. Но думал я об этом мало, потому что знал: за границей я никому не нужен – стар, на иностранных языках не говорю, занимаюсь только поэтикой (пусть даже не только русской), а это сейчас наука не модная. А в политические беженцы не гожусь: публицистом не был. («Конформист»!) К тому же – от себя не уйдешь. Каждый увозит свои проблемы с собой. Да еще нарастают новые. Так что не вижу в эмиграции смысла.
– Если выбирать, в какой стране и в каком столетии работать, что бы Вы выбрали?
– Я немного историк и знаю, что людям во все века и во всех странах жилось плохо. А в наше время тоже плохо, но хотя бы привычно. Одной моей коллеге тоже задали такой вопрос, она ответила: «В двенадцатом». – «На барщине?» – «Нет, нет, в келье!» Наверное, к таким вопросам нужно добавлять: «…и кем?» Тогда можно было бы ответить, например, «камнем».
– Вы пользуетесь компьютером в своей работе? Как вы относитесь к интернету? Стало ли легче работать с появлением новой техники?
– Считать стало легче: я работал сперва на конторских счетах, потом на арифмометре, потом на калькуляторе. Читать нужное стало легче с появлением ксерокса. Компьютер у меня есть: на нем печатать удобнее, чем на пишущей машинке. А интернет наступил слишком быстро, я еще не успел к нему привыкнуть. Отношусь я к нему с большим уважением – именно за то, что он, говорят, дает быстрый доступ к нужным книгам. Это хорошо: на всей моей памяти нас, филологов, снабжали заграничной научной литературой очень плохо. Писать стало легче: из‐за старости голова вмещает меньше, это принуждает писать большие статьи не целиком, а по кусочкам, а это легче делать на компьютере, чем на пишущей машинке. Думать – легче не стало.
– В чем, на Ваш взгляд, состоит задача филологии, филолога? В чем назначение филолога?
– Именно в том, чтобы понимать чужие культуры – особенно прошлые, чтобы лучше знать, откуда мы вышли и, стало быть, кто мы есть. Археолог понимает их по мертвым вещам, филолог по мертвым словам. Это трудно: велик соблазн вообразить, что эти слова – живые, и понимать мысли и чувства чужой культуры по аналогии с душевным опытом нашей собственной культуры. Ребенку кажется, что если да по-русски значит «да», а по-немецки «там», то это неправильно. Легко объяснить ему, что это не так, но гораздо труднее объяснить взрослому, что любовь по-русски и любовь по-латыни – тоже очень разные вещи. Вот этим и занимается филология: отучает нас от эгоцентризма, чтобы мы не воображали, будто все и всегда были такие же, как мы. Мой покойный товарищ С. С. Аверинцев хорошо писал об этом в самой первой своей публичной статье, которая называлась «Похвала филологии».
– Ваше мнение о современной филологии?
– Об античной нашей филологии не скажу ничего, кроме хорошего: молодых античников сейчас учат гораздо лучше, чем пятьдесят лет назад учили нас. К нам тогда проблемы мировой науки доходили с пятидесятилетним запозданием, а к ним теперь доходят примерно с двадцатилетним, это уже нормально. А о литературоведении вообще? После конца советской идеологии образовался идеологический вакуум, в него хлынули новейшие западные постструктуралистские моды вперемешку с воспоминаниями о русской религиозной философии, образовался иррационалистический хаос; я не умею использовать это в своей работе, поэтому вряд ли имею право о нем судить.
– Как Вы относитесь к идее выбросить из школы филологию и, в частности, анализ стихов: пусть дети просто читают художественную литературу?
– «Просто» читать – совсем не просто: даже взрослый обычно не может дать себе отчета, почему ему нравится или не нравится такое-то стихотворение. Когда школьник спрашивает: «А почему я должен интересоваться Пушкиным?» – то ответить ему очень трудно. Когда человек не понимает, что и почему ему интересно, то ему трудно искать новые книги, которые могли бы оказаться ему тоже интересны, и он начинает читать только привычное или вовсе перестает читать. Конечно, тем, у кого от природы тонкий художественный вкус, это не грозит, и учиться анализу им не нужно. Но таких мало; у меня, например, такого вкуса нет. Вот таким, как я, я и хочу помочь.
– Применение точных методов в литературоведении – хорошо ли это, не убивает ли это живое целое, разлагая его на части?
– А вы уверены, что Пушкин для вас – живое целое? Пушкин писал не для нас, мы воспринимаем из сказанного им лишь малую часть, а остальное дополняем своим воображением.
– Почему часто приходится слышать от молодежи: «Не люблю Пушкина»?
– Потому что мы часто подходим к нему не с теми ожиданиями, на которые рассчитывал Пушкин. Мы в ХX веке привыкли к поэзии ярких контрастов, а Пушкин – поэзия тонких оттенков. Конечно, если она не дается, Пушкина можно просто отложить в сторону; но если мы научимся читать по оттенкам, то наш мир станет только богаче. Беда в том, что именно этому школа нас не учит: она еще не привыкла, что Пушкин от нас отодвинулся на двести лет, что его поэтический язык нужно учить, как иностранный, а учебники этого языка еще не написаны. Вот филологи их и пишут по мере сил.
– Я сказал: «подходим не с теми ожиданиями». Что это значит? Вот Евгений Онегин получил письмо от Татьяны: чего ждали первые пушкинские читатели? «Вот сейчас этот светский сердцеед погубит простодушную девушку, как байронический герой, которому ничего и никого не жаль, а мы будем следить, как это страшно и красиво». Вместо этого он вдруг ведет себя на свидании не как байронический герой, а как обычный порядочный человек – и вдруг оказывается, что этот нравственный поступок на фоне безнравственных ожиданий так же поэтичен, как поэтичен был лютый романтизм на фоне скучного морализма. Нравственность становится поэзией – разве это нам не важно? А теперь – внимание! – Пушкин не подчеркивает, а затушевывает свое открытие, он пишет так, что читатель не столько уважает Онегина, сколько сочувствует Татьяне, с которой так холодно обошлись. И в конце романа восхищается только нравственностью Татьяны («я вас люблю… но я другому отдана»), забывая, что она научилась ей у Онегина. А зачем и какими средствами добивается Пушкин такого впечатления – об этом пусть каждый подумает сам, если ему это интересно.
– Почему переводы на близкородственные языки – например, «Евгений Онегин» на украинском – для нефилолога звучат как пародия?
– Потому что и не в переводе непривычный русский человек воспринимает украинский как испорченный русский. Как с этим бороться? Разрушать непривычность: время от времени показывать русскому человеку хорошие украинские стихи с русским переводом, чтобы он увидел: а ведь русский перевод слабее смешного украинского подлинника.
– Почему Вы написали «Занимательную Грецию»? Разве история древней Греции нуждается в популяризации?
– Популяризация – это значит: делать необщеизвестное общеизвестным. История греческой культуры не так уж общеизвестна – говорю об этом с совершенной ответственностью. Стало быть, нуждается – разве нет? Точно так же, как история всякой другой культуры: мне очень жаль, что я так и умру, плохо зная, например, арабскую культуру оттого, что не нашел подходящего для меня ее популярного описания.
– А если бы у Вас нашелся подражатель, который решил написать книгу «Занимательная Россия» – о современной России, сохраняя стилистику «Занимательной Греции»? Что получилось бы из такого труда? Или он так и остался бы не закончен, потому что для подобной работы необходима дистанция в века?
– Сочиняя «Занимательную Грецию», я однажды попал в больницу, сосед меня спросил, что это я пишу. Я ответил, он сказал: «Наверное, еще интереснее было бы написать „Занимательную историю КПСС“». Это были еще те времена. Разумеется, человек с ясным умом мог бы просто написать и о сложной современности – я первый был бы рад прочитать такую книгу. Некоторые и пишут, но для взрослых, а школьникам такие книги нужнее: им в этой современности жить и работать. А дистанцию для такого взгляда создает сам пишущий, если хватает сил. Академик Веселовский, филолог, сто лет назад говорил: «Нам кажется, что средневековые поэмы и повести все на одно лицо, а нынешние, реалистические – все разные, все индивидуальные. Но это иллюзия – попробуем охватить взглядом всю массу того, что сейчас пишется, как мы охватываем старину, и мы увидим, что и у нас все на одно лицо». О развале советской империи проливают слезы во всех газетах, и всем кажется, что это единственная в своем роде трагедия. Редко кто вспоминает, что в 1960‐х годах точно так же развалились все западные колониальные империи, и мы тогда этому не удивлялись, а радовались. Теперь эта волна истории дошла и до нас, с обычным запозданием в одно поколение. Нужно ли ждать дистанции, чтобы это понять и об этом сказать?
– Что бы делал Эпиктет, о котором вы писали, будь он не «древним пластическим греком», как у Козьмы Пруткова, а нашим современником-шахтером?
– Вопрос прекрасный, но ответ – очевидный. Если бы Эпиктет был шахтером, он бы исправно работал в шахте, вел бы с товарищами точно те же беседы, а они бы, будь на то хоть малая возможность, точно так же их записывали бы. Не забывайте, Эпиктет был не пластическим эстетом, а рабом, а рабам в древности жилось не лучше, чем шахтерам в наше время.
– Что для Вас означает выражение «аристократы духа»? Есть еще понятие «властители дум», очень популярное лет пятнадцать назад. Насколько они вам близки?
– «Аристократы» – выражение метафорическое, и обычно значит: особая порода хороших людей, обычно наследственная. Мне не хочется верить, что такие люди существуют как порода, – но, конечно, это только потому, что я не чувствую этой аристократичности в себе самом. «Властители дум» – тоже понятие мне не близкое: оно как бы предполагает твою некритическую подвластность их власти, а меня учили, что это нехорошо. Однако если представлять их себе не породой, а поштучно, – то, конечно, у каждого из нас есть круг людей, которые для него авторитетны как умные люди и как хорошие люди. К счастью, эти два качества часто совпадают.
– Чем для Вас лично было общение с Аверинцевым? Можно ли сказать о смерти С. С. Аверинцева «с ним умерла целая эпоха»?
– Мы с ним, вероятно, дополняли друг друга. Он замечательно умел человечески чувствовать другие культуры – то, что называется «дух времени»; я этого не умею, я суше и рационалистичнее. Мы учились друг у друга не быть односторонними. Я не знаю, был ли он символом эпохи: он был очень сам по себе, учителем себя никогда не считал, говорил: «Учить аспирантов методу я не могу, а могу только показывать, как я делаю, и побуждать делать иначе». Эти аспиранты лучше скажут, умерла ли с ним эпоха. Это – о научном общении; а что значило человеческое общение с таким человеком, позвольте мне не говорить.
– Как бы Вы ответили на восьмой вопрос Александра индийским мудрецам: «Что сильнее, жизнь или смерть?»
– Не знаю: вопрос вне моей компетенции. Я хотел добавить: «Я и сам бы рад получить на него ответ», но почувствовал: пожалуй, нет, не так уж мне это интересно. Наверное, это нехорошо?
– Что Вы пожелали бы молодым гуманитариям?
– То же, что и Аверинцев: смотрите, что делали те, кто работали раньше вас, и делайте иначе.
III. ОТ А ДО Я
Дайте волю человеку,Я пойду в библиотеку:Я в науку ухожу,Мысли удочкой ужу.Т. Бек
Модное изобилие цитат – чрезвычайно раздражительное явление, ибо цитаты – векселя, по которым цитатчик не всегда может платить.
В. Набоков
…Пиши мне: мне всегда очень нужен кто-нибудь, кто бы меня понимал, хотя бы неправильно.
И. Оказов. Неотправленное письмо. От графа Сен-Жермена к Агасферу
А «Чарушин писал просто, как будто врачу говорил а-а» (Дневник Е. Шварца).
Аббревиатура Дочь организует группу психологической реабилитации детей трудного поведения – сокращенно «предтруп».
Агностицизм Г. Шенгели в воспоминаниях о Дорошевиче пишет, что Хейфец, у которого тот печатался в Одессе, сказал: «Знаете, какая разница между Дорошевичем и проституткой? Он получает за день, а она за ночь». Дорошевич, узнав, спросил: «А знаете, какая разница между Хейфецем и проституткой?» – «Не знаем». – «И я не знаю». Больше Хейфец не острил.
Анаколуф «Приказываю дать Каткову первое предостережение за эту статью и вообще за все последнее направление, чтобы угомонить его безумие и что всему есть мера». Резолюция Александра III (Феоктистов). Надпись в гостинице: «Не разрешается пребывание в комнате без разрешения коменданта в свое отсутствие посторонних лиц, а также давать посторонним лицам ключи от комнаты». Маяковский: «Москва не как русскому мне дорога, а как боевое знамя».
Ансельм «Директора нет. И все. – Как же так. Если директор, значит, он есть» (И. Бахтерев. Царь Македон). Это то же, что и доказательство бытия Божьего от Ансельма Кентерберийского. Ср. педагогическую аргументацию А. Жолковского: «Американская диссертация должна существовать. В этом ее отличие от Господа Бога, который так совершенен, что может и не существовать».
Анти- «Это не религиозные стихи, а антиантирелигиозные: это разница», – сказал кто-то. В. Парнах печатал антитеррорные стихи Агриппы д’Обинье как антифашистские (Агриппу у нас знали по Г. Манну), а «Еврейских поэтов – жертв инквизиции» – как антирелигиозные. Одновременно в 1934 году «Песни I Французской революции» вышли едва ли не ради десяти страничек «Ямбов» А. Шенье в переводе Зенкевича (в приложении): эзопов язык переводчиков.
Антиглобализм Декларация его уже у Гейне в «Германии». Как хорошо, что в Тевтобургском лесу германцы разбили римлян, а не римляне германцев! А то что было бы! Профессор Масман знал бы латинский язык – вот ужас-то!
Антипугало Вот уже второй человек и по другому поводу говорит мне: «Если бы не вы, я бы бросил эту [такую-то] затею».
Апогей «Мне писала как-то киевская неизвестная поэтесса: все бы ничего, да вот не могу довести себя до апогея…» (Гиппиус – Ходасевичу, 1 окт. 1926 г.).
Артикль «Ce n’est pas un sot, c’est le sot», – говорил Талейран. Точный русский перевод: «тот еще дурак». Заглавие Мопассана «Une vie» переводили «Жизнь» или «Одна жизнь»; точнее всего было бы: «Жизнь как жизнь».
Артист Слова Блока – вслед за Ницше – о человеке-артисте будущего нельзя правильно понять, не помня его анкету в 18 лет: ваш идеал? – «Быть актером императорских театров». На ночь он мазал губы помадой и лицо борным вазелином.
Аскетизм «Фиваидские киновии были школой смирения личности, как огромная коммунальная квартира», – сказала Т. М.
Аннотация для библиотечной карточки к книге Сорокин В. В. «Избранное», 1978 (цит. с. 132, 153, 198). Валентин Сорокин – поэт русской души. Он пишет о горчавой полыни, о том, как хруптят пырей хамовитые козы, когда дует сивер и у работника зальделый бастрик прислонен к дровнику. Он любит: «И заёкают залетки, зазудятся кулаки, закалякают подметки, заискрятся каблуки!» Он просит за себя: «Не стегайте меня ярлыком шовиниста, – кто мешает нам жить, тот и есть шовинист!..» Вообще говоря, аннотаторам полагалось такие книги отбраковывать и писать скучные мотивировки их непригодности для районных, городских и областных библиотек. Но я предпочитал писать честную аннотацию, чтобы начальство посмеялось и отбраковало книгу само.
Баранки 60 лет Вяч. Иванову: «Поди, пришел сосед Муратов, поставили самовар, попили чаю с римскими баранками, попели орфические гимны и разошлись» (Ремизов. Петерб. буерак).
Басня Мышь, второпях столкнувшись с ласкою, крикнула: «Привет! я от змеи!» Вавилонская басня из книги Ламберта, я хотел начать ею сборник переводов «Классическая басня», но весь восточный раздел в «Московском рабочем» выкинули, потому что там были басни из Библии.
Бейлис В Киеве была конференция к 80-летию дела Бейлиса, Ю. Ш. написал мне: «Бейлис умер, но дело его живет».
Бихевиоризм Бихевиористская проза: поступки без психологии. Ее классики – Хармс, Хемингуэй и Николай Успенский.
Благодарность «Обе книги заслуживают похвалы, обе заслуживают благодарности, и обе – больше благодарности, чем похвалы» (отзыв Хаусмена о двух изданиях Луцилия).
Близнец С. И. Гиндин сказал: половина «Близнеца в тучах» о дружбе и близнечестве – при переработке отпала, потому что Пастернак стал терять друзей. Обходиться без людей, потом обходиться без книг – как трагично это засыхание человека, который продолжал верить, что поэзия – это губка. Письма его многословны, как у молодого Бакунина с друзьями: чем больше он чувствовал себя равнодушным, тем больше старался быть деликатным. См. Вата.
Большевики не исправили Россию за 70 лет, а христианство – за 1000 лет.
Бострог «На кафтан или зипун надевали ферязь или терлик, а поверх того охабень или бострог. Самоеды на липты (исподние самоедские сапоги или чулки, пыжиковые, шерстью внутрь) надевают пимы, а на пимы – топаки, род кенег» (А. Терещенко. Быт рус. народа).
Булгаков Из письма О. К.: «Я нашла в Булгакове точное описание булгаковедения. В „Роковых яйцах“ в „красной полосе“ шла борьба за существование. „Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны“. Поэтому постараюсь больше о Булгакове не писать».
Когда-то при мне сравнивали Булгакова и Мандельштама. «Непохожи, – сказал Вяч. Вс. Иванов, – Мандельштам мог принять революцию, но не мог Сталина, а Булгаков мог принять Сталина, но не революцию». Это натяжка, но любопытная: оба кончили жизнь произведениями о Сталине, но у Мандельштама «сталинская ода» получилась очень хорошим и сильным стихотворением (Бродский прямо говорил: гениальным), а у Булгакова «Батум» – кажется, посредственная пьеса (говорю «кажется», потому что раскрывал, но не читал). Мандельштам сумел уверить себя, что Сталин и революция – одно, а революцию он действительно принял. Пожалуй, про себя я чаще сравниваю Булгакова не с Мандельштамом, а с Платоновым. Стиль Булгакова я люблю больше, но душевно Платонов мне ближе. Революция ужасна у обоих, но Платонов не ненавидит ее оголтелых героев, а жалеет их; а Булгаков ненавидит, и ненавидит со вкусом и наслаждением. А я не люблю тех, кто упивается ненавистью. От этого бывает очень дурная инерция бесконечного взаимоистребления. К сожалению, если стиль Булгакова переводить трудно, то стиль Платонова, вероятно, невозможно, поэтому читать и знать его будут меньше, чем Булгакова.
Булгарин У Фейхтвангера в каждом романе есть отрицательный персонаж с квакающим голосом, у Тынянова – брызгающий слюной. Я спросил Л. Я. Гинзбург, нет ли сведений, с кого он списывал Булгарина. Она ответила: «Были разговоры о том, что Т. изобразил Оксмана, с которым дружил. Очевидно, подразумевалось соотношение: Грибоедов—Булгарин… Не достоверность, а сплетня 1920‐х годов; впрочем, на Юр. Ник. это похоже» (письмо 25 июня 1986 г.).
Буриме Банальные рифмы в традиционалистических культурах должны были цениться: нужно было уложить хвалу императрице не только в ритм и рифмы, а в рифмы на такие-то слова. Культура как буриме. Н. Заболоцкий иронизировал над переводчиком, который мог уложить в любовь—кровь—морковь решительно любое содержание, – «самое удивительное, что это печатали». Этот переводчик был запоздалым героем предшествующих эпох.
Бы У С. Кржижановского есть рассказ об артиллеристе, среди гражданской войны остановившем татар при Калке. Жаль, что там нет продолжения: как Россия, получив в подарок 700 свободных лет, путалась в них, чтобы в конце концов уткнуться в ту же революцию и гражданскую войну. На такую тему была пьеса Фриша под названием «Биография».
Бытие и сознание С. Третьяков в бесконечной езде агитирует попутчика, немецкого коммерсанта: «Я кончаю призывом: „Германия, даешь Октябрь!“ Он растроган и задает мне в лоб последний вопрос: „Что бы вы сделали в Германии на моем месте?“ И я отвечаю, не колеблясь: „То же, что и вы, ибо бытие определяет сознание“» (Москва–Пекин, «Леф», 1925).
Бытие и сознание Моя жизнь от моих намерений отличается так же, как советская жизнь от идеалов революции.
«Важно не то, что важно, а то, что неважно, да важно, вот что важно» (слышано в детстве). Какая это риторическая фигура?
Вата «Вашей мягкостью, как ватой, вы затыкаете наносимые вами раны» (Цветаева Пастернаку).
Век Старшеклассникам в канун 2000 года задали сочинение на тему «Каких изменений я жду в XXI веке». Большинство написало: ничего серьезно не изменится, а в середине нового века опять будут строить коммунизм.
Век А. К. Толстой высказывал мысли XIX века языком ХX века (лучшая его проза – в письмах жене, этой героине Достоевского, которую Тургенев называл гренадером в юбке), а Случевский наоборот.
Вера «Не вера стоит на сомнении, а сомнение на вере», – сказали медику, исключая его из духовной семинарии.
«Верность – это инстинкт самосохранения», – писала Цветаева Ланну. Верность себе – это обычно псевдоним инертности. Не будем делать из нее культа.
Вечный Дневник Веселовского: «Рим никогда не дает того, чего ожидаешь, потому что дает больше: вечный город – потому ли, что долго живет, потому ли, что долго умирает».
Викторина Французский психолог Сюрже пишет, что люди при разговоре получают 38% информации из интонации, 55% – из жестов и мимики, а откуда остальные 7%? – из слов…
«Вина личности перед обществом за свое существование – это, может быть, и вина души перед телом за то, что мешает ему жить?» – «Жить?» – «Ну, мешает ему умирать, разлагаться».
Взгляд «Смотреть на вещи свежим взглядом – все равно что питать сознание сырой пищей».
Воздух «Россия – страна обширная, но не великая, у нас недостаточно даже воздуха для дыхания» (адм. Чичагов, «Рус. старина», 1886, № 2, с. 477).
Я не был близок с Ю. М. Лотманом, но однажды, когда мне было трудно жить, решил: спрошу его – может быть, он мне скажет какое-нибудь главное слово. Не удалось: поездка была короткая, а встречи многолюдные. Прощаясь, я сказал: «Хотелось кое о чем спросить, не получилось; может, в другой раз…» Он посмотрел на меня и сказал: «Знаете, нужнее всего верить самому себе. Вот когда на фронте ты идешь со взводом из окружения, а навстречу тебе целый полк так и валит в окружение, – очень трудно не повернуть и не пойти вместе со всеми». Я уехал, и потом оказалось, что именно это мне и нужно было услышать. Л. Н. Киселева сказала: «У Ю. М. все фронтовые эпизоды начинаются: „когда мы драпали…“»
Водка не считалась напитком, поэтому ее предлагали не выпить, а откушать. Так кот в Шварцевском «Драконе» говорит: молоко – это не питье, молоко – это еда.
Возраст у Н. уже тот, когда приходится считать раны и исковерканные надежды. Потребность в сочувствии, но такое самолюбие, при котором малейшая видимость сочувствия – уже оскорбление. Похоже на знаменитую кинематографическую задачу: очная ставка, крупный план лица, и нужно, чтобы зрители увидели, что этот человек узнал другого, но чтобы поверили, что следователи этого не поняли.
Воспитание Запись в дневнике А. И. Ромма (РГАЛИ, 1495, 1, 80, 73 об.): «С шести лет меня воспитывали в мысли, что никогда из меня ничего не может выйти. И всех прочих я в грош не ставил (по существу) именно потому, что никто из прочих этого не думал». Ср. Волошин о мемуарах Боборыкина: «…у Б. есть наивная убежденность в том, что из всех тех, кто были с ним знакомы, ничего порядочного выйти не может».
Вот так и Заседание с отчетом общества (такого-то): такой хаос, что по здравому смыслу подобная организация ни секунды существовать не может, однако существует и даже чаем поит. Значит, может существовать и дальше, но как – прогнозированию не поддается. А мы здесь почему-то занимаемся именно планированием. Вот так и весь мир – существует лишь в порядке фантастического исключения, а мы стараемся отыскать в нем правила и законы.
«Впережаб – чтобы получился перехват, пережабинка. Барыня впережаб затягивается» (Даль).
Впятеро . А. Н. Попов должен был читать нам методику преподавания латинского языка. Он пришел и сказал: «Я должен читать вам методику, но не буду, потому что полагаю, что науки методики нет. А чтобы хорошо учить, нужно знать впятеро больше, чем говоришь, и тогда никакие методики тебе не потребуются». Чтобы хорошо учить – знать впятеро; а чтобы хорошо творить? – чувствовать впятеро? Выборку из переводимого поэта можно делать, только переведя впятеро и выбрав из получившегося – потому что переводимое никогда не равно переведенному. В Худлите меня мобилизовали на переводы для антологии современной немецкой поэзии и дали список стихов Э. Майстера. (Почему именно этого исковерканного мироненавистника, я не знаю: одни говорили – «по сходству с вами», другие – «по противоположности с вами».) Я перевел впятеро, принес и уныло сказал: «Вот, отбирайте, пожалуйста». Там долго удивлялись.
Врио по-русски – подставное лицо. Я – временно исполняющий обязанности человека (звучит ли это гордо?). Время кончилось, обязанности нет.
Все «Здесь все стихи мне! почти все!» – говорила Анна Ахматова голосом Ноздрева у Л. Чуковской 4 ноября 1962 года.
Все Николай I сказал генералу Назимову, попечителю Московского округа: «Я прочитал все книги по философии и убедился, что все это только заблуждение ума» (Феоктистов).
Все М. К. Морозова в своем философском салоне, может быть, понимала не все, но понимала всех (Степун).
Всякий «Считал ничтожеством всякого, кто соглашался, и наглым ничтожеством – всякого, кто не соглашался» (Дневник А. И. Ромма, 1939, РГАЛИ).
В-третьих! – начал свою первую на памяти А. Ф. Кони лекцию Ф. Буслаев. Заболоцкий считал себя вторым поэтом ХX века после Пастернака: Блока, во-первых, не любил, во-вторых, не признавал, в-третьих, считал поэтом XIX века.
Вчера Ю. Манин в 1983 году: «Может возникнуть концепция передового человека, т. е. человека, позавчера питавшего те иллюзии, которые рухнули только вчера». Ср. Х. Пионтек: «Я хочу такого Завтра, у которого не было бы Вчера».
Вы «Я один, а вас много», – сказал Пилат Христу (И. Бабель).
«Ответь мне, ты есть Бау или Bay?» Туземец ответил очень внятно: «Грдлбз чквртсм жрпхкс иооооксиу!» – «Очень хорошо, – отвечал путешественник, – только этого мне и не хватало!» (С. П. Бобров, заготовки эпиграфов, РГАЛИ, 2554, 2, 272, л. 188).
Выпуклый «Я – выпуклая фигура, как же меня не предать истории?» – говорил генерал Новоселов (Ясинский, 116).
Выпуклый Катков не читал статей, на которые возражал: их ему пересказывали, он просил отметить такие-то выпуклые пункты и читал только их, чтобы не терять сосредоточенности (Н. Любимов).
Где нас нет – там по две милостыни дают (Пословицы Симони).
Геометрия Каждый параллелограмм жалеет не о том, что он не прямоугольник, а о том, что перекошен не в ту сторону.
Героиня «Ваша любимая героиня в романах?» – «Осинка в „Трех смертях“ Толстого» (ответ Фета в альбомной анкете).
Главное «Трудно написать биографию, даже свою, когда нет самого главного – смерти» (М. Козырев, в 30 лет; расстреляли его в 49).
Гласность «Муж, явно творяй правду и твердый в правилах своих, допустит всякий глагол о себе. Он ходит во дни и творит себе на пользу клевету своих злодеев. Откупы в мыслях вредны» (Радищев).
Гласность – «это значит, что можно говорить о том, что нужно делать».
Годовщина «День каждый, каждую годину / Привык я думой провожать, / Грядущей смерти годовщину / Меж них стараясь угадать». В Пушкинском словаре это значение не комментируется, а ведь здесь предполагается обратное движение времени, счет от будущего, как в римском календаре или в числительном «девяносто». Хочется считать свои годы уже не вперед от рождения, а назад от смерти, а дата предстоящей смерти расплывчата, и это нервирует. Ср. «Недвижимо склоняясь и хладея, / Мы движемся к началу своему» – хотя ожидалось бы «к концу». Не отсюда ли у Мандельштама: «О как мы любим лицемерить / И забываем без труда / То, что мы в детстве ближе к смерти, / Чем в наши зрелые года». (Стихотворение это – с двумя равноправными концовками, оптимистической и пессимистической; но это уже другая тема.) Честертон писал: взрослый человек живет после конца света, а подросток – перед; отчаяние – это возрастное состояние.
Гордость «Архиерейская гордость напоминала дамскую»: не гордость, а опасение неприличного плюс привычка быть предметом ухаживания (Гиляров-Платонов).
Градус С. Ав.: «Бродский говорил о том, что знает, громко и уверенно, а о том, чего не знает, еще на градус увереннее. Помните, как он на Мандельштамовской конференции сказал, что Христос, как римский гражданин, конечно же, знал латынь и читал 4‐ю эклогу?»
Дважды два четыре Я всю жизнь старался, чтобы наука твердо опиралась на дважды два, но никогда не считал «четыре» объективностью: просто видел, что насчет дважды два люди лучше всего сумели сговориться между собой (кроме человека из подполья). Но когда я сказал врачу, что так же можно было бы договориться и о том, что дважды два пять, он встревожился обо мне больше, чем когда-нибудь.
Девиз Когда-то очень давно С. Ав. сказал мне не без иронии: «Если бы у вас был герб, вы могли бы написать в девизе: „О чем нельзя сказать, следует молчать“». Я знал эту сентенцию Витгенштейна, но отдельно она казалась мне тривиальной, а в «Трактате» непонятной. Понял я ее, когда в какой-то популярной английской книжке нашел мимоходное пояснение: «…а не следует думать, что об этом можно, например, насвистать». Тут сразу все стало ясно, потому что свиста такого рода все мы наслушались-перенаслушались. Теперь я знаю даже научное название этого свиста: метаязык. Впрочем, предтечей Витгенштейна был Ривароль, сказавший: «Разум слагается из истин, о которых надо говорить, и из истин, о которых надо молчать».
«Дело» Сухово-Кобылина. А. И. Доватур считал, что это было самоубийство чужими руками: француженка наняла убийцу, так как умереть хотела, а убить себя боялась. Такие-де случаи бывали. (Это – сюжет романа Жюль Верна «Бедствия китайца в Китае».)
Демократия «Волки сыты, а овец не спрашивают».
Демократия Нынешние лисы говорят, что мы зелены для винограда (Вяземский).
Державно Ельцин, расстреляв Верховный совет, велел отреставрировать Кремль. «Как?» – «Чтоб было державно». В главном зале было три трона: для царя, царицы и вдовствующей царицы; их отыскали в Петергофе и Гатчине, но выцарапать у музейщиков не смогли. Сделали идеальные копии, а потом стали думать, кого же на них сажать? и на инаугурации прикрыли драпировкою («Общая газета», 8.2.2001).
Детектив Лирическая композиция у темных поэтов ХX века требует, чтобы читатель реконструировал ситуацию высказывания из рассеянных, перепутанных и нарочито незаметных мелочей. Иные филологи работают над ними по Конан Дойлю, иные – по Честертону.
Детектор лжи Сын в детстве спрашивал: «Это значит: человек лжет, а он краснеет?»
Детерминизм «Все происходит не случайно, а по тем или иным причинам, обычно по иным».
Детерминизм А ведь я усомнился в сквозном детерминизме всего сущего только на мысли: не могла же от начала мира быть запрограммирована такая тварь, как я!
Детерминизм Тынянов говорил: я детерминист, я ощущаю, как меня делает история (зап. Л. Гинзбург). А В. Каверин писал: «Если бы у меня не было детства, я не понимал бы истории, если бы не было революции – я не понимал бы литературы». Ср. «время ломает меня, как монету».
Детерминизм Я объяснял сыну: в жизни нет цели, а есть причины. НН сказал: «Ну, в вашей-то жизни цель есть». А причин нет.
Дети «Малые детки поспать не дадут, а с большими детками сам не уснешь» (Даль). А сегодня говорят: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы своих не приносило» или «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось».
Дети И. Ю. П. сказала: «По „Живаго“ видно, что Пастернак не любил детей – они были для него только отяготителями женской доли, на которой он только и был сосредоточен: „в браке дети теребят“». Я вспомнил, как В. В. Смирнова была недовольна мимолетностью фразы: «они поженились, и у них пошли дети».
Дети М. Гершензон писал: когда дети кончают университетский курс, то и родители их кончают родительский курс. (И какой начинают?)
Дети Маяковский писал будто бы для пролетарских детей, но начинал (по традиции?): «Вот няня. Няня гуляет с Ваней».
Жене приснилось: малолетнему сыну дали пачку бумаги рисовать, он рисует, это разноцветные орнаменты, но вдруг, всмотревшись, видно: за ними мелкие фигурки, они складываются в картинки мировой истории – неолит, Фермопилы, крестовые походы, вот уже наше время, а рисунки еще не кончились, и тут приходят люди, опечатывают квартиру, вход по пропускам, посетители только на черных «Волгах» и по красным коврам, а мы живем на асфальтовом дворе в шалаше, и жена тихо бранит сына, что это все из‐за него.
«Джон Джонсон может быть уверен хотя бы в одном: что никто лучше его не сумеет быть Джоном Джонсоном» (Честертон). Так сказать, профессионально быть самим собой. Да я-то сомневаюсь, не по ошибке ли я числюсь Джоном Джонсоном. И утомительно сдаю сам себе экзамены на самого себя.
«И бог призвал слона, всем-слонам-слона, и сказал ему: „Играй в слона“. И всем-слонам-слон стал делать что приказано» (Киплинг. Сказки).
Диалог с текстом? Нет, мое чтение не деформирует текст, как и меня не деформирует чье-то мнение обо мне. Но злословие обо мне деформирует мой образ? Ну, значит, мы ведем диалог не с текстом, а с образом текста. Но если я невротик, то я изменюсь, весь сосредоточусь на отрицании этого злословия и т. д. Диалогисты представляют текст не иначе как таким невротиком.
Дискурс Рапсоды собирали свой эпический текст из готовых блоков, как В. Синявский складывал незабываемые футбольные репортажи из «обводит одного, другого, третьего», «навешивает на штрафную площадку», «надо бить!», «мяч уходит на свободный…». Я не знал, что все это такое, но слушал радио не отрываясь, и из фраз складывались картины, фантастические, но разнообразные. Когда наступило время телевизоров и мне показали, как выглядит футбол на поле, я не понимал решительно ничего. По Тынянову, это называется: разница между сукцессивным и симультанным восприятием. Сукцессивность, однолинейность – это и есть дискурс. Когда я приезжаю в новый город, я прежде должен прочесть строчка за строчкой все вывески, афиши и прочие малые уличные жанры – и лишь потом начинаю замечать двухмерные фасады и трехмерные здания, на которых эти жанры висят. А в словосочетания «дискурс власти», «филологический дискурс», «эротический дискурс» и проч. я стал подставлять вместо «дискурс» слово «разговорщина» – и смысл оказался вполне удовлетворительный. Мой сосед задал вопрос в Интернете: что такое дискурс? Самый понятный ответ начинался: «Дискурс – это, точнее всего сказать, базар…».
Диссидент По анкете «Московских новостей», 32% опрошенных не слышали слова «диссидент». Тогда же (1991 год), по «Комсомольской правде», многие поступавшие в вузы считали, что Солженицын и Сахаров – один и тот же человек. Я рассказывал сказку маленькому мальчику, на середине скуки он с отчаянием спросил: «А что такое царь?»
«Дисциплинированный энтузиазм», возбуждаемый монархом в русском народе, – выражение Н. Данилевского.
Добро «Я ничего ему не сделал доброго, за что же он против меня?» – говорил Александр II (Мещерский).
Доброта «Есть люди, которые не делают зла, сделают и добро, когда попросишь, но сами не догадаются придвинуть стул, когда падаешь» (письмо жены Пунину).
Добрый «Настолько занят своими писаниями, что не хватает времени подумать плохо о других писателях; зато все считают его добрым» (С. Маковский об Алданове).
Долг «Платеж долгом красен» (черен?). «По чувству рабства, принимая его за чувство долга» (Ф. Степун. Из писем прапорщика).
Дорога На меня много влияли, поэтому я очень не хочу ни на кого влиять, никого не сбивать на свою дорогу, поэтому суечусь, чтоб с каждым во время разговора пройти кусочек его пути, а потом по междорожью, спотыкаясь, возвращаюсь на свой.
Достаточно Маршак говорил: «Я достаточно известен, чтобы меня теребили, но недостаточно, чтобы меня берегли» (восп. Друскина).
Достойно Молитва Саади: «Дай мне то, что достойно Тебя, а не то, что достойно меня» – от рассказа о даре Александра Македонского.
Дружба Люди могут дружить, только пока они друг другу ничего не сделали («Никомахова этика»).
Друзья на вырост, их не хватало в детстве моему сыну.
Сон сына: играет на лире старый Амфион, от его звуков оживают фигуры фриза на соседней церкви Крестовоздвиженья, их нужно зарегистрировать и прописать. Говорят они по-русски, хоть и с примесью церковнославянского (наслышались). Амфион заикнулся, что, собственно, это евреи и греки, но в милиции ему сказали: не будьте садистом. Записали их туркменами.
Дуплет Ахматова сказала вдове Гумилева: «Вам нечего плакать, он не был способен на настоящую любовь, а тем более к вам». Так Хаусмен в предисловии, кажется, к Ювеналу писал: «Что касается такой-то немецкой диссертации о Ювенале, то могу лишь сказать, что она хуже такой-то немецкой диссертации о Манилии, и это единственная вещь, о которой можно так сказать».
Душа «Чем больше я всматриваюсь в доктора, тем больше мне кажется, что его душа – это общественный магазин, принадлежащий всем классам и сословиям. Каждый берет свой любимый товар и уходит удовлетворенный. А интеллигентная докторская совесть стоит за прилавком и следит за тем, чтобы не было отказа покупателям. В один прекрасный день все товары будут разобраны. Докторская совесть, в сознании исполненного долга, радостно улыбнется, оглянется по сторонам и тут только заметит, что самого-то доктора нет в магазине, да никогда и не было» (Фельетон в «Летописи» 1916 г.).
Бессмертие души «Не может она быть одноразового пользования», – сказано у Д. Рубиной. У нее же в статье о взрыве на рынке: «Народ у нас впечатлительный, хотя и ко всему привычный».
Евреи (Рассказывала М. Климова в Худлите.) В электричку сел пьяный парень и стал поносить евреев. Соседняя старушка спросила: «И Горбачев еврей?» – «И Горбачев, и Раиса». – «И Лигачев?» – «И Лигачев». – «А ты сам?» – «Не еврей, но хочу в Израиль».
Если Завещание пожизненного президента Урхо Кекконена начиналось словами: «Если я умру…».
Ефрем Сирин Власть грешила любоначалием, а интеллигенция празднословием (Ф. Степун).
Еще «Ты молодая, а я – еще молодая», – говорила Пыжова Никритиной (восп. Мариенгофа). Ср. у С. Кржижановского: «Еще не уже, но уже не еще».
Жанр Афиша, художественное чтение: «О. Мандельштам. Раковина: монолог в трех субстанциях». Афиша, спектакль: «Ч. Айтматов. И дольше века длится день: метафора в двух частях».
Жена «Главная опора русской поэзии проверена годами – это жены», – начинается рец. Дж. Смита на издание семейной переписки Северянина. «Наслоения жен» – выражение Ахматовой. «Очередное междуженье» – выражение артиста Козакова. НН, будучи женат три раза, перед разводом каждую жену учил переводить для заработка; при его жизни они друг друга ненавидели, а после смерти скооперировались и монополизировали переводы такого-то французского ходового автора. «Первая вдова», «вторая вдова» и т. д.
Жена Из вопросника М. Фриша: «Что побудило вас к женитьбе: …з) виды на наследство, и) надежда на чудо, к) мысль, что это чистая формальность? Хотели бы вы быть вашей женой?» Жена НН – единственная женщина, которой я сочувствую больше, чем своей жене.
Женщина Дочь сказала: «Гумилев – поэт для женщин, он пишет так, как будто на него смотрит женщина». Она не знала, что Блок будто бы сказал Ахматовой, что она пишет, как будто на нее смотрит мужчина, а нужно – как будто смотрит Бог. Степун добавлял: «А Цветаева – как будто на нее смотрит Гете или Гельдерлин». Не думаю: если бы она чувствовала взгляд Гете, она бы не написала многого из того, что написала.
Из разговора.
«Жизнь – усилие, достойное лучшего применения» (Карл Краус).
Жизнь «А пребывание наше здесь – не жизнь, не житие, а только именно пребывание…» (Лесков, письмо 23 сент. 1892 г.).
Жизнь «Не могу же я относиться к этому как к литературе, – только как к жизни, то есть бесчувственно или хотя бы бессловесно».
Жизнь «Комсомольская правда» от 15 декабря 1990 года: в Чите организовано общество «За выживание» в помощь бедствующей советской медицине. Можно было бы расширить смысл названия и вступать в него поголовно.
Махмуд Эсамбаев перед смертью сказал: прошу правительство дать моему народу теплушки в Сибирь, тогда хоть кто-нибудь выживет («Мир за неделю»).
Жизнь «Жить надо так, чтобы другим неповадно было» (из молодежной газеты). Прислано читателем.
Жизнь Мудрецу предложили денег, он отказался: «Не надо, у меня есть одна монета». – «Надолго ли хватит?» – «Поручитесь, что я проживу дольше, и я приму ваш подарок» (суфийская притча).
Зависть 17 ноября 1982 года в передовице «Правды» было написано: «Советский народ с завидным спокойствием встретил известие о кончине…»
Заглавие Издательство потребовало, чтобы сборник статей о Пастернаке имел цитатное заглавие, «ну вот как о Мандельштаме – „Сохрани мою речь“». Значит – «Быть знаменитым некрасиво» или «Ты вечности заложник». (Предпочли первое: пикантнее.) Посмотрев на содержание, я предложил: «Какая смесь одежд и лиц», К. Поливанов поправил: «Сколько типов и лиц…»
Заглавие О. К. заметила, что роман «Чего же ты хочешь?» продолжает традицию не только «Кто виноват?» и «Что делать?», но и «Чей нос лучше?». Была книга «Пудреное сердце» В. Курдюмова и «Сердце пудреное» Л. Моносзона. Были сборники стихов «Третий глаз» и «Третье око».
Заглавие Оказывается, молодым поэтам нельзя было называть книгу просто «Стихотворения», требовалось особое разрешение свыше: это было что-то вроде заявки на мемориальную доску.
Заглавие Пьеса Золя (интересно какая?) шла в Петербурге в обработке Родиславского под названием: «Щука востра, а не съест ерша с хвоста».
Заговор «от обмороченья, от обаяния и от всякой порчи».
Задача «Если один человек выкопает яму за сто минут, значит ли это, что сто человек выкопают эту яму за одну минуту?» Можно жить, когда работу троих нужно сделать за один месяц, но трудно – когда за один день.
Зайцы и лягушки (басня). Оскар Уайльд собирался топиться в Сене, увидал человека у парапета. «Вы тоже отчаявшийся?» – «Нет, нет, сударь, я парикмахер». Тогда Уайльд раздумал. Ср. примеч. О. Гильдебрандт к дневнику Кузмина 1934 года: М. Бамдас хотел кончать с собой, она ему сказала: «Моня, купите сперва новую шляпу», – он купил и передумал.
Запятая «Я – запятая, а вы угадайте, в каком тексте» (А. Боске).
Заумь Слово «кварк» физики взяли из «Финнигана» Джойса как заумное, но это оказалось венское жаргонное словечко от славянского «творог» (от «творить»). Слышано от Вяч. Вс. Иванова.
Заумь Из письма: «На стене рядом с домом осталась после избирательной кампании надпись „Жил-был мэр“. Она долго меня мучила. Потом я приписала внизу два слова, и получился стишок:
Бессмысленный текст превратился в осмысленный».
Звук Итальянец ругался на извозчика: «Четырнадцать!» – будучи уверен, что такое созвучие может быть лишь страшнейшим ругательством (В. Соллогуб).
Злободневность Катаев написал на книжке «Изразец» Шенгели: «Я глупостей не чтец, а пуще – изразцовых». Шенгели, узнав об этом через двадцать лет, написал в тетрадь эпиграмму на Катаева (РГАЛИ, 2861, 1, 10).
Знак «Семиотически выражаясь, Ахматова стала вывеской самой себя» (В. Калмыкова).
Свидетелем настоящего чуда я был один раз в жизни. У Державина есть знаменитое восьмистишие: «Река времен в своем стремленьи…». Глядя на эти стихи, я однажды заметил в них акростих РУИНА, дальше шло бессмысленное ЧТИ. Я подумал: вероятно, Державин начал писать акростих, но он не заладился, и Державин махнул рукой. Через несколько лет об этом акростихе появилась статья М. Халле: он тоже заметил «руину» и вдобавок доказывал (не очень убедительно), что «чти» значит «чести». Я подумал: вот какие бывают хозяйственные филологи – заметил то же, что и я, а сделал целую статью.
Но это еще не чудо. У хороших латинистов есть развлечение: переводить стихи Пушкина (и др.) латинскими стихами. Я этого не умею, а одна моя коллега умела. Мы летели с ней на античную конференцию в Тбилиси, я был уже кандидатом, она – аспиранткой, ей хотелось показать себя с лучшей стороны; сидя в самолете, она вынула и показала мне листки с такими латинскими стихами. Среди них был перевод «Реки времен», две алкеевы строфы. Я посмотрел на них и не поверил себе. Потом осторожно спросил: «А не можете ли вы переделать последние две строчки так, чтобы вот эта начиналась не с F, а с Т?» Она быстро заменила «flumine» на «turbine». «Знаете ли вы, что у Державина здесь акростих?» Нет, конечно, не знала. «Тогда посмотрите ваш перевод». Начальные буквы в нем твердо складывались в слова AMOR STAT, любовь переживает руину. Случайным совпадением это быть не могло ни по какой теории вероятностей. Скрытым умыслом тоже быть не могло: тогда не пришлось бы исправлять последние две строки. «Чудо» – слово не из моего словаря, но иначе назвать это я не могу. Перевод этот был потом напечатан в одном сборнике статей по теории культуры в 1978 году.
Много позже, в «Русской литературе» за 2000 год, я нашел статью, обнаружившую у Державина акростих на СПИД. Но это было уже не так интересно.
Игра «Современный читатель не хочет читать классиков: жизнь была тяжка, и для социально безопасного проигрывания ее эмоций была придумана литература. Теперь сама эта литература стала тяжка, и для проигрывания ее придуманы легкие суррогаты» (вариация мысли И. Аксенова, слышанная на конференции в Таллинне ок. 1982 года). «Что такое история – скверная или мировая? Игра умных с умными в дураки» (С. Кржижановский. Писаная торба).
Идеал «Ваш идеал женщины?» – «Есть… не могу вспомнить, но есть». – «А идеал мужчины?» – «Мужчин не идеализирую» (Н. Мордяков, художник, резчик, поэт, в «Новой газете», 2004 г.).
Идея «Если голова, придумавшая идею, недостойна ее, идея отбрасывает голову» (С. Кржижановский, там же). Так в Спарте, когда в собрании дурной человек подал хорошую мысль, ему велели сесть, а хорошему человеку – повторить эту мысль.
Ижица
(Стихи рабкора, «Красн. новь»)
«Изгнание – не то место, где можно отучиться от высокомерия», – говорит Ду Фу у Брехта.
-изм Классицизм в школе (в вузе?) следовало бы изучать по Сумарокову, романтизм по Бенедиктову, реализм по Авдееву (самое большее – по Писемскому), чтобы на этом фоне большие писатели выступали сами по себе.
Изнанка «Я всегда говорил, что у каждой изнанки есть свое лицо», – сказал мне В. Холшевников. А психотерапевт говорил: любишь саночки возить, люби и кататься.
Ich und du «Ты – это я, но я – отнюдь не ты» – строчка из пародии Суинберна на философию Теннисона («The higher Pantheism in a Nut-shell»). Если был поэт, самим богом назначенный, чтобы его переводил Бальмонт, так это Суинберн; но Бальмонт не перевел из него ни строчки и предпочитал Теннисона. Даже скандалы у них были одного стиля. Когда после смерти Суинберна разобрали его бумаги, Хаусмен сказал: «Что ж, мазохизм по крайней мере дешевле, чем садизм».
Иконостас Богатая рифма (с опорным согласным) во французской поэзии ценится, а в немецкой считается смешной. Я обнаружил, что когда в русской поэзии начала ХX века стала возрождаться богатая рифма, то первым ее стал вводить Вяч. Иванов – казалось бы, человек не французской, а немецкой культуры. Я сказал об этом С. Аверинцеву, он ответил: «Знаете, бывает, что в иконостасе у человека стоят одни иконы, а молится он совсем другим…»
Имя Ю. М. говорил о современной поэзии: «Фамилий много, с именами – осечка».
Индивидуальность Хорошим в искусстве нам кажется золотая середина (для каждого своя!) между привычным и непривычным: сплошь привычное – «плохая поэзия», сплошь непривычное – «вообще не поэзия». Пародия пародирует или крайности привычного (тогда она жанрово-стилевая – лучше сказать «родовая»), или крайности непривычного (тогда она индивидуальная). Горький пародировал общесмертнический стиль, а Ф. Сологуб принял это за индивидуальную пародию, переоценивая свою неповторимость.
Интеллектуализм Г. Померанц сказал на конференции Г. Левинтону: «Интерпретация без онтологической основы ведет к бездуховному интеллектуализму». Теперь я знаю, кто я такой: я – бездуховный интеллектуалист.
Интеллигенция Е. Путилова: «Сидоров начал говорить: „Я, как интеллигентный человек…“. Я сказала: „Я уже знаю все, что вы скажете“».
Интеллигенция Л. Толстой получил письмо, подписанное Гражданка: «Если народ будет благоденствовать, что же тогда делать интеллигенции?»
Интервьюер говорил: «А вот интересно…» – и, порассуждав, сходил на нет. Я спрашивал: «Как, значит, вы формулируете свой вопрос?» – хватал бумагу и писал ответ письменно (вероятно, казалось, что это разговор глухого с немым). Кончив, я спросил, почему он так бессвязен. «А я работал в „Независимой газете“». – «И кого интервьюировали?» – «Л. Рубинштейн, Сорокин, Пригов…» – «Все ясно, это люди творческие, они, наверное, как Зюганов, который, о чем ни спроси, начинает излагать свой символ веры, – так и они на любой вопрос начинают самовыражаться. Они творческие, им есть о чем самовыразиться, а я – нет, поэтому я с бóльшим уважением отношусь к вашим вопросам» и т. д. Он не возражал, только сказал: «Жаль, что вы не отвечали устно: в разговоре иногда приходят интересные вопросы». – «А мне не приходят интересные ответы».
Интерпретация Не спешите по ту сторону слов! Несказанное есть часть сказанного, а не наоборот.
Интертекст На площади Люблинской унии в Варшаве – магазин под вывеской «Интертекст», по-видимому, что-то текстильное.
Интертекстуальность Эпиграф к ней: «Никто-никогда-ничего-не сказал в первый раз». В соответствии с сентенцией, не помню ее автора.
Интертекстуальность А чем, собственно, интертекстуальная интерпретация лучше психоаналитической или социологической? Те вычитывают в тексте эдиповы и классовые комплексы, а эта – всю мировую литературу, существовавшую до (а иногда и после) этого текста.
Интим Вен. Ерофеев был антисемит. Об этом сказали Лотману, который им восхищался. Лотман ответил: «Интимной жизнью писателей я не интересуюсь».
Интим Э. Юнгер на фронте спросил пленного офицера: как вы относитесь к советскому режиму? Тот ответил: «Такие вопросы с посторонними не обсуждают» («Иностр. лит.», 1990, № 8).
Интонация Бунин рассказывал, что начал читать Мережковского об апостоле Павле, заснул, а проснувшись, увидел, что читает о Наполеоне. А может быть, это были Жанна д’Арк или Дант (восп. Бахраха).
Интонация Есть немало еврейских анекдотов, связанных с вопросительной интонацией. Такой же анекдот случился, оказывается, с той фразой из Библии, которую Лермонтов поставил эпиграфом «Мцыри»: Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю. С повествовательной интонацией это воплощение смирения. Но это слова Ионафана, который во время боя нарушил объявленный Саулом пост, наелся меда и с новыми силами разбил врагов. И когда Саул, несмотря на победу, хотел казнить Ионафана за нарушение поста, тот возмутился: «Я съел чуть-чуть меда – и за это мне теперь умирать?!»
Информация А. Устинов рассказывал: еще до Интернета американские слависты организовали общую сеть e-mail для профессиональных справок. Сразу поступили два запроса: откуда это: «Мы все глядим в Наполеоны» и «Одна, но пламенная страсть»?
И ныне дикой Как известно, при Павле учреждена была цензура, преимущественно для книг, приходящих из‐за границы, но она скоро прекратила свои действия, потому что запрещен был ввоз всех книг, кроме написанных на тунгузском языке (Ключевский).
Искренность Красивым считается то, что редко; искренним – тоже. Пример Б. Ярхо: у скальдов канонизировалась панегирическая песня, а любовная выживала только личным талантом автора, у трубадуров – наоборот. А у Катулла?
История – это область, в которой никогда нельзя начать с самого начала (Я. Буркхард).
«История принадлежит поэтам, потому что из нее ничто не вытекает» (П. Сухотин).
История не телеологична и не детерминирована, это бесконечная дорога в обе стороны до горизонта, русский проселок под серым небом.
История Стиховед Р. Папаян был выдвинут в депутаты Верховного совета Армении, соперниками были три директора и начальник тюрьмы, в которой Папаян сидел когда-то за армянский национализм. (Лотман, у которого он учился, воскликнул: «Вот за что я люблю историю!») На встречах с избирателями тюремщика спрашивали, какого он мнения о Папаяне; у него не хватило ума ответить «примерного поведения», и он говорил: «Много их проходило, всех не упомнишь».
История формирует О. Б. Кушлина в « Неприкосновенном запасе»: я давно поняла, не я стреляю и не в меня стреляют, а меня закладывают в пушку.
ПИСЬМО ИЗ ИТАЛИИ:
Дорогая И. Ю.,
пишу Вам с трети моего пути, из пастернаковского города Венеции. Встречает меня на вокзале здешний мой приглашатель, говорит: «Рад вас видеть в золотой голубятне у воды…» – «…в размокшей каменной баранке», – отвечаю я. Знаете, почему каменная баранка? Поезд подходит к Венеции по длинной дамбе через лагуну (по дороге в Крым точно такая дамба лежит через Сиваш, Гнилое море). И виднеющийся берег Венеции издали надвигается выпуклым полукругом с низкими смутно-каменными строениями по ободу; а вокруг по лагуне маячат редкие камышовые островки, как крошки вокруг баранки. Вот какой реальный комментарий везу я для нашего издания.
К сожалению, этот комментарий – весь прок от Венеции. Оказалось, что доклад мой здесь отменен и я должен пробыть два дня праздным туристом, а я этого не умею. Весь день меня водили по городу два слависта. Помните ли Вы, что у Пастернака есть второе стихотворение о Венеции: «Венецианские мосты», перевод из Ондры Лысогорского, перечитайте, оно хорошее. А потом вспомните, пожалуйста, Марбург; сузьте мысленно его переулочки до шага поперек; на перекрестках вообразите эти самые венецианские мосты, утомляюще горбатые, а под ними «голубое дряхлое стекло», которое на самом деле зеленое и очень мутное; и считайте, что Вы побывали в Венеции. В довершение домашности через город течет москворецким зигзагом Каналь-Гранде шириной с ту Канаву, что возле Болотного сквера, а по ней ходят речные трамвайчики, только почаще и почище, чем у нас. Ходят медленно-медленно, чтобы люди смотрели по сторонам на замшелые мраморные бараки. Домам в городе тесно, они сплющивают друг друга до остроугольности, а каждый дворик называется «площадь».
Чего нет в Марбурге и Москве, так это собора св. Марка, но это очень хорошо. Он страшен патологическим великолепием. Он огромен, под пятью куполами, и на каждой белой завитушке фасада сидит по черному святому. В куполах вытянутые золотые византийские святые, а под ними барочные фрески с изломанными телами и вьющимися плащами. Посредине – православный иконостас, а на нем католичнейшие черные скульптуры двенадцати перекрученных апостолов. Центр внимания – византийская доска в 80 икон, еле видных из-под сверкающего оклада с таким золотом и каменьями, что за поглядение на них берут добавочную плату. Огромный храм так загроможден алтарчиками и амвончиками, что в нем не повернуться, и тесная толпа туристов бурлит по нему, как перемешиваемая каша. Туристы – это стада школьничков с цветными рюкзаками и сытые иностранцы. Я вспомнил римского св. Петра – единственное, что я там видел четыре года назад. В нем только голые мраморные стены, уходящие в неоглядную высь, и такой светлый простор, что даже туристские толпы теряются, как на площади.
Предыдущий город, Болонья, почти гордится тем, что он – не туристический. В нем улицы – как переулки, вдоль всех по сторонам – серые аркады с портиками, радующими мои античные привычки, а между ними протискиваются рыжие автобусы. Тяжеловерхий романский собор сросся из нескольких церквей и похож на темную коммунальную квартиру четырех святых. Над городом, как двузубая вилка, стоят две квадратные серые башни, одна прямая, другая наклонная, и на ней надпись из Данте: «Антей стоял в огненной яме, наклонясь, как болонская башня».
В главном моем городе, Пизе, наоборот, Пизанская башня только притворяется падающей: чуть заметно. А рядом с ней стоит, шокированный ее кокетством, гораздо более привлекательный собор: чинный, угловатый, но весь покрытый колонночками и арочками, как тюлем. Небо синее, трава зеленая, а собор белый. У него купол, как голубая лысина, а рядом на земле стоит другой купол, побольше и попышней, как будто собор снял шапку от жары: это баптистерий. Внутри собора все только светло-серое и темно-серое, как на доцветной фотографии, и от этого ярче маленькие витражи; на одном – ярко-синий бог держит желтую солнечную систему, вероятно Птолемееву. Сам же город – потертый и облезлый, и дом, где кафедра славистики, с виду как каменный сарай. За углом, в ряду других – рыжий трехэтажный домик: «Это все, что осталось от башни Уголино, вот мемориальная доска, а теперь тут библиотека».
Итальянские студенты, говорят, прилежные: это в них официально насаждаются угрызения совести за то, что со времен Данте Италия ничего не сделала в словесности, а только в живописи и в музыке. Мой старый корреспондент, комментатор «Облака в штанах», то ли нервный из почтительности, то ли почтительный из нервности, взял у меня на день две машинописи на свои темы и вернулся в отчаянии: потерял их, забыв в телефонной будке вместе с грудой собственных бумаг. Я в тысячный раз вспомнил незабвенные слова Аверинцева после первой его стажировки: «Миша! непременно поезжайте в Италию, там такая же безалаберщина, как у нас». Кстати, каждый собеседник непременно говорит: «Берегите деньги! здесь Лотмана обокрали, Мелетинского обокрали: это уже традиция».
Венецианский Марк был (как будто) золоченый, пизанский собор – белый, флорентийский – серый (и небо над ним серое – единственный раз за две синих недели). Светло-серый, выложенный темно-серым, – говорят, весь тосканский камень такой. Он как огромная умная голова над городом, на восьми крепких плечах во всю площадь. Купол словно расшит бисером по тюбетеечным швам, но так высок и важен, что этого не замечаешь. Баптистерий, тоже серый по серому, – как восьмигранный мраморный кристалл, а узкая белая колокольня – как четырехгранный карандаш. Все очень знаменитые и присутствуют во всех историях искусства. А на соседней площади стоит очень маленький белый микеланджеловский Давид (копия). Маленький, потому что за его спиной огромный бурый фасад ратуши, плоский и островерхий: он при ней, как привратник. А что копия, так это ничего: неподалеку стоит домик Данте, весь построенный сто лет назад. Рядом через переулочек – вход, как в лавочку, и надпись: «Это церковь, где Данте встретил Беатриче Портинари».
Вот в таких и подобных декорациях я был на двух ученых конференциях. Одна, по европейскому стиху, была в белом монастыре над Флоренцией: покатый деревянный потолок, временами над ним колокольный звон. Я понимал, о чем говорят, но не понимал, чтó говорят. (Впрочем, потом мне сказали, что часто и понимать было нечего.) Другая была в Риме, где делал доклад Успенский. Потом командир итальянских славистов принимал нас дома <…> «Здесь все начальники такие?» – «Нет, есть еще один, он – вальденец». – ? – «Да, как в XII веке: у них свои центры по всей Италии». – «А чем он занимается?» – «Издает „Тень Баркова“ с комментариями». Впрочем, потом мне сказали, что это уже другие вальденцы – из XVI века.
За две недели я чувствовал себя человеком шесть дней: три лекции, две конференции и один день взаперти в гостиничном номере. Хотел разобраться в кирпичной каше родного римского форума, но уже не хватило духу. (Хозяевам сказал: «Там все постройки – императорские, а для меня это уже модерн».) Зато, проезжая, видел вывески: улица Геродота, улица Ксенофана, улица Солона, улица Питтака, кафе «Трималхион». И возле куска древней китайгородской стены стояла узким серым клином пирамида Цестия – чье-то необычное надгробие, античный конструктивизм…
Карцеры на гравюрах Пиранези похожи на что угодно, только не на тюрьмы: пассаж, вокзал, завод, ангар, но простор, а не застенок. Страх простора в XVIII веке?
Катарсис И. Бабель в письме к А. Слоним 26 декабря 1927 года: «Мой отец лет 15 ждал настроения, чтобы пойти в театр. Он умер, так и не побывав в театре».
Кафка Я написал в биографии Овидия: в средние века думали, что ему вменяли языческий разврат, в XVIII веке – роман с императорской дочкой, в XIX веке – политический заговор, а в XX веке – что ему просто сказали: «Ты сам знаешь, в чем виноват – ступай и платись». С. Ав. заметил: «Это уж у вас слишком по Кафке». Оказалось, именно так действовала инквизиция при Галилее: не предъявляла никакой вины, а спрашивала: «Какую вину ты сам за собою знаешь?» Сперанскому при ссылке тоже не было никаких обвинений, «сам понимай за что» (от А. Зорина).
«Каянья много, обращенья нет» (Даль).
Киллер Романист в «Московском листке» за каждое убийство брал сверх гонорара 50 рублей, а за кораблекрушение с тысячей жертв запросил по полтиннику за душу, но тут Пастухов его прогнал.
«Кириллов вам нравится только потому, что он тоже заикается», – сказала Р. Я перечитал главы о нем: нет. Пьет чай, забавляет дитя мячом, благодарен пауку на стене, говорит «жаль, что родить не умею». Уверяют, будто Достоевский обличал: если Бога нет, то все дозволено и можно убивать старушек. Нет, самый последовательный атеист у Достоевского утверждает своеволие, убивая себя, а не других, и не затем, чтобы другие тоже стрелялись, а чтобы оценили себя, полюбили друг друга и стали счастливы. И уважает Христа, который (понятно) в Бога тоже не верит, но учит добру. Такой его Христос похож не только на горьковского Луку, но и на Великого инквизитора: после этого понятнее, почему Христос его поцеловал.
Кстати, «У кого Бог в душе, тому все дозволено» – смысл надписи Б. Пастернака, адресованной дочери Л. Гудиашвили в 1959 году (восп. В. Лаврова). Вот тебе и нигилизм.
Кирпич Постмодернизм – поэтика монтажа из обломков культурного наследия: разбираем его на кирпичи и строим новое здание. У этой практики – неожиданные предшественники: так Бахтин учил обращаться с чужим словом, так поздний Брюсов перетасовывал в стихах номенклатуру научно-популярных книг. В конце концов, и Авсоний так сочинял свой центон. Когда я учился в школе, мы с товарищем выписывали фразы для перевода из английского учебника («У Маши коричневый портфель») и пытались собрать их в захватывающую новеллу; теперь я понимаю, что это тоже был постмодернизм.
Еще к постмодернизму: эпиграфы вместо глав в кульминации повести С. П. Боброва «Восстание мизантропов».
Гл. XII, конец: …Так как еще старая фернейская обезьяна писала об этих: «главное безумие их состояло в желании проливать кровь своих братьев и опустошать плодородные равнины, чтобы царствовать над кладбищами».
Гл. XIII, эпиграф: Наши философы воткнули ему большое дерево в то место, которое д-р Свифт, конечно, назвал бы точным именем, но я не назову из уважения к дамам (Микромегас). И две строчки точек.
Гл. XIV, эпиграф: Привели волка в школу, чтобы он научился читать, и сказали ему: говори «А», «Б». Он сказал: «ягненок и козленок у меня в животе» (Хикар). Две строчки точек.
Гл. XV, эпиграф: Была раскинута сеть на мусорной куче, и вот один воробей увидел эту сеть и спросил: «Что ты здесь делаешь?» Сеть сказала: «Я молюсь Богу». Текст: «Две предыдущие главы хороши главным образом тем, что никак не утомят читателя, доползшего до них. Это их главное достоинство. Автор понимает это. Кроме того, они освящены авторитетами и нимало не запятнаны личными опытами автора. Шутнику остается только сказать своей даме, что это самые интересные главы в повести и что жаль, что таких глав только две, – но так как такие-то главы он и сам может сочинять в любом количестве, то и предоставим ему это приятное занятие. Мы же обращаемся к серьезным людям. Мы, правда, не осмелились сказать это ранее пятнадцатой главы…» и т. д.
Китч «Гурджиев – философский китч», – сказал М. Мейлах. Еще вернее было бы сказать это про всю так называемую философскую поэзию.
Класс Гражданская война началась и кончилась крахом классового чувства перед национальным: началась чехословаками, а кончилась Польшей.
Колесо В природе есть только одно подобие колеса: перекати-поле (А. Битов).
Коллега «Потом я узнал, что картежные шулера тоже говорят друг другу: коллега» (восп. Милашевского).
Коллективные труды «Цусимский принцип, – говорил Н. И. Балашов, – скорость эскадры определяется скоростью самого медленного корабля». Акад. Тарле, когда его часть в каком-то коллективном труде редактировали и унифицировали, сказал: «Почему это когда постное попадает в скоромное, то не страшно, а если скоромное в постное, то нехорошо?»
Коллективный труд: три горы родили треть мыши (кажется, З. Паперный).
Коллективный труд «Такая орфографическая ошибка, которую под силу сделать разве что вчетвером» (Дневник Гонкуров, 23 дек. 1865 г.).
Коловратность В Ереване над городом высился памятник, его сняли, а что поставили? Ничего. Сын сказал: надо кубик с надписью «Неведомому богу».
Комментарий – для какого читателя? Давайте представим себе комментарий к Маканину, написанный для Пушкина.
Компромат Вал. Герасимова сказала: опять начнут обливать друг друга заранее заготовленными помоями. М. Левидов на это заметил: в английском языке есть 86 синонимов драки, но нет помоев (дневник М. Шкапской, 1939 г.). А. С. Петровский говорил, что, когда его хвалят, ему кажется, что его поливают теплыми помоями.
Континуум – по-русски «сплошняк».
Красота как целесообразность без цели. Писатель Гайдар зашел в парикмахерскую: «А вы можете сделать меня брюнетом?» – покрасили; «а кудрявым?» – завили; «ну а теперь, пожалуйста, наголо!» – и, расплачиваясь: «Интересно же!»
Красота Фотография Бальмонта с надписью А. Н. Толстому: «Красивому – красивый» (РГАЛИ, 2182, 1, 140–141).
Красота Гумилев говорил жене: «Помолчи: когда ты молчишь, ты вдвое красивее».
Серия снов О. Седаковой.
Как убили Мандельштама
Мы идем по Манежной площади – очевидно, с Н. Я. Впереди, за три шага – О. Э. Подойти к нему нельзя. При этом мы знаем условие, при котором его заберут, а он нет. Условие – если он остановится у ларька. Ларьков очень много: сладости, сигареты, открытки. Он все время заглядывается, а мы внушаем на расстоянии: иди, иди, иди. Но напрасно. Он остановился, и его увели. Мы выходим на Красную площадь. Там парад. Генерал разводит войска. Войска исчезают, как дым, во все четыре стороны. Тогда по пустой площади очень громко он подходит к Н. Я., отдает честь и вручает рапорт: «1) Удостоверяю, что Ваш муж бессмертен. 2) Он не придумал новых слов, но придумал новые вещи. 3) Поэтому не кляните меня. – Генерал». Мы оказываемся в ложе роскошного театра. На сцене – Киев. Лежит мертвый О. Э., а над ним растрепанная женщина кричит: Ой, який ще гарний!
Как болела Ахматова
Ахматова лежала посреди комнаты и болела. Другая Ахматова, молодая, ухаживала за ней. Обе были ненастоящие и старались это скрыть, то есть не оказаться в каком-то повороте, – поэтому двигались очень странно. Появился Ю. М. Лотман, началась конференция, и было решено: «Всем плыть в будущее, кроме Н., у которого бумажное здоровье».
Как Пастернака отправили по месту рождения
Пастернака я встретила на лестнице, он был очень взволнован: «Подумайте, меня заставили заполнить анкету. Место рождения. Ну какое же у меня может быть место рождения? Я и написал: Скифо-Сарматия. А теперь всех высылают по месту рождения».
Бродский
Бродский приехал из Америки в Одессу покататься на трамвае. Трамвай шел по воздуху над морем цвета чайной розы. Было очень приятно.
Чехов
На переходе «Парка культуры» возле неработающих автоматов стоял Чехов и глядел на толпу таким взглядом, как будто он Христос.
Шостакович
Шостаковичу я сдавала экзамен по древнерусской литературе. Он поставил на пюпитр натюрморт и сказал: пожалуйста. Я, притворяясь, что все остальное мне понятно, спросила: «А сколькими пальцами играть?» – «Конечно, как при Бахе». Откуда-то я вспомнила, что восемью, но это оказалось очень трудно, потому что я загибала не большой палец, а безымянный. Когда натюрморт кончился, оказались обыкновенные ноты. Но я рано обрадовалась: эти ноты были вишни, и если ближние можно было сыграть, то дальние никак. Я придумала наконец – и клавиатура стала круглой, так что дальние ветки оказались внизу. Но на следующей странице появилась уже гроздь – не то винограда, не то сирени, бесконечно многомерная. В отчаянье я отрываю руки от клавиш и шевелю пальцами в воздухе – и звучит неимоверная, божественная трель. Это телефонный звонок.
Кто «Нам нужны не великие потрясения, но великая Россия», – первым сказал не Столыпин, а член министерства внутр. дел по фамилии И. Я. Гурлянд («Отеч. ист.», 1992, № 5, с. 166). См. I, Штука.
Кто? Для Бахтина мысль неотделима от личности. Есть такая садистическая игра – предложить собеседнику несколько малоизвестных стихотворных строк и допрашивать его: хорошо или плохо? Мало кто догадается перевести ответ в «мне нравится» или «я равнодушен» – даже хорошие ценители говорят: «Вы сперва скажите, чье это…» При мне В. Рогов перед коллегами-переводчиками с сокрушительным пафосом прочитал несколько стихотворений и требовал оценки; но даже Левик прежде всего спросил, чьи они. Это оказались стихи Агаты Кристи. Об этом есть известная формула: «Неважно что и неважно как, а важно кто». Я прочитал ее в старом «Крокодиле», но то же самое, оказалось, говорил художник Ренуар. Не правда ли, есть разница в авторитетности? Так в Спарте, когда в собрании… и т. д. (см. Идея).
Кукушка и петух Пастор, венчая двух непригожих молодых, напутствовал их так: «Любите друг друга, дети мои, потому что если не будет в вас взаимной любви, то кой черт вас полюбит» (Вяземский).
Культура Дочери была нужна нервная разрядка, она пошла в магазин и встала в очередь. Сказала соседке: «Крыса!» Та ей: «А еще в очках!» Пришлось ответить: «Сама культурная!» – и та смолкла.
Кумиры современные. «Не поклонюсь твоим коммерческим (т. е. кумирическим) богам» – было в некоторых записях «Царя Максимилиана» задолго до перестройки.
Кутерьма – от тюркского кютерьмек, обряд при выборах хана, когда его поднимали на войлоке, как на щите. Теперь мы знаем этимологию политических событий.
Кухня Когда в МГУ приезжал Якобсон, Ахманова из тревожной осторожности представила его: «Американский профессор Р. Джекобсон». Якобсон начал: «Собственно, меня зовут Роман Осипович Якобсон, но моя американская кухарка, точно, зовет меня м-р Джекобсон». Теперь ссылки на Джейкобсона я нахожу уже в переводных книгах.
«Лаиса – имя, бывшее в распространении среди греческих гетер и ставшее нарицательным для женщин с независимым понятием о моральном кодексе» («Современник», 1982, с. 214).
Латынь Tertia vigilia точно переводится «собачья вахта».
Лепетация – слово в дополнениях к Словарю языка Пушкина (по черновикам). «Сокровищем родного слова / (Заметят важные умы) / Для лепетации чужого / Безумно пренебрегли мы».
«Лежка» В Псковской губ. еще в конце XIX века крестьяне в голодные зимы впадали в спячку, экономя силы: просыпались раз в день съесть кусок хлеба и напиться, иногда протопить печь; называлось это «лежка» (из очерка Лескова «Загон»). Так и Шенгели студентом в Харькове от голода жил лежа.
«Либерская гавридия» – назывался при Дале офенский жаргон.
Э. Фрид
HOMO LIBER 11
Литература факта «Первым лефовским сочинением было „Земледелие“ Катона», – сказал В. Смирин.
Личность – скрещение социальных отношений. Такова была купчиха Писемского, любившая мужа по закону, офицера из чувства и кучера для удовольствия. Раньше я называл себя скрещение социальных отношений, теперь – стечение обстоятельств.
Личность Комментарий к Авсонию, конечно, весь компилятивный, но я и сам ведь весь компилятивный (к сожалению, не импортный, а очень среднерусский). Б. Ярхо писал в письме: «Люди все чаще кажутся мне книгами, и порой я становлюсь в тупик перед замыслом их сочинителя». Так что мое дело как филолога – разобраться в источниках себя.
Личность Я – ничто как личность, но я – нечто как частица среды, складывающей другие личности.
Лицо Лию Ахеджакову спросили, кем она себя чувствует, москвичкой или лицом кавказской национальности, она ответила: кого бьют, тем и чувствую.
Ломовая мышь – родная мне порода. Стать бы чеширской мышью – ломовой улыбкой без плоти.
Лыжи Старый Прозоровский и после Аустерлица считал Кутузова мальчиком, «а этот мальчик (прибавлял Ермолов) и сам уже ходил, как на лыжах» (Вяземский).
Любимые авторы Льва Толстого – Тютчев и… Буренин. «Его „Стрелы“ стихотворения прекраснейшие», – говорил он (Маковицкий). Любимым поэтом Льва Толстого был Беранже, любимым прозаиком Б. Пастернака был Голсуорси. «„Гренада“ Светлова – лучше всего Есенина», – писала Цветаева Пастернаку.
Граф Хвостов
Любовь «Сухая любовь» – платоническая (Даль). «Любовь вперебой» – заглавие раздела в «Частушках» Симакова.
Любовь «Хороший шахматист умеет играть, не глядя на доску, хороший влюбленный – любить, не глядя на женщину» (С. Кржижановский).
Любовь Боккаччо в «Филоколо» различает любовь к Богу, любовь-страсть и любовь продажную: о первой умалчивает, третью презирает, а от второй предостерегает: начало ее – страх, середина – грех, а конец – досада.
Любовь НН остался душеприказчиком большого филолога; тот, зная цену точным фактам, позаботился оставить у себя в архиве собственноручный донжуанский список. Я не удержался и спросил: «Аннотированный?»
Сон в больнице. Голубой гроб, но вместо крышки – голубая же клеенка, приколотая кнопками; надо его выносить, но я замечаю под клеенкой шевеление, вынимаю кнопки из изголовья – из щели, змеясь, вылезает Евгений Онегин в цилиндре, отряхивается и говорит: «Надо что-то делать с Пушкиным».
Марр Набоков и Гете сходны естествоиспытательским взглядом на мир (только Н. приравнивает живое к неживому, а Г. наоборот), а Белый и А. Н. Толстой схожи выведением всего на свете из жеста. Когда критиковали марровский «язык жестов», кто-то сказал: «Да как же в труде мог родиться язык жестов, если руки были заняты?»
Масонство было чем-то вроде тимуровского движения в заформализовавшемся христианстве: идеалы те же, но сдобренные тайной.
Математика «Без меня народ неполный»? Нет, полнее, чем со мной: я – отрицательная величина, я в нем избыточен.
Математика В американском докомпьютерном анекдоте университетский завхоз жалуется на физиков и биологов, которым нужны приборы: «То ли дело математики – им нужны только карандаши и резинки. – И мечтательно: – А философам даже резинок не нужно…» Если философия есть философствование, то да. Эйнштейн о философах: «Как будто у них в животе то, что не побывало во рту».
«Когда число слушателей меньше одного, я отменяю лекцию», – говорил А. Есенин-Вольпин. В университете нам, второсортным отделениям – античникам, восточникам, славистам, – русскую литературу второй половины XIX века читал А. А. Сабуров, автор книжки о «Войне и мире». Читал он так, что от раза к разу аудитория пустела. Он, бросая взгляд с кафедры, изящно говорил: «Наш круг час от часу редеет». Наконец в амфитеатре оказался только один слушатель (это был я) – отменил ли он лекцию, не помню. Потом в блоковском «Литнаследстве» я прочитал дарственный инскрипт Блока Андрюше Сабурову, одиннадцатилетнему: он был племянником Метнеров. А мы и не знали.
Матрешки стали вырабатываться в России с начала ХX века по японскому образцу, первым взялся за это и дал им название один из учеников Поленова.
Мелодика стиха «Я помню, как года три назад на поэтическом фестивале в Питере один поэт пытался бить другого со словами: „Ты зачем, сука, у меня интонацию украл?“» (Л. Рубинштейн. «Еженед. журнал», 2002, № 27).
Мемуары Вечер был чудный, мягкий, теплый, душистый. Полная луна кидала свой свет блестящей полосой по морю, и поверхность воды искрилась жемчужными чешуйками. Воздух был весь насыщен запахом цветущих лимонов, роз и жасмина (Е. Матвеева. Восп. о гр. А. К. Толстом и его жене, «Ист. вестник», 1916, № 1, с. 168).
Мертвым хоронить мертвецов В Вермонте на кладбище есть надпись «ум. ок. 1250 до Р. Х.» Это египетская мумия, ее купил коллекционер, а она подпала под закон штата, запрещающий не хоронить покойников.
Метафизика Карлейль, «Философия свиньи»: «Кто сотворил свинью? Неизвестно. Может быть, колбасник?»
Метонимия в строке Мандельштама «Зеленой ночью папоротник черный» – простейший обмен красками создает устрашающий эффект. Его тянуло к этой гамме, ср.: «И мастер и отец черно-зеленой теми».
Милость «Господи, помилуй, да и нешто подай» (Пословицы Симони).
Минута молчания (когда все встают со стульев: «конский пиетет» – выражался Розанов) в 1960–1990‐е годы в среднем длилась 20 секунд. В «Затмении» Антониони незабываемая минута молчания на бирже длилась все-таки 30 секунд. Когда в античном секторе ИМЛИ мы поминали ушедших, то я никого не поднимал с места, но за полнотой минуты следил по секундной стрелке. Со стороны это должно было выглядеть отвратительно, но время ощущалось не символическое, а настоящее.
Minorities «В Америке негры и евреи борются за место морально-привилегированного меньшинства; а когда изобрели ликвидацию глухонемоты дорогостоящим вживливанием аппаратика в череп, то союз глухонемых протестовал против попытки оторвать человечество от сокровищ культуры глухонемых» (слышано от Т. Толстой).
Мировоззрение «Рок – не музыка, рок – мировоззрение», – сказали мне. Я вспомнил, что еще в 1972 году была конференция о том, что верлибр – это тоже мировоззрение. А для некоторых буква ять – тоже мировоззрение. Г. Н. Поспелов говорил, что мировоззрение у него марксистско-ленинское, миросозерцание чиновничье-бюрократическое, а мироощущение голодранческое (5‐е Тыняновские чтения, с. 434).
Миссия Самое знаменитое место Вергилия в VI книге: «Другие будут лучше ваять статуи и расчислять звездные пути, твое же дело, римлянин, – править народами» [потому что к этому ты лучше приспособлен, чем другие]. У Киплинга из этого вышло «Бремя белых», а у Розанова: «Немцы лучше чемоданы делают, зато крыжовенного варенья, как мы, нипочем не сварят». Щедрин (в «Благонамеренных речах») выразился еще ближе к первоисточнику: «Грек – с выдумкой, а наш – с понятием». Правда, у него «наш» – это Дерунов.
Мозг есть не орган мышления, а орган выживания (говорит биолог А. Сент-Дьердь). Он устроен таким образом, чтобы заставить нас воспринимать как истину то, что является только преимуществом.
Мороз Французов в 1812 году губил не столько мороз, сколько – еще раньше – жара и понос от русской пищи (Уэствуд), особенно тяжелый для конников – вспомним надпись Александра Македонского: «…разбил и преследовал до сих мест, хотя страдал поносом». Русская армия в преследовании от Тарутина до Вильны сама от мороза потеряла две трети.
«Моя милиция меня бережет»: в такой сравнительно небольшой республике, как Башкирия, в 1999 году было 80 000 милиционеров (это 2% населения). Сейчас, наверное, еще больше.
Мужество Н. И. Катаева-Лыткина, видевшая войну, говорила: «Мужество – это у командира, который отсылает солдат и остается погибать у пулемета. И у его солдат, которые слушаются и уходят. Но не у того, который бросается погибать на амбразуру».
Музыка По восп. Сабанеева, у Толстого реакция на музыку была физиологическая: плакал от одного пробного звука нового консерваторского органа («Современные записки», 1939, № 69,). Сабанеев студентом сам показывал Толстому этот орган.
Мы Старый Оксман в письме Чуковскому цитирует: «Нас мало, да и тех нет».
«Мысль изреченная есть ложь», но из этого еще не следует, что мысль неизреченная есть истина. «Между пифагорейцами, которые умели познавать и молчать, и Аристотелем, который умел говорить и сообщать познанное, за спиною у Платона, который с героической безнадежностью бьется вместить в слово полноту молчания, стоит Сократ, который умеет умолкать – подводить словами к молчанию, передавать труд от повитухи-речи – роженице-мысли».
И. Эренбург, 1957
Наука Смешивать любовь к науке с любовью к ее предмету – недопустимо: искусствовед «должен любить Рафаэля не более, чем врач красивую пациентку… Ученый в жизни не должен быть тем же, что в науке: жизнь есть воля, а наука – подчинение» (В. Алексеев. Наука о Востоке).
Наука не может передать диалектику, а искусство может, потому что наука пользуется останавливающими словами, а искусство – промежутками, силовыми полями между слов.
Науки, по Магницкому, делились на положительные (богословские, юридические, естественные, математические) и мечтательные (все остальные).
Фундаментальная наука: во-первых, с одной стороны, это очень инерционная система. Даже совсем прекратить финансирование – она очень долго будет самоликвидироваться.
В. Булгак, вице-премьер по науке («Итоги» 22.7.1997)
Национальность «Я по специальности русский, раз пишу на русском языке» – ответ С. Довлатова в интервью. Русские – это только коллектив специалистов по русскому языку. Если мне запретят говорить и думать по-русски, мне будет плохо. Но если не запретят, будет ли другим хорошо?
Национальность Фет на анкетный вопрос, к какому народу хотел бы принадлежать, ответил: «Ни к которому».
Наш Инструктор горкома партии спросил В. П. Григорьева: «Вы правда считаете „Один день Ивана Денисовича“ хорошей книгой? Ведь он пассивен: почему он не протестует, не борется?» Григорьев сделал большие глаза и сказал: «Он же помнит, что это наш лагерь, а не фашистский». Инструктор сделал неинтересное лицо и сказал: «Ах да, я забыл».
Не опечатка «Всем, кто попал под молох истории» – крупное заглавие в газ. «Карьера», 3.9.1991. Ср. «…науку, чей качественный статус всегда западал между молохами неизбежной междисциплинарности предмета и неизбежной идеологической ангажированности…» (М. Колеров в газ. «Сегодня», 9.12.1995).
Не «Как вы сами определили бы свою болезнь?» – спросил врач. «Душевная недостаточность», – ответил я.
Не «Я никого не предал, не клеветал – но ведь это значок второй степени, и только» (дневн. Е. Шварца). А Ахматова писала: «Знаю, брата я не ненавидела и сестры не предала» – с гордостью.
Не Лучшей рекламой для компьютеров по американскому конкурсу оказалось: «Они не так уж переменят вашу жизнь!»
Недотягивать Бродский о «сталинской оде» Мандельштама: для Сталина это было слишком хорошо, власть любит оды, которые до нее недотягивают. Так Ахматова предпочитала портреты, которые недотягивают, и поэтому Альтмана не любила. Египетской собачине у Мандельштама противопоставлен Вийон, который тоже ведь мог бы написать оду – и, пожалуй, без недотягивания. Бродский сказал: «Сумасшествие Мандельштама – игра: знаю по своему опыту у Кащенко».
Немоложавая женщина – выражение Н. Штемпель об упоминаемой Мандельштамом воронежской Норе. «Женщина неочевидной молодости», – было сказано где-то в другом месте.
Ненависти предмет «Аскету снится пир, от которого бы чревоугодника стошнило» (В. Набоков в «Даре» о революционно-демократической критике). Кто-то применял эту фразу к изображению советского застолья в солженицынском «В круге первом».
Ненависть «У Ю. Самарина ненависть была от недостатка любви к человеку, у Достоевского – от избытка любви к идеалу» (В. Мещерский. Воспоминания).
Ненависть «Я никогда не думала, что ненавидеть так утомительно», – сказала дочь о свекрови.
Ненависть Эренбург говорил Шкапской: «Война без ненависти так же отвратительна, как сожительство без любви. Мы ненавидим немцев за то, что должны их убивать» (дневник 1943 г.).
Неологизм «Какое-то новое слово „бой“: раньше называли „сражение“», – говорил Л. Толстой (по свидетельству Маковицкого) вопреки всякой очевидности.
-нибудь Самая знаменитая фраза К. Леонтьева: «Ибо не ужасно и не обидно ли… что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник… для того только, чтобы буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы на развалинах» и т. д. Замечательно, что это точный стиль гоголевского почтмейстера, а Леонтьев Гоголя ненавидел.
Нить На открытии памятника Жукову Говоров зычным 90-летним голосом говорил: «Жуков красной нитью проходит через всю войну…» А повар Смольного вспоминал (по телевизору), как в блокаду Говорова и Жданова обслуживали маникюрщицы, а врачам, лечившим их штат от обжорства, разрешали брать объедки, которыми те подкармливали вымирающих.
Нравственность «Он считал, что не крадет и не убивает лишь потому, что ему незачем красть и убивать» (Гарпагониада).
Когда я рос, слово «нравственность» не было в ходу, и мне долго не давалось понять, что это значит. Наконец я объяснил его себе строчкой из детских стихов: нравственность – это «что такое хорошо и что такое плохо».
Обварить То, что сделал Грозный с Василием Шибановым: технический термин для начала допроса.
«Образины» – прекрасно перевел И. Коневской заглавие «Гротесков» Э. По.
Объем В «Лит. памятники» прислали перевод «Опыта о человеке» Попа:
Я вспомнил об этом, когда в программе путча 19 августа 1991 года оказалось объявлено: «Восстановить в полном объеме честь и достоинство советских граждан».
О времена! О нравы! Бывало, девушка выйдет замуж: что за жена! что за мать! а теперь выйдет девушка замуж: что за жена? что за мать?
Опечатки в «Русском стихосложении» Б. Томашевского 1923 года: «Стр. 18, 48, 55, 62, 63, 64, 87, 88 напеч. Бог, следует: бог. Стр. 53, 88 напеч. Господь, следует: господь» и т. д. Ср. примеч. к «Мистериям» Байрона 1933 года: «Господь и пр. пишутся с большой буквы только как выступающие и не выступающие персонажи; отступления просим считать опечатками». Акад. Александров сказал: они пишут Бога с маленькой буквы, потому что боятся, вдруг с большой он начнет существовать. (Когда вернули на антирелигиозную доработку том «Средневековые литературные теории», сын, вспомнив Лескова, спросил: «Это чтобы вместо „богородица“ писать „пуговица“?») Возникают неправильные понимания: «…я червь, я бог» (a god) – правильно, а «…я червь, я Бог» – кощунственно.
Опись «Жаль, что в описании внешности О. Мандельштама в деле НКВД говорится „рост средний“, без сантиметров и снимка в рост, как при царе, и отсюда столько споров». – «Это потому, что при царе была задача повторно найти преступника, а НКВД управлялся за один раз» (разговор с О. Лекмановым).
Оригинальность «С замечательной оригинальностью он воспевал звучным стихом красоту природы и человеческую душу, бичуя в то же время сатирой людские пороки и общественную лживость» («Ист. вестник» 1916 г., некролог Ф. В. Черниговца-Вишневского).
Орфография «Одним из требований орфографического режима является унифицированное и грамотное оформление школьной документации» (Сб. приказов и инструкций Мин-ва просвещения, 1983, № 9, с. 30).
Освобождение К. Эмерсон: «Освобождать настоящего Мандельштама нужно от Н. Я. М., а настоящего Бахтина – от Бахтина же: слишком обычен аргумент „Он сам мне говорил“, а говорил он разное – по забывчивости, по переосмыслению, а то и по мистификации».
Отмена Когда Иван Грозный отменял опричнину, он прежде всего запретил упоминать, что она была: за упоминание – батоги (Штаден).
Отупение Мысли, встретясь, прежде чем связаться друг с другом, постоят лоб ко лбу, как бараны.
Охота Всегда знаешь, чего хочешь, и никогда – чего хочется.
Ohrenphilologie На большой конференции во время доклада погас свет. Все замерли: будет или не будет продолжать докладчик? в какой культуре мы живем, слуховой или зрительной? Но свет быстро зажегся, и проблема осталась проблемой.
«Паламед изобрел грамоту не только для того, чтобы писать, а и для того, чтобы соображать, о чем писать не надо» (Жизнь Аполл. Тианского, IV, 33).
Палиндром Моностих Авсония Prima urbes inter, divum domus, aurea Roma Брюсов перевел «Рим золотой, обитель богов, меж градами первый» – в точности обратный порядок слов. Как ни странно – вероятно, случайность. А это палиндромы из газет:
Пантагрюэль (как его лечили от несварения желудка). К юристу пришла пенсионерка с жалобой: «В меня вселилась кибернетическая машина: как вышла на пенсию – стала писать стихи; понимаю, что плохие, а не могу бросить». Читайте хороших поэтов и т. д. Читает, приносит новые стихи, безукоризненно стилизованные под каждого классика. «Ну, читайте хороших критиков: Белинского и проч.» Читает, приносит прекрасно написанные разносные рецензии на собственные стихи. «Тогда напишите рецензии на собственных рецензентов». Написала и помогло: перестала писать (от Н. И. Катаевой-Лыткиной).
Пантеон Английский фильм «Онегин», вопрос к Лив Тайлор: кого из русских героинь, кроме Татьяны, вы знаете? – «Лолиту; Анну Каренину я еще не успела прочитать».
Патент Когда задумывался биографический словарь «Русские писатели» и бросилось в глаза, как странно выглядят Пушкин и Толстой в словнике малых и забытых имен, то А. П. Чудаков хотел предложить вообще пропустить десять крупнейших писателей, дав на них только библиографию. Какой спор был бы за последние места в этом патентнике на великость!
ПГТ «В Америке ведь не города, а поселки городского типа», – сказал Томас Венцлова, литовский диссидент, преподающий славистику в Йеле. Вот такой же и Принстон: серый псевдоготический университет, такая же псевдоцерковь, по-кёльнски поднявшая одно ухо, а вокруг острокрышие дачные домики-кубики с фасадами в дощатую линейку. А после готично-башенного Принстона – кирпичные с наличниками бюргерские дома Гарварда. В тамошней гостинице мне сказали: «Здесь до вас ночевали персидский шах и Солженицын».
Педагогика «Уроки истории могут стать полезны, только когда мы сами перестанем поучать историю».
Я попробовал перевести китайское цю с двойного подстрочника (пословный и пофразный), не допуская для передачи специфики языка личных форм глагола:
Получилось больше всего похоже на «Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд».
Перевод «Автор гораздо меньше думает о читателях, чем переводчик». Потому что переводной текст самим фактом перевода повышенно престижен: это средство иерархизации культуры, и переводчик чувствует свою повышенную ответственность.
Перевод «Подражают, как хотят, переводят, как могут» – формула Фета.
И. Елагин
Перевод Реплики на вечере переводчиков. Первая сказала: «Мы переводим с космического языка на космический, потому что Земля – это культурный пласт Вселенной, но я волнуюсь, потому что у других уже книги, а у меня еще нет». Ее прогнали аплодисментами. Следующий пожурил, что не сумели перевести с ее языка на свой, и начал: «Культура – суррогат экзистенции, поэтому надо переводить не слова, а состояния…»
Переводчик «У всех переводчиков есть и настоящие, задушевные стихи, – кроме настоящих переводчиков».
В суд меня вызывали пока один раз в жизни. Дело было так. Я перевел басни Федра и Бабрия. Бабрия раньше никто не переводил, а Федра переводил известный Иван Барков: два издания, второе в 1787 году. В городе Ярославле, на одном чердаке (именно так) эта книжка 1787 года попалась местному графоману, фамилии не помню. Он рассудил, что такая старая книга могла сохраниться лишь в единственном экземпляре и что такой ценный перевод необходимо довести до советского читателя, конечно отредактировав. У Баркова было написано: «Плешивой дал себе горазду апляуху, / Хотев убить его куснувшу в темя муху» – он переделал «горазду» на «огромну оплеуху». Свою переработку он послал в Академию наук с приложением других своих сочинений: стихи, басни, теоретический трактат, поэма «Юдифь», трагедия «Враги». Никакого ответа, но через полгода в издательстве Академии наук выходит тот же Федр в переводе Гаспарова. Понятно: переводчик познакомился с его трудом и присвоил его плоды, иначе откуда он мог узнать о баснях Федра?
Иск о плагиате, доверенность на привлечение к суду по месту жительства. Районный суд был в замоскворецком переулке, вход через подворотню, тесные коридоры углами, зимняя грязь на рассевшихся полах. Заблудившись, я попал в зал заседаний: дело о разводе, у молодого мужа оглохла жена и стала бесполезна по хозяйству, она измученно смотрела на судью и отвечала невпопад. Когда я нашел нужную дверь, меня дольше всего спрашивали, правда ли я переводил стихами прямо с латинского, неужели знаю язык.
Ярославскому истцу назначили адвоката – торопливую завитую женщину. Сели в коридоре, я положил перед ней перевод истца и свой перевод. Она сравнила две страницы, вскочила и побежала отказываться от защиты. Потом истец прислал еще письмо: «Враги мои, стремясь навязать мне в соавторы некоего Гаспарова и застращав адвоката такую-то… но я не остановлюсь, еще грознее станут мои басни, еще страшнее мои трагедии». Прилагалась басня: «Соавтор и бандит». «Злодей, увидев человека, / подстерег и задержал; / и, ручек у него найдя на четверть века, / как кудесник, угадал, / что перед ним Соавтор оказался. Злодей был добр и мигом рассмеялся…» и т. д.; конец: «но берегись вперед / и знай, с кем ты имеешь дело!» Стиховедчески интересный текст: свободное чередование ямбов и хореев. Судья – прямая и сухая женщина без возраста – с досадой в голосе сказала мне, что суд закрывает дело за недоказанностью обвинения.
Перековка «И если говорить о перековке, то нам желательно, чтобы окружающие люди были умные, честные и чтоб все стихи писать умели. Ну, стихи, в крайнем случае: пущай не пишут. Только чтобы все были умные. Хотя, впрочем, конечно, ум – дело темное. И часто неизвестно, откуда он берется. Так что желательно, чтобы все были хотя бы честные и чтобы не дрались. В крайнем случае даже пусть себе немного дерутся…» (М. Зощенко. Голубая книга).
Переписка К стиху Авсония (Посл. 26, к Павлину, 30) «Чем стыднее молчать, тем труднее нарушить молчанье» комментатор цитирует Вуатюра: «Я не писал тебе шесть месяцев – первый месяц по небрежности, остальные от стыда». «Аграфия» – деликатно говорила о себе Ахматова, боявшаяся письмами скомпрометировать себя перед потомством. Ср. И. Коневской Брюсову 3 мая 1900 года: «Простите мне, В. Я., продолжительную бесприветность: все последнее время чувствовал большой упадок деятельных сил в некоторых орудиях своего живоустройства, который происходил, конечно, от чрезвычайного раздражения и перенапряжения чуятельных нитей…»
Пересказ Пастернак пересказывал письма и речь Шмидта, точь-в-точь как Некрасов записки Волконской (впрочем, с голоса Волконского-сына, потому что по-французски не читал).
Перестановка слагаемых Оглавление сб. «Стихи о музыке», 1982: Байрон Джордж Гордон, Бальмонт Константин, Баратынский Евгений, Белинский Яков, Беранже Пьер-Жан… Мандельштам Осип, Мартынов Леонид, Маршак Самуил, Матвеева Новелла, Мачадо Мануэль, Маяковский Владимир… Как перекличка в юнкерском училище.
Перспектива Из письма: «Не так важно, любим ли мы Пушкина и Овидия, как – заслужили ли мы, чтобы они нас любили. И тогда ясно: не только они нас не любят, но больше: Овидий недоумевал бы на Пушкина, а Пушкин смотрел бы на Блока, как на Жюля Жанена. Под взглядом в прошлое культура срастается в целое (идиллия волков и ягнят на одном хрестоматийном лугу), под взглядом из прошлого – рассыпается на срезы. Как одесская лестница: снизу – сплошные ступеньки, сверху – сплошные площадки».
Петров В Петрозаводске в 1982 году устраивали юбилейное заседание памяти протопопа Аввакума; для начальства было сказано: русского писателя А. Петрова.
Пиар Что это такое, даже в Москве знают только 50%; по России 13% считают, что это название фирмы, 4,5% – что часть компьютера, 1% – что вид проституции. «Пиар занимается написанием концептов и организацией эвентов» («Новая газета», 2001, № 17).
Пиротехника Кант у Алданова перечисляет предметы, которые он преподавал: математика, астрономия, философия, физика, логика, мораль, натуральное богословие, юриспруденция, антропология, физ. география, фортификация и пиротехника. «Кроме этого я, конечно, знаю немного».
Питать «Усталый, я лежал на кровати и питал грустные мысли» (А. Миропольский-Ланг, отдел рукописей РГБ).
Е. Лозинская
«Повесились Цветаева и Санникова» – запись в дневнике Шкапской военных лет. Санникова, жена поэта Гр. Санникова, с первых дней Чистополя была вне себя, кричала о всеобщей погибели и в каждом пролетавшем самолете видела немецкий. Цветаева была у нее, перед тем как уехать из Чистополя. Вера Вас. Смирнова до конца жизни не сомневалась, что это было предпоследним толчком к цветаевской петле.
Подвиг По поводу доклада «Христианское видение Мандельштама» Бродский сказал: «Такой-то столпник в день отбивал тысячу поклонов – страшно не это, а то, что кто-то рядом стоял и считал».
Подтекст Л. Охитович перевела в «Атта Тролле» парафраз из Шиллера парафразом из Брюсова «Может быть, все в жизни – средство / Для певуче-ярких строф». Д. С. Усов сомневался, стоит ли (архив ГАХН).
Подтекст Народная русская песня (М. Ожегова) «Потеряла я колечко» происходит от арии Барберины «Потеряла я булавку».
Позитивизм Я чувствую себя принадлежащим не себе, а низшим и неизвестным силам – и ищу знания их. А другой чувствует себя принадлежащим не себе, а силам высшим – и ищет веры им.
Полифония Сейчас труднее всего для перевода стиль без стиля, прозрачный, бескрасочный, показывающий только свой предмет, – стиль рационалистов XVIII века (Вольтера, Свифта, Лессинга), которого так искал Пушкин. Романтическая полифония рядом с ним ужасает именно своим эгоцентризмом.
Польза С. Липкин о М. Шагинян: «сумасшедшая в свою пользу». Я случайно столкнулся с нею в Гослите, ее вели по коридору, бережно поддерживая с двух сторон, оплывшую, похожую на пикового туза.
По одежке Рассказывала В. В. Смирнова, которая в войну работала в «Знамени». Писатели заезжали в редакцию прямо с фронта. Симонов был каждый раз в новой форме, все удивлялись его щеголеватому белому полушубку. А. Платонов был в потертой шинели, как маленький солдатик, тихим голосом рассказывал ужасы и опять исчезал. Твардовский в гимнастерке, немного пьяный, садился на пол у стола, поднимал круглое лицо и, прищурясь, говорил: «А ведь вы меня не любите!»
Поручения дамские из Смоленской губернии, выписанные в дневнике М. Шкапской (РГАЛИ, 2182, 1, 55) из «Рус. старины» 1891 года. «Увалочку полушелковую модного цвета, чулки ажурового цвета с цветочками, кружева на манер барабанных (брабантских), лорнетку – я близкоглаза. Еще купить хорошего кучеренка да тамбурную полочку. Узнать, почем животрепещущая малосольная рыба, а будете в городе, спросите, который час».
Последствия А. Г. в письме извинялся занятостью: «Страдаю от последствий своих филологических флиртов». Я тоже плачу алименты по четырем научным темам.
Пословица К сожалению, нужно сперва сесть в сани, чтобы убедиться, что они не твои.
Постмодернистская география. Сыну снились совмещенные Греция и Америка: на дальнем Западе правил царь Пирр, от Афин до Фтии царь Петр Великий, в Коринфе на перешейке – Васко Нуньес Бальбоа, к югу – бразильские тропики, к северу – канадская тайга. Всюду греческое безводье, Ахелой пересыхает, только в Коринфе бьет Пиренский источник. Сойдясь на конгресс, два царя идут отвоевывать питьевую воду, Бальбоа уходит на юг в сказочные пелопоннесские леса и действительно открывает там реку амазонок с чудовищами по берегам. Пирр шлет за ним войско, но оно засыпано где-то в этолийской пустыне, Петр шлет наемного убийцу, но убийцу съедает лернейская гидра… Кажется, у сюрреалистов в одном альманахе была похожая карта мира.
Правда «Зачем вы всегда кричите, когда говорите правду?» (Ж. Ренар, дневник).
Правда Д. Самойлов: «Поэт, желающий участвовать в реальном общественном процессе, не может быть стопроцентно правдив, но зато обязан сознавать всю меру неправды, которую несет его поэзия».
Право Щедрин в «Дневнике провинциала»: «Никогда я так ясно не сознавал, что пора пить водку, как в эту минуту» (когда в газете написали: «право благодарить есть лучшее и преимущественнейшее наше право»).
Право Сыну в периодике попалась статья: «Правовые средства защиты от наводнений».
Право Ты не имеешь права на существование? Пусть так, но заслужил ли ты право на несуществование? Единственный дозволенный тебе вид самоубийства – сгореть на работе. Не можешь? То-то.
Право У меня нет прав человека, у меня обязанность человека – понимать; и я плохо с ней справляюсь.
Препятствовать Начальник немцев Ламсдорф обещал передаться Лжедимитрию со всей дружиною, но, пьяный, забыл о сем уговоре и не препятствовал ей отличиться подвигами (Карамзин).
Пресекать В нацистских инструкциях по проведению собраний говорилось: если будут попытки петь «Deutschland über alles», то пресекать, потому что опыт показывает, что никто не помнит больше одной-двух строф.
Преступность Организованная преступность – это грызня между богатыми и их наемниками; среднего человека, вроде меня, она разве что заденет случайной пулей. А что помимо всякой организованной преступности в любом темном переулке ко мне может подойти человек и ради чистого удовольствия набить мне морду и снять с меня потрепанное пальто или ждущие ремонта часы, – так с этим постоянным ощущением я живу всю жизнь, с детства, при всех режимах.
Природа Дочь персидского посла, учившаяся в МГУ в 1947 году, стоя перед «Явлением Христа народу» в Третьяковке, говорила: вот у нас всегда такая погода (рассказывала Е. В. Старикова).
Приставка «Вычеркнули из истории, а потом опять вчеркнули». «Вкус – это въученное в тебя в отличие от выученного тобой».
«Притоны ангелам своим» отвел Аллах на Чатырдаге (Лермонтов. Сочинения: В 6 т. М.; Л., Наука, 1954. Т. 2. С. 116).
Прихотливость «Чем плохи олени, так это неприхотливостью: ничего не хотят, кроме ягеля» (К. Симонов).
Пробирка «Трудности современного христианства повсеместны и объективны. Как объяснить „Царю небесный“ и „Отче наш“ человеку немонархического столетия, выращенному в пробирке?» (сказал Н. Котрелев на «толковище» – на конференции «Кризис России ХX века»).
Прогресс – это как поэт, который для должной картины под стихами похуже ставит старые даты, а под стихами получше – недавние. Маяковский и Есенин делали наоборот, демонстрируя свое вундер-начало.
Прогнозы «Прогнозы строить трудно, особенно на будущее» (приписывалось Черномырдину).
Омри Ронен из Анн-Арбора – лучший, пожалуй, из сегодняшних мандельштамоведов. Он венгерский еврей, сын коммунистов-эмигрантов, родился в 1937 году в Одессе, рос в Киеве, в 19 лет воевал на баррикадах в Будапеште, чудом был спасен израильской контрразведкой, защитил диссертацию по Кольриджу в Иерусалиме, а вторую, по Мандельштаму, – в Гарварде у Якобсона; а защитив, отказался от места в Америке и собрался обратно – делать израильскую науку. Якобсон накричал на него: «Ваш Израиль – глухая научная провинция, вы сбежите оттуда через несколько лет, но тогда уже я не стану помогать вам в Америке!» Все так и вышло.
Так вот этот самый Ронен за три месяца предсказал Якобсону Пражское восстание, тот не поверил: «Это вы, венгры, сумасшедшие, а чехи рассудительны». Потом отказывался это вспоминать: по словам Эренбурга, о своих несбывчивых прогнозах Якобсон говорил: «Это была рабочая гипотеза». А неудобозабываемое объявлял диалектическими звеньями в структуре своего развития: строил свою биографию (как А. Белый).
Просветительство Япония после 1868 года так быстро догнала Европу потому, что стала срочно переводить не только учебники по металлургии и пушечному делу (как у нас при Петре I), а и Шекспира и Эпиктета. Я не могу простить Солженицыну обидного слова «образованщина». Без этой образованщины (а по-старинному говоря, просветительства) ни в России, ни в Африке – нигде ничего не получится.
Просвещение Вдова Клико, завоевав в 1814 году русский рынок, дарила зафрахтованным капитанам в приложение к грузу французского Дон Кихота в шести томах (Р. Дутли, 1991).
Просвещение Л. Соболева вписала в глоссарий к своей поэме про Дедала слово «вепрь». Зачем, ведь все знают! Спросила одного соседа, сказал «еж», другого – «медведь». А по данным «Литературной газеты» (ноябрь 1985 года), из двух десятков людей с высшим образованием только один мог правильно объяснить, почему меняются времена года.
«Психоанализ все возводит к сексуальным побуждениям, кроме самого себя» (Карл Краус).
Психоз «Ощущение сделанности, смоделированности окружающего мира – признак тяжкого психического заболевания». А Божье сотворение мира?
Психоррея, излияние души, – термин С. Кржижановского из «Автобиографии трупа».
Путь (Дао: «Что есть дорога, то не есть путь»). «До Египта недалеко: далеко до Южного вокзала», – говорил Карл Краус.
Путь «Нельзя тебе идти путем спасенья, пока ты сам не станешь тем путем» – ранние стихи В. Меркурьевой (от блоковского «пока не станешь сам как стезя».)
Кл. Лемминг
Работа Когда не хочется работать, можно сказать: «у меня санитарный день» или «переучет».
Работа У моего шефа Ф. А. Петровского над столом была приклеена надпись: «Сущность научной работы – в борьбе с нежеланием работать. – И. П. Павлов». Туган-Барановский начинал свой курс словами: «Труд есть дело более или менее неприятное…» Ср. в записях К. Федина: «Если хочешь из легкой работы сделать трудную – откладывай ее».
Развитие по формалистам: с оглядкой через голову отцов на дедов или дядей. Но у русской культуры развитие сверхускоренное, в ХX веке мы пропустили несколько ступеней и запутались, хвататься нам за память о дедах или прадедах.
Разница мировоззрений Инженер смотрит на отказавший механизм и возмущается, почему, мол, он не работает, а гуманитарий смотрит на работающий и восхищается, какое же это чудо, что работает-то! (Р. Дуганов).
«Разорвись надвое, скажут: а что не начетверо?» (Даль). «Увидим», – сказал слепой; «услышим», – сказал глухой; а покойник, на столе лежа, прибавил: «До всего доживем».
«Революцию делают не голодные люди, а сытые, которых один день не покормили» (Авторханов).
Революция За два дня до Февраля у Керенского собрались товарищи и согласились, что революция в России никак невозможна (Палеолог).
Революция Афиша: «Кино французской и советской новой волны; весь доход от фестиваля пойдет на уличную съемку первого фильма о будущей революции».
А. Э. Хаусмен
РЕВОЛЮЦИЯ 12
(Ямб и рифмы не сохранены.)
1922
Редакция Психолингвисты отмечают, что склонность к переработке текста – черта душевнобольных. Предлагался отрывок прозы (из Сент-Экзюпери): «Что можно сделать с этим текстом?» Нормальные даже не понимали вопроса, а те тотчас начинали редактировать (иногда очень тонко), пересказывать от первого лица и проч. (слышано от С. Золяна). Собственно, это черта не только редакторов, а и писателей. Ср. анекдот о Дятле-редакторе из «Лесной газеты», который, не найдя что изменить в коротеньком объявлении о птичьем концерте, напечатал его вверх ногами.
Редупликация Стихотворение С. Вургуна «Кавказ» в 1948 году (при жизни!) в переводах К. Феоктистова и А. Адалис вошло в «Избранные стихотворения» как два разных, а в 1960‐м оба разных вдобавок были переведены для болгарского издания («Лит. Киргизстан», 1982 г.).
Рецепт Дубельт писал: «В распоряжении ученых есть и целительные средства, и яды, поэтому они должны отпускать ученость только по рецептам правительства».
Римская империя «Будьте рабами, но не становитесь холуями», – сказал, уезжая в 1920 году, историк М. Ростовцев. Мне кажется, я был именно таким.
Риторика Ольга Форш ждала трамвая, пропустила четыре, прыгнула в пятый; ее снял молодой милиционер, сказавши: «Вы, гражданка, не столь молоды, сколь неразумны». Она пошла прочь, растроганная, и лишь потом сообразила, что он попросту сказал ей старую дуру (из дневн. М. Шкапской, РГАЛИ).
Рифма Д. Самойлов говорил О. Седаковой: если вам за перевод платят 1 р. 20 к. за строчку, то на рифму из этого идет 20 к. Вот такие рифмы им и выдавайте: за -анье – -енье в самый раз.
Род «Fatum опутало меня цепями», – писал еще Ап. Григорьев – почти как «это есть великое проблема» в «Восковой персоне». Ф. А. Петровский уверял, что в молодости видел парикмахерскую с надписями: «мужской зал», «женская зала», «детское зало».
Родина слонов Радио, 4 октября 2003 года: «Сегодня День защиты животных. В России он происходит под знаком защиты слонов».
«С»
Сад Саади в русских переводах XVII века назывался «Кринный дол» и «Деревной сад».
Самое «Что самое удивительное? – То, что завтра будет завтра» (из арабского катехизиса, вроде «Голубиной книги»).
Самомнение «Ахматова говорит, что Срезневская ей передавала такие слова Гумилева про нее: „Она все-таки не разбила мне жизнь“, – но сомневается в том, что Срезневская это не фантазирует» (В. Лукницкая).
Свадьба С. Аверинцева. После пышного Дворца бракосочетаний идем к нему домой, где в тесном застолье он читает нам Фому Аквинского – вопрос, ложный ответ, опровержение, истинный ответ. Запомнились изнанки разгораживающих комнату шкафов и полка с греческими книгами над его рабочим столом, крытым газеткой.
Свобода воли Французский матрос сказал И. А. Лихачеву: у вас очень хорошо, только нет кафе, и правительство ваше не предоставляет выбора между пороком и добродетелью.
Свобода «За свободу не нужно бороться, свободе нужно учить».
Свобода Неприятная свобода – это осознанная необходимость, а приятная – неосознанная необходимость? Или наоборот? Осознанная необходимость – это и есть приятие ответственности (осознанность) за не зависящие от тебя твои и чужие поступки (необходимость). Как у царя Эдипа.
Свобода, по словарю Бирса:
Связь времен От Авраама прошло около ста поколений: «Жизнь коротка, но довольно и ста моих жизней, / Чтобы заполнить глотающий кости провал…». Маленького Р. Грейвса гладил по головке Суинберн, а Суинберна благословлял Лэндор, а Лэндора доктор Джонсон. Германа Лопатина воспитывала нянька, которой в детстве Пугачев подарил пятак. А Витженс начал книгу о Вяземском словами: «Вяземский родился в последние годы жизни Екатерины II, а умер в первые годы жизни В. И. Ленина». На конференции к 125-летию рождения Вяч. Иванова Дм. Вячеславич начал: «А когда мы уезжали из Баку, было 125-летие рождения Пушкина». «Счет времен по рукопожатиям», – говорил, кажется, Эйдельман. Впрочем, Берестов сказал: «Я знал Маршака, а молодого Маршака Стасов водил к сыну Пушкина, и тот, глядя через широкое окно на город, говорил: „Да, прекрасно это у Лермонтова: Брожу ли я вдоль улиц шумных…“» («Нов. лит. обозр.», № 20, с. 431).
Из письма В. С. Баевского: «Горько думать, что после смерти Пушкина всем людям, связанным с его гибелью, стало лучше. Или во всяком случае не хуже. Николай I дождался-таки своего часа, и Нат. Ник. стала его наложницей. Потом под его покровительством благополучно вышла замуж за Ланского. После гибели Пушкина все ее денежные затруднения кончились: об этом позаботился царь. Дантес прожил долгую жизнь и сделал большую политическую карьеру. Екатерина Ник. хорошо прожила с ним всю жизнь. Геккерен до глубокой старости успешно продолжал дипломатическую карьеру. Никто из авторов анонимного пасквиля так и не был разоблачен».
Связь событий «Я могу понять, как ваша связь продолжалась, но не могу – как началась», – сказал Н. «А я могу – как началась, но не могу – как продолжалась», – ответила М. (Вяземский).
Сделай сам В Киеве в 1920‐х годах рано умерший писатель разрабатывал технику романа, в котором читатель сам бы мог на любом повороте выбирать продолжение по своему вкусу. Та же идея была у Лема в «Идеальном вакууме», а теперь так делают компьютерные игры. Если брать не сюжет, а мысль, многомерно разветвляющуюся в разных направлениях, то к передаче этого стремился Розанов, делая под страницами примечания и примечания к примечаниям. А к «Листьям» он мог бы добавить нумерацию отрывков и указания на возможные последовательности дальнейшего чтения, как у Кортасара. Могли бы получиться очень связные и вполне взаимоисключающие варианты мысли.
Секрет Джолитти советовал: каждый секрет сообщайте только одному человеку – тогда вы будете знать, кто вас предал. Это сюжет «Ваты» Б. Житкова.
Семантика Русское «чиновник» немцы переводят Tschinovnik, а немецкое Beamte мы переводим «должностное лицо» – во избежание семантических обертонов, заметил Ф. Ф. Зелинский («Из жизни идей»).
Семиотика «Знак, который сам прочесть себя не может, хотя иногда сознает, что он знак» – так Волошин определял демонов (Волошинские чтения, 1991, с. 65–66).
Семиотика Гиперсемантизация, атмосфера искания знамений (Блок с матерью, видящие тайный смысл в каждой улитке на дорожке, метерлинковская пустая многозначительность) – не рискует ли в это впасть семиотика? Моя мать говорила мне: «Жаль, что ты не успел познакомиться с Локсом: он еще умел замереть с ложкой супа в руке и сказать: „сейчас что-то случается“».
Семиотика Лотмановское представление: «культура есть машина, рассчитанная на сохранение старых смыслов, но из‐за своей плодотворной разлаженности порождающая новые смыслы», – лучше всего иллюстрируется у Рабле диспутом между Панургом и Таумастом.
Семь Л. Вольперт рассказывала, как принимала первые экзамены и еще не знала, за какое незнание что ставить. Пришел пожилой заочник и сказал: «Семь». Она не поняла (десяток? бутылок?). Он сказал: «Семь детей». – «Ну, отвечайте только на один вопрос». (Я не удержался и спросил: «Он сказал: три с половиной?») Все кончилось благополучно.
Семь Уже трудно жить, семь раз отмеривая: к седьмому отмеру забываешь первый.
Сергей И. И. Давыдов, профессор Московского университета, клялся С. Г. Строганову, С. С. Уварову, С. М. Голицыну и С. Гагарину, что в честь него-то и назвал сына Сергеем («Рус. старина»).
Серебряный век Латинский II век н. э. получил золотую отметку по политике и серебряную по словесности.
Система мер На одной из тимофеевских конференций по стиховедению предлагалось оценивать стихотворения по средним данным опросов читателей и измерять кернами (по «Я помню чудное мгновенье»). У туристов считается, что красота Кавказа – 10 селигеров, Урала – 15, тувинский Бий-Хем – 40 селигеров.
Слезы Россини плакал три раза в жизни: когда освистали его первую оперу, когда, катаясь на лодке, уронил в озеро индюшку с трюфелями и когда слушал Паганини.
Скрещение социальных отношений Мне оно представляется как восковая человеческая фигурка, в нескольких направлениях проткнутая торчащими спицами, как у Феокрита в «Колдуньях».
Слишком С. Кржижановский был незамечен репрессиями, как Гулливер среди лилипутов: слишком выделяющееся не бросается в глаза (В. Калмыкова).
Слово Для Асеева ручательство за точность слова – его соответствие первоначальному внутреннему образу (или это Хлебников?), для Пастернака – сиюминутному подворачивающемуся на язык узусу (культ первого попавшегося слова, «и счеты сведу с ним сейчас же и тут же»), для Цветаевой – предопределенной слаженности с контекстом, на которую рассчитан его звук и смысл.
«Смерть не более чужда, чем начальство» (записки О. Фрелиха).
Смерть «В то время люди еще знали наперед день своей смерти и зря не работали. Христос потом это отменил» (легенда у Короленко).
Смерть «Все-таки я счастливый: Я ведь дожил до собственной смерти» (Баллады Кукутиса).
Смерть Умереть не страшно, страшно умирать.
Как-то на даче я играл с хозяйским котенком, он неистово бегал по мне, возился – и вдруг упал на бок, вытянул лапы и замер (они умеют так внезапно засыпать). Домашние заволновались, что с ним. Я ответил: «Как что? Умер», – осторожно снял с себя и положил в сторонку. Мне удивились, и я тоже удивился: разве не все должны умереть?
Смерть В девятом томе Краткой лит. энциклопедии исчезли справки «репрессирован – реабилитирован», но о Франк-Каменецком (умер в 1937 году) специально оговорено: от несчастного случая.
Смерть Расплывающийся, как в ненаведенном бинокле, образ смерти, по которой я собою стреляю – недолет, перелет – и стараюсь угадать нужный срок.
Смерть Тянешь лямку, пока не выроют ямку (запись М. Шкапской).
Совет «Спрашивай ближнего только о том, что сам знаешь лучше: тогда его совет поможет» (Карл Краус).
Согласие и примирение Как только Ельцин открыл глаза после операции, он попросил ядерный чемоданчик, как будто боялся, что третью мировую войну начнут без него. На больничной койке он подписал указ о том, чтобы 7 ноября было «праздником согласия и примирения».
Сознание Была знаменитая фраза, приписывавшаяся Сабанееву: Берлиоз был убежденнейшим предшественником Вагнера. С. Ав. вспомнил статью Лосева, где сказано, что Аристотель не сознавал, как сознательно он завершал античную классику.
Сонник В «Вестнике древней истории» отложили публикацию сонника Артемидора – до идеологического пленума. Сын спросил: а что у него значило видеть во сне идеологический пленум?
Социализм. Когда-то коллега попросила меня объяснить ее дочери-школьнице разницу между капитализмом и социализмом – не так глупо, как в школе, но и не так, чтобы за это понимание сразу забрали в участок. Я сказал: в основе каждого социального явления лежит биологическое. В основе капитализма – инстинкт алчности: идет борьба, победители получают лучшие куски, а побежденным платят пособие по безработице. А в основе социализма – инстинкт лености: все уравнительно бездельничают, а пособие по безработице условно называют заработной платой. Лишь потом я прочитал в письмах Шенгели: «Социализм – это общественная энтропия». Кто тоскует о социализме, тем я напоминаю: теперешний лозунг – «каждому по его труду» – разве он не социалистический?
Социологический метод В 20‐е годы литературоведы спрашивали классиков: а ваши кто родители? В 30‐е они стали спрашивать: чем вы занимались до 17‐го года? Состоял в тайном обществе – хорошо. Некоторые оставлялись на подозрении. Американский сборник статей о социологии русской литературы начинался: «Неправильно думают, будто советская идеология задушила формальный метод: опыт показывает, что он воскрес. Кого она задушила насмерть, так это социологический метод».
Специализация Н. в Венеции познакомилась с проституткой, специализированной на обслуживании приезжающих русских православных иерархов.
Спички Разговор: «А какие у него стихи?» – «Ну какие?.. четвероногие. Строфы как спичечные коробки».
Способности и потребности: У кого больше способностей, кормят тех, у кого больше потребностей, и первые досадуют, а вторые завидуют.
СССР – не тюрьма народов, это коммунальная квартира народов.
Старость «Молодость не без глупости, старость не без дурости»; «Кабы снова на свет родиться, знал бы, как состариться» (Даль). От старых дураков молодым дуракам житья нет.
Старость «Человек привыкает жить, помня о том, каким он кажется окружающим, и теряется, когда эти окружающие вымирают». Не то чувствуешь, что ты стареешь, а то, что мир вокруг молодеет. «Старость – второе детство»: потому что дети живут в чужом мире старших, а старики в чужом мире младших.
Старое и новое В фольклоре «новый» значит «хороший», «нова горенка» например (напоминает С. Никитина).
Статистика типа «раз-два-много».
Статистика В конце 70-х – начале 80‐х годов через вытрезвители проходило ежегодно по 17 млн человек: по 46 тыс. в день, 1% всего городского населения в месяц.
Статистика С каждым собеседником нужно говорить фразами оптимальной для него длины, как в стилистической статистике; а я не сразу улавливаю нужную.
Недописанные стихи
В детстве мир был большой и разный, мне хотелось его понять, т. е. упорядочить. Мне нравилась история: казалось, что, если написать подробную-подробную историю, в ней найдет свое место все: как получились и песок, и деревья, и молоко, и пишущая машинка, и кардинал Ришелье, и страна Гватемала. Может быть, даже весь вчерашний день со всеми подробностями. Когда мне было десять лет, я стал конспектировать книги Вересаева о Пушкине, потом школьный учебник истории для старших классов, в пятнадцать лет я доконспектировал пять толстых томов «средней истории» до XVI века. Сейчас, в старости, мне гложет душу, что я так и не упаковал мир по ящичкам и клеточкам.
Стиль «Это постоянное времяпровождение их вместе вскоре явилось причиной тяжелых переживаний для меня, о которых я скажу впоследствии» (Б. И. Збарский о Б. Пастернаке и Фанни, «Театр», 1988, № 1, с. 190). Ср. название главы (ч. Х, гл. 21) в «Воспоминаниях» А. Цветаевой: «Встреча нами в двух маминых старинных шубах Сережи Эфрона на Николаевском вокзале».
Стиль «Они [дома из прессованного камыша] ничем не отличались от обыкновенных каменных домов, за исключением неверия в их прочность людей, обитавших в них». Это Паустовский! (Повесть о жизни. Собр. соч., т. 5, с. 519.)
Стиль – совокупность литературных приемов, позволяющих пишущему ничем не отличаться от других.
Стиль и стилизация Стиль – это самоограничение (не употреблять слов, которые были невозможны у Пушкина). Стилизация – это, наоборот, экспансия, нагромождение (употреблять как можно больше слов, которые характерны для Пушкина и ни для кого другого).
Страх Девочку спросили, какого цвета снег. Она честно ответила: розовый, желтый и голубой. «Но он же белый!» Девочка испугалась крика и дальше молчала. Ее записали в необучаемые.
В Эрмитаже занимались ребята-инвалиды, их посадили на полу перед портретом Ван Дейка с изысканно-расслабленной кистью руки на переднем плане: «Попробуйте понять, что думает Ван Дейк, глядя на вас». Долгое молчание, потом один вскакивает, кричит в лицо Ван Дейку: «Ну и что ж, что я в валенках!» – и выбегает. Я похож на него.
Строить переборки в себе так, чтобы мысли для одного не смешивались с мыслями для другого.
Стыд Есть за кого стыдиться, да не перед кем. «Умер последний, которого стеснялись», – начиналась самиздатская заметка Оксмана о Чуковском.
Летом в Переделкине Чуковский занимался английским с внуком, а заодно уж и с моим товарищем («прерывать на лето нельзя»), а заодно уж и со мной, как товарищем моего товарища («вместе интереснее»). Я боялся идти, он прислал приглашение «пожаловать к Корнею Чуковскому, литератору», против «литератора» устоять было уже невозможно.
Казалось, ему интереснее всего было дознаться, на что способен каждый из нас. «Диктовки» его были не совсем обычные: он диктовал по-русски, а записывать мы должны были по-английски. Фразы были странные, например такие: «Вежливый вор приподнял шляпу и сказал: „Старинные замки лежат во прахе, господин инспектор!“» Переводы с английского мы делали соревновательно. Он дал нам книжечку с очень милой английской сказкой о страшном чудовище, которое было вовсе не страшным и поэтому очень тосковало, что все его считают страшным (трогательная сказка, я ее в молодости очень любил), и к каждому уроку мы должны были переводить порознь по несколько страничек. На уроке переводы сравнивались, и удачи и неудачи отмечались на полях крестом или минусом. За какой-то удачный оборот он поставил одному из нас сразу три креста. Его маленький правнук, присутствовавший при наших уроках, воскликнул: «У-у-у!» Корней Иванович необычайно обрадовался: «Смотрите, смотрите, он уже за кого-то болеет!» А когда переводы – гораздо чаще – были плохи, он делал выговоры деликатно и весело, чаще всего при этом упоминались «палочные изделия». Он любил рассказывать, как однажды в Сухуми заметил киоск с объявлением: «Продаются палки»; приехал на следующий год, а вывеска уже новая – «Продажа палочных изделий». Лет через десять я рад был найти этот пример в новом издании его «Мастерства перевода».
О чем можно говорить с 14-летним школьником? «Кем хотите быть? историком? замечательно интересно! Знаете, какие казни были в Англии при Шекспире! Настоящий театр! Преступнику нужно было от тюрьмы до эшафота пройти браво, перешучиваясь с толпой, и еще бросить кошелек палачу, чтобы тот хорошо и быстро сделал свое дело, – а если казнимый уклонялся от обычая, народ был очень недоволен».
Много позже я понял, что это он описывал самого себя. Критику, ему всю жизнь приходилось заниматься не тем, чем хотелось, и он гениально заинтересовывал себя неинтересным. «Бесплодные усилия» – самая плохая пьеса Шекспира? значит, надо перевести и показать, что хорошая. Когда в гимназии учитель сказал, что отрицание «отнюдь» устарело, он подбил ораву камчаточников вместо «нет» отвечать только «отнюдь». Осповат сидел у него секретарем за стеной, когда пришел В. Непомнящий: он что-то подписал, ему обещали – если покается, не прогонят. «Кайтесь!» – «Но…» – «Если не хотите каяться – ищите другую профессию» и т. д.
Суть В легенде о Януше Корчаке у нас забывают самое главное и достоверное. Его спросили, что он будет делать, если доживет до конца войны. Он ответил: «Пойду заботиться о немецких детях, оставшихся сиротами».
Суффикс Гумилев с товарищами потешались над стихами про Белавенца, «умеревшего от яйца». А теперь Л. Зорин пишет: «По ночному замеревшему Арбату…» («Нов. газ.», 2.12.1991), а Т. Толстая (в альм. «Московский круг») – «замеревшие» и «простеревшие ветви».
Счастье Берлиоз говорил: у Мейербера не только было счастье иметь талант, но и талант иметь счастье (Стасов).
Сюрприз С. Трубецкой говорил: предъявлять нравственные требования можно только к своим детям (см. I, Дети), а когда встречаешь порядочность в других, это приятный сюрприз, и только. (восп. Ю. Дубницкой).
Табу Это слово есть у Даля (в «живом великорусском»): «у нас табашная торговля табу».
Taedium Леонтьев писал Губастову: война не скучна, но опасна, работа не опасна, но скучна, а брак для женщины опасен, а для мужчины скучен.
Так Громеко спрашивал Толстого, так ли он понимает «Анну Каренину»; тот отвечал: «Разумеется, так, но не все обязаны понимать так, как вы».
Талант Флоренский в письме от 24 марта 1935 года о Белом: «При всей своей гениальности отнюдь не был талантлив: не хватало способности адекватно оформить свои интуиции и не хватало смелости дать их в сыром виде».
Текстология Как быть с Пастернаком, Заболоцким и другими переделывателями своих ранних стихов? Я вспомнил, как в ИМЛИ предлагали академическое издание «Цемента» Гладкова со всеми вариантами; директор И. Анисимов сказал: «Не надо – слишком самоубийственно». Пастернака с Бенедиктовым впервые сравнил Е. Г. Эткинд (а до него Набоков?), но что Бенедиктов тоже и так же перелицовывал свои ранние стихи, тогда не вспомнилось.
Тема Звягинцевой в гимназии задавали сочинение на тему «А звуки все лились и звуки все рыдали» (РГАЛИ, 1720, 1, 64).
Терминология От случайной избыточности терминов: рассказ, новелла, повесть, роман – и нехватки, например, romance-novel изыскиваются небывалые жанровые тонкости. Три слоя употребления терминов: в разговоре, в заглавиях и подзаголовках, в критике и литературоведении. Роман в XVIII веке был разговорным термином, а на обложках писалось повесть. Роман-эпопея – сейчас критический термин, значит, выйдет и на обложки. Если выживут толстые журналы. Во Франции их не было, и объемы романов определялись издательскими удобствами: 220 стр. или, в два тома, 440 (или 2200, как у Роллана). А у нас в журналах с продолжениями объемы разрастались до «Войны и мира» и «Карамазовых». «Жанр-панорама, где ничего не разглядеть; жанр, только в России не доживший до собственной смерти», – писал Бирс. Двоякое написание термина подало одному коллеге мысль различать риторику, которая плохая, и реторику, которая хорошая.
Тест Внучка отлично прошла собеседование в первый класс, не смогла только сложить простенькую мозаику. Ей сказали: как же так? – она ответила: «Неразвитость пространственного воображения».
Товарищи Самая человечная сцена в «Пиковой даме» – свидание Лизы и Германна утром: у нее разбито сердце, у него надежды, она должна его ненавидеть, он вымещать, а они сидят как товарищи по несчастью (что бы сделал из этой сцены Достоевский!), и она ему помогает.
Тост после Тыняновской конференции: чтобы филологи понимали историю, а историки филологию. В. Э. Вацуро сказал: «А о том, чтобы филологи понимали филологию, а историки историю, уж не приходится и мечтать».
Точка Ваша новая манера – это еще точка, через которую можно провести очень много прямых. И кривых.
Точка Нужно познать себя, чтобы быть собой. И быть собой, чтобы суметь стать другим. Как пугающ жирный пафос точки после «быть собой».
Точка Ю. М. Лотман сказал в разговоре: «Человек – точка пересечения кодов, отсюда ощущение, что все смотрят на меня». Для меня человек – точка пересечения социальных отношений, отсюда ощущение, что все смотрят сквозь меня. Разница ли это в словах или в сути?
Быть точкой пересечения отношений – это совсем не мало, это значит быть элементом структуры. Но некоторым мало. («Не могу понять врачей – как они забывают потом спасенных больных». А я понимаю.) А Мирский писал о Пастернаке: в «Люверс» люди – не личности, а точки пересечения внешних впечатлений, этим он и конгениален Прусту. Быть не точкой чужих пересечений, а самим собой можно только на необитаемом острове.
Точноведение «В переводе, кроме точности, должно быть еще что-то». Я занимаюсь точноведением, а чтотоведением занимайтесь вы.
Традицией мы называем наше эгоцентрическое право (точнее, привычку) представлять себе прошлое по своему образу и подобию. Так, средневековый человек считал, что все твари «Фисиолога» созданы затем, чтобы давать ему символические уроки.
Традиционализм по С. Аверинцеву: в архаике – дорефлективный традиционализм, от античности до классицизма – рефлективный традиционализм, от романтизма – рефлективный антитрадиционализм. Видимо, этот последний есть в то же время дорефлективный традиционализм новой формации: таковы шаблоны реализма, которые присутствуют у всех в сознании, но считаются несуществующими. Только когда они станут предметом теории, можно будет говорить, что эпоха реализма позади. Сейчас ругаются словом «штамп»; в традиционалистском обществе, вероятно, ругались: «Эх ты, новатор!»
Туземец – сюземец. «Хоронил [Блока] весь город – или, вернее, то, что от него осталось. Справлявшие на кладбище престольный праздник туземцы спрашивали: кого хороните?» (Ахматова, зап. кн.). Кто я? – я туземец. Ср. Все.
Сыну приснился человек четырех национальностей: китаец-индус-еврей, а четвертая – секретная.
Уважение Сонцев был представлен в камергеры на основании физических уважений (Вяземский).
«Указатель – важнейшая часть научной книги, и его непременно должен составлять сам автор, даже если книгу писал не он» – английская сентенция.
Указатель Редактировали указатель к первому тому «Истории всемирной литературы», одни трудности вычеркивали, другие приводили к знаменателю. Вот когда оценишь Вёльфлина, призывавшего к истории искусств без имен (ленился!), и когда хочется примкнуть к Морозову и Фоменко, чтобы всех однофамильцев считать одним человеком.
А. Т. Фоменко был деструктивистом от истории, когда о деструктивизме от филологии у нас только-только начинали слышать. Когда он выпустил в 1980 году первую книжечку о том, что древней истории не было, потому что она противоречит теории вероятностей, то В. М. Смирину поручили написать опровержение в «Вестнике древней истории» (1982, № 1). Опровергать такие вещи очень трудно. Я рассказал ему, как (по Ю. Олеше) додумался до этой идеи его образец Н. А. Морозов-Шлиссельбургский: «А-а, вы тюрьмой отняли у меня половину моей жизни? так я же расчетами отниму у вас половину вашей истории!» Порочность в том, что теория вероятностей приложима лишь к несвязанным событиям, а в истории события связанные. Морозов, как добросовестный позитивист, воспринимал мир как хаос атомарных, единичных фактов, а Фоменко в наш структуралистический век запоздало ему вторил. Смирин задумчиво сказал: «Вот теперь ясно, почему Морозов был теоретиком индивидуального террора…» Потом он стал читать брошюры Морозова, выходившие в 1917 году, о классовом и доклассовом обществе; человек доклассового общества назывался там «людоед-демократ». Но для рецензии на Фоменко это не пригодилось.
Улица «Улица Мандельштама» – мотив от советских (по образцу французской революции) переименований, эстетизированных уже имажинистскими переименованиями Тверской, Никитской, Петровки и Дмитровки. Раньше Мандельштама был «Переулок моего имени» Инбер, позже – «Ахматовской звать не будут ни улицу, ни строфу». Все это в конечном счете от «Она – Маяковского тысячу лет…».
Ум Ф. Г. Орлов (тот, 1741–1796) говорил: ум хорошо, два лучше, но три с ума сведут (Грот).
Управление синтаксическое: «Лучше век тосковать по кого любишь, чем жить с кого ненавидишь» (Лабрюйер).
Упрощенность Право научной популяризации на упрощенность: нельзя бранить глобус за то, что на нем не нанесена река Клязьма. А от нынешнего Исидора Севильского требуется именно глобальная ясность.
Усохшие пословицы (о них собирался писать покойный М. П. Штокмар): «Голод не тетка, пирожка не подсунет». «Рука руку моет, да обе свербят». «Чудеса в решете: дыр много, а выйти некуда». «Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса». «Губа не дура, язык не лопата». «Не дурак выпить – не подлец закусить». «Хлопот полон рот, а прикусить нечего». «Шито-крыто, а узелок-то тут». «Собаку съели, хвостом подавились». «Собачья жизнь: брехать нужно, а есть нечего». «Не всяко лыко в строку, не всякий лопот в слово» (анаграмма: ключевое слово лапоть не названо), «Ума палата, да ключ потерян». «Копейка ребром, покажися рублем». «Смелым бог владеет, а пьяным черт качает». «Дураку хоть кол теши, он своих два ставит». «Лиха беда начало: есть дыра, будет и прореха». «Все люди как люди, а мы как мыслете». «Два сапога пара, оба левые» («Это про политиков?» – спросил И. О.)
Усталость «Реализм – слово, уставшее от нагрузок», – писал Дурылин Пастернаку.
Фауна Американские поэты долго писали о соловьях и жаворонках, хотя ни тех, ни других в Америке нет.
Федоров Н. «Воскресающие покойники означают тревоги и убытки. Достаточно подумать, хотя бы для примера, какое поднялось бы смятение, если бы покойники воскресли! а так как они, конечно, еще и потребовали бы назад свое добро, то случились бы и убытки» (сонник Артемидора).
Филология как наука взаимопонимания. Будто бы в Индии было правило: перед спором каждый должен был пересказать точку зрения противника и чтобы тот подтвердил: да, так.
Философская лирика – игра в мысль, демонстрация личного переживания общих мест. Ср. I, Партийность, где тоже не свое подается как свое.
«Флирт, по-русски – шашни» (Ю. Слезкин, Ветер, «Вестник Европы», 1917, № 2, с. 35). Говорит персонаж по фамилии Шишикторов.
Форзац в сб. А. Вознесенского «Безотчетное» (1981) с длинным фото его выступления перед большой-большой публикой. Видел ли он точно такой же форзац в двухтомнике А. Жарова 1931 году?
Фундамент На докладе о «Неизвестном солдате» в РГГУ кто-то взвинченный задал два вопроса: сказал ли Мандельштам после «Солдата», как Блок после «Двенадцати», «Сегодня я гений» и каким фундаментальным положением я обосновываю, что мой объект нуждается в интерпретации? Я ответил: «Я тоже литературовед, поэтому первый вопрос вне моей компетенции; а объект во мне заведомо не нуждается, это я в нем нуждаюсь по общечеловеческой любознательности; фундамент же мой – примитивный: полагаю, что каждый поэтический текст имеет смысл, поддающийся пересказу».
Приснилась защита диссертации под заглавием: «Эпитеты у Рембрандта». Зал амфитеатром, я смотрю вверх и говорю: «А вот и Минц еще жива», – а мне отвечают, что Лотман написал статью «Стратегия сердечного приступа».
Хайдеггер «Вы неточны: не „есть возможность“, а „возможна возможность“», – сказали мне. Мне нравилось у Б. Лившица: «Ни у Гомера, ни у Гесиода / Я не горю на медленном огне, / И, лжесвидетельствуя обо мне, / Фракийствует фракийская природа». Р. едко сказала, что это всего лишь калька с natura naturans Спинозы (и кузминского перевода этих слов в «Панораме с выносками») и не нужно было Хайдеггера, чтобы это воскрешать. Собственно, еще ближе к образцу можно вспомнить особые приметы в «Заячьем ремизе»: Спиря поспиривает, а Сема посемывает. У Лема четырнадцатый сустав таможенного чиновника говорит герою: «Вы ведь млекопитающее, да? в таком случае, приятного млекопитания».
Хмель «Наводя справки о женихе, уже не спрашивают, пьет ли, а спрашивают, каков во хмелю» (Никитенко, 1834 г., об Архангельской губернии).
Ход событий «Нельзя сказать, будем ли мы либералами или консерваторами, потому что нельзя ведь предсказать ход событий» (газ. «Народный голос» за 1867 год, цит. в «Лит. наследстве»).
Храбрость С. Урусов говорил: «Я консерватор, но не имею храбрости им быть».
Хрисоэлефантинная техника К. Леонтьев предлагал сделать такой памятник Александру II: дерево, слоновая кость, золото и серебро с эмалью; а сгоревшую избу в Филях отстроить мраморной, как потом ленинский шалаш в Разливе. «У меня цветные истины», – говорил он. Боялся умереть от холеры – неэстетично; а чудом выздоровев, пошел по обету в монахи, хотя в Писании был нетверд, и они его двадцать лет к себе не пускали. В Троицкой лавре жил в гостинице и перечитывал Вольтера. «С нестерпимо сложными потребностями», – писал о нем Губастов. Его мир – крепостной театр, в котором народы пляшут в национальных костюмах, а он поглядывает на них из барской ложи. Отнимите у Готье талант, а у Флобера гений – и вы получите Леонтьева.
Художественный мир У Пастернака не только природа уже существует независимо от создавшего ее Бога, но и вещи независимо от создавшего их человека, и вещи братаются с природой, а человек оказывается оттеснен в неожиданное панибратство с Богом.
Царь и бог «Сталинская ода» Мандельштама – не только от интеллигентской веры в то, что рота права, когда идет в ногу («Это смотря какая рота: разве интеллигенция рвалась быть как все?» – сказал С. Ав.), но и от общечеловеческого желания верить, будто над злыми сатрапами – хороший царь. Глупо? А чем умнее – что над злыми царями строгий, но справедливый бог?
Ценность О. Б. Кушлина давала студентам без подписей стихи А. К. Толстого, «Древнего пластического грека», что-нибудь из «Нивы» и «каких-нибудь кобзевых» – описать, кто как хочет, и указать приблизительное время создания. Все думали если не на Пушкина, то не меньше как на Дельвига и восторгались: школа приучила, что «печатный всякий лист быть кажется святым». После этой шоковой терапии можно было учить анализу.
Ценность Л. Поливанов про себя ставил Фету за все стихи единицы, а за «В дымке-невидимке…» – пять. Блок больше всего любил у Фета то стихотворение, которое кончалось: «И, сонных лип тревожа лист, порхают гаснущие звуки». (А я – «И я очнусь перед тобой, угасший вдруг и опаленный».) Адамович о Цветаевой в «Воздушных путях»: «Недавно я узнал, что самым любимым ее русским стихотворением было фетовское „Рояль был весь раскрыт“» (отомстил-таки за «Поэта о критике»).
Цивилизация Стихи Пригова, написанные за двадцать лет до осады Белого дома:
Чайник Собака слепого с шапкой в зубах похожа на заварной чайник с ситечком.
Человек «Железная кровать эпидемического образца с засаленным, насквозь прочеловеченным одеялом».
Человек «Сверхчеловек – идеал преждевременный, он предполагает, что человек уже есть» (Карл Краус). Я вспомнил турецкое четверостишие (М. Дж. Андай): «Гиппотерий – предок лошади. Мегатерий – предок слона. Мы – предки людей, предки настоящих людей».
Чемодан . Мать никогда мне не улыбалась, я был частью домашнего обихода, вроде чемодана, и на меня сердились, когда я позволял себе больше, чем положено чемодану. Может быть, я и сейчас чувствую себя чемоданом, от которого кто-то ждет научных работ, кто-то любви, кто-то помощи? Может быть, это и есть диалог, в котором каждый по мне своим долотом, долотом? Странная должна получиться фигура. А чего хочет сам чемодан, сам камень? Только чтобы его оставили в покое, а лучше разрешили ему не существовать. Каждый желудь, по Аристотелю, стремится стать дубом, а яйцо птицей, а ребенок человеком, а взрослый – хорошим человеком. Но стремится ли камень стать статуей? Когда теперь я позволяю себе больше, чем положено чемодану, меня по привычке хвалят, зато когда меньше, мною недовольны. Чемодан, в который были уложены сперва наследственность, потом воспитание, потом жизненный и книжный опыт. Дайте мне время умяться и упаковаться! Или, лучше, разложить содержимое по источникам (по другим чемоданам), что откуда, и что слежалось в новое, а черную покрышку выбросить? Кажется, я так и стараюсь.
«Чехов о литературе» – книга под таким заглавием выглядела бы очень любопытно: избегал судить о писателях, скрывал неприязнь к Достоевскому, самоподразумевал Толстого, молчал о западных, как будто глядя на них через ограду мира Щегловых, Потапенок и Куприных. Самым подробным высказыванием, пожалуй, оказалась бы «Табель о рангах» из «Осколков». Попробуйте представить – проживи он еще десять лет – его воспоминания о Льве Толстом.
Чеховеды Исполнитель одной из главных ролей в «Трех сестрах» у Волчек признавался, что до постановки не читал пьесы. «Не всем же быть чеховедами», – сочувственно комментирует интервьюер. А один аспирант, писавший о «Фаусте» в средние века, оказывается, считал, что «Песнь о Сиде» – это английский эпос. Я сказал: «Значит, он читал по крайней мере „Тома Сойера“».
Чечерейцы Пушкин начал поэму о Гасубе; Жуковский прочитал и напечатал его имя «Галуб», ничего удивительного; но Лермонтов, воевавший на Кавказе и слышавший, как неестественно звучит это произношение, все-таки дал это имя своему чеченцу в «Валерике»: «Галуб прервал мое мечтанье…» Ср. VII, Груша.
Читатели и библиофилы – такие же разные люди, как жизнелюбы и человеколюбы.
Чичиков всегда казался мне у Гоголя положительным героем: потому что Гоголь только его показывает изнутри. Было ли это мое бессознательное ощущение традиции плутовского романа или правда Гоголь любил его больше, чем казалось критикам, и потерпел неудачу, когда заставил себя разлюбить его?
Чужое слово А. Г. Дементьев рассказывал: издали записные книжки Фурманова, в них приводятся характеристики ряда писателей. Они использованы уже в 14 кандидатских диссертациях и одной докторской. Дементьев чувствовал, что эти характеристики он уже где-то читал; проверил – оказалось, что это конспекты «Литературы и революции» Троцкого и статей Воронского: переброшенный на литературу Фурманов по ним готовился к работе. Д. просил в «Вопросах литературы» и других местах разъяснить эту пропаганду идей Троцкого, но безуспешно (слышано от О. Логиновой).
К. Кавафис
ОЖИДАЯ ВАРВАРОВ 13
(конспективный перевод)
Чукчи послали поздравителей к спасению государя от Каракозова, а те поспели уже после выстрела Березовского (восп. К. Головина). Когда к Тиберию с таким же опозданием пришли соболезновать о смерти Августа послы от заштатного городка Трои (той самой), он сказал: и я вам сочувствую, троянцы, о кончине вашего великого Гектора.
Швабрин Г. Федотов об учебнике по истории СССР для начальных классов под ред. Шестакова (на который писали замечания Сталин, Киров и проч.) – как будто его написал Швабрин для Пугачева. Старые учебники были историей национальных войн, этот – классовых войн, но постоянное ощущение военного положения было необходимо режиму. Я еще учился именно по этому учебнику, только портрет Блюхера там уже был заклеен портретом Чапаева.
Швамбрания Такие игры с придуманными государствами называются режиссерскими. У Цедербаума-Мартова в детстве была подобная страна – город Приличенск. А у символиста Коневского была страна Росамунтия. Даже со своим биографическим словарем. Начинался он так:
«Авизов Алексей Жданомирович, род. 16 мая 1832 в Ванчуковске. Один из величайших росамунтских романистов. Считается основателем „бытовой“, или „естествоиспытательской“, школы в росамунтской письменности – школы, которая, по выражению Сахарина, служит соединяющим звеном между „государственно-мудролюбческим“ направлением Ванцовского кружка годины Великого Возрождения Росамунтии и романистами-душесловами 80‐х годов… Завязки и развязки романов А. весьма сложны и запутанны, но всегда правдоподобны. Они свидетельствуют о богатстве фантазии автора. Все среды и быты, описанные А., необыкновенно ярко и верно нарисованы… Слог его – точный, тщательно отделанный, однообразный и холодный. А. очень плодовитый писатель, и тем не менее во всех его, почти всегда длинных, рассказах царит беспечное разнообразие. Он начал писать, будучи уже 30 лет, в 1862 году. Главнейшие его романы: „Два друга“, роман в 3 томах (1867), „Рабы промышленности“ (1868), „Жильцы пятиэтажного дома“ (1872), „Отвлеченный товар“ (1874), „Около стихий“ (1877), „Царство ножа“ (1880), „Среди приличий“ (1883), „Подозрительные люди“ (1884), „Народное стадо“ (1887), „Г-н зайчишка, или Стадное начало в миниатюре и без прикрас“ (1888). Собрание его сочинений (изд. в 1890 г.) составляет 15 т. В судьбе А. много странного и необычного. Его отец был какой-то загадочной личностью, вероятнее всего, какой-нибудь еврей. Он неведомо откуда пришел в 1827 году в Ванчуковск, назывался Жданомиром Алексеевичем, неизвестно к какой народности принадлежал, а по религии был последователь сведенборгианской секты… Сын поступил… в Ванчуковское всеучилище, в бытописно-словесную коллегию. Вскоре он познакомился и сблизился с ровесником своим Ванчуком Билибиным… окончательно стал деистом, материалистом и детерминистом, что подчас явствует в его писаниях… „Два друга“ были встречены публикой с восторгом и раскупались нарасхват (см. об этом у Сахарина, „Течения росамунтской письменности XIX в.“, гл. 5). За этот роман Общество росамунтских поэтов и писателей избрало его своим членом. За роман „Около стихий“ оно венчало его липовым венком в 1877 году, а в 1884 году за роман „Подозрительные люди“ – буковым венком» (РГАЛИ, 259, 1, 3: И. Коневской, Краткие сведения о великих людях… Росамунтии в виде словаря, 1893).
Среди других в словаре упоминаются: Аранский Вл. Пав., писатель и мудролюбец; Аранский Яков Алдр., обсудитель письменности и общественный писатель; Арнольфсон Альфр. Карл., детоводитель; Билибин Влад. Яросл., человековед и мудролюбец; Боримиров Алдр. Алдр., гос. человек, приказатель внутренних дел; Ванец Конст. Феод., розмысл и величиновед; Ванчуков Ив. Пимен., действописатель; Векшич Бор. Ник., мудролюбец и душеслов; Главенский Лаврент. Серг., гос. домостроитель; Грушин Порф. Серг., животнослов; Кашин Леонт. Серг., смехотвор, лицедей-веселодей; Кессарский Петр Петр., рукоцелитель; Мамонтов Викт. Анд., заморник; Нитин Дим. Ванч., травовед; Одноруцкий Ив. Порф., сельский хозяин; Понявин Бор. Алдр., резовед; Тропович Орест Ром., душецелитель; Хороблович Ив. Бор., мореплаватель и рыбослов; Черновранов Анд. Анд., вирталонист (так!); Шевелинский Диом. Арк., врач-женослов, и др.
Шницель «Мы ели венский шницель, после чего я сочинил один стих: Надулись жизни паруса» (С. М. Соловьев, восп. о гимназии, отд. рукописей РГБ, 696, 4, 8, 291). Ср. «Несказанное. Потом с милой пили чай» (Блок, дневник. 20 нояб. 1912 г.).
Шолоховский вопрос уже строится как шекспировский: о казаках может писать только казак, как о лордах только лорд. А о хоббитах, вероятно, только хоббит.
Щи Письмо от Ю. М. Лотмана: «Вышел тютчевский сборник – светлый проблеск в нынешней жизни. Это как на войне: фронт прорван, потери огромные, зато кухня та-а-акие щи сварила!»
-щина «Тарелки вымыть не могла без достоевщины», – говорил Пастернак о Цветаевой (восп. О. Мочаловой, РГАЛИ, 273, 2, 6).
-щина Старый Керенский на вопрос, что он сделал бы, с новым опытом придя к власти, сказал: «Не допустил бы керенщины», – но не пояснил (восп. Г. Гинса).
Эго Бродский о Хлебникове: «Он ироник, нарочно пишет абы как („Так, как описывал И. Аксенов?“ – „Пожалуй, да“). Его интересует не слово, а предмет, он эгобежен. Вот Целан был эгоцентричен, относился к себе серьезнее, стал писать коротко и закономерно покончил с собой».
Эго Он хочет сказать, что его рубашка ближе к его телу, чем твоя к твоему.
Экономика «Сытый голодного подразумевает» – эпиграф к разделу «Устойчивое неравновесие» у Г. Оболдуева.
Экономика Пословица у Даля: «Про харчи ныне молчи».
Экономика . Рассказывала М. Е. Грабарь-Пассек: «Я в гимназии чуть сама не открыла исторического материализма. Нужно было учить войну за испанское наследство, а хотелось на каток. Я задумалась: из‐за чего же они все время воевали и воевали? Но недодумала, потому что урок уже выучился.
На высших женских курсах моя соседка отвечала про Францию при Людовике XIV: развивалось производство предметов роскоши, в Лионе стали разводить шелковичных червей и делать шелк. В комиссии скучал философ Лопатин, от нечего делать он спросил: а как из шелковичных червей добывается шелк? Отвечавшая твердо сказала: „Их стригут“. Лопатин не стал портить ей отметку, он только тихонько сказал: „Какая кропотливая работа“».
Энклитика Экспромт из «Синего журнала» , 1915, № 27:
Энциклопедия Святой Исидор Севильский, покровитель школьников и студентов, предложен в покровители Интернета («Итоги», 27.7.1999).
Эсперанто Среди эсперантистских споров один американец сказал: «Ведь уже есть прекрасный международный язык – молчание!» (слышано от В. П. Григорьева). «Сойдутся, бывало, Салтыков-Щедрин и Пров Садовский, помолчат час-другой и разойдутся. Потом Салтыков и говорит: „Преинтересный это человек, Пров Михайлыч!“» (Салтыков-Щедрин в воспоминаниях, с. 360). С. Шервинский говорил: «Жаль, что умер Жамм, – если бы мы встретились, нам было бы о чем поговорить; и помолчать».
Этика «Этический подход не всегда уместен, – сказал И. О. – Мы плохо понимаем, как работает телевизор, но если мы разделим его детали на хорошие и плохие, то наше понимание не улучшится».
Этикет Для А. Б. Куракина, посла в Париже в 1808 году, заранее нанимались покои, экипажи и метресса, которую он мог никогда не видеть, но у дома которой его карета должна была стоять два часа в день (Соллогуб).
Юбилей Собираются праздновать 1000-летие русской литературы, но спотыкаются о три трудности: почему древняя, когда средневековая; почему русская, когда восточнославянская; и почему юбилей, если неизвестно, от какого памятника считать.
Юбилей «На самом деле празднуется память не о победе, а о торжестве по случаю победы» (Брехт). Ю. Лужков видел мальчишкой сталинское 800-летие Москвы и умилительно копировал его в своем полуюбилее. Полуюбилеи – тоже традиция: после того как Бонифаций VIII отпраздновал 1300-летие Христа, его преемник отпраздновал 1350-летие. На преждевременном праздновании столетия Рима при Клавдии всех звали посмотреть на актера, который играл еще на столетии Рима при Августе.
Юбилейная конференция памяти поэта. Смысл всех докладов: «Ах, как хорошо». Один доклад (умного человека) начинался словами: «Все стихи делятся на гениальные, которые меня завораживают, и не гениальные, которые меня не завораживают». Пир самовыражений; но на третий день самонепонимающее взаимонепонимание стало ужасом.
Дорогой Ю. К.,
в прошлом месяце А. Ф. Лосеву исполнилось девяносто лет, юбилей его отмечался в МГПИ, где он раньше преподавал. Я мало его знаю: философским языком я не владею и большие книги его понимаю плохо. Его античность – большая, клубящаяся, темная и страшная, как музыка сфер. Она и вправду такая; но я поэтому вхожу в нее с фонарем и аршином в руках, а он плавает в ней, как в своей стихии, и наслаждается ее неисследимостью. «Вы думаете, он любит Пушкина? – говорил С. Ав. – Пушкин для него слишком прост. Вот „Мы – два грозой зажженные ствола…“ – это другое дело».
Он слепой: говорит зычным голосом, как будто собеседник далеко, и взмахивает руками широко, но с осторожностью, как будто собеседник близко. Сквозь слепоту он сочинил все восемь томов «Античной эстетики», не считая попутных книг и книжек. Мой коллега, который в молодости был у него секретарем, сказал: «Он все удерживает в уме по пунктам. Если он скажет: философия Клеанфа отличалась от философии Зенона четырнадцатью отличиями, – то, может быть, половина этих отличий будет повторять друг друга, но он уже никогда не спутает третье отличие с тринадцатым».
Выжить в его поколении было подвигом, за это его и чествовали. Чествовали со всем размахом очень изменившейся эпохи. Зал был главный, амфитеатром. На стенах стабильные плакаты: с одной стороны – «…воспитание в ней коммунистической морали», с другой – «Сегодня – абитуриент, завтра – студент», посредине – «И медведя учат».
О Лосеве говорили, что он филолог (делегация от филологов);
что он философ (делегация от философов);
что он мыслитель (делегация – я не понял от кого);
что он крупнейший философ конца века (от Совета по мировой культуре; какого века – не сказали);
что он русский мужик, подобный Питеру Брейгелю;
что он донской казак из тех краев, где родились «Тихий Дон» и «Слово о полку Игореве» (т. е. из Новочеркасска, сказал Палиевский);
что он продукт и результат (от Союза писателей и лично от поэта Вл. Лазарева, со словами: «Хочу подытожить стихами с точки зрения истины:
что он историческая личность (завкафедрой древней истории МГУ В. Кузищин, ассоциации с Ноздревым, видимо, не предусматривались);
что он «отнюдь не великий деятель русской культуры, а великий деятель человеческой культуры – спасибо Вам и за это!» (делегация от Грузии);
что он – -issimus, -issime (от кафедры классической филологии МГУ, латинский адрес, больше ничего не было слышно);
что он дыхание Абсолюта (не помню кто);
что он ломовая лошадь науки (автохарактеристика, кем-то припомненная);
что
(из Минска);
что «тайна призвания – одна из самых глубоких тайн, это тайна жизни» (Аверинцев),
что «мы Вас любим и готовы страдать с Вами и дальше» (от издательства «Мысль», говорил главный редактор, сменивший того, которого выгнали за издание книжки Лосева о Вл. Соловьеве).
Говорили даже, что краткость – сестра таланта, хотя это звучало издевательством не только по отношению к говорившему (Н. из МГУ), но и по отношению к автору «Античной эстетики». Продолжалось чествование четыре часа, и к концу его А. Ф. еще был жив – по крайней мере, говорил ответное слово, и даже отчасти по-гречески…
Я Из меня будет хороший культурный перегной.
Я «Это дело двоих: меня и еще одного меня», – говорил Мейерхольд (Гладков).
Язык В 1918 году переговоры гетманского правительства с московским шли через переводчиков.
Язык «Пашка умел разговаривать даже с медведями, а если он, например, англичан не понимал, то только потому, что они на своем языке, вероятно, говорят неправильно» (В. Шкловский. Иприт).
Язык А. в детстве считала, что иностранный язык – это такой, на котором соль называется сахаром, а сахар солью. А Н. говорила, что в детстве ей казалось, будто по-английски лгать нельзя, так как все слова там и без того ложь.
Язык С. Кржижановский об одесском лете: на спуске к пляжу тропинка огибала цветочную грядку, все срезали угол и топтали цветы, никакая колючая проволока не помогала. Тогда написали красным по желтому: «Разве это дорога?» – и помогло. «Вот что значит говорить с человеком на его языке».
Язык Уэллса спрашивали в Петрограде 1920 года: почему ваш сын владеет языками, а вы нет? Он отвечал: потому что он – сын джентльмена, а я не сын джентльмена. Мой сын тоже не сын джентльмена. (Э. Фрид.)
Язык Искусствоведческий язык, в котором каждое второе предложение должно быть восклицательным.
«Если знаешь предлагаемое, то похвали, если не знаешь, то поблагодари» (Фульгенций).
IV
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ
(ВОПРОСНИК ЖУРНАЛА «ЗНАМЯ»)
1. Считаете ли Вы, что русская интеллигенция – с момента своего возникновения – являлась инициатором всех общественных движений и революций в стране?
Прежде всего: что такое интеллигенция? (И считаю ли я себя интеллигентом?) По общеевропейскому пониманию, это слой общества, воспитанный для того, чтобы руководить обществом, но не нашедший для этого вакансий и предлагающий обществу свою критику или свои предложения со стороны. Если так, то принадлежность к интеллигенции решается внутренним чувством: чувствуешь ли ты себя призванным руководить обществом? Я не чувствую: я знаю, что если меня поставить президентом, то я с лучшими намерениями наделаю много фантастических глупостей. Поэтому я предпочитаю называть себя работником умственного труда.
Затем: с какого момента возникла интеллигенция? Вероятно, с того момента, когда люди почувствовали, что они живут нехорошо и что обществу нужно какое-то руководство, чтобы жить лучше. Тогда первыми пришлось бы назвать религиозных учителей, Будду и Христа. Думаю, что говорить об этом нелепо. Взглянем поуже: когда Россия почувствовала, что завтрашний день не должен повторять вчерашний, а должен быть новым? В XVII–XVIII веках, после Смуты и Петра I. Можно ли сказать, что идеи князя Хворостинина оказали влияние на Разина, а идеи вольтерьянцев на Пугачева? Смешно и думать. Общественные движения – результат стихийных, массовых социальных сдвигов, и искать для них инициаторов – это значит ставить небезынтересный, но практически праздный вопрос, кто первым сказал «ату!».
Интеллигенция была осознавателем общественных движений, но не инициатором их.
2. Существует ли некая граница между интеллигенцией и народом? Если да, то где она пролегает? Или духовные прозрения и духовные болезни интеллигенции являются лишь отражением (усиленным) прозрений и болезней народа?
Видимо, ответ вытекает из сказанного: интеллигенция есть часть народа, чувствует то же, что и народ, но в силу лучшего образования лучше это осознает и дает этому выражение. Граница пролегает по уровню образования. Усиленное это выражение или нет – вопрос к статистике, которой в общественных науках всегда трудно. Погибло ли жертвой коллективизации два, пять или десять миллионов крестьян, можно ли говорить, что отношение наше к этой трагедии преувеличено?
3. В какой степени творцов русской классики можно причислить к интеллигенции?
Вероятно, по сказанному: если у них есть законченная программа общественного переустройства, то можно. Толстого можно: устроить русскую жизнь по Генри Джорджу – и все вопросы решатся. Чернышевского тем более можно. (Только считают ли его авторы анкеты «творцом русской классики»?) А вот Лермонтова или Гончарова, наверное, нельзя.
4. Можно ли считать, что русская классика и русская интеллигенция обладали принципиально различными мироощущениями? Народолюбие интеллигенции и народолюбие русской классической литературы – явления разные?
Может быть, высокие слова «русская классика» и «русская интеллигенция» лучше заменить более внятными «русская литература» и «русская публицистика»? Тогда окажется, что литература, как это ей и положено, изображает жизнь как она есть (с той стороны, которая доступнее писателю), а публицистика – какой она должна быть (по мнению пишущего). Чем ближе глаз к картине, тем народолюбие конкретнее, чем дальше – тем абстрактнее; промежуточных ступеней – бесконечное множество, а явление – одно и то же. Вот когда крайности того и другого рода совмещаются, как иногда у Достоевского, то это всего интереснее для изучения. «Народолюбие» – тоже не совсем точный термин. Николай Успенский любил свой народ до жестокой ненависти.
5. Можно ли говорить о слепом, культовом преклонении творцов русской культуры перед народом и о том, что этот культ стал причиной будущей гибели русской классической культуры?
Во-первых, я не вижу гибели русской культуры. Кончается одна ее форма (которую нам сейчас угодно называть классической) – начинается другая, менее привычная и потому менее симпатичная нам, но которая станет «классической» для наших детей. Обычное течение истории, никакой катастрофы.
Во-вторых, я не вижу преклонения творцов культуры перед народом. Ломоносов, Пушкин, Гоголь преклонялись перед народом? Щедрин, Лесков, Горький говорили народу: ты нищ и невежествен, поэтому ты лучше нас? Нет, они говорили: пусть нищета и невежество перестанут душить твои способности и душевные качества – и ты увидишь, что ты не хуже, а то и лучше нас.
В-третьих, когда я вижу человека, который ничуть не хуже меня, а живет много хуже, и испытываю из‐за этого угрызения совести, – можно ли их называть «слепым, культовым преклонением»? Не думаю.
6–7. Какие произведения классики объективно способствовали развитию революционных настроений? Может быть, «Отцы и дети», «Гроза», «Мертвые души» превратно понимались как призыв к насильственному переустройству мира? Каков механизм подобного неадекватного восприятия и где корни такого узкореалистического, прагматического подхода к литературе?
Тем, что речь идет не о бытии, а о сознании, понятие «объективно» исключается: все воспринимается только субъективно. Даже воля автора здесь не указ: Шекспир не вкладывал в «Гамлета» и сотой доли того, что вкладываем мы. А характер субъективного прочтения вещи определяется общественной обстановкой. Если художественное произведение говорит «наша жизнь нехороша» (а это говорит каждое честное художественное произведение), то у многих слушателей, естественно, встанет вопрос: а как ее исправить? – и ответы могут быть самые неожиданные. В Писании нет призывов к революции, но от Дольчино до Кромвеля все революционные движения начинались с Библией в руках. В чеховской «Палате номер шесть» нет ничего революционного, а Ленину она помогла стать революционером.
8. В какой степени революционные идеи шли из верхнего слоя общества в народ и в какой – из народа «вверх»? Возникали ли революционные настроения больше от субъективного восприятия действительности или от реальных бедствий народа?
Вопрос повторяет предыдущие. Психология всякой жалости: человек видит чужое несчастье, примеривает на себя, пытается прочувствовать и обращает свое чувство к ближнему. Из народа вверх шло страдание, сверху вниз – сознание необходимости покончить с этим страданием («лучше был бы твой удел, когда б ты менее терпел»). Каким образом покончить с этим страданием – здесь уже начинаются тактические разногласия революционеров.
9. В какой мере русская классика объективно готовила потрясения 1825 года, народовольчества, 1905 года, Февраля, Октября?
Не «готовила», а «помогала предвидеть», причем все с большей точностью: 1825 год вообще не был «потрясением» шире Петербурга, готовность народа к агитации 1870‐х годов была преувеличена, а дальше разрыв между прогнозом и реальностью был не так уж велик.
10. Русская идея, народное эсхатологическое сознание и их революционное применение?
Не могу ответить, плохо знаю материал. «Уход от земного» и «борьба с земным злом», конечно, противоположны, но на практике легко могут смыкаться и питать друг друга. «Русская идея», понимаемая как опыт истории России, мне мало известна (расколом я не занимался), а «русскую идею» как грядущее призвание России я пойму только тогда, когда мне объяснят, например, что такое «шведская идея» или «этрусская идея».
Насколько я знаю, национальную идею изобрел Гегель: восточная идея – тезис, греко-римская – антитезис, германская – синтез, а все остальные народы к мировой идее отношения не имеют и остаются историческим хламом. России было обидно чувствовать себя хламом, и она стала утверждать, то ли что она тоже причастна к романо-германской идее (западники), то ли что она имеет свою собственную идею, и не хуже других (славянофилы). Кто верит, что в мировой истории есть народы избранные и народы мусорные, пусть думает над этим, а для меня это неприемлемо.
11. Личность и свобода в русской классике и революционных теориях?
Тоже вопрос не для меня. Личность я понимаю только как точку пересечения общественных отношений, а свободу – как осознанную необходимость: рабский ошейник, на котором написано (неважно, чужое или мое собственное) имя. К счастью, машина взаимодействия этих необходимостей разлажена, и временами в образовавшийся зазор может вместиться чей-то личный выбор – т. е. такой, в котором случайно перевесит та или другая детерминация.
12. Место культуры в русском обществе прежде и сейчас? Стремление русских писателей выйти за пределы литературы, борьба с «художественностью»?
Культура – это все, что есть в обществе: и что человек ест, и что человек думает. Нет «места культуры» в обществе – есть структура культуры общества. Конечно, некоторые предпочитают называть «культурой» только те явления, которые нравятся лично им, а остальные именовать «бескультурностью» или «одичанием», но это несерьезно. Описать структуру современной нашей культуры с ее сосуществованием пластов, идущих от митрополита Илариона и от вчерашних газет, я не берусь. Современный ее кризис – в том, что ответ на вопрос «что делать, чтобы лучше жить?», предлагавшийся во многих подновлениях коммунистической идеологией, оказался несостоятельным и оставил после себя идейный вакуум, в котором сейчас кипит хаос. Конечно, литературу тоже втягивает туда, и ей хочется сбросить «художественность» и стать публицистикой. Каждому Гоголю когда-нибудь кажется, что «Выбранными местами из переписки» он нужнее людям, чем «Мертвыми душами». Об этом самоубийственно хорошо написал Пастернак в середине «Живаго».
13. Существует ли «светская линия» в русской культуре»? Если да, то что она собой представляет и в чьем творчестве выражена?
Не понимаю противопоставления. Чему противополагается «светская линия»? «Церковной линии»? Тогда на «светской линии» будет стоять вся русская литература без исключения во главе с Львом Толстым, официально отлученным от церкви. А на церковной останутся какие-нибудь «Кавалеры Золотой звезды» церковного производства, которых я, к сожалению, не читал. Или, может быть, «религиозной линии»? Тогда придется вспомнить, что еще Чехов, кажется, говорил, что между верой и безверием – широкое поле и это только русские люди умеют видеть лишь два его края и не видеть середины. Давайте тогда составим карту, где каждый писатель располагается в этом пространстве, – исходя, разумеется, не из деклараций писателей, а из их художественных текстов. Придется работать с очень малыми величинами: так, было подсчитано, что процент строк, из которых явствует всего-навсего, что автор «Песни о Роланде» – христианин, всего около 10%. Такое исследование будет очень полезно – не меньше, чем, например, о том, насколько какой писатель чувствителен к оттенкам цвета, вкуса и запаха.
14. Была ли русская литература XIX века преддверием Церкви – или заменителем Церкви, «альтернативной религией», на смену которой могли прийти иные «религии»: коммунизм, национализм, социалистический реализм?
Насколько я понимаю, «религией» в кавычках здесь называется идеология, т. е. комплекс идей, не самостоятельно выработанных человеком, а навязанных ему традицией или окружением. Таких идеологий может быть очень много, и сосуществовать в одном сознании они могут очень причудливо (например, национализм с христианством или с коммунизмом). Единство вкуса – это тоже идеология, объединяющая общество; единство вкуса к русской классике – в том числе. К счастью, эта идеология менее догматизирована, чем другие, и от нас не требуют обязательно считать Гоголя выше Лермонтова или наоборот. Поэтому надеюсь, что господствующей эта идеология не станет, а вспомогательной она может оказаться при любой другой: двадцать лет назад мы чтили Пушкина за оду «Вольность», а теперь, кажется, чтим за «Отцы пустынники и жены непорочны» и за «Тень Баркова». Предшественницей социалистического реализма русская классика была во всяком случае: писателям полагалось учиться у Льва Толстого, а не у Андрея Белого.
15. Как показывает опыт, наша культура расцветает под гнетом, а при самой малой свободе исчезает, оставляя дешевую масскультуру, запоздалое подражание Западу и заумное эстетство. Может быть, отечественная культура несовместима со свободой?
А когда у нас была «самая малая свобода»? При Екатерине II? При «Войне и мире»? После 1905 года? Неужели можно сказать, что культура в эти годы «исчезала»? Кроме того, «расцвет» культуры и «формирование» культуры – годы разные: Пушкин был сформирован общественным подъемом 1812–1815 годов, а писал под общественным гнетом 1820–1830-х. Далее, в Европе, где (считается) свободы было больше, в 1860–1870‐х годах царило эпигонство и та же масскультура, а эксперименты импрессионистов и Сезанна встречались насмешками. При всяком режиме существует искусство серийное и искусство лабораторное, загнанное в угол, где и вырабатываются новые формы; а «новые», в понимании нашего века, и есть «хорошие», «настоящие».
16. Можно ли считать, что миновало время идеологизированной, учительной литературы, и она сможет наконец стать «чисто художественной»?
Это зависит не от писателей, а от читателей: захотят ли они учиться, т. е. усваивать готовую идеологию в готовом виде? Если общественные условия давят, то учительной литературой может оказаться и поваренная книга. И наоборот, когда отойдут современные политические проблемы, то Солженицына будут читать не как ответ на животрепещущие вопросы, а как чистое искусство. «Георгики» Вергилия были агитационной поэмой за подъем римского сельского хозяйства, а кто сейчас, читая их, помнит об этом?
17. Индивидуализм (гражданские права, парламентское устройство), коллективизм и соборность – какой путь лучше для России и каково место литературы в жизни общества в каждом случае?
Вопрос не для меня. Прав человека я за собой не чувствую, кроме права умирать с голоду. Коллективизм и соборность для меня одно и то же – между сталинским съездом Советов и Никейским собором под председательством императора Константина я не вижу разницы. Я существую только по попущению общества и могу быть уничтожен в любой момент за то, что я не совершенно такой, какой я ему нужен. (Именно общества, а не государства: такие же жесткие требования ко мне предъявляют и дом, и рабочий коллектив.) Я хотел бы, чтобы мне позволяли существовать, хотя бы пока я не мешаю существовать другим. Но я мешаю: тем, что ем чей-то кусок хлеба, тем, что заставляю кого-то видеть свое лицо… Впрочем, это уже не ответ на поставленный вопрос.
Примечание филологическое
У слова интеллигенция и смежных с ним есть своя история. Очень упрощенно говоря, его значение прошло три этапа. Сперва оно означало «люди с умом» (этимологически), потом «люди с совестью» (их-то мы обычно и подразумеваем в дискуссиях), потом просто «очень хорошие люди».
Слово intelligentia принадлежит еще классической, цицероновской латыни; оно значило в ней «понимание», «способность к пониманию». За две тысячи лет оно поменяло в европейской латыни много оттенков, но сохранило общий смысл. В русский язык оно вошло именно в этом смысле. В. Виноградов в «Истории слов» (М., 1994, с. 227–229) напоминает примеры: у Тредиаковского это «разумность», у масонов это высшее, бессмертное состояние человека как умного существа, у Огарева иронически упоминается «какой-то субъект с гигантской интеллигенцией», а Тургенев в 1871 году даже писал: «собака стала… интеллигентнее, впечатлительнее и сообразительнее, ее кругозор расширился». Позднее определение Даля (1881): «Интеллигенция – разумная, образованная, умственно развитая часть жителей». Еще Б. И. Ярхо (1889–1942) во введении к «Методологии точного литературоведения» держится этого интеллектуалистического понимания: «Наука проистекает из потребности в знании, и цель ее (основная и первичная) есть удовлетворение этой потребности… Вышеозначенная потребность свойственна человеку так же, как потребность в размножении рода: не удовлетворивши ее, человек физически не погибает, но страдает порой чрезвычайно интенсивно. Потребностью этой люди одарены в разной мере (так же, как, напр., сексуальным темпераментом), и этой мерой измеряется степень „интеллигентности“. Человек интеллигентный не есть субъект, много знающий, а только обладающий жаждой знания выше средней нормы». (Писаны эти слова в 1936 году в сибирской ссылке.)
Наступает советское время, культура распространяется не вглубь, а вширь, образованность мельчает. По иным причинам, но то же самое происходит и в эмиграции: вспомним горькую реплику Ходасевича, что скоро придется организовывать «общество людей, читавших „Анну Каренину“» (Г. П. Федотов вполне серьезно предлагал подобные меры для искусственного создания «новой русской элиты», которая затем распространила бы свое культурное влияние на все общество). Казалось бы, тут-то и время, чтобы интеллектуальный элемент понятия интеллигенция повысился в цене. Случилось обратное: чем дальше, тем больше подчеркивается, что образованность и интеллигентность – вещи разные, что можно много знать и не быть интеллигентом, и наоборот. Окончательный удар по этому интеллектуалистическому понятию интеллигенции нанес А. И. Солженицын, придумав слово без промаха: «образованщина». Конечно, для порядка образованщина противопоставлялась истинной образованности. Но было ясно, что главный критерий здесь уже не умственный, а нравственный: коллаборационист, который несет свои умственные способности на службу советской власти, – он не настоящий интеллигент.
Теперь зайдем с другой стороны – от производного слова интеллигентный. При Тургеневе, как мы видели, оно означало лишь умственные качества – хотя бы собаки. Для Даля оно еще не существует, около 1890 года оно ощущается как новомодный варваризм. Слово интеллигентный – производное от интеллигенция (сперва как «умственные способности», потом как «совокупность их носителей»). Близкое слово интеллигентский – производное от более позднего слова интеллигент. Как интеллигенция, так и интеллигент – слова, с самого начала не лишенные отрицательных оттенков значения: интеллигенция (в отличие от «людей образованных») охотно понималась как «сборище недоучек», дилетантов, примеры тому (в том числе из Щедрина) подобраны у Виноградова. Но на производные прилагательные эти отрицательные оттенки переходят в разной степени.
Слово интеллигентский и Ушаков, и академический словарь определяют как «свойственный интеллигенту» с отрицательным оттенком: «о свойствах старой, буржуазной интеллигенции» с ее «безволием, колебаниями, сомнениями». Слово интеллигентный и Ушаков, и академический словарь определяют как «присущий интеллигенту, интеллигенции» с положительным оттенком – «образованный, культурный». Культурный, в свою очередь, здесь явно означает не только носителя «просвещенности, образованности, начитанности» (определение слова культура в академическом словаре), но и «обладающий определенными навыками поведения в обществе, воспитанный» (одно из определений этого слова в том же словаре).
Антитезой к слову интеллигентный в современном языковом сознании будет не столько «невежда», сколько «невежа» (а к слову интеллигент – не «мещанин», а «хам»). Каждый из нас ощущает разницу, например, между «интеллигентная внешность», «интеллигентное поведение» и «интеллигентская внешность», «интеллигентское поведение». При втором прилагательном как бы присутствует подозрение, что на самом-то деле эта внешность и это поведение напускные, а при первом прилагательном – подлинные.
Мне запомнился характерный случай. Лет десять назад критик Андрей Лёвкин напечатал в журнале «Родник» статью под заглавием, которое должно было быть вызывающим: «Почему я не интеллигент». В. П. Григорьев, лингвист, сказал по этому поводу: «А вот написать: „Почему я не интеллигентен“ – у него не хватило смелости».
Попутно посмотрим еще на одну группу мелькнувших перед нами синонимов: просвещенность, образованность, воспитанность, культурность. Какие из них более положительно и менее положительно окрашены?
Воспитанность – это то, что впитано человеком с младенческого возраста, «с молоком матери»: оно усвоено прочнее и глубже всего, однако по содержанию оно наиболее просто, наиболее доступно малому ребенку: «не сморкаться в руку» заведомо входит в понятие воспитанности, а «знать, что дважды два – четыре» – заведомо не входит. Образованность относится к человеку, уже сформировавшемуся, форма его совершенствуется, корректируется внешней обработкой, приобретает требуемый образ («ображать камень», «выделывать вещь из сырья», – пишет Даль) – образ подчас довольно сложный, но всегда благоприобретенный трудом. Просвещенность – тоже не врожденное, а благоприобретенное качество, свет, пришедший со стороны, просквозивший и преобразовавший существо человека; здесь речь идет не о внешних, а о внутренних проявлениях образа человека, поэтому слово просвещенный ощущается как более возвышенное, духовное, чем образованный. (Слово «просвещенцы» менее обидно, чем «образованцы».) Наконец, культурность, слово самое широкое, явным образом покрывает все три предыдущие и лишь в зависимости от контекста усиливает то или другое из их значений.
Самым молодым и активным в этой группе слов является культурность, самым старым и постепенно выходящим из употребления – просвещенность. Понятие о просвещенности как свойстве более внутреннем, чем образованность, и более высоком, чем простая воспитанность, исчезает из языка. Освободившуюся нишу и занимает новое значение слова интеллигентность: человек интеллигентный несет в себе больше хороших качеств, чем только воспитанный, и несет их глубже, чем только образованный.
Таким образом, понятие интеллигенции в русском языке, в русском сознании любопытным образом эволюционирует: сперва это «служба ума», потом «служба совести» и, наконец, если можно так сказать, «служба воспитанности». Это может показаться вырождением, но это не так. Службу воспитанности тоже не нужно недооценивать: у нее благородные предки. Для того, что мы называем интеллигентностью, культурностью, в XVIII веке синонимом была «светскость», в средние века – «вежество», куртуазия, в древности – humanitas, причем определялась эта humanitas на первый взгляд наивно, а по сути очень глубоко: во-первых, это разум, а во-вторых, умение держать себя в обществе. Особенность человека – разумность в отношении к природе и humanitas в отношении к обществу, т. е. осознанная готовность заботиться не только о себе, но и о других. На humanitas, на искусстве достойного общения между равными, держится все общество. Не случайно потом на основе этого – в конечном счете бытового – понятия развилось такое возвышенное понятие, как гуманизм.
И, заметим, именно эта черта общительности все больше выступает на первый план в развитии русского понятия интеллигенция, интеллигентный. Интеллигенция в первоначальном смысле слова, как «служба ума», была обращена ко всему миру, живому и неживому, – ко всему, что могло в нем потребовать вмешательства разума. Интеллигентность в теперешнем смысле слова, как «служба воспитанности», «служба общительности», проявляется только в отношениях между людьми, причем между людьми, сознающими себя равными («ближними», говоря по-старинному). Когда я говорю «мой начальник – человек интеллигентный», это понимается однозначно: мой начальник умеет видеть во мне не только подчиненного, но и такого же человека, как он сам.
А интеллигенция в промежуточном смысле слова, «служба совести»? Она проявляет себя не в отношениях с природой и не в отношениях с равными, а в отношениях с высшими и низшими – с «властью» и «народом». Причем оба эти понятия – и власть, и народ – достаточно расплывчаты и неопределенны. Именно в этом смысле интеллигенция является специфическим явлением русской жизни нового времени. Оно настолько специфично, что западные языки не имеют для него названия и в случае нужды транслитерируют русское: intelligentsia. Для интеллигенции как службы ума существуют устоявшиеся слова: intellectuals, les intellectuels. Для интеллигентности как умения уважительно обращаться друг с другом в обществе существуют синонимы столь многочисленные, что они даже не стали терминами. Для «службы совести» – нет. (Что такое совесть и что такое честь? И то, и другое определяет выбор поступка, но честь – с мыслью «что подумали бы обо мне отцы», совесть – с мыслью «что подумали бы обо мне дети».) Более того, когда европейские les intellectuels вошли недавно в русский язык как интеллектуалы, то слово это сразу приобрело отчетливо отрицательный оттенок: «рафинированный интеллектуал», «высоколобые интеллектуалы». Почему? Потому что в этом значении есть только ум и нет совести, западный интеллектуал – это специалист умственного труда, и только, а русский интеллигент традиционного образца притязает на нечто большее.
Примечание историческое
Было два определения интеллигенции: европейское intelligentsia – «слой общества, воспитанный в расчете на участие в управлении обществом, но за отсутствием вакансий оставшийся со своим образованием не у дел», и советское – «прослойка общества, обслуживающая господствующий класс». Первое, западное, перекликается как раз с русским ощущением, что интеллигенция прежде всего оппозиционна: когда тебе не дают места, на которое ты рассчитывал, ты, естественно, начинаешь дуться. Второе, наоборот, перекликается с европейским ощущением, что интеллигенция (интеллектуалы) – это прежде всего носительница духовных ценностей: так как власть для управления нуждается не только в полицейском, но и в духовном насилии над массами (проповедь, школа, печать), то она с готовностью пользуется пригодными для этого духовными ценностями из арсенала интеллигенции. «Ценность» – не абсолютная величина, это всегда ценность «для кого-то», в том числе и для власти. Разумеется, не всякая ценность, а с выбором.
В зависимости от того, насколько духовный арсенал интеллигенции отвечает этому выбору, интеллигенция (даже русская) оказывается неоднородна, многослойна, нуждается в уточнении словоупотребления. Можем ли мы назвать интеллигентом Льва Толстого? Чехова? Бердяева? гимназического учителя? инженера? сочинителя бульварных романов? С точки зрения «интеллигенция – носительница духовных ценностей» – безусловно: даже автор «Битвы русских с кабардинцами» делает свое культурное дело, приохочивая полуграмотных к чтению. А с точки зрения «интеллигенция – носитель оппозиционности»? Сразу ясно, что далеко не все работники умственного труда были носителями оппозиционности: вычисляя, кто из них имеет право на звание интеллигенции, нам, видимо, пришлось бы сортировать их, вполне по-советски, на «консервативных», обслуживающих власть, и «прогрессивных», подрывающих ее в меру сил. Интересно, где окажется Чехов?
«Свет и свобода прежде всего», – формулировал Некрасов народное благо; «свет и свобода» были программой первых народников. Видимо, эту формулу придется расчленить: свет обществу могут нести одни, свободу другие, а скрещение и сращение этих задач – специфика русской социально-культурной ситуации, порожденной ускоренным развитием русского общества в последние триста лет.
При этом заметим: «свет» – он всегда привносится со стороны. Специфики России в этом нет. «Свет» вносился к нам болезненно, с кровью: и при Владимире, когда «Путята крестил мечом, а Добрыня огнем», и при Петре, и при Ленине. «Внедрять просвещение с умеренностью, по возможности избегая кровопролития», – эта мрачная щедринская шутка действительно специфична именно для России. Но – пусть менее кроваво – культура привносилась со стороны, и привносилась именно сверху, не только в России, но и везде. Петровская Россия чувствовала себя культурной колонией Германии, а Германия – культурной колонией Франции, а двумя веками раньше Франция чувствовала себя колонией ренессансной Италии, а ренессансная Италия – античного Рима, а Рим – завоеванной им Греции. Как потом это нововоспринятое просвещение проникало сверху вниз, это уже было делом кнута или пряника: Петр I загонял недорослей в навигацкие школы силой и штрафами, а Александр II загонял мужиков в церковно-приходские школы, суля грамотным укороченный срок солдатской службы.
В России передача заемной культуры от верхов к низам в средние века осуществлялась духовным сословием, в XVIII веке дворянским сословием, но мы не называем интеллигенцией ни духовенство, ни дворянство, потому что оба сословия занимались этим неизбежным просветительством лишь между делом, между службой Богу или государю. Понятие интеллигенции появляется с буржуазной эпохой – с приходом в культуру разночинцев (не обязательно поповичей), т. е. выходцев из тех сословий, которые им самим и предстоит просвещать. Психологические корни «долга интеллигенции перед народом» именно здесь: если Чехов, сын таганрогского лавочника, смог кончить гимназию и университет, он чувствует себя обязанным постараться, чтобы следующее поколение лавочниковых сыновей могло быстрее и легче почувствовать себя полноценными людьми, нежели он. Если и они будут вести себя как он, то постепенно просвещение и чувство человеческого достоинства распространятся на весь народ – по трезвой чеховской прикидке, лет через двести. Оппозиция здесь ни при чем, и Чехов спокойно сотрудничает в «Новом времени». А если чеховские двухсотлетние сроки оказались нереальны, то это потому, что России приходилось торопиться, нагоняя Запад, – приходилось двигаться прыжками через ступеньку, на каждом прыжке рискуя сорваться в революцию.
Русская интеллигенция была трансплантацией: западным интеллектуальством, пересаженным на русскую казарменную почву. Специфику русской интеллигенции породила специфика русской государственной власти. В отсталой России власть была нерасчлененной и аморфной, она требовала не специалистов-интеллектуалов, а универсалов: при Петре – таких людей, как Татищев или Нартов, при большевиках – таких комиссаров, которых легко перебрасывали из ЧК в НКПС, в промежутках – николаевских и александровских генералов, которых назначали командовать финансами, и никто не удивлялся. Зеркалом такой русской власти и оказалась русская оппозиция на все руки, роль которой пришлось взять на себя интеллигенции. Повесть Б. Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня» начинается приблизительно так (цитирую по памяти): «Когда государыня Елизавета Петровна отменила на Руси смертную казнь и тем положила начало русской интеллигенции…». То есть когда оппозиция государственной власти перестала физически уничтожаться и стала, худо ли, хорошо ли, скапливаться и искать себе в обществе бассейн поудобнее для такого скопления. Таким бассейном и оказался тот просвещенный и полупросвещенный слой общества, из которого потом сложилась интеллигенция как специфически русское явление. Оно могло бы и не стать таким специфическим, если бы в русской социальной мелиорации была надежная система дренажа, оберегающая бассейн от переполнения, а его окрестности – от революционного потопа. Но об этом ни Елизавета Петровна, ни ее преемники по разным причинам не позаботились.
Западная государственная машина, двухпартийный парламент с узаконенной оппозицией, дошла до России только в 1905 году. До этого всякое участие образованного слоя общества в общественной жизни обречено было быть не интеллектуальским (практическим), а интеллигентским (критическим), взглядом из‐за ограды. Критический взгляд из‐за ограды – ситуация развращающая: критическое отношение к действительности грозит стать самоцелью. Анекдот о гимназисте, который по привычке смотрит столь же критически на карту звездного неба и возвращает ее с поправками, – естественное порождение русских исторических условий. Парламентская машина на Западе удобна тем, что роль оппозиции поочередно примеряет на себя каждая партия. В России, где власть была монопольна, оппозиционность поневоле стала постоянной ролью одного и того же общественного слоя – чем-то вроде искусства для искусства. Даже если открывалась возможность сотрудничества с властью, то казалось, что практической пользы в этом меньше, чем идейного греха – поступательства своими принципами.
Может быть, нервничанье интеллигенции о своем отрыве от народа было прикрытием стыда за свое недотягивание до Запада? Интеллигенции вообще не повезло, ее появление совпало с буржуазной эпохой национализмов, и широта кругозора давалась ей с трудом. А русской интеллигенции приходилось преодолевать столько местных особенностей, что она до сих пор не чувствует себя в западном интернационале. Щедрин жестко сказал о межеумстве русского человека: в Европе ему все кажется, будто он что-то украл, а в России – будто что-то продал.
«Долг интеллигенции перед народом» своеобразно сочетался с ненавистью интеллигенции к мещанству. Говоря по-современному, цель жизни и цель всякой морали в том, чтобы каждый человек выжил как существо и все человечество выжило как вид. Интеллигенция ощущает себя теми, кто профессионально заботится, чтобы человечество выжило как вид. Противопоставляет она себя всем остальным людям – тем, кто заботится о том, чтобы выжить самому. Этих последних в XIX веке обычно называли «мещане» и относились к ним с высочайшим презрением, особенно поэты. Это была часть того самоумиления, которому интеллигенция была подвержена с самого начала. Такое отношение несправедливо: собственно, именно эти мещане являются теми людьми, заботу о благе которых берет на себя интеллигенция. Когда в басне Менения Агриппы живот, руки и ноги относятся с презрением к голове, это высмеивается; когда голова относится с презрением к животу, рукам и ногам, это тоже достойно осмеяния, однако об этом никто не написал басни.
Отстраненная от участия во власти и неудовлетворенная повседневной практической работой, интеллигенция сосредоточивается на работе теоретической – на выработке национального самосознания. Самосознание – что это такое? Гегелевское значение, где самосознание было равнозначно реальному существованию, видимо, уже забыто. Остается самосознание как осознание своей отличности от кого-то другого. В каких масштабах? Каждый человек, самый невежественный, не спутает себя со своим соседом. В каждом хватает самосознания, чтобы дать отчет о принадлежности к такой-то семье, профессии, селу, волости. (Какое самосознание было у Платона Каратаева?) Наконец, при достаточной широте кругозора, – о принадлежности ко всему обществу, в котором он живет. Можно говорить о национальном самосознании, христианском самосознании, общечеловеческом самосознании. Складывание интеллигенции совпало со складыванием национальностей и национализмов, поэтому «интеллигенция – носитель национального самосознания» мы слышим часто, а «носитель христианского самосознания» (отменяющего нации) – почти никогда. А в нынешнем мире, расколотом и экологически опасном, давно уже стало главным «общечеловеческое».
Когда западные интеллектуалы берут на себя заботу по самосознанию общества, то они вырабатывают науку социологию. Когда русские интеллигенты сосредоточиваются на том же самом, они создают идеал и символ веры. В чем разница между интеллектуальским и интеллигентским выражением самосознания общества? Первое стремится смотреть извне системы (сколько возможно), второе – переживать изнутри системы. Первое рискует превратиться в игру мнимой объективностью, второе – замкнуться на самоанализе и самоумилении своей «правдой». В отношениях с природой важна истина, в отношениях с обществом – правда. Одно может мешать другому, чаще – второе первому. При этом сбивающая правда может быть не только революционной («классовая наука», всем нам памятная), но и религиозной (отношение церкви к системе Коперника). «Самосознание» себя и своего общества как бы противополагается «сознанию» мира природы. Пока борьба с природой и познание природы были важнее, чем борьба за совершенствование общества, в усилиях интеллигенции не было нужды. Сейчас, когда мир, природа, экология снова становятся главной заботой человечества, должны ли измениться место и назначение интеллигенции? Что случится раньше: общественный ли конфликт передовых стран с третьим миром (для осмысления которого нужны интеллигенты-общественники) или экологический конфликт с природой (для понимания которого нужны интеллектуалы-специалисты)?
«Широта кругозора» сказали мы. Просвещение – абсолютно необходимая предпосылка интеллигентности. Сократ говорил: «Если кто знает, что такое добродетель, то он и поступает добродетельно; а если он поступает иначе, из корысти ли, из страха ли, то он просто недостаточно знает, что такое добродетель». Культивировать совесть, нравственность, не опирающуюся на разум, а движущую человеком непроизвольно, – опасное стремление. Что такое нравственность? Умение различать, что такое хорошо и что такое плохо. Но для кого хорошо и для кого плохо? Здесь моральному инстинкту легко ошибиться. Даже если абстрагироваться до предела и сказать: «Хорошо все то, что помогает сохранить жизнь, во-первых, человеку как существу и, во-вторых, человечеству как виду», – то и здесь между этими целями «во-первых» и «во-вторых» возможны столкновения; в точках таких столкновений и разыгрываются обычно все сюжеты литературных и жизненных трагедий. Интеллигенции следует помнить об этимологии собственного названия.
Русское общество медленно и с трудом, но все же демократизируется. Отношения к вышестоящим и нижестоящим, к власти и народу отступают на второй план перед отношениями к равным. Не нужно бороться за правду, достаточно говорить правду. Не нужно убеждать хорошо работать, а нужно показывать пример хорошей работы на своем месте. Это уже не интеллигентское, это интеллектуальское поведение. Мы видели, как критерий классической эпохи, совесть, уступает место двум другим, старому и новому: с одной стороны, это просвещенность, с другой стороны, это интеллигентность как умение чувствовать в ближнем равного и относиться к нему с уважением. Лишь бы понятие «интеллигент» не самоотождествилось, расплываясь, с понятием «просто хороший человек». (Почему уже неудобно сказать «я интеллигент»? Потому что это все равно, что сказать «я хороший человек».) Самоумиление опасно.
ОБЯЗАННОСТЬ ПОНИМАТЬ
(«ПУТЬ К НЕЗАВИСИМОСТИ И ПРАВА ЛИЧНОСТИ» – ДИСКУССИЯ В ЖУРНАЛЕ «ДРУЖБА НАРОДОВ»)
Я – человек. Считается, что уже поэтому я личность. Если я – личность, то какие я чувствую за собой права? Никаких. Я не сам себя создал, и Господь Бог не трудился надо мной, как над Адамом. Меня создало общество – пусть даже это были только два человека из общества, отец и мать. Зачем меня создало общество? Чтобы посмотреть, что из меня получится. Если то, что ему на пользу, – хорошо, пусть я продолжаю существовать. Если нет – тогда в переплавку, в большую ложку Пуговичника из «Пер Гюнта».
Почему я не чувствую за собой права на существование? Потому что мне достаточно представить себя на необитаемом острове – в одиночку, как самодовлеющую личность. Выживу ли я? От силы два-три дня. Голод, холод, хищные звери, ядовитые травы – нет, единственное мое заведомое личное право – умирать с голоду. Все остальные права – дареные. Триста лет назад, когда общество еще не было таким дифференцированным, может быть, выжил бы. И Дефо написал бы с меня «Робинзона Крузо», изрядно идеализировав. Но времена робинзонов, которые будто бы сами творят цивилизацию (а не она их), давно прошли. Кстати, Робинзон с Пятницей – кто они были: нация? народ? этнос, с этническим большинством и этническим меньшинством?
Есть марксистское положение: личность – это точка пересечения общественных отношений. Когда я говорил вслух, что ощущаю себя именно так, то даже в самые догматические времена собеседники смотрели на меня как на ненормального. А я говорил правду. Я зримо вижу черное ночное небо, по которому, как прожекторные лучи, движутся светлые спицы социальных отношений. Вот несколько лучей скрестились – это возникла личность, может быть – я. Вот они разошлись – и меня больше нет.
Что я делаю там, в той точке, где скрещиваются лучи? То, что делает переключатель на стыке проводов. Вот откуда-то (от единомышленника к единомышленнику) послана научная концепция – протянулось социальное отношение. Вот между какими-то единомышленниками протянулась другая, третья, десятая… Они пересеклись на мне: я с ними познакомился. Я согласовываю в них то, что можно согласовать, выделяю более приемлемое и менее приемлемое, меняю то, что нуждается в замене, добавляю то, что мой опыт социальных отношений мне дал, а моим предшественникам не мог дать; наконец, подчеркиваю те вопросы, на которые я так и не нашел удовлетворительного ответа. Это мое так называемое научное творчество. (Я филолог – я приучен ссылаться на источники всего, что есть во мне.) Появляется новая концепция, новое социальное отношение, луч, который начинает шарить по небу и искать единомышленников. Это моя так называемая писательская и преподавательская деятельность.
Где здесь место для прав личности? Я его не вижу. Вижу не права, а только обязанность, и притом одну: понимать. Человек – это орган понимания в системе природы. Если я не могу или не хочу понимать те социальные отношения, которые скрещиваются во мне, чтобы я их передал дальше, переработав или не переработав, то грош мне цена, и чем скорее расформируют мою так называемую личность, тем лучше. Впрочем, пожалуй, одно право за собой я чувствую: право на информацию. Если вместо десяти научных концепций во мне перекрестятся пять, а остальные будут перекрыты, то результат будет гораздо хуже (для общества же). Вероятно, общество само этого почему-либо хотело; но это не отменяет моего права искать как можно более полной информации.
Я уже три раза употребил слово «единомышленник». Это очень ответственное слово, от его понимания зависит все лучшее и все худшее в том вопросе, который перед нами. Поэтому задержимся.
Человек одинок. Личность от личности отгорожена стенами взаимонепонимания такой толщины (или провалами такой глубины), что любые национальные или классовые барьеры по сравнению с этим – пустячная мелочь. Но именно поэтому люди с таким навязчивым пристрастием останавливают внимание на этой пустячной мелочи. Каждому хочется почувствовать себя ближе к соседу, и каждому кажется, что для этого лучшее средство – отмежеваться от другого соседа. Когда двое считают, что любят друг друга, они не только смотрят друг на друга, они еще следят, чтобы партнер не смотрел ни на кого другого (а если смотрел бы, то только с мыслью «а моя (мой) все-таки лучше»). Семья, дружеский круг, дворовая компания, рабочий коллектив, жители одной деревни, люди одних занятий или одного достатка, носители одного языка, верующие одной веры, граждане одного государства – разве не одинаково работает этот психологический механизм? Всюду смысл один: «Самые лучшие – это мы». Еще Владимир Соловьев (и, наверное, не он первый) определил патриотизм как национальный эгоизм.
Ради иллюзии взаимопонимания мы изо всех сил крепим реальность взаимонепонимания – как будто она и так не крепка сверх моготы! При этом чем шире охват новой сверхкитайской стены, тем легче достигается цель. Иллюзия единомыслия в семье или в дружбе просуществует не очень долго – на каждом шагу она будет спотыкаться о самые бытовые факты. А вот иллюзия классового единомыслия или национального единомыслия – какие триумфы они справляли хотя бы за последние два столетия! При этом природа не терпит пустоты: стоило увянуть мифу классовому, как мгновенно расцветает миф националистический. Я чувствую угрызения совести, когда пишу об этом. По паспорту я русский, а по прописке москвич, поэтому я – «этническое большинство», мне легко из прекрасного далека учить взаимопониманию тех, кто не знает, завтра или послезавтра настигнет их очередная «ночь длинных ножей». Простите меня, читающие.
У личности нет прав – во всяком случае, тех, о которых кричат при построении новых взаимоотношений. У личности есть обязанность – понимать. Прежде всего понимать своего ближнего. Разбирать по камушку ту толщу, которая разделяет нас – каждого с каждым. Это работа трудная, долгая и – что горше всего – никогда не достигающая конца. «Это стихотворение – хорошее». – «Нет, плохое». – «Хорошее потому-то, потому-то и потому-то». (Читатель, а вы всегда сможете назвать эти «потому-то»?) – «Нет, потому что…» и т. д. Наступает момент, когда после всех «потому что» приходится сказать: «Оно больше похоже на Суркова, чем на Мандельштама, а я больше люблю Мандельштама». – «А я наоборот». И на этом спору конец: все доказуемое доказано, мы дошли до недоказуемых постулатов вкуса. Стали собеседники единомышленниками? Нет. А стали лучше понимать друг друга? Думаю, что да. Потому что начали – и, что очень важно, кончили – спор именно там, где это возможно. (Читатель, согласитесь, что чаще всего мы начинаем спор именно с того рубежа, где пора его прекращать. А ведь до этого рубежа нужно сперва дойти.) Я нарочно взял для примера спор о вкусе, потому что он безобиднее. Но совершенно таков же будет и спор о вере. Кончится он всегда недоказуемыми постулатами: «Верю, ибо верю». А что постулаты всех вер для нас, людей, равноправны – нам давно сказала притча Натана Мудрого.
Если такие споры никогда или почти никогда не приводят к полному единомыслию, то зачем они нужны? Затем, что они учат нас понимать язык друг друга. Сколько личностей, столько и языков, хотя слова в них сплошь и рядом одни и те же. Разбирая толстую стену взаимонепонимания по камушку с двух сторон, мы учимся понимать язык соседа – говорить и думать как он. Чувство собственного достоинства начинается тогда, когда ты растворяешься в другом, не боясь утратить себя. Почему Рим победил Грецию, хотя греческая культура была выше? Один историк отвечает: потому что римляне не гнушались учиться греческому языку, а греки латинскому – гнушались. Поэтому при переговорах римляне понимали греков без переводчика, а греки римлян – только через переводчиков. Что из этого вышло, мы знаем.
Сколько у вас бывает разговоров в день – хотя бы мимоходных, пятиминутных? Пятьдесят, сто? Ведите их всякий раз так, будто собеседник – неведомая душа, которую еще нужно понять. Ведь даже ваша жена сегодня не такая, как вчера. И тогда разговоры с людьми действительно других языков, вер и наций станут для вас возможнее и успешнее.
И последнее: чтобы научиться понимать, каждый должен говорить только за себя, а не за чье-либо общее мнение. Когда в Гражданскую войну к коктебельскому дому Максимилиана Волошина подходила толпа, то он выходил навстречу один и говорил: «Пусть говорит кто-нибудь один – со многими я не могу». И разговор кончался мирно.
Нас очень долго учили бороться за что-то: где-то скрыто готовое общее счастье, но его сторожит враг, – одолеем его, и откроется рай. Это длилось не семьдесят лет, а несколько тысячелетий. Образ врага хорошо сплачивал отдельные народы и безнадежно раскалывал цельное человечество. Теперь мы дожили до времени, когда всем уже, кажется, ясно: нужно не бороться, а делать общее дело – человеческую цивилизацию; иначе мы не выживем. А для этого нужно понимать друг друга.
Я написал только о том, что доступно каждому. А что должно делать государство, чтобы всем при этом стало легче, я не знаю. Я не государственный человек.
ФИЛОЛОГИЯ КАК НРАВСТВЕННОСТЬ
(ДИСКУССИЯ В ЖУРНАЛЕ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»)
Филология – наука понимания. Слово это древнее, но понятие – новое. В современном значении оно возникает в XVI–XVIII веках. Это время, когда складывалась основа мышления современных гуманитарных наук – историзм. Классическая филология началась тогда, когда человек почувствовал историческую дистанцию между собою и предметом своего интереса – античностью. Средневековье тоже знало, любило и ценило античность, но оно представляло ее целиком по собственному образу и подобию: Энея – рыцарем, а Сократа – профессором. Возрождение почувствовало, что здесь что-то не так, что для правильного представления об античности недостаточно привычных образов, а нужны и непривычные знания. Эти знания и стала давать наука филология. А за классической филологией последовали романская, германская, славянская; за филологическим подходом к древности и средневековью – филологический подход к культуре самого недавнего времени; и все это оттого, что с убыстряющимся ходом истории мы все больше вынуждены признавать близкое по времени далеким по духу.
Признание это дается нелегко. Мышление наше эгоцентрично, в людях других эпох мы легко видим то, что похоже на нас, и неохотно замечаем то, что на нас непохоже. Гуманизм многих веков сходился на том, что человек есть мера всех вещей, но когда он начинал прилагать эту меру к вещам, то оказывалось, что мера эта сделана совсем не по человеку вообще, а то по афинскому гражданину, то по ренессансному аристократу, то по новоевропейскому профессору. Гуманизм многих веков говорил о вечных ценностях, но для каждой эпохи эти вечные ценности оказывались лишь временными ценностями прошлых эпох, урезанными применительно к ценностям собственной эпохи. Урезывание такого рода – дело несложное: чтобы наслаждаться Эсхилом и Тютчевым нет надобности помнить все время, что Эсхил был рабовладелец, а Тютчев – монархист. Но ведь наслаждение и понимание – вещи разные. Вечных ценностей нет, есть только временные, поэтому постигать их непосредственно нельзя (иначе как в порядке самообмана), а можно – лишь преодолев историческую дистанцию; и наводить бинокль нашего знания на нужную дистанцию учит нас филология.
Филология приближает к нам прошлое тем, что отдаляет нас от него, – учит видеть то великое несходство, на фоне которого дороже и ценнее самое малое сходство. Рядовой читатель вправе относиться к литературным героям «как к живым людям»; филолог этого права не имеет, он обязан разложить такое отношение на составные части – на отношение автора к герою и наше к автору. Говорят, что расстояние между Гаевым и Чеховым можно уловить интуитивно, чутким слухом (я в этом не уверен). Но чтобы уловить расстояние между Чеховым и нами, чуткого слуха уже заведомо недостаточно. Потому что здесь нужно уметь слышать не только Чехова, но и себя – одинаково со стороны и одинаково критически.
Филология трудна не тем, что она требует изучать чужие системы ценностей, а тем, что она велит нам откладывать на время в сторону свою собственную систему ценностей. Прочитать все книги, которые читал Пушкин, трудно, но возможно. А вот забыть (хотя бы на время) все книги, которых Пушкин не читал, а мы читали, гораздо труднее. Когда мы берем в руки книгу классика, то избегаем задавать себе простейший вопрос: для кого она написана? – потому что знаем простейший ответ на него: не для нас. Неизвестно, как Гораций представлял себе тех, кто будет читать его через столетия, но заведомо ясно, что не нас с вами. Есть люди, которым неприятно читать, неприятно даже видеть опубликованными письма Пушкина, Чехова или Маяковского: «ведь они адресованы не мне». Вот такое же ощущение нравственной неловкости, собственной неуместной навязчивости должно быть у филолога, когда он раскрывает «Евгения Онегина», «Вишневый сад» или «Облако в штанах». Искупить эту навязчивость можно только отречением от себя и растворением в своем высоком собеседнике. «Мой Пушкин» – принижает Пушкина, «Пушкинский я» – возвышает меня.
Филология начинается с недоверия к слову. Доверяем мы только словам своего личного языка, а слова чуждого языка прежде всего испытываем, точно ли и как соответствуют они нашим. Если мы упускаем это из виду, если мы принимаем презумпцию взаимопонимания между писателем и читателем, мы тешим себя самоуспокоительной выдумкой. Книги отвечают нам не на те вопросы, которые задавал себе писатель, а на те, которые в состоянии задать себе мы, а это часто очень разные вещи. Книги окружают нас, как зеркала, в которых мы видим только собственное отражение; если оно не всюду одинаково, то это потому, что все эти зеркала кривые, каждое по-своему. Филология занимается именно строением этих зеркал – не изображениями в них, а материалом их, формой их и законами словесной оптики, действующими в них. Это позволяет ей долгим окольным путем представить себе и лицо зеркальных дел мастера, и собственное наше лицо – настоящее, неискривленное. Если же смотреть только на изображение («идти по ту сторону слова», как предлагают некоторые), то следует знать заранее, что найдем мы там только самих себя.
За преобладание в филологии спорят лингвистика и литературоведение, причем лингвистика ведет наступательные бои, а литературоведение оборонительные (или, скорее, отвлекающие). Думается, что это неслучайно. Филология началась с изучения мертвых языков. Все мы знаем, что такое мертвые языки, но редко думаем, что есть еще и мертвые литературы, и даже на живых языках. Даже читая литературу XIX века, мы вынуждены мысленно переводить ее на язык наших понятий. Язык – в самом широком смысле: лексическом (каждый держал в руках «Словарь языка Пушкина»), стилистическом (такой словарь уже начат для поэзии ХX века), образном (на основе частотного тезауруса: такие словари уже есть для нескольких поэтов), идейном (это самая далекая и важная цель, но и к ней сделаны подступы). Только когда мы сможем опираться на подготовительные работы такого рода, мы сможем среди умножающейся массы интерпретаций монолога Гамлета или монолога Гаева выделить хотя бы те, которые возможны для эпохи Шекспира или Чехова. Это не укор остальным интерпретациям, это лишь уточнение рубежа между творчеством писателей и сотворчеством их читателей и исследователей.
И еще одно есть преимущество у лингвистической школы перед литературоведческой. В лингвистике нет оценочного подхода: лингвист различает слова склоняемые и спрягаемые, книжные и просторечные, устарелые и диалектные, но не различает слова хорошие и плохие. Литературовед, наоборот, явно или тайно стремится прежде всего отделить хорошие произведения от плохих и сосредоточить внимание на хороших. Филология значит «любовь к слову»: у литературоведа такая любовь выборочней и пристрастнее. От пристрастной любви страдают и любимцы, и нелюбимцы. Как охотно мы воздаем лично Грибоедову и Чехову те почести, которые должны были бы разделить с ними Шаховской и Потапенко! Было сказано, что в картинах Рубенса мы ценим не только его труды, но и труды всех тех бесчисленных художников, которые не вышли в Рубенсы. Помнить об этом – нравственный долг каждого, а филолога – в первую очередь.
Ю. М. Лотман сказал: филология нравственна, потому что учит нас не соблазняться легкими путями мысли. Я бы добавил: нравственны в филологии не только ее путь, но и ее цель – она отучает человека от духовного эгоцентризма. (Вероятно, все искусства учат человека самоутверждаться, а все науки – не заноситься.) Каждая культура строит свое настоящее из кирпичей прошлого, каждая эпоха склонна думать, будто прошлое только о том и заботилось, чтобы именно для нее поставлять кирпичи. Постройки такого рода часто разваливаются: старые кирпичи выдерживают не всякое новое применение. Филология состоит на такой стройке чем-то вроде ОТК, проверяющего правильное использование материала. Филология изучает эгоцентризмы чужих культур, и это велит ей не поддаваться своему собственному: думать не о том, как создавались будто бы для нас культуры прошлого, а о том, как мы сами должны создавать новую культуру.
Примечание псевдофилософское
(из дискуссии на тему «Философия филологии»)
Прежде всего, мне кажется, что формулировка общей темы парадоксальна. (Может быть, так и нужно.) Филология – это наука. А философия и наука – вещи взаимодополняющие, но несовместимые. Философия – это творчество, а наука – исследование. Цель творчества – преобразовать свой объект, цель исследования – оставить его неприкосновенным. И то, и другое, конечно, одинаково недостижимо, но эти недостижимые идеалы диаметрально противоположны.
Философия филологию может только разъедать с тыла. Точно так же, впрочем, как и филология философию. Тот тыловой участок, с которого филология разъедает философию, хорошо известен: это история философии, глубоко филологическая дисциплина. Неслучайно оригинальные философы относятся к истории философии с нарастающей нервностью, потому что на ее фоне любые притязания на оригинальность сразу выцветают. Поэтому естественно, что и философия ищет для себя в тылу науки такой же надежный плацдарм. Он и называется «философия филологии», «философия астрономии» и т. д., по числу наук. Располагая такими позициями, философия и филология могут сплетаться садомазохистским клубком сколь угодно долго. Очень хорошо – лишь бы на пользу.
Есть предположение, что филология не просто наука, а особенная наука, потому что предполагает некоторое интимное отношение между исследователем и его объектом. Об этом очень хорошо писал С. С. Аверинцев. Я думаю, что это не так. Конечно, интимное отношение между исследователем и его объектом есть всегда: зоолог относится к своим лягушкам и червякам интимнее, чем мы. Вот с такой же интимностью и филолог относится к Данту или Дельвигу, но не более того. Самый повседневный опыт нам говорит, что между мною и самым интимным моим другом лежит бесконечная толща взаимонепонимания; можем ли мы после этого считать, что мы понимаем Пушкина? Говорят, между филологом и его объектом происходит диалог: это значит, один собеседник молчит, а другой сочиняет его ответы на свои вопросы. На каком основании он их сочиняет? – вот в чем должен он дать отчет, если он человек науки.
Филология – это «любовь к слову». Что такое слово? Мертвый знак живых явлений. А явления эти располагаются вокруг слова расходящимися кругами, включающими и биографию писавшего, и быт, и систему идей эпохи, – все, что входит в понятие «культура». Каждый исследователь выбирает то направление, которое его интересует. Но вначале он должен правильно понять слово: в таком-то написании, в таком-то сочетании, в таком-то жанре (оды или полицейского протокола), в такой-то стилистической традиции это слово с наибольшей вероятностью значит то-то, с меньшей – то-то, с еще меньшей – то-то и т. д. А эту наибольшую или наименьшую вероятность мы устанавливаем, подсчитав все контексты употребления слова в памятниках данной чужой культуры. С чего начинается дешифровка текстов на мертвых языках? С того, что Шампольон подсчитывает, как часто встречается каждый знак, и в каких сочетаниях, и в каких сочетаниях сочетаний. С этого начинается и филология, поскольку она хочет быть наукой. В этом фундаменте филологических исследований, как мы знаем, сделано пока ничтожно мало. Поэтому жаловаться на «исчерпанность филологической концепции слова» никак нельзя. Жаловаться нужно на то, что практическое развертывание филологической концепции слова еще не начиналось. Когда оно произойдет, тогда мы и увидим, на что способна и на что неспособна филология.
В частности, способна ли филология производить новые смыслы, новое знание – или только устанавливать уже существующие смыслы текстов? Ровно в такой же степени, как всякая наука. Планета Нептун существовала и без Леверье, он ее только открыл: было ли это установлением уже существующего или производством нового знания? Семантика пропусков ударения в 4-стопном ямбе Андрея Белого существовала, хотя он сам себе не отдавал в ней отчета; ее открыл Тарановский – было ли это установлением существующего или производством нового? Новое знание и новые смыслы – разные вещи. Новое знание – область исследовательская, этим занимается наука; новые смыслы – область творческая, этим занимается критика. Это критика вычитывает из Шекспира то проблемы нравственные, то проблемы социальные, то проблемы психоаналитические, а то вовсе выбрасывает его за борт, как Лев Толстой. Наука рядом с нею лишь дает отчет, какие из этих смыслов вычитываются из Шекспира с большей, меньшей и наименьшей вероятностью. Такая охрана памятников старины – тоже нужная вещь. Понятно, при этом критика, как область творческая, работает в задушевном альянсе с философией, а наука держится на дистанции и только следит, чтобы они не применяли неевклидовы методы к таким словесным объектам, для которых достаточно евклидовых.
Творческий деятель стремится к самоутверждению, исследователь – к самоотрицанию. Мне лично ближе второе: мне кажется, что в самоутверждении нуждается только то, что его не стоит. Творчество необходимо человечеству, но при полной свободе оно просто неинтересно. В материальном творчестве нужное сопротивление материала обеспечивает сама природа, а законы ее формулирует наука естествознание. В духовном творчестве эти рамки для свободы полагает культура, а обычаи ее формулирует наука филология. Диалог между творческим и исследовательским началом в культуре всегда полезен (конечно, как всегда, диалог с предпосылкой полного взаимонепонимания). По-видимому, таков и диалог между философией и филологией. Пусть они занимаются взаимопоеданием, только так, чтобы это не отвлекало их от их основных задач: для творчества – усложнять картину мира, для науки – упрощать ее.
ПРОШЛОЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО
(ДЛЯ ЖУРНАЛА «НАШЕ НАСЛЕДИЕ»)
Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий.
В. О. Ключевский
Словосочетание «Наше наследие» означает «наследие, полученное нами от предков» и – «наследие, оставляемое нами потомкам». Первое значение – в сознании у всех, второе вспоминается реже. На то есть свои причины.
Спрос на старину – это прежде всего отшатывание от настоящего. Опыт семидесяти советских лет привел к кризису, получилось очевидным образом не то, что было задумано. Первая естественная реакция на этот результат – осадить назад, вернуться к истокам, все начать заново. Как начать заново – никто не знает, только спорят. Но что такое осадить назад – очень хорошо представляют все: техника таких попятных движений давно отработана русской историей.
На протяжении нескольких поколений нам изображали наше отечество по классической формуле графа Бенкендорфа (только без ссылок на источник): прошлое России исключительно, настоящее – великолепно, будущее – неописуемо. В том, что касается настоящего и будущего, доверие к этой формуле сильно поколебалось. Зато в том, что касается прошлого, оно едва ли не укрепилось – как бы в порядке компенсации. Нашему естественному сыновнему уважению к прошлому велено обратиться в умиленное обожание. А это вредно. Далеко не все в прошлом было исключительно, не все заслуживает поклонения, не все необходимо для будущего, о котором как-никак приходится заботиться.
У Пушкина есть черновой набросок, ставший одной из самых расхожих цитат: «Два чувства дивно близки нам – / В них обретает сердце пищу: / Любовь к родному пепелищу, / Любовь к отеческим гробам. [На них основано от века, / По воле Бога самого, / Самостоянье человека, / Залог величия его.] Животворящая святыня! / Земля была б без них мертва, / Как… пустыня / И как алтарь без божества». При этом почему-то охотнее всего цитируется среднее четверостишие, зачеркнутое самим Пушкиным, – вероятно, цитирующим льстят слова «самостоянье» и «величие». Не знаю, задумываются ли они, хорошо ли знал сам Александр Сергеевич, где погребен «отеческий гроб» его родного деда Льва Александровича Пушкина, и если знал, то часто ли навещал могилу.
Культ «нашего наследия» становится составной частью современной массовой культуры. Исторические романы пользуются небывалым спросом. В. Пикуль въехал в беллетристику на белом коне. Десять с лишним лет назад была элитарная Тыняновская конференция в Резекне, местный книжный магазин предложил ей все свое самое лучшее, в том числе последний роман Пикуля, и он был расхватан мгновенно. («Чтобы дарить вместо взяток», – смущенно объясняли купившие.) Сам Пикуль честно сказал в каком-то интервью: люди читают меня потому, что плохо знают русскую историю. Он был прав: лучше пусть читатель узнает о князе Потемкине из Пикуля, чем из школьного учебника, где (боюсь) о нем вообще не упомянуто. Массовая культура – это все-таки лучше, чем массовое бескультурье.
В Москве перекрасили старый Арбат под внешность 1900 года. Реставрации не получилось: в новом московском контексте вместо старой улицы появилась очень новая улица со своей внешностью и своим бытом – весьма специфическим и весьма органичным, как знает каждый москвич. В Москве этот Арбат останется выразительным образчиком советской культуры 1980‐х годов. Потом заново выстроили храм Христа Спасителя – здание, которое лучшие художественные критики считали позором московской архитектуры. Получилась такая же картонная имитация, как новый старый Арбат, только вдесятеро дороже. Теперь призывают заново построить Сухареву башню. Я бы лучше предложил поставить на Сухаревской площади памятник Сухаревой башне – насколько мне известно, памятников памятникам в мировой истории еще не было, так что это, помимо дани уважения к старине, может оказаться еще и любопытной зодческой задачей.
Не стоит забывать, что та старина, которой мы сегодня кланяемся, сама по себе сложилась достаточно случайно и в свое время была новаторством или эклектикой, раздражавшей, вероятно, многих. Попробуем представить, что было бы, если бы в XVIII веке Баженов реализовал свой проект перестройки Кремля – со сносом москворецкой стены, с парадным, во всю ширь, спуском к Москве-реке и т. д. В центре Москвы появилось бы нечто совсем непохожее на то, что мы видим сегодня, но мы умилялись бы этому точно так же, как сейчас – существующим стенам и башням, ибо они освящены стариной. Не исключено, что когда-нибудь те наши постройки, которым сейчас принято ужасаться, тоже станут высоко ценимыми памятниками прошлого.
Историки античности знают: когда Афины были сожжены персами, то афиняне не захотели реставрировать свои старые храмы, свезли их камни для укрепления крепостных стен, а на освободившемся месте стали строить Парфенон, который, вероятно, казался их старикам отвратительным модерном. Греческая эпиграмма, которой мы любуемся, для самих греков была литературным ширпотребом, а греческие кувшины и блюдца, осколки которых мы храним под небьющимися стеклами, – ширпотребом керамическим. Жанр романа, без которого мы не можем вообразить литературу, родился в античности как простонародное чтиво, и ни один уважающий себя античный критик даже не упоминает о нем. Массовая культура нимало не заслуживает пренебрежительного отношения. Как она преломляет стихийную общественную потребность «осадить назад» – это тема для исследований, которые многое откроют потомкам в нашей современности.
Но сейчас наша массовая культура – явление неуправляемое и непредсказуемое (хотя она вполне поддается управлению, и на Западе это хорошо знают). Как сквозь нее профильтруется культура прошлого, чтобы влиться в культуру будущего, – это вопрос без ответа. Подумаем лучше о том, как должна относиться к «нашему наследию» обычная культура (именующая себя иногда «высокой»), заинтересованная не только в том, чтобы воспроизводить самое себя, но и в том, чтобы порождать новое – то, что нужно будет завтрашнему дню.
Какова будет эта культура завтрашнего дня, я знаю не больше всякого другого – могу лишь гадать. Самыми несомненными ее особенностями покамест кажутся две: она будет эклектична и плюралистична.
Эклектична она будет потому, что эклектична всякая культура: только издали эпоха Эсхила или Пушкина кажется цельной и единой. Если бы нас перенесло в их мир и мы бы увидели его изнутри, у нас бы запестрело в глазах: так трудно было бы отличить «самое главное» от пережитков прошлого и ростков нового. В наше время история движется все быстрее, и наследия прежних эпох напластовываются друг на друга самым причудливым образом. Купола XVII века, колонны XVIII века, доходные глыбы XIX века, сталинское барокко ХX века смешиваются в панораме Москвы. Чтобы разобраться в этом и отделить перспективное от пригодного только для музеев (этих кладбищ культуры, как вслед за Ламартином называл их Флоренский), нужно разорвать былые органические связи там, где они еще не разорвались сами собой, и рассортировать полученные элементы, глядя не на то, «откуда они», а на то, «для чего они». Так Бахтин во всяком слове видел прежде всего «чужое слово», бывшее в употреблении, захватанное руками и устами прежних его носителей; учитывать эти прежние употребления, чтобы они не мешали новым, конечно, необходимо, но чем меньше мы будем отвлекаться на них, тем лучше.
«Эклектика» долго была и остается бранным словом. Ей противопоставляются цельность, органичность и другие хорошие понятия. Но достаточно непредубежденного взгляда, чтобы увидеть: цельность, органичность и проч. мы видим, лишь нарочно закрывая глаза на какие-то стороны предмета. Последовательные большевики отвергали Толстого за то, что он был толстовец, и Чехова за то, что он не имел революционного мировоззрения, – разве мы не стали богаче, научившись смотреть на Толстого и Чехова не с баррикадной близости, а так, как смотрим на рабовладельца Эсхила и монархиста Тютчева? Борис Пастернак не мог принять эйзенштейновского «Грозного», чувствуя в его кадрах сталинский заказ, – разве нам не легче оттого, что мы можем отвлечься от этого ощущения? Песня может быть враждебной и вредной от того, о чем в ней поется; но если песня сложена так, что она запоминается с первого раза, то это хорошая песня (скажет всякий фольклорист). Уже здесь, внутри творчества одного автора, в границах одного произведения мы отбираем то, что включаем в поле своего эстетического восприятия и что оставляем вне его. «Отбираем» – по-гречески это тот самый глагол, от которого образовано слово «эклектика».
Для нескольких поколений Фет и Некрасов, Пушкин и Некрасов были фигурами взаимоисключающими: кто любил одного, не мог любить другого. Теперь они мирно стоят рядом, под одним переплетом. Как происходит это стирание противоречий, этот переход от взгляда изнутри к взгляду издали? Мы не можем это описать: это дело социологической поэтики, а она у нас так замордована эпохой социалистического реализма, что не скоро оправится. Но этот «хрестоматийный глянец» – благое дело, несмотря на всю иронию Маяковского, сказавшего эти слова. Культура – это наука человеческого взаимопонимания: общепризнанный культурный пантеон, канон классиков, антологии образцов, обрастающие комментариями и комментариями к комментариям (как в Китае, как в Греции), это почва для такого комментария.
Но этот общепризнанный и общеизученный канон классиков – лишь фундамент взаимопонимания, на котором возводится надстройка индивидуальных вкусов. На эклектике общей культуры зиждется плюрализм личных предпочтений. От культурного человека можно требовать, чтобы он знал всю классику, но нельзя – чтобы он всю ее любил. Каждый выбирает то, что ближе его душевному складу. Это и называется «вкус»: в XVIII веке это было едва ли не центральное понятие эстетики, сейчас оно ютится где-то на ее окраине. Вкус индивидуален, потому что он складывается из напластований личного эстетического опыта, от первых младенческих впечатлений, а состав и последовательность таких напластований неповторимы.
Хочется верить, что культура будущего возродит важность понятия «вкус» и выработает средства для его развития применительно к душевному складу каждого человека. Многие, наверное, знали старых библиотекарш, которые после нескольких встреч с читателем уже умели в ответ на его расплывчатое «мне бы чего-нибудь поинтереснее…» предложить ему именно такую книгу, которая была бы ему интересна и в то же время продвигала бы его вкус, подталкивала бы интерес немножко дальше. Сколько читателей, столько и путей от книги к книге – от букварных лет до глубокой старости. Это как бы сплетение лестниц, ведущих по книжкам, как по ступенькам, выше и выше: они сбегаются к лестничным площадкам и разбегаются от них вновь, и в этом высотном лабиринте каждый нащупывает для себя ту последовательность пролетов, которая для него естественнее и легче. Хорошо, кому поможет в этих поисках старая библиотекарша или старая учительница, имеющая к этому талант от Бога. Но талант редок, поддержать или заменить его должна наука, называемая «психология чтения», а она у нас давно заглохла.
Говоря о высотном лабиринте выработки культурных вкусов, подчеркнем еще одно: путь по нему бесконечен, нет такой ступеньки, на которой можно было бы остановиться с гордым чувством, что она последняя и выше ничего нет. Это важно, потому что советская школа семьдесят лет исходила из противоположного: подносила учащимся только бесспорные истины. Они менялись, но всегда оставались истинами в последней инстанции – будь то в физике или истории, в математике или литературе. Школа изо всех сил вбивала в головы молодых людей представление, что культура – это не процесс, а готовый результат, сумма каких-то достижений, венец которых – марксизм. А когда человек с таким убеждением останавливается на любой ступеньке и гордо смотрит сверху вниз, то это уже становится общественным бедствием: ему ничего не докажешь, он сам всякому прикажет. Подчеркиваю, на любой ступеньке: застынет ли человек в своем развитии на Агате Кристи, или на Тургеневе, или на Джойсе – это все равно.
Такая школа была порождением своего общества. Старая гимназия готовила питомцев к университету, а затем к служебной карьере, новая школа готовила (и готовит) их неизвестно для чего. Наше хозяйство никогда не знало, сколько каких ученых сил ему нужно сию минуту, а подавно – через десять лет. Какая может быть полнота раскрытия индивидуальных вкусов и склонностей выпускника, который будет брошен общественной необходимостью неведомо куда? В бенкендорфовские времена Нестор Кукольник со скромной гордостью говорил: «Прикажут – буду акушером». Было время, когда с таким акушерским энтузиазмом можно было чего-то достичь, даже в культуре; но оно давно прошло, а школа (и не только школа) этого не заметила.
Почему именно сейчас так остро стоит вопрос об освоении прошлого, о приобщении к культуре? Потому что наше общество приближается, по-видимому, к большому культурному перелому. Распространение образования (т. е. знакомства с прошлым, своим и чужим), развитие культуры – процесс неравномерный. В нем чередуются периоды, которые можно условно назвать «распространение вширь» и «распространение вглубь». «Распространение вширь» – это значит: культура захватывает новый слой общества, распространяется в нем быстро, но поверхностно, в упрощенных формах, в элементарных проявлениях – как общее знакомство, а не внутреннее усвоение, как заученная норма, а не внутреннее преобразование. «Распространение вглубь» – это значит: круг носителей культуры остается тот же, заметно не расширяясь, но знакомство с культурой становится более глубоким, усвоение ее более творческим, формы ее проявления более сложными.
XVIII век был веком движения культуры вширь – среди невежественного дворянства. Начало XIX века было временем движения этой дворянской культуры вглубь – от поверхностного ознакомления с европейской цивилизацией к творческому ее преобразованию у Жуковского, Пушкина и Лермонтова. Середина и вторая половина XIX века – опять движение культуры вширь, среди невежественной буржуазии; и опять формы культуры упрощаются, популяризируются, приноравливаются к уровню потребителя. Начало ХX века – новый общественный слой уже насыщен элементарной культурой, начинается насыщение более глубинное: русский модернизм, время Станиславского и Блока. Наконец, революция – и культура опять движется вширь, среди невежественного пролетариата и крестьянства. Сейчас мы на пороге новой полосы распространения культуры вглубь: на периферии еще не закончилось поверхностное освоение культуры, а в центре уже начались новые и не всем понятные попытки переработки усвоенного – они называются «авангард».
Взаимонепонимание такого центра и такой периферии (не в географическом, конечно, а в социальном смысле) может быть очень острым, и в современных спорах это чувствуется. В таком взаимонепонимании массовая культура опирается на (еще плохо переваренное) «наше наследие» прошлого, а авангард, как ему и полагается, демонстративно от него отталкивается (на самом деле, конечно, тоже опирается на прошлое, только на иные его традиции). Поэтому нам и пришлось начинать разговор с вопроса «наследие прошлого и массовая культура», а конец такого разговора, понятным образом, теряется в гаданиях о тех путях, по которым пойдет развитие культуры ближайшего будущего.
Примечание педагогическое
(интервью для газеты «Первое сентября»)
Школа должна воспитывать вкус: здесь происходит борьба за школьника между высокой культурой и массовой культурой. Вы предостерегаете против культа прошлого и заступаетесь за массовую культуру. Почему?
Вероятно, я по складу характера не склонен к конфронтации. Что такое борьба между высокой и массовой культурой, я понимаю, но предпочитаю, чтобы она велась не силою. Когда прошлое борется с будущим, то всегда побеждает будущее, но при этом не отторгает прошлое (даже если очень того хочет), а вбирает его в себя. Поэтому плодотворнее было бы подумать, как ценимому нами прошлому выгоднее проникнуть в будущее и прорасти в нем. А для этого один из путей – массовая культура, заведомо живая и распространенная. Если в борьбе за молодежь она – соперник школы, то соперника нужно знать. Кто лучше поймет своего соперника, тот и выиграет спор.
«Массовая культура лучше, чем массовое бескультурье», – говорили Вы. А что, если массовая культура – это лишь амбиции бескультурья?
Бескультурья не бывает, бывает только чужая культура (или субкультура). Что такое культура? Это пища, одежда, жилище, хозяйство, семья, воспитание, образ жизни, нормы поведения, общественные порядки, убеждения, знания, вкусы. Зачем существует культура? Чтобы человек на земле выжил как вид – то есть сам уцелел и другим помог уцелеть. Речь идет не о бескультурье, а о чужой культуре, которая нам непривычна и потому не нравится. Грекам не нравилась варварская культура, христианам мусульманская, нашим дедам негритянская; теперь мы научились ценить и ту, и другую, и третью. Пушкин свысока смотрел на лубочные картинки; теперь мы называем их «народная культура», и для нашего понимания прошлого она дает не меньше, чем та, к которой принадлежал Пушкин. Наши внуки будут ценить нынешние эстрадные песенки наравне со стихами Бродского, как мы ценим наравне Пушкина и протопопа Аввакума – а ведь это тоже взаимоисключающие культурные явления.
Высокое искусство, проходя через массовую культуру, упрощается – оттого что к искусству относятся как к развлечению. Хорошо ли это?
Не хорошо и не плохо. Воспитательного значения искусство от этого не теряет. Можно взять дамский роман или эстрадную песню, и окажется, что в них те же моральные основы, что и в высокой классике: нужно делать хорошо и не делать плохо. Даже если певец кричит, что хотел бы взорвать и растоптать весь мир, – право, и у Лермонтова такое бывало. А результат один и тот же: агрессивные чувства, пройдя сквозь стиль и ритм, гармонизуются и становятся общественно безвредными. Мы с благоговением говорим, что высокое искусство приносит людям катарсис, очищение. Но ведь для Аристотеля искусство, которое приносит катарсис, даже не было самым высоким. Насколько можно понять (не из его «Поэтики», а из его «Политики»), самым высоким искусством он считал поучающее – вероятно, гимны богам; ступенькой ниже ставил очищающее – трагедию и эпос; а еще ступенькой ниже ставил развлекающее, дающее отдых – комедию. И все три нужны для правильной организации чувств человека и гражданина.
Все мы читали и «Гулливера», и «Робинзона», и греческие мифы в детских пересказах раньше, чем прочесть в подлинном виде. Высокая книжная культура всегда опускается в массы, эпический герой становится персонажем лубочных картинок, и это ничуть его не позорит. Когда-то у меня был разговор с Аверинцевым: я говорил о необходимости и пользе вот этой культурной программы-минимум, упрощенной до массовых представлений, а ему это не нравилось. «Послушайте, – сказал он, – был такой фильм с Брижит Бардо „Бабетта идет на войну“: там героиню легкого поведения готовили быть великосветской шпионкой и учили ее: „Запомните: Корнель – это сила, Расин – это высокость, Франс – это тонкость…“. Вам не кажется, что вы зовете именно к такому уровню?» – «Господи! – сказал я. – Да если бы у нас все усвоили, что Корнель – это сила, а Франс – это тонкость, разве это не было бы уже полпути к идеалу!» Он улыбнулся и не стал спорить.
В самом деле, он ведь сам не раз употреблял сравнение, которое я люблю: с чужой культурой мы знакомимся, как с чужим человеком. При первой встрече ищем, что у нас есть общего, чтобы знакомство стало возможным, а потом ищем, что у нас есть различного, чтобы знакомство стало интересным. Детские, народные и масскультурные адаптации именно и должны помогать этой первой встрече.
Помочь первой встрече с культурой, стало быть, нетрудно; а как помочь второй, как добиться продолжения знакомства?
Когда мои дети были в том возрасте, когда увлекаются детективами, я говорил: «Смотри, какие они все одинаковые: пять мотивов, двадцать пять комбинаций, да и те не все используются, – ты и сам сумеешь так сочинить». То есть переключал интерес с потребительского на производительский. Иногда помогало: появлялся интерес к чему-нибудь новому. Мой знакомый преподаватель рассказывал, что приохочивал школьников к Достоевскому, объявляя: «„Преступление и наказание“ – образцовый детективный сюжет; но посмотрите, насколько он становится еще интереснее от тех идей и переживаний, которые на него навешаны!» – и, говорит, это действовало.
К счастью, кроме потребности в привычном у человека есть и потребность в непривычном: она называется любопытство, а вежливее – интерес. Ребенку скучно читать про то, что он и так каждый день видит вокруг, и он ищет мир, где все гремит, сверкает и стреляет. А когда он привыкнет к этому искусственному миру, то ему оттуда может показаться экзотикой тот реальный мир, в котором мы живем. Если педагог сумеет этим воспользоваться, то дорога к высокой классике будет открыта. Гончаров и Тургенев будут интересны не как отражение какой-то действительности, которой давно уже нет, а как очередная экзотика, в которой, однако, действуют не правила стрельбы, а правила психологии. Школьники смеются над Татьяной, которая не уходит от нелюбимого мужа? Нечего смеяться, просто в той пушкинской экзотике были такие правила игры: странные, но связные. В самом деле, ведь реализм XIX века на самом-то деле привлек когда-то читателей не «правдой жизни», а экзотикой психологической и экзотикой социальной: диалектикой душевных движений и картинами быта тех слоев общества, с которыми читатели романов в жизни очень мало сталкивались.
И все-таки, есть ли такие понятия, как дурной вкус и хороший вкус?
О дурном вкусе обычно говорят: пошлость, вульгарность, тривиальность. Я не против, только давайте помнить, что все это понятия не абсолютные, а относительные. То, что для начитанного человека – пошлость, для неначитанного может быть откровением. Маленькому ребенку нравятся картинки яркие, как цветные фантики (или нынешние рекламы). Он подрастает, яркость прискучивает – и он начинает искать в картинках чего-то другого. Для него яркость стала пошлостью, а для его соседа – еще нет. Когда меня спрашивают: «Вам нравятся вот эти стихи?» – мне трудно ответить. Мне хочется сказать: «В пять лет мне они бы не понравились (были бы непонятны), а в пятнадцать бы понравились (пришлись бы в самый раз), а в тридцать нравились бы меньше (прискучили бы). Интересно, будут ли они мне нравиться в восемьдесят лет: вдруг я увижу в них что-нибудь новое? А нравятся ли они мне вот сейчас, на перегоне между прошлым и будущим, это, право, несущественно». Если бы я был критик, я, наверное, в каждом возрасте абсолютизировал бы свой тогдашний вкус, а обо всем, что мне не нравится, говорил бы: пошлость. Или постарался бы застыть на каком-то вкусе и больше никогда не меняться. Мне не хочется ни того, ни другого, – поэтому, наверное, я и не гожусь в критики.
Стало быть, вкус, по-Вашему, – это, так сказать, предпосылка творческого отношения к миру, а знания – средства выработки вкуса. Но почему за вкус приходится бороться, и с таким трудом?
В этой борьбе есть обстоятельство, о котором часто забывают. Массовому вкусу школьника учат сверстники, учат равные: если он читал меньше модных триллеров, чем они, – он знает, что стоит ему приналечь, и он сравняется с ними, а то и превзойдет их по части приобщения к их культурным ценностям. Высокому же вкусу школьника учат взрослые, и держатся они так важно, что подростку неминуемо приходит в голову: «Сколько я ни старайся разбираться в их книгах и симфониях, все равно не смогу так, как они, – так лучше уж не буду и пробовать». Когда я был школьником, то думал: «Моя мать знает и умеет много такого, чего я никогда не осилю; но вот языков она не знает; буду же читать по-английски, чтоб хоть в чем-то ее превзойти». Сыну я сказал: «Исландские саги, говорят, это очень интересная законченная культура, но у меня на них в жизни так и не хватило времени; попробуй ты». И он вырос не профессионалом, но очень хорошим знатоком самых разных традиционных словесностей – к своему и к моему удовольствию. А когда мне приходилось навязывать трудные книги, я это делал не как хозяин культуры, а как такой же ее подданный. Я говорил: «Тебе не понравилась эта книга? Это неважно; важно, чтобы ты ей понравился. Нравлюсь ли ей я, – не знаю; понравился ли ей ты – посмотрим».
Молодым (и инфантильным) не нравится весь мир взрослых и его официальная культура в частности. Понять их можно: наш мир и вправду скверно устроен. А отвечать им приходится так: «Ты не век будешь молодым – в удобной роли иждивенца, брюзжащего на тот мир, который тебя содержит. Ты вырастешь, и тебе придется самому налаживать и переналаживать этот взрослый мир. Для этого нужно иметь общий язык не только со сверстниками из своего квартала, а и со многими другими – и старшими, и младшими. Язык понятий и язык вкусов – пусть не родной тебе язык, но общий. Скажи „он – как Обломов“, и все тебя поймут; очень сложная совокупность черт характера, мыслей и чувств выражена одним словом. Вот поэтому и полезно знать, кто такой Обломов и кто такой Аполлон Бельведерский: это как бы слова того языка нашей общей культуры, на котором ты будешь говорить людям все, что сочтешь нужным. Не самоцель, а средство взаимопонимания». Чем убедительнее это скажут родители и учителя, тем легче всем нам будет завтра.
КРИТИКА КАК САМОЦЕЛЬ
(ДЛЯ ДИСКУССИИ О ЛИТЕРАТУРНЫХ РЕПУТАЦИЯХ В ЖУРНАЛЕ «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»)
Говорят, что царю Птолемею показалось трудным многотомное сочинение Евклида и он спросил, нет ли более простого учебника. Евклид ответил: «В геометрии нет царских путей». Но в филологии царский путь есть, и называется он – критика. Критика не в расширительном смысле – как «всякое литературоведение», а в узком: та отрасль, которая занимается не выяснением что, как и откуда, а оценкой хорошо или плохо. То есть устанавливает литературные репутации. Это не наука о литературе, а литература о литературе. Б. И. Ярхо писал: «Можно и цветы расклассифицировать на красивые и некрасивые, но что это даст для ботаники?» Для ботаники, конечно, ничего, а для стихов и прозы о цветах – многое. Это форма самоутверждения и самовыражения: статьи Белинского о Пушкине и Баратынском очень мало говорят нам о Пушкине и Баратынском, но очень много – о Белинском и его последователях. Так и здесь, вероятно, разговор о литературных репутациях должен быть средством не столько к познанию, сколько к самопознанию.
Однажды мне случилось сказать: «Не потому Лермонтов нам нравится, что он велик, а наоборот, мы его называем великим потому, что он нам нравится». Мне казалось, что это банальность, но некоторых это почему-то очень возмутило. Мне и до сих пор кажется, что наше «нравится – не нравится» – недостаточное основание, чтобы объявить писателя великим или невеликим. Я бы предпочел считать, что тот писатель хорош, который мне не нравится, который выходит за рамки моего вкуса: ведь я не имею права считать мой вкус хорошим только потому, что он мой. Еще лучше было бы вместо своей эгоцентрической точки зрения реконструировать чужую, заведомо достойную уважения: а что сказал бы о таком-то современном поэте Мандельштам? Пушкин? Овидий? Такие гипотетические суждения, наверное, были бы интереснее; но обычно об этом не задумываются, вероятно, предчувствуя: ничего хорошего они бы не сказали.
Вопрос хорошо или плохо всегда предполагает сравнение: лучше или хуже кого-то или чего-то другого. Когда такие сравнения делаются в пределах одной культуры, они бывают изящны: кто лучше, Эсхил или Еврипид, Корнель или Расин, Евтушенко или Вознесенский? Думаю, однако, что гораздо интереснее были бы сравнения между разными культурами, хотя их обычно избегают из‐за трудности: кто талантливей, Дельвиг, Шершеневич или Юрий Кузнецов? А интереснее такие сравнения вот почему. Нам ведь только кажется, будто мы читаем наших современников на фоне классиков, – на самом деле мы читаем классиков на фоне современников, и каждый из нас в своей жизни раньше знакомится с Михалковым, чем с Пушкиным, и с Пушкиным, чем с Гомером. Отдавать себе отчет в том, где здесь прямая перспектива и где обратная, было бы очень полезно. И это относится ко всем векам: когда римляне осваивали греческую культуру, они заставляли себя читать Каллимаха, а уважать Гомера. Это очень мешает строить систему вкуса: в лучшем случае получается сознательное лицемерие, а в худшем бессознательное.
Сейчас сопоставительное чтение одного текста на фоне другого полюбили постструктуралисты и деструктивисты. Но они не ставят целью выяснение генезиса собственного вкуса: они вместо этого создают художественные произведения и выдают их за научные. Где-то у Борхеса предлагается вообразить (кажется), что «Дао дэ-цзин» и «1001 ночь» написаны одним человеком, и реконструировать душевный облик этого человека. А у Станислава Лема предлагается литературная игра «Сделай сам»: можно поженить Гамлета с Наташей Ростовой и посмотреть, что из этого выйдет. Постструктуралисты занимаются почти тем же самым – только они реконструируют облик не одновременного писателя, а одновременного читателя таких произведений, т. е. наш собственный (по большей части – малопривлекательный). Ничего нового здесь нет. Классики потому и считаются классиками, что каждое поколение смотрится в них, как в зеркало; а кто больше озабочен своей наружностью, смотрится сразу в два зеркала, это вполне естественно. Хуже то, что они уверяют нас, будто это их отражение и есть самое главное в зеркале классической литературы.
Постструктурализм и деструктивизм – нарциссическая филология. Да, они справедливо напоминают, что филология нам дает не описание произведения, а описание взаимодействия произведения с исследователем. (Это взаимодействие любят называть «диалог»; об этой сомнительной метафоре – чуть дальше.) И они справедливо ссылаются на физику, которая признает, что прибор дает нам показания не об объекте, а о своем соприкосновении с объектом. Но что делает физик? Он старается выяснить специфику возмущающего влияния прибора (в какую дурную бесконечность уводит это выяснение – вопрос отдельный), чтобы потом вычесть ее из операций и по возможности сосредоточиться на объекте. А что делает филолог донаучной или посленаучной эпохи? Он сосредоточивается именно на взаимодействии между собой и произведением – на том взаимоотношении, которое честно формулируется словами «нравится – не нравится», а прикровенно – словами «хорошо – плохо». То есть на игре собственных эстетических переживаний. Право, если бы физику термометр начал изъяснять переживание им собственной ртути, то физик такой термометр выбросил бы. Когда мы говорим «хорошо – плохо», этим мы проясняем себе (и другим) структуру нашего вкуса. Это очень важный предмет, и самопознание – очень благородное занятие. Но не нужно выдавать его за познание предмета, с которым мы имеем дело.
Критик справедливо напоминает ученому, что не все можно взять разумом, а иное только интуицией. Но он забывает напомнить, что и наоборот, не все можно взять интуицией: она действует только в пределах собственной культуры. Попробуем перенести методы французских постструктуралистов с Бодлера и Расина хотя бы на Горация (не говорю: на Ли Бо), и сразу явится или бессилие, или фантасмагория. Они исходят из предпосылки: раз я читаю это стихотворение, значит, оно написано для меня. А на самом деле для меня ничего не написано, кроме стишков из сегодняшней газеты. Чтобы понять Горация, нужно выучить его поэтический язык. А поэтический язык, как и английский или китайский, выучивается не по интуиции, а по учебникам (к сожалению, для него не написанным).
Если стихи классиков писаны не для нас, то что означает обычное наше ощущение: «я понимаю это стихотворение»? То же самое, как когда мы говорим: «я знаю этого человека». Этот человек заведомо создан не для меня, и я заведомо не притязаю читать у него в душе, я только представляю себе, каких неожиданностей от него можно ждать, а каких можно не ждать: набросится ли он в следующий миг на меня с кулаками и пойдет ли он на следующий день на меня с доносом. Вот так и филологическое понимание есть лишь самозащита от нападения на нас непонятного нам мира в лице такого-то стихотворения. Только в этом смысле я согласен с тем, что искусство есть насилие, и понимаю постмодернистских критиков, которые с этим насилием борются. Но мне хотелось бы бороться не встречным насилием.
Для меня в этом мире не создано и не приспособлено ничего: мне кажется, что каждый наш шаг по земле убеждает нас в этом. Кто считает иначе, тот, видимо, или слишком уютно живет (замечает те книги, какие хочет, и не замечает тех, каких не хочет), или, наоборот, так уж замучен неудобствами этого мира, что выстраивает в уме воображаемый и считает его единственным или хотя бы настоящим. Так что вместо «нарциссическая филология» можно сказать «солипсическая филология». А я привык думать, что филология – это служба общения.
Общение это очень трудное. Неоправданно оптимистической кажется мне модная метафора, будто между читателем и произведением (и вообще между всем на свете) происходит диалог. Даже когда разговаривают живые люди, мы сплошь и рядом слышим не диалог, а два нашинкованных монолога. Каждый из собеседников по ходу диалога конструирует удобный ему образ собеседника. С таким же успехом он мог бы разговаривать с камнем и воображать ответы камня на свои вопросы. С камнями сейчас мало кто разговаривает – по крайней мере публично, – но с Бодлером или Расином всякий неленивый разговаривает именно как с камнем и получает от него именно те ответы, которые ему хочется услышать. Что такое диалог? Допрос. Как ведет себя собеседник? Признается во всем, чего домогается допрашивающий. А тот принимает это всерьез и думает, будто кого-то (что-то) познал.
Когда мы читаем старые «Разговоры в царстве мертвых» – Цезарь со Святославом, Гораций с Кантемиром, – мы улыбаемся. Но когда мы сами себе придумываем разговор с Пушкиным или Горацием, то относимся к этому (увы) серьезно. Мы не хотим признаться себе, что душевный мир Пушкина для нас такой же чужой, как древнего ассирийца или собаки Каштанки. Вопросы, которые для нас главные, для него не существовали, и наоборот. Мы не только не можем забыть всего, что Пушкин не читал, а мы читали, – мы еще и не хотим этого: потому что чувствуем, что из этих-то книг и слагается то драгоценное, что нам кажется собственной нашей личностью. Оттого мы и предпочитаем смотреть на дальние тексты сквозь ближние тексты, будь то Хайдеггер или Лимонов.
Максимум достижимого – это учиться языку собеседника; а он такой же трудный, как горациевский или китайский. Конечно, это меня просвещает и обогащает – но ровно столько же, сколько обогащает изучение китайского языка. (Можно ли говорить о диалоге с учебником китайского языка?) Как разговариваем мы с живыми людьми? В любом так называемом диалоге поток мыслей моего собеседника начался до меня, я обязан поймать их на лету, угадать самоподразумевающееся для него, поддержать, не понимая, и обогатиться ненужным, а его отпустить довольным. Что ж, согласовывать наши языки хотя бы на материале литературных репутаций – это совсем не так плохо. Это все равно, что составить многостолбцовый словарь: что значит «хорошо», «плохо» и все оттенки между этими краями для такого-то, и такого-то, и такого-то критика. Все равно наука всегда начинается с интуиции: с выделения того, что нам интуитивно кажется заслуживающим изучения. В нашем случае – хороших и плохих литературных произведений. А потом уже происходит поверка разумом: почему именно такие-то тексты вызвали именно такие-то интуитивные ощущения. Но этим обычно занимается уже не критика.
V. ОТ А ДО Я
Если эпиграф покажется вам уже слишком глуп, то вместо Гете подпишите Тик, под фирмою которого всякая бессмыслица сойдет.
И. Киреевский
Кто вопрошает богов о том, что можно знать посредством меры, веса и счета, и о тому подобных вещах, тот поступает нечестиво.
Socr. ap. Xen. Memor
А собака лаилаНа дядю Михаила,А что она лаила —И сама не знаила.Частушка
А Алфавитный указатель к двухтомнику С. Острового начинается «А было это…» и еще 10 стихотворений, начинающихся с А. (Последнее: «А что такое есть стихотворенье?..») Тютчев стал начинать стихи с И, а Островой с А.
@ – это буква а берется левой рукой за правое ухо (О. К.).
Абстракционистская литература (советского классицизма): действуют люди, а разговаривают совершенно как треугольники.
«Авангард 1920‐х годов низвергал традицию, авангард 1980‐х ей подмигивает» (тезисы И. Бакштейна).
Авангард авангарда, одержимый всеми неврозами разведчика неверных путей…
Автор «Если „смерть автора“, то, вероятно, и Деррида тоже нет?» – «Нет, говорят, Деррида только и есть, это всех остальных нет» (Т. Толстая).
Адресат Цветаева писала: «Говорите о своей комнате, и сколько в ней окон, и какие цветы на ковре…» («Из двух книг»). Какая уверенность, что у каждого пишущего стихи есть комната, и даже с ковром. Когда готовили дом-музей Цветаевой, то много спорили, воспроизводить ли в нем предреволюционную роскошь или пореволюционную нищету; выбрали первое. Я сказал: «Полюби нас беленькими, а черненькими нас всякий полюбит».
Азбука На телеграфе: «А международную в Болгарию тоже латинскими буквами писать?» – «Обязательно».
Азбука Ст. Спендер предлагал ЮНЕСКО начать опыт мирового правительства со снятия таможенных барьеров между странами на одну букву, например Либерией, Лапландией и Люксембургом (A. Koestler).
«Лит. газета» печатала статью с новой теорией стиха «Слова о полку Игореве»: строчки соизмеряются по числу одинаковых букв, вот промелькнули вразнобой пять т и вот еще пять т , значит – две строчки. Меня попросили написать предисловие, я написал: «Была детская игра: по клеточкам нарисованы в беспорядке кошки, мышки и лягушки, их нужно пересчитать, но не порознь, а так: первая кошка, первая мышка, вторая кошка, первая лягушка, третья кошка, вторая мышка и т. д., кто раньше собьется. Автор новой теории предполагает в читателе – точнее, в слушателе! – «Слова…» вот такую фантастическую быстроту и четкость восприятия» и т. д. Лишь потом я вспомнил, что Хлебников именно такие закономерности обнаружил – post factum – в своем «Кузнечике»: 5 к , 5 р , 5 л , 5 у . Знал ли об этом толкователь «Слова…»?
Академик Выбран в академики. «А времени в сутках вам за это не прибавили?» – спросил НН. «Ах, если бы вместе с книгами продавали время для их чтения» – эти слова Шопенгауэра стали девизом немецкого общества библиофилов.
Академический авангардизм Ю. М. Лотман говорил об улицах в Режице: «Конечно, если эта – Суворова, то вон та будет Маяковского, а между ними – Жданова». Совсем как у позднего Брюсова.
Аканье Льва Толстого: имена «Каренина» вместо «Кореньина», «Каратаев» вместо «Коротаев». Впрочем, кто-то говорил, будто фамилия Анны – от греч. carene, голова, и делал выводы о рационализме и иррационализме.
Аканье Статья А. Ржевского «О московском наречии» объясняла аканье любовью русского народа к начальству – как к первой букве.
Алфавит Персидский великий визирь Абул Касем Исмаил (X век) возил за собой свою 117 000-томную библиотеку на 400 верблюдах по алфавиту.
Анамнез в значении «амнезия» пишет доктор филол. наук М. Новикова в «Лит. газете», 17.6.1992.
Аполитизм Маяковского: у него нет прямых откликов ни на троцкизм, ни на шахтинское дело, его публицистичность условна, как мадригал (сказала И. Ю. П.).
Аполлон Воспоминания В. Белкина, художника: «…в „Аполлоне“ все были какие-то умытые» (В. Лукницкая).
Архаисты и новаторы Традиционализм закрытости – это хранение результатов, новаторство открытости – хранение приемов. «Никакая программа не революционна, революционна бывает деятельность», т. е. смена программ (Б. Томашевский). Ср. сентенцию Волошина: свободы нет, есть освобождение.
Архив Евд. Никитиной (РГАЛИ): В. И. Бельков, крестьянский поэт, в 150 км от Барнаула, был в городе за всю жизнь раз 10, в том числе один раз в кино. Д. Е. Богданов из Липецка – одно время увлекался собиранием фамилий английских лордов из книг, газет и журналов, насобирал несколько сотен. М. М. Бодров-Елкин из Волоколамского уезда: «Под наблюдением моим / Древа, цветы цвели и вяли». Не помню кто: «Сейчас мне 23 года, проживу еще лет 20» (из собранных автобиографий).
Аршин «Догматическая наука мерит мили завещанным аршином, а харисматическая наука мерит мили новоизобретенным аршином, вот и вся разница».
Афины Потомкам тираноборцев Гармодия и Аристогитона там тоже полагались почет и льготы. Я вспомнил об этом, услышав от К. К. Платонова, что в ленинградском доме политкаторжан в распределителе висело объявление: «Будет выдаваться повидло по полкилограмма, цареубийцам по килограмму».
«Афоризмы – это точки, через которые заведомо нельзя провести никакую линию», – сказал А. В. Михайлов.
Балет Почему в России при всех режимах писать о балете было опасно? Н. написал о Григоровиче: он гений, но сейчас в кризисе; я бы за такой отзыв ручки целовал, а Григорович требует сатисфакции.
Басня «А вот Крылова мы с парохода современности не сбросим», – говорил Бурлюк, по воспоминаниям Тауфера.
«Бездарным праведником» называл Толстого Скрябин (восп. Сабанеева).
«Беспокойство мысли – Герцен, беспокойство совести – Огарев, беспокойство воли – Бакунин» (зап. О. Фрелиха в РГАЛИ).
«Это бессмысленница», – писал на сочинениях Я. Г. Мор, преемник Анненского по директорству в Царском Селе (восп. А. Орлова в РГБ).
Бессознательное Салтыков-Щедрин: «А я в Москве увижу мсье Кормилицына! – думала дама (она этого не думала, но я знаю наверное, что думала). – А я в Москве увижу мадам Попандопуло! – думал кавалер (и он тоже не думал, но думал)».
Биография Мандельштам писал: у интеллигента не биография, а список прочитанных книг. А у меня – непрочитанных.
Биография Я пишу не о себе, не о внутреннем своем, которого я не помню или довыдумываю, а о своих словах, поступках, записанных мыслях, смотрю на себя как на объект, подлежащий реконструкции.
«Благовоспитанный человек не обижает другого по неловкости. Он обижает только намеренно» (А. Ахматова у Л. Чуковской). «Это она повторяет Уайльда», – говорит К. Душенко.
Блат «Богат мыслит о злате, а убог о блате» (Пословицы Симони).
Ближние и дальние К. Краус: «Кокошка нарисовал меня: знакомые не узнают, а незнакомые узнают».
Бог Художница Ханни Рокко говорила о нем: «Ему бы восьмой день!»
Богоматерь Собеседница уверяла, что сама слышала в дни Дрезденской галереи, как женщина спрашивала сторожиху при «Сикстинке»: «Почему ее изображают всегда с мальчиком и никогда с девочкой?» Оказывается, любимый феминистский анекдот – тот, в котором Богоматерь отвечает интервьюеру: «…а нам так хотелось девочку!»
Кл. Лемминг
С боку на бок Падение нравов неповинно в гибелях империй, оно не умножает, а только рокирует пороки. При Фрейде люди наживали неврозы, попрекая себя избытком темперамента, а после Фрейда – недостатком его; общее же число невротиков не изменилось. Вероятно, соотношение предрасположенностей к аскетизму, к разврату, к гомосексуализму и проч. всегда постоянно, и только пресс общественной морали давит то одни участки общества, то другие. Это общество как бы ворочается с боку на бок. Кажется, Вл. Соловьев писал, что успехи психоанализа сводятся к тому, чтобы уменьшить клиентуру невропатологов и умножить клиентуру венерологов.
Более-менее «У вас есть дипломаты более европейские, чем Европа, и менее русские, чем Россия», – говорил Рейсс, германский посол при Сан-Стефанском мире (Мещерский). Ср. С. Кржижановский: «Это более, чем менее? Знаете, это менее более, чем более или менее».
Бородино Битву Александра при Гавгамелах греки предпочитали называть «при Арбеле», по более дальнему городу, – потому что благозвучнее. Так французы называют Бородино «битвой под Москвой». Бородино было орудийным грохотом от рассвета до глубокой ночи, артиллерийской дуэлью, а «драгуны с пестрыми значками, уланы с конскими хвостами» высыпались в атаки, лишь чтобы проверить результат пальбы. И именно артиллерия – налаженная Аракчеевым – была у русских едва ли не сильней французской. Больше всего это было похоже на Курскую дугу.
Бремя: русское «бремя белых» перед Востоком и «бремя черных» перед Западом.
Бы «НН хороший ученый?» – «Он мог бы, но ему некогда».
Бы Реконструировать поэта по «я чувствовал бы так» – все равно, что больного по «я болел бы так». Этому противоположна Гиппократова филология.
Бы А что писал бы Пушкин, проживи он на десять лет дольше? А что писал бы он, проживи он на двести лет дольше? Вопрос одинаково неправилен.
Бы Если бы Лермонтов не погиб и решился бы уйти из армии, он не удержался бы в столице – по бедности – и жил бы в деревне, предтечей Фета и Толстого (В. Викери, в разговоре). Так и Пушкин, идя на дуэль, надеялся поплатиться ссылкой в деревню. Хотя помещики из них получились бы плохие.
Бы Я не раз прикидывал, что было бы с Пушкиным, если бы в декабре 1825 года повстанцы победили. Получалось: он пережил бы и смуту, и диктатуру Пестеля; первым человеком в русской литературе стал бы Булгарин; Пушкин бы с ним жестоко спорил и погиб бы около 1837 года, возможно, что на дуэли. А. В. Исаченко делал доклад на конгрессе славистов: что было бы, если бы Россию объединила не Москва, а Новгород; получалась очень светлая картина. (Я предпочитал воображать, что Россию объединила бы Литва.) Такими упражнениями любил заниматься Тойнби: что было бы, если бы Тимур в своем маркграфстве не поворотил фронт на Персию, а продолжал бы бороться со степью, как ему и было положено? Тогда мы сейчас имели бы на территории СССР государство приблизительно в границах СССР, только со столицей не в Москве, а в Самарканде.
Бы Именно такие рассуждения в стиле Кифы Мокиевича Г. Успенский обозначал незабвенным словом «перекабыльство». А Ю. М. Лотман – словами «многовариантность истории».
Быть может «Данте он мне никогда не читал. Быть может, потому, что я тогда не знала еще итальянского языка» (А. Ахматова, «Модильяни»).
Кл. Лемминг
Вакуум Рахманинов говорил: «во мне 85% музыканта и 15% человека»; я бы мог сказать, что во мне 85% ученого… но сейчас этот процент ученого быстро сокращается, а процент человека не нарастает, получается в промежутке вакуум, от которого тяжело.
Вашингтон на долларе потому так мрачен, что во время позирования он разнашивал зубной протез.
Век живи Из притчи: душа все время учит человека, но не повторяет ни одного урока. Ср. История.
ПИСЬМО ИЗ ВЕНЫ:
Дорогая И. Ю.,
я уже привык Вам писать о каждом встречном городе что-то вроде его перевода на знакомый нам язык: помню, как я писал Вам «возьмите Марбург, перемените то-то и то-то и получите Венецию». Так и о Вене мне хочется сказать: возьмите ленинградские проспекты, наломайте их на куски покороче, расположите так, чтобы каждый перекресток старался называться «Пять углов», потом набросьте на эту паутину московское бульварное кольцо (только пошире) под заглавием Ринг – Вы получите Вену. Все дома осанистые, все с окнами в каменных наличниках, каждый пятый с лепными мордами, каждый десятый с валькирией в нише. Такой же и университет, но как войдешь – родные узкие коридоры, облупленные двери и неприкаянные студенты.
Вена изо всех сил притворяется городом наших бабушек: на новенькой кондитерской написано «с 1776 г.», на ювелирном магазине (готикой) «бывший поставщик двора его кралецесарского величества». У Аверинцева в университетском кабинете между фотографиями усатого Миклошича и бородатого Трубецкого – огромный Франц-Иосиф в золотой раме. Сама Вена ездит на трамваях, а туристов возит на извозчиках, и извозчиков этих (лошади парою, а возницы в котелках) на улицах не меньше, чем трамваев. В публичных местах густо стоят памятники – тоже в стиле картинок из тех книжек в красных переплетах с золотым обрезом, которые дарили нашим бабушкам за прилежание в четвертом классе. Но не все: с ними, названия не имеющими, чередуются иные, называющиеся барокко. В книгах написано, что подлинным зачинщиком барокко был Микеланджело, но это неправда. Микеланджело говорил, что статуя должна быть такой, чтобы скатить ее с горы – и у нее ничего не отломится. А эти статуи такие, что и на площади, кажется, вот-вот развалятся – столько из них торчит лишних конечностей. И все вздутые и вскрученные, как будто их сложили из воздушных шаров разного размера и облепили камнем. Поглядев на здешнюю Марию-Терезию (в окружении разных аллегорий), чувствуешь, что наша Екатерина перед Александринским театром – чудо монументального вкуса. На гравюрах мы привыкли к таким размашистым жестам, как у Терезии и аллегорий; но когда они из чугуна, то я пугаюсь. Дворцы по бульварному кольцу тоже поважнее Зимнего: там на крыше стоят черные латники, а тут скачут золоченые всадники, а то и колесницы, и тоже все в чем-то развевающемся.
И вот среди этого царства бабушек разных эпох стоит собор святого Стефана, ради которого, собственно, я только и выполз из своего жилья. Мне его стало очень жалко. Он высокий, старый, изможденный, и ему очень тесно. Почему большой – об этом в незапамятном детстве, когда меня безуспешно учили немецкому языку, я читал легенду, что его строитель ради этого продал душу дьяволу, но чем это кончилось, я не помню. Почему худой – потому что это поздняя готика, когда все башни похожи на рыбьи кости с торчащими позвонками, а подпружные ребра по бокам судорожно поджаты. Почему изможденный – то ли он в вечном ремонте, то ли порода у него такая, но серые стены цвета вековой пыли у него в больших светлых проплешинах, как на облезающей собаке. Почему тесно – потому что его вплотную обступили, высотою ему по колено, добротные домики XIX века, такие уютные, что ясно, никто никогда их не снесет, чтобы Стефана можно было хоть увидеть по-человечески. Видно, что за шестьсот лет он оттрудился вконец и хочет только в могилу, а ему говорят: ты памятник архитектуры, тебе рано. Вы человек – бывавший в Европе, и на эти мои чувства могли бы сказать вразумляюще: «это везде так», и я бы утешился. Но вас поблизости не было.
Тогда я единственный раз выбрался дальше моего обычного маршрута от жилья до университета, и это было тяжело: я не мог ничего видеть, не стараясь в уме пересказать это словами, и голова работала до перегрева, как будто из зрительной пряжи сучила словесную нитку. Мне предлагали поводить меня по Вене, но я жалобно отвечал: «Я слишком дискурсивный человек». На обратном же пути от Стефана стоял дом серым кубом образца 1930 года, на квадратном фасаде – цветные гнутые нимфы образца 1910 года, а между ними надпись: здесь жил Бетховен, годы такие-то, опусы такие-то.
Ежедневный же мой путь до университета – 20 минут, из них 15 минут вдоль каменного барака в два этажа, где был монастырь (на воротах – MDCXCVII), потом госпиталь (за воротами скульптура белого врача в зеленом садике), а теперь его передалбливают под новый корпус университета. Это по одной стороне улицы, а по другой – пиццерия, фризюрня, турбюро до Австралии и Туниса, киндер-бутик, музыкальные инструменты с электрогитарами в витрине, ковры, городской суд, японский ресторан, книжный магазин (в витрине «Наш бэби» и «Турецкая кухня»), церковь с луковичными куполами под названием «У белых испанцев», где отпевали Бетховена, автомобильные детали, еще ковры, Макдональдс, антикварня с золотыми канделябрами и бахаистский информцентр (это, насколько я знаю, такая современная синтетическая религия, вроде эсперанто). Сократ в таких случаях говорил: «Как много на свете вещей, которые нам не нужны!» – а у меня скорее получается: «Как много вещей, которым я не нужен». В конце же пути, напротив университета, перед еще одной двухкостлявой готической церковью, зеленый сквер имени Зигмунда Фрейда и среди него серый камень, буквы пси и альфа, и надпись: «Голос разума негромок».
Мы с Вами плохо ориентируемся на местности, мне здесь рассказали страшную историю о том, как это опасно. Когда Гитлер был безработным малярным учеником, ему повезло добыть рекомендательное письмо к главному художнику Венского театра (дом в квартал, весь вспученный крылатыми всадниками и трубящими ангелами), но он заблудился в коридорах этой громады, попал не туда, его выставили, и вместо работы по специальности ему пришлось делать мировую историю.
Я всю жизнь сомневался, что такая вещь, как австрийская литература, существует в большей степени, чем саксонская или гессенская литература; но мне объяснили: да, особенно теперь, после немецкой оккупации. Это все равно как Польша почувствовала себя инопородной России только после ста лет русской власти. Говорят, даже обсуждали в правительстве, не снести ли совместный памятник австрийским и немецким солдатам, павшим в I Мировую войну, как недостаточно патриотичный; но решили не сносить, а только прикрыть большим-пребольшим колпаком. Я пришел в восторг и, увидев на дальнем краю Фрейд-сквера странный бурый конус в цветных разводах, подумал, может быть, это тоже колпак на чем-нибудь. Но мне сказали: к сожалению, нет, это памятник в честь мировой экологии.
В той австрийской литературе, которую я считал несуществующей, был такой лютый сатирик-экспрессионист Карл Краус, тридцать лет служивший для Германии Свифтом и Щедриным вместе взятыми; это он сказал: «Господи, прости им, ибо они ведают, что творят». В магазине, где я купил полезную книгу, справочник мотивов мировой литературы, ее упаковали в сумку, на которой красным по черному было написано: «Если колеблешься между двумя путями – выбирай правильный. Карл Краус». Позвольте же этими ободряющими нас словами закончить мое затянувшееся письмо.
Вера «У нас даже вместо опиума для народа – суррогат».
Вера «В Бога верите?» – «Верю… Ну, не так, конечно, верю… Некоторые верят, ну прям взахлеб…» (М. Ардов, «Октябрь», 1993, № 3).
Вера «Иные думают, что кардинал Мазарини умер, другие, что жив, а я ни тому, ни другому не верю» (Вяземский).
Вера «Я служила в ГАИЗе, но была агностиком: это не мешало совести. Я считала, что верить в бога и быть уверенным в его существовании – безнравственно, потому что корыстно» (из писем Н. Вс. Завадской).
Вергилий – поэт, который мог бы сказать «отечество славлю, которое есть, но трижды – которое будет». Внимание к Марцеллу, Палланту и другим молодым было для него тем же, чем для Маяковского «Комсомольская правда».
Верлибр «Главное – иметь нахальство знать, что это стихи».
Я. Сатуновский
Верлибр Олдингтон говорил: если бы Мильтон писал верлибром, он бы писал лучше.
Верлибр Я писал статью о строении русской элегии, перечитывал элегии Пушкина и на середине страницы терял смысл начала, так все было гладко и привычно. Чтобы не перечитывать по многу раз, я стал про себя пересказывать читаемое верлибром, и оно стало запоминаться.
Вечно На цветаевской конференции вспомнилось, как Тиняков определил: Гиппиус – это вечно-женственное, Ахматова – вечно-женское, Л. Столица – вечно-бабье… (А о ком еще было сказано: вечно-бабье? О России. Так сказал Бердяев, имея в виду дух восприимчивости и проч.). Но на этой конференции я вспоминал вечно-бабье всеминутно и безотносительно к России. «Как прошла конференция?» – спросил Флейшман. «На уровне примерно Харькова». – «Тогда хорошо».
Вечность На юбилее НН произнесли восточное пожелание: «Если хочешь быть счастливым час – закури; если день – напейся; если месяц – женись; если год – заведи любовницу; если всю жизнь – будь здоров!» В. С. добавил: если всю вечность – умри.
Д. Суражевский
Вечные ценности Они напоминают те вечные иголки для примуса, о которых Ильф писал: «Мне не нужна вечная игла для примуса. Я не собираюсь жить вечно!» «Вечные образы, этот паноптикум Тюссо в литературе», – выражался Брехт.
Вечные ценности: это как у нас возрождают семью и одновременно Христа, сказавшего «не мир, но меч» (Мф. 10:34–36), – а кто помнит, по какому поводу? См. I, Павлик Морозов.
Вещь В. Адмони: «Анненский – поэт вещи? не сказать ли: меблировщик (декоратор) души?»
Вещь Ф. Сологуб на юбилее говорил: «В старости привыкаешь относиться к себе как к вещи, которая нужна другим. Как к вещи, которую рвут из рук в руки и все никак не доломают. Я готов быть и молотком, и микроскопом, но не попеременно».
Пусть я не микроскоп, а штопор, все равно не стоит мною гвозди забивать! Маршак говорил: если человека расстреливают, пусть это делает тот, кто умеет владеть винтовкой.
Виноград, см. III, Демократия.
В лицо . А. приснилось: приходит покойная свекровь, удивляется, что из ее комнаты вынесены вещи, спрашивает свои документы, и неудобно ей объяснять, что она уже мертвая. То же снилось ей и после смерти ее матери. И вправду, многим живым в лицо тоже трудно сказать, что они уже мертвые. Мне до сих пор не говорят.
Внушение Р. Штейнера обвиняли, что перед Марной он встретился с Мольтке-мл. и нечаянно возбудил в нем стратегическую бездарность (J. Webb).
Воздаяние «Зрелище полей, обещающих в перспективе разве что загробное воздаяние» (Щедрин). «То-то у нас сейчас и происходит религиозное возрождение!» – отозвался И. О.
Возмущающая роль исследователя в филологии – это и называется вкус.
Волга «Иван Сергеевич, да вы ведь и Волги не видали!» – говорил Тургеневу Пыпин. Блок в России видел кроме Петербурга, Москвы и Шахматова только Киев в 1907 году и Пинск в войну.
Волнительный Это слово К. Федин с огорчением нашел уже в статьях Льва Толстого.
Воскресность «Он человек добрый, только никаких воскресностей не дает».
Воспитание должно говорить «смотри туда-то», а не «видь то-то». Толпа, которая вперена в одно и шелестит друг другу о разном.
Воспитание Семья заботится, чтобы человек отвечал требованиям общества, какие были двадцать лет назад; улица – требованиям сегодняшним; школа должна готовить к требованиям, какие будут через двадцать лет. Сейчас хуже всего делает свое дело школа.
«Воспоминания – фонари из прошлого, проясняющие пройденный путь и бросающие свет на будущий». Свет ли? Ведь перед ногами идущего – собственная тень от света прошлого. За каждым хорошим воспоминанием тянется длинная тень его дурных последствий.
Воспоминания Было четверостишие Арго (о рапповских временах): «Подняв из-под архивной пыли / Сей пожелтелый старый бред, / Не говори с тоскою: были, / Но с благодарностию: нет». А о чем можно с уверенностью сказать «нет»?
Воспоминания подавляют атомарностью. Раздражает случайность, с которой они напластовывались во мне. Не нанизаны на ось, а свалены в корзинку: как будто историческая память – не организм, а папка с материалами на случай. Корзинка – несмотря на то, что я помню последовательность напластований и впечатлений каждого возраста. Может быть, не корзинка, а шкаф с полками и отделениями и поэтому ощущающий пустоту в таких-то и таких-то и страдающий от нее (тоска по полноте, по энциклопедии, по Исидору Севильскому) или от того, что не те материалы попали не на те полки.
Враг Черногорская сентенция: героизм – это защитить себя от врага, а человечность – это защитить врага от себя.
Время В Праге есть часы на синагоге, которые ходят по-еврейски, против часовой стрелки. НН похож на часы, у которых минутная стрелка исправно кружится, а часовая стоит на месте.
Время Приснилась ведомость со счетом трат времени, под заглавием «Цайткурант».
Время «Днесь приходит время злое, время злое, остальное. После будет время злее, время злее, остальнее». Духовный стих, который любит С. Е. Никитина.
Время В деревне, где летом живет О. С., восстанавливают церкви. Она спрашивала стариков: а когда ломали, то как: по приказу, по мобилизации? «Нет, сами». – «А почему?» – «Такое время было». Это напоминает апокрифический разговор: «Дедушка, а Христос был еврей?» – «Еврей, детка, еврей. Тогда все были евреями: такое время было». (Ср. в «Сумасшедшем корабле» про А. Волынского: «Он еврей, но, как апостолы, русский».)
И еще напоминает мою любимую сомалийскую сказку из статьи Жолковского. Был новый год, племя послало жреца гадать в лес, навстречу выползла змея и сказала: «Будет засуха, запасайте еду». Запасли, выжили; жрец пошел с подарками благодарить змею, но у самой норы раздумал и повернул прочь. На второй год змея сказала: «Будет война, собирайтесь с силами». Собрались, победили; жрец пошел благодарить змею, но когда она выползла из норы, то передумал и хотел ее растоптать, но змея скрылась. На третий год змея сказала: «Будет большой урожай, готовьтесь к сбору». Приготовились, собрали, жрец пошел с тройными подарками благодарить и просить прощения. Но змея сказала: «Прошлое – не вина, а щедрость – не заслуга. Было бесхлебье – и ты пожалел мне корма. Была война – и ты хотел меня убить. Теперь всего много – и ты несешь мне подарки. Каково время – таковы и мы».
Время Вывеска: «Столовая закрывается за 15 минут до закрытия».
«В среднем 70% от этого умирают», – сказали Якобсону перед последней операцией; он ответил: «Я ни в чем никогда не был средним» (от Поморской, через Ронена).
Главк Сминфиад отличался скромностью во хмелю. Однажды, когда на исходе симпосия Херсий, взявши его за грудь, начал, по обыкновению своему, вопрошать «А ты кто такой?», то Главк, побледнев, но нимало не смутившись, ответствовал: «Я – вымышленное лицо».
Апокриф
Вымышленное лицо Доска на главной улице в Варшаве: «В этом доме в 18** гг. жил пан Вокульский, вымышленное лицо, бывший повстанец, бывший ссыльный, затем варшавский житель и коммерсант, род. в 1832 г.»
Высокомерие «Моя нездоровая скромность, доходящая до мании ничтожества» (дневн. Е. Шварца). «Смотреть на всех снизу вверх – это очень большое высокомерие», – сказал мне А. Я. Гуревич.
Высокомерие Н. не любит людей, но уважает: никогда не смотрит сверху вниз. «А я наоборот», – сказала Т. С. Высокомерие от нравственного ригоризма. За это ее и не любят. У нее крепкие научные зубы и узкое научное горло: она выкусывает интересные куски, а переваривать их приходится за нее.
Газета В Карелии, чтобы отвлечь домового от лошадей, вешают в конюшне на стену газету вверх ногами.
Галлицизмы: делать знаки, бросился исполнить приказание, НН находится с вами («Галатея», 1839, № 11, с. 215).
Гений П. Валери: «Талант без гения – малость, гений без таланта – ничто». «Я не гений, но гениален», – говорил В. Чекрыгин (по Харджиеву). Ср. «Почему я не интеллигент – почему я не интеллигентен».
«Гермоген, патриарх, был не сладкогласив, не быстрораспрозрителен и зело слуховерствователен» (цит. по Платонову тот же Алданов, этот Щедрин русской эмиграции, за отсутствием спроса ушедший в беллетристику, где те же мысли декорированы выдуманными персонажами, такими маленькими, что даже незаметно, что они картонные).
Герострат Вообразите: Эфесский храм сгорел только по недосмотру пожарной службы, и, чтобы это скрыть, сочиняют версию о поджоге (с запретом называть имя поджигателя). Такой версии обеспечен успех.
Гетто «Культурное гетто наших семинаров», – сказал Г. Г., вспоминая отделение структурной и прикладной лингвистики в МГУ. «ОСИПЛ и классическое отделение были братья по эсотерическому садомазохизму», – ответила Н. Бр.
Гибридизация литературная От скрещения Брюсова и Бальмонта явился Гумилев, от Брюсова и Блока – Пяст, от Брюсова и Белого – Ходасевич, от Брюсова и Иванова – Волошин. («И все они, по Фрейду, ненавидели отца», – сказала Н.) И у него еще осталось сил на старости лет произвести от Северянина – Шенгели, а от Пастернака – Антокольского. От скрещения Бальмонта и Сологуба явился Рукавишников, а от скрещения Б. Окуджавы и Ю. Кузнецова – Высоцкий.
Гибридизация литературная К. П. сказал: «Платонов скрестил Белого с Горьким». И получил Зощенко, освобожденного от комизма. Каким же для этого нужно быть мичуринцем!
Гибридизация литературная Х. Баран сказал: Хопкинс – это вроде Донна, заговорившего стихом Маяковского. (И языком «Светомира-царевича».) Оцуп определял Есенина: смесь Кольцова и Верлена, а Иванов-Разумник говорил, что Розанов – это Акакий Акакиевич пополам с Великим инквизитором. Да и Монтень – это ведь тоже скрещение Авла Геллия с письмами Цицерона.
Гибридизация внелитературная «В честь 70-летия товарища Сталина советские селекционеры-мичуринцы приняли обязательство вывести новую породу сельскохозяйственного животного – мускопотама. Самое трудное было уговорить гиппопотама. Муха была готова на все» (из писем В. П. Зубова Ф. А. Петровскому, по памяти).
Гид Набоков был нецерковен: «К Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники».
Гиперболизация приема В переводе «Гоголя» Набокова следовало бы гоголевские цитаты сохранить на английском языке, потому что ради них и написана вся книга. А. Эфрос переводил Сандрара: «сторож, обутый в valenki…»
Гирше, да инше Накануне Октября и Пажеский корпус, и г-н Путилов (в разговоре с французским атташе) высказывались за большевиков (Геллер и Некрич).
Главное слово Внучка проходила мимо курятника, взяла и закудахтала – просто так, от нечего делать. Куры переполошились, высыпали на улицу и с криком бросились к ней. Видимо, она сказала им что-то очень важное, а что – сама не знает.
Главные вещи Трех главных вещей у меня нет: доброты, вкуса и чувства юмора. Вкус я старался заменить знанием, чувство юмора – точностью выражений, а доброту нечем.
Годовщины Гумилев говорил Шилейке, что умрет в 53 года (В. Лукн., 138). Это был бы 1939 год. Шенгели в 1925‐м среди лекции почувствовал себя в тяжелом трансе, будто его ведут на расстрел, но выдержал и дочитал до конца. В перерыве к нему подошел Б. Зубакин: «Дайте вашу ладонь». Посмотрел: «Ничего, вы проживете еще 12 лет». Это был бы 1937 год. (Письма Шенгели к Шкапской.)
Головотяпство родило революцию: Февраль начался бунтами из‐за бесхлебья в очередях, а после Февраля оказалось, что хлеб в столице был. Солдаты хотели мира, потому что не было снарядов, между тем оборонная промышленность работала на зависть союзникам, и только продукцию ее никак не могли довезти до фронта. А накопилось ее столько, что хватило на три года Гражданской войны (Геллер и Некрич).
Гоп-компания, этимология: «Туземный банкир, русский мужичок Богатков, принадлежащий генералу К., – это „Гоп и компания“ здешнего края» («Библ-ка для чтения», 1839).
Горох Приятно быть стенкой, об которую бросают горох: может быть, после этого из него сварится суп (ср. Диалог). Вдохновение – это, наверно, когда, как в стенку, бросаешь свой горох в Господа Бога, а горох летит обратно в твой котелок.
Грехи Христианин перед смертью должен вспомнить свои грехи, чтобы покаяться в них, а буддисты напоминают умирающему о том хорошем, что он сделал. Китайская пословица: «Когда ты один, думай о своих грехах, когда с другими – забывай чужие грехи».
Двухэтажный По словам Б. Бухштаба, Н. Олейников говорил, что Маршак – поэт для взрослых, которые думают, что он поэт для детей.
Декрет «Прошу декретного отпуска по научной беременности».
Дело Ривароль сказал собеседнику: «У вас то преимущество, что вы ничего еще не сделали, но не нужно этим преимуществом злоупотреблять». Ср. концовки сентенций Бисмарка и Вл. Соловьева.
Дело «Теперь, когда все погибло, поговорим о деле» (Горький – Зубакину, «Минувшее», № 20, с. 263).
Деньги деревянные «Если бы государь дал нам клейменые щепки и велел ходить им вместо рублей, нашедши способ предохранить их от фальшивых монет деревянных, то мы взяли бы и щепки» (Карамзин против Сперанского. Ср. Посошков: «В деньгах не вес имеет силу, а царское имя»).
Сон сына . Блестящий полководец, вроде великого моурави, отделяет от себя тень, одевает ее в великолепные латы и посылает на врага, чтобы быть сразу в двух местах. Они побеждают; тень возвращается в столицу первой и коронуется; но герой не боится. Он приходит во дворец и говорит: «Тень, знай свое место!» Тень выскальзывает из лат, подползает к его ногам и прирастает; а латы остаются стоять, поднимают железную руку и приказывают: «Отрубить ему голову!»
Decline and fall of the Russian empire Так называлась книга, которую читали «нашему общему другу» Диккенса, по его твердому мнению. Почему-то говорят «погибла Россия!» и представляют себе по крайней мере Римскую империю. А вы представьте Австро-Венгерскую: тоже ведь стояла тысячу лет. И ничего, бравый Швейк доволен, а Вена по-прежнему стоит на Дунае. Правда, когда я сказал это О. Малевичу, он ответил: «А вы знаете, что чехи и сейчас с сожалением вспоминают об австро-венгерских временах?»
Деспот «Поэты – деспоты мысли», – говорил Элий Аристид, предвосхищая Бахтина (где говорил – не выписано).
Деструктивизм живет в благоустроенном доме, где ему приятно передвигать мебель то так, то сяк. (А не в хаосе сопротивляющегося мира.) Культ романтического безобразия на комфортном поле взрастившей тебя цивилизации; озорник, шумящий в телефоне и без того трудного человеческого общения. Абсолютная свобода окупается абсолютной некоммуникабельностью.
Детектив (разговор с сыном): не вернее ли задаться вопросом, почему неубитые не убиты.
De trop – «всего слишком много», экзистенциалистский термин, до которого я додумался (доощущался?) самостоятельно в двадцать с немногим лет. Само это ощущение могло накопиться в школьные годы от многопредметной программы и сказаться только потом. Были навязчивые сны, как я иду в школу, не выучив урок, как за мной гонится травля-погоня, смыкаясь кольцом, как, уже загнанный, я сижу под кустом, ожидая: за сколько бед будет один ответ. В. Меркурьева спрашивала Вяч. Иванова, есть ли в ее стихах что-нибудь кроме чувства бессмертного английского школьника: мир велик, а я мал. Кто был тот бессмертный английский школьник? Позже я нашел этому страшному чувству веселую иллюстрацию:
«…Знай, о повелитель правоверных, что выехал я в каком-то году из своего города (а это был Багдад) и имел при себе небольшой мешок. Мы прибыли в некоторый город, и, пока я там продавал и покупал, вдруг один негодяй из курдов набросился на меня, отнял мешок и сказал: „Это мой мешок, и все, что в нем, – это мое!“ И пошли мы к кади, и кади сказал моему злодею курду: „Если ты говоришь, что это твой мешок, то расскажи нам, что в нем есть“. И курд ответил:
„В этом мешке две серебряные иглы и платок для рук, и еще два позолоченных горшка и два подсвечника, два ковра, два кувшина, поднос, два таза, котел, две кружки, поварешка, две торбы, кошка, две собаки, миска, два мешка, кафтан, две шубы, корова, два теленка, коза, два ягненка, овца, два зеленых шатра, верблюд, две верблюдицы, буйволица, пара быков, львица, пара львов, медведица, пара лисиц, скамеечка, два ложа, дворец, две беседки, сводчатый переход, два зала, кухня и толпа кухонных мужиков, которые засвидетельствуют, что этот мешок – мой мешок!“
„Эй, а ты что скажешь?“ – спросил кади. А я был ошеломлен речами курда и сказал: „У меня в этом мешке только разрушенный домик, и другой, без дверей, и собачья конура, и детская школа, и палатки, и веревки, и город Басра, и Багдад, и горн кузнеца, и сеть рыбака, и дворец Шеддада, сына Ада, и девушки, и юноши, и тысяча сводников, которые засвидетельствуют, что этот мешок – мой мешок!“
И тогда курд зарыдал и воскликнул: „О кади, этот мешок мне известен, и в нем находятся укрепления и крепости, журавли и львы, и люди, играющие в шахматы, и кобыла, и два жеребенка, и жеребец, и два коня, и город, и две деревни, и девка, и два распутника, и всадник, и два висельника, и слепой, и двое зрячих, и хромой, и двое расслабленных, и поп с двумя дьяконами, и патриарх с двумя монахами, и судья с двумя свидетелями, которые скажут, что этот мешок – мой мешок!“
И я исполнился гнева и сказал: „Нет, в этом мешке – кольчуги и клинки, и кладовые с оружием, и тысяча бодливых баранов, и пастбище для них, и тысяча лающих псов, и сады, и виноградники, и цветы, и благовония, и смоквы, и яблоки, и кувшины, и кубки, и картины, и статуи, и прекрасные невесты, и свадьбы, и суета, и крик, и дружные братья, и верные товарищи, и клетки для орлов, и сосуды для питья, и тамбурины, и свирели, и знамена, и флаги, и дети, и девицы, и невольницы, и певицы, и пять абиссинок, и три индуски, и двадцать румиек, и пятьдесят турчанок, и семьдесят персиянок, и восемьдесят курдок, и девяносто грузинок, и Тигр, и Евфрат, и огниво, и кремень, и Ирем Многостолпный, и кусок дерева, и гвоздь, и черный раб с флейтою, и ристалища, и стойла, и мечети, и бани, и каменщик, и столяр, и начальник, и подчиненный, и города, и области, и сто тысяч динаров, и двадцать сундуков с тканями, и пятьдесят кладовых для припасов, и Газа, и Аскалон, и земля от Дамиетты до Асуана, и дворец Хосроя Ануширвана, и Балх, и Исфахан, и исподнее платье, и кусок полотна, и тысяча острых бритв, которые обреют бороду кади, если он решится постановить, будто этот мешок – не мой!“
И когда кади услышал мои слова, его ум смутился, и он воскликнул: „Я вижу, что вы оба негодные люди и не боитесь порицаемого, ибо не описывали описывающие, и не говорили говорящие, и не слышали слышащие ничего удивительнее того, что вы сказали! Клянусь Аллахом, от Китая до дерева Умм Гайлан и от страны Иран до земли Судан, и от долины Наман до земли Хорасан не уместить того, что вами названо! Разве этот мешок – море, у которого нет дна, или Судный день, когда соберутся все чистые и нечистые?“
И потом кади велел открыть мешок, и я открыл его, и вдруг оказывается – в нем хлеб, и лимон, и сыр, и маслины! И я бросил наземь мешок перед курдом и ушел». И когда халиф услышал от Али-персиянина этот рассказ, он опрокинулся навзничь от смеха и т. д. («1001 ночь»).
Диалект Брат фольклориста Чистова пошел по партийной линии, и у братьев раздвоились диалекты: партийный заговорил на фрикативное h.
Диалог «Книга тем и нужна, что позволяет пишущему выговориться ни перед кем, а читающему вообразить, что это направленный разговор именно с ним». (Так и представляешь на месте пишущего – Деррида с его «самого-себя-слушанием», а на месте читающего – Бахтина: встречу двух эгоцентризмов.)
Диалог («Что такое диалог? – Допрос» и т. д.) Дочь с ее психологическим образованием сказала: это мужчины обижаются на диалог, как на допрос, а женщины, наоборот, обижаются на уклонение от диалога, как на невнимание, – доказано статистически. Может быть, бахтинское отношение к литературному герою не как к сочиненному, а «как к живому человеку», тоже характернее для женщин, чем для мужчин?
Диалог В каждом разговоре двоих участвуют шесть собеседников: каждый как он есть (известный только богу), каким он кажется себе и каким он кажется собеседнику; и все – несхожие. До Бахтина («каждый диалог двух собеседников – это диалог их внутренних диалогов самих с собой» и т. д.) об этом написал Амброз Бирс.
Диалог Гельмгольца призывали периодически к двум дворам, Вильгельм I слушал и не понимал, Вильгельм II говорил, и Гельмгольц не понимал (Алданов).
Диккенс Зощенко писал языком гоголевского почтмейстера, а Джойс языком мистера Джингля.
Дипломатия Романтический художник, общающийся с небом через голову мещанского мира, – это тоже дипломатия дружбы не с соседом, а через соседа.
Длина Клюев учил Есенина: лучший размер лирического стихотворения – 24 строки (Эрлих). А Брюсов говорил Гюнтеру, что 16.
Добро «Вы, В. В., генератор доброго, а я – поглотитель недоброго».
В. Шершеневич
Доброта Зощенко утешал Маршака, что в хороших условиях люди хороши, в плохих плохи, в ужасных ужасны (восп. Е. Шварца). Об этом и моя любимая сомалийская сказка (см. Время). Вообще-то это мысль из стихов Симонида, цитированных Платоном. Брехт: «Не говорите, что человек добр, сделайте так, чтобы ему было выгодно быть добрым». Я дважды цитировал это при Т. М., один раз она восхитилась, другой ужаснулась. Собственно, рационализм марксизма и сводился к этой брехтовской формуле, но романтизм марксизма заставлял верить, что будет чудо и недобрые все-таки переродятся в добрых.
Довод Черчилль помечал в речах: «довод слаб, повысить голос». Некоторым приходится держать голос повышенным от начала до конца.
Долг «Ты что ж, говорю, волк, неужели съесть меня захотел? А волк молчит, разинув пасть. Не ешь, серый, я тебе пригожусь. А сам думаю: на что я пригожусь? И пока я так раздумывал, волк меня съел. С приятным сознанием исполненного долга я проснулся» (Ремизов. Мартын Задека).
Дом Цветаевой в Москве. «Ваш дом снесут: рядом будет американское посольство». Ждут. «Сделают капремонт: рядом будет английское посольство». Ждут. «Отремонтируют фасад: рядом будет индийское посольство». Ждут. «Ничего не сделают: рядом будет монгольское посольство». И стоит, из окна видно.
Домовой «…А теперь тут молодежное общежитие, и такое стоит, что домовые глохнут».
Доразуметь и вывидеть нужное предлагал Кот Бубера у С. Боброва.
Достопримечательности В санатории «Узкое» показывают бильярд, на котором играл – чуть ли не с Луначарским – Маяковский и возле которого на трех сдвинутых кожаных сидениях умер Вл. Соловьев. А в соседней церкви, отремонтированной лишь за счет канадских Трубецких, будто бы до сих пор гниет не разобранная библиотека Гитлера. В связи с этим кто-то рассказывал, что парижская Тургеневская библиотека, аккуратно перевезенная немцами в Киев, попала в Ленинку и около 1972 года ее рассортировали: не-дублеты в фонд, а дублеты под нож. Почему не в другие библиотеки? – Потому что не было в уставе пункта о передаче книг из ВГБИЛ в другие библиотеки. Кстати, там же, в Ленинке, есть фонд Germanica, за который Германия готова заплатить валютой, но его не продают: книги в таком непоправимом состоянии, что стыдно показать.
Мне снилась московская Театральная площадь и на ней мемориальный столб великим полякам: Мицкевич, Лелевель, а третий почему-то был Булгарин, и на этом месте все говорили «и др.».
Дядя У НН., филолога-классика, – стареющий пес Шлиман: «Сперва он был мне вроде сына, потом вроде брата, а потом не то чтобы вроде отца, но, скажем, вроде дяди». Я вспомнил шутку Ф. А. Петровского. Институтка спросила: чем отличаются бык и вол? «Теленочка знаешь? Ну так вот, бык – это отец теленочка, а вол – его дядя» (сказано было на заседании сектора, но по какому поводу?).
Евгеника – это наш нравственный долг перед домашними животными.
Евхаристия Читатель приобщается автору, как при евхаристии – Богу: поглотив его частицу. Но при евхаристии причастник обычно никогда не воображает, будто съел всего бога, а при чтении – к сожалению, почти всегда.
Египет Блок не мог есть при чужих, как геродотовы египтяне (восп. Павлович). И был коротконог, как патагонцы: сидя казался выше, чем стоя (восп. Н. Чуковского). То же самое вспоминал Н. Альтман о Ленине.
Египетские ночи В. Рогов дописывал 15 стихотворений Брюсова, как тот – «Египетские ночи», а Жанна Матвеевна авторизовала.
Единосущие Богослов и проповедник Галятовский объяснял единость двух единств Христа: может ведь человек быть одновременно и философом, и ритором! У зулусов быть одновременно человеком и пауком так же естественно, как у нас быть семьянином, гражданином, блондином, химиком, спортсменом и мерзавцем. Это тоже Личность как точка пересечения.
Ефа – мера емкости, вмещающая 432 яйца. «И там сидела одна женщина посреди ефы» (Зах. 5:7).
Еще «Постоянно прибавляйте „уже“ и „еще“» (Брехт).
«Жадность к печали у Чеботаревской стала патологической» (Н. Оцуп).
Жена Не позадачило с женой жить, не стал ее скорбить, взял да и ушел от нее» (РГАЛИ, записи В. В. Переплетчикова).
Женитьба «Жениться оттого, что любишь, – это все равно, что счесть себя полководцем оттого, что любишь Отечество». Ср. Ф. Сологуб: «Полководцами становятся те, кто с детства любят играть в солдатики и разбираться в выпушках и петлицах, а не просто те, кто любят Отечество» (Л. Борисов).
Женитьба «Для штей люди женятся, для мяса замуж ходят» (Пословицы Симони).
Женщина «Несчастен фетишист, который тоскует по туфельке, а получает целую женщину» (Карл Краус).
Женщина «Огненная женщина за 2500 лет до нашего времени» («Одесский вестник» 1873 г. о Сапфо).
«Женщины плачут, когда их бранят, – независимо от того, справедливо или нет, просто потому, что бранят». Вот какие наблюдения бывают у Брехта.
Жизнь «Жить тихо – от людей лихо, жить моторно – от людей укорно» (Пословицы Симони).
Соболевский
«Жизнь ушла на то, чтоб жизнь прожить» (из письма С.).
Жизнь «Родился мал, рос глуп, вырос пьян, помер стар – ничего не знаю» – отчет запорожца на том свете; ответ: «Иди, душа, в рай» (Даль).
Жизнь Сталинградский солдат сказал корреспонденту: «Жить нельзя, но находиться можно» (М. Соболь).
Жизнь и смерть Историки Рожков с Покровским ехали в трамвае на съезд Советов и, трясясь у подвесных ремней, переругивались. Рожков кричал: «Все вы скоро будете покойниками!», а Покровский: «А покойники часто и бывают победителями!»
Жизнь коротка. Я вспомнил книгу Голенищева о ренессансе в восточноевропейских литературах; она внушала уважение, но Ш. сказал: «А библиографию в ней помните?» – «Помню». – «И как, по-вашему, можно столько книг прочитать за одну жизнь?» А ведь и правда, нельзя.
«Жить не хочется, а умирать боюсь» (Гончаров): вариация «Крестьянина и смерти».
«Жить не хочется, вот и все», – повтори эти слова быстро тридцать раз, они автоматизируются – и станет легче.
Завсектором – для меня была должность главноуговаривающего и главнододелывающего.
За и против . Я приготовил подборку стихов М. Шкапской со вступительной статьей. У дочери Шкапской была знакомая в журнале «Москва», отнесли в «Москву». Долго ждали, потом мне позвонили из редакции: предложили снять «Алексея II» и «Последний жид…»: «Знаете, сейчас, когда одни шумят против царского расстрела, а другие – за [?], несвоевременно…» Я обратил их внимание, что в стихотворении сказано именно это: ни против, ни за, но – выше. «Да, но сейчас, когда Россия так истерзана, такие жестокие слова…» – «Разве это первые 70 лет за свою историю она истерзана?» – «Это скорее для „Огонька“, а наш журнал…» – «Ну а я не с „Огоньком“ и не с вашим журналом, а со Шкапской. Снимайте публикацию». От ярости я даже не заикался. В телефоне крякнули, но не возражали. Случилось чудо: с журналами у меня связей нет, но тут через час позвонили из «Октября» и предложили что-нибудь дать в их журнал. Я слету рассказал о случившемся; в телефоне полминуты помолчали и согласились. В «Октябре» и напечатали.
Замуж «В девках сижено – плакано, замуж хожено – выто» (Даль).
Записи и выписки У Эффенди Капиева было при себе три записных книжки: для себя, для печати и на всякий случай.
Застой Ключевский: «Старые бедствия устранялись, но новые блага чувствовались слабо. Общество было довольно покоем, но порядок ветшал и портился, не подновляемый и не довершаемый. Делам предоставляли идти, как они заведены были, мало думая о новых потребностях и условиях. Часы заводились, но не проверялись». Угадайте, о каком это веке?
Зачет Я не умею принимать зачеты. «Задавайте мне вопросы: за разумные вопросы будет зачет». Они задавали, я отвечал. В средние века это называлось disputatio quodlibetica – вместо экзамена ученикам я устроил экзамен себе: жаль, что он вышел такой нетрудный.
Здоровье На вопросы о самочувствии: «Самое скверное, что жаловаться не на что».
Зеркало «Пришвин точно всю жизнь в зеркало смотрится», – сказал И. Соколов-Микитов.
Зеркало «Русская разговорная речь: тексты», изд. РАН: я, заикаясь, привык следить за своей и чужой речью, поэтому мне не так неожиданно было увидеть в этом зеркале, как у меня рожа крива.
Зеркало Н. Котрелев нашел псевдонимную рецензию В. Соловьева в «Новом времени» на первые выпуски «Вопросов философии и психологии» и озадачился: там были сплошные хвалы В. Соловьеву и не понять было, где здесь кончалась маскировка и начинался то ли нарциссизм, то ли макиавеллизм.
Знание Хаусмену кто-то написал: «вы – первый филолог в Европе». Хаусмен сказал: «Это неправда – будь это правда, он этого бы не знал».
Заплаты Стихотворение Киплинга «Дворец» в переводе А. Оношкович-Яцыны я прочитал школьником – сверстники помнят серый его сборничек 1936 года с зубодробительным предисловием (потом я узнал, что это были любимые стихи Багрицкого). Я долго помнил его наизусть; но когда прочитал его по-английски, то оказалось, что некоторые места уже забыл. Пришлось заполнить пробелы собственным переводом (здесь он отмечен курсивом). Через много лет, перечитав Яцыну, я подумал, что забытые и замененные места, может быть, были не случайны.
«Идеализм рождается у господствующих классов от привычки сказать слово и получить вещь; вот так и Бог сказал: да будет свет – и стал свет» (М. Н. Покровский).
Идея в литературном произведении – как мораль в басне. Есть игра: из слова «муха», меняя по одной букве, сделать слово «слон». Точно так же и из «Гамлета» при желании можно вывести идею о вреде табака, только для этого потребуется больше переходных ступеней, чем для иного вывода. Научиться выделять и подсчитывать эти переходные ступени – это и будет формализацией правил выведения идеи из текста.
«Известное известно немногим» Видимо, и неизвестное неизвестно немногим? Это обнадеживает.
Изнанка «Я всегда считал, что у каждой оборотной стороны есть своя медаль», – сказал В. Е. Холшевников.
Изувер, букв. «фанатик», все чаще употребляется (по созвучию) в значении «изверг»: «в Ростове судят изувера…» Уже у Цветаевой встречается: «изувер белому делу», хотя тут, скорее, имеется в виду «изменник».
Импортный Так называется списанный или компилятивный комментарий к переводному автору.
Имя Булгарин был Фаддей в честь Костюшки (Греч).
Имя Тынянов написал в рецензии на Слонимского: «Под рассказом „Актриса“ подписался бы Куприн», но оказалось, что Слонимский уважает Куприна; тогда Тынянов исправил: «…подписался бы Потапенко». Слонимский обиделся, но поздно.
Имя Когда в бурсе, чтобы согреться, устраивались драки стенка на стенку, то становились по фамилиям: с одной стороны на -ов, с другой на -ский, а редкие на -ин присоединялись к -ским (Гиляров-Платонов).
Имя Покойного Г. М. Фридлендера звали Георг-Гастон-Эдгар Михайлович – так написано было в его заявке в РФФИ.
Индивидуальность Это когда каждое «а» в строке не хочет быть похоже на другое.
Интеллигент «У подлинного джентльмена могут быть скверные манеры, и настоящий интеллигент может не знать Мопассана и Гегеля – дело тут не в реальных признаках, а в какой-то внутренней пропудренности культурой вообще» (В. Жаботинский, «Пятеро»). Теперь я знаю, почему я не интеллигент: я не пропудрен, я пропылен культурой вообще.
Интеллигентность Склонение «Спартакóм, Бальзакóм» не новость, у Дмитриева в пер. из Пóпа: «…целый том / Ругательств, на него написанных Попóм…», а «у Исайи Берлинá», слышал я от очень крупного филолога. И, наоборот, изысканное «в нынешнем бардáке…».
Интерпретация «Мы знаем, что с течением времени понимание произведений не усыхает, а обогащается», т. е. растет наше собственное творчество по их поводу. («А к подножию уже понанесли…» – писал Маяковский.) Колумб огорчился бы, что вместо Индии авторского замысла он нашел Америку собственного сочинения, а мы этим гордимся.
Ирония Как трудно пародировать философию! Все кажется, что она сама себе пародия. Пародическая философия обэриутов более всего похожа на философию Кифы Мокиевича, но этот подтекст почему-то ускользает от интерпретаторов. В то же время исходить из этого при анализе нельзя, потому что ирония, за редчайшими исключениями, – вещь недоказуемая.
Ирония Н. Гр. сказала: таково же неразрешимое колебание филологов: учение Платона о вдохновении (или о чем угодно) – всерьез или ирония? После веков серьезного понимания любое учение кажется пародией на копящуюся литературу о нем – и филология начинает рубить сук, на котором сама сидит.
Искренность «И. Сельвинский любил говорить, что талантливый поэт искренен, большой – откровенен» (выписано из кн. под загл. «Как бы там ни было», имя автора забыл).
Искренность М. М. Гиршман: монолог Печорина – это искренний рассказ о том, как Печорин неискренним образом высказывал свою искреннюю правду. Трехступенчатое преломление.
Искусство для искусства Маргарита Австрийская, плывя замуж в Испанию, в смертельную бурю сочинила себе эпитафию, хоть с погибшею эпитафия тоже утонула бы, а для спасшейся она была бы не нужна.
Искусствоиспытателем, а не искусствоведом называл М. Алпатов А. Габричевского; вернее бы это сказать о Б. И. Ярхо.
История «Надобно найти смысл и в бессмыслице, в этом неприятная обязанность историка – в умном деле найти смысл сумеет всякий философ» (Ключевский). Его любимая сентенция: «История не учит, она только наказывает тех, кто не хочет учиться».
Как поживаете? Вера Любомировна ответила: «Если бы я была американкой, то сказала бы: прекрасно!»
Африканская сказка. Встретил кот курицу с мешком проса. «Откуда просо?» – «От людей: отрубили мне одну ногу и дали проса». – «Пожалуй, и я пойду». Пошел, попросил; отрубили ему ногу и дали проса. Идет назад на трех ногах, опять видит курицу и замечает: а ноги-то у нее обе целы. «Ах, обманщица!» – «Вовсе не обманщица: как сказала, так ты и получил твое просо». Кто прав?
Калека «Спортивные оды Пиндара должен изучать атлет», – сказала М. Е. Грабарь-Пассек. «Или калека», – ответил я, и она согласилась. Может быть, всякий филолог – калека от поэзии? Я переводил Овидия и Пиндара именно как калека.
Каламбур «Охотнорядцы с Проспекта Маркса», – сказал С. Ав. еще до переименования; теперь каламбур пропал.
«Если кажется – то перекрестись». Я пишу не о том, что мне кажется, а о том, почему мне кажется.
Каннитферштан (см. Жуковский, «Две были…»). На картах для маньчжурской войны значились селения: Бутунды I, Бутунды II, Бутунды III, потому что «бутунды» значит «не понимаю». Так и воевали (В. Алексеев. В старом Китае).
Канонизация Николая II. А вот в Англии почему-то канонизировали не Карла I, а Томаса Мора. Мы ведь не считаем святым моряка за то, что он утонул в море. У каждой профессии есть свой профессиональный риск; для королей это гильотина или бомба. Канонизируйте сначала Льва Толстого.
Карты Бертон от меланхолии рекомендовал рассматривание географических карт. А мне они помогли понять, что такое символизм. Лет в десять я спросил об этом мать, она ответила: «Ну вот если нужно обозначить на карте лес, а изображают елочку или художник нарисует трубу вместо целого завода, это и будет символизм».
«В Кельне считают, что на восточном берегу Рейна уже начинается Сибирь», – сказал С. Ав.
Кириллов Радищев у Лотмана, желающий пробудить человечество не книгой, так самоубийством, удивительно похож на Кириллова. Даже заиканием.
Дрожжин
Классики, или Диалог культур. Перс сказал Вамбери: как же наша культура не выше вашей, если вы наших классиков переводите, а мы вас нет?
Классическое образование Президент Гардинг умел одновременно писать одной рукой по-гречески, другой по-латыни.
Клирос Чаадаев имел между дамами крылошанок и неофиток (Вяземский).
Книга «Он сорок лет назад сочинил книгу ума своего и доселе читает по ней», – говорил Батюшков об А. С. Хвостове.
Книги с полок обступают меня, и каждая спрашивает: где брат мой Авель? почему ты меня так мало использовал?
Книги как вехи воспоминаний. Зимой в углу пестрого коврового дивана при свете лампы (абажур с цветной бисерной бахромой) читаю книгу про Баженова, болонского лауреата; помню даже опечатку: Жакнетта вместо Жаннетта. Темно-красный том Хемингуэя почему-то вижу на вагонном столике отъезжающего поезда (серый движущийся перрон, серое небо за окном) – хотя ни в какой дороге я его не читал: смешанное чувство восторга и непонимания.
Книги Когда монголы взяли Багдад и бросили книги в реку, Евфрат несколько дней тек чернилами.
Ковчег Точно ли Ной строил ковчег один с сыновьями? а если у них были работники, как на старых гравюрах, то знали ли они, что их на борт не возьмут? или их обманули в последний миг?
Козьма Прутков «Ласкательство подобно написанному на картине оружию, которое служит только к увеселению и ни к чему другому не годится». «Как порожные сосуды легко можно, за рукоятки взяв, подъимать, так легкомысленных людей за нос водить». «Жизнь наша бывает приятна, когда ее строим так, как мусикийское некое орудие, т. е. иногда натягиваем, а иногда отпускаем» («Трудолюбивая пчела», 1759: Димофила врачевания жития, или Подобия, собранные из Пифагоровых последователей).
Козьма Прутков «Это еще не начало конца, но, быть может, уже конец начала», – сказал Черчилль об Эль-Аламейне.
Колодезь Я пересохший колодец, которому не дают наполниться водой и торопливо вычерпывают придонную жижу, а мне совестно.
Командировка. Я возвращался, опасаясь: вдруг за полгода история ушла так далеко вперед, что я вернусь совсем в другую страну? Но, оглядевшись, увидел: нет, все изменилось лишь в пределах предсказуемого. «Так ли? – сказал В. См. – По-моему, история ушла очень далеко, но по очень однообразной местности».
Комаринский Размер Полонского в поэме «Анна Галдина»:
был подсказан ему ритмом молитвы «Отче наш, иже еси на небеси» (Андреевский. Лит. очерки, 1902).
Комментарий Перед текстом (и перед человеком) я чувствую себя немым и ненужным, а перед текстом с комментарием (и перед разговором двоих) – понимающим и соучаствующим. Мне совестно быть первобеспокоящим. Потому я и на кладбища не хожу; а текст для меня – тоже покойник. «Это пир гробовскрывателей – дальше, дальше поскорей!»
Конгениальность Говорят, когда переводчик конгениален автору, то можно дать ему волю. Но, следуя этой логике, когда один студент лицом похож на другого, то он может сдавать зачет по его зачетке.
Корни Жить корнями – это чтобы Чехов никогда не уезжал из Таганрога?
Косорецким назывался поросенок к новогоднему застолью – в честь Василия Кесарийского.
Кофейни в Вене появились после того, как в 1683 году в турецком стане было захвачено очень много кофе.
Краткость У индийских грамматиков считалось: изложить правило короче на одну лишь краткую гласную – такая же радость, как родить сына (Robins).
Критик Бывало, придет Д. Жаров к Разоренову, завалится за прилавок и заснет, а лавочку закрывать пора. Крикнешь: «Критик идет!» – ну он и проснется (Белоусов).
Критика отвечает на вопросы, задаваемые произведением, литературоведение восстанавливает вопросы, на которые отвечало произведение. Задача критики – организация вкуса (единства ответов): «Кто еще из читателей „Задушевного слова“ любит играть в солдатики?» Симонид открыл науку помнить, критика – науку забывать: именно она умеет восхищаться каждой метафорой как первой метафорой на свете. Белинский начинал каждую новую рецензию с Гомера и Шекспира, потому что ему нужно было всякий раз перестроить историю мировой литературы с учетом нового романа Жорж Занд. Чехов поминал Стасова, которому природа дала драгоценную способность пьянеть даже от помоев; послушав НН, я подумал, что эта способность не личная, а профессиональная.
Критика Смысл всякой критики: «Если бы я был Господом Богом, я бы создал этого автора иначе».
Круг «Думали, что революция повернет на 180 градусов, а она повернула на 360».
К сожалению Бонди говорил: «Ранние стихотворения Лермонтова, к сожалению, дошли до нас».
Кувшин Я сказал: «Как мы далеки от народа: вот оказалось, что главный народный герой – всеоплакиваемый Листьев, а я о нем и не слышал». А. объяснила: «А плакали не о нем. Это как в сказке, где искали родню казненного: выставили голову на площади и смотрели, кто из прохожих заплачет. Вышла мать, нарочно разбила кувшин и заплакала, будто бы о кувшине. Вот и Листьев был как тот кувшин».
Кукушка и петух Альбова Шмелев считал русским Прустом. Бунин говорил: «Толстой, если бы захотел, мог бы писать, как Пруст, но он бы не захотел».
Культура Погибает русская культура? Погибают не Пушкин и Гоголь, а мы с вами. И положа руку на сердце: разве нам не поделом?
Кухарка Ключевский описывал Елизавету: обычная русская баба, с таким же кругозором, добродушием и здравым смыслом, – а ничего, получилось. Вот что значит «кухарке управлять государством».
Лабиринт Сыну-школьнику: да, алгебра страшна, как лабиринт: ходить по лабиринту – научиться можно и даже интересно, но ведь чем лучше этому научишься, тем быстрее попадешь к Минотавру. XIX век на том и пострадал: он думал, что научиться ходить по лабиринту – это уже и значит победить Минотавра.
Лай Ремизов писал: «В России кошачий мех – печелазый, а собачий – лаялый».
Лекции: «два часа в неделю читать кое-что по тетрадке, списанной с печатной книги» (Греч. Черная женщина. Это источник фразы Толстого в «Воскресении»).
Лень «Не результат главное, а полнота приложения сил». – «А как ее угадать?» – «По угрызениям: это недовольство своей ленью маскируется в недовольство результатом».
Лесть Бартенев говорил: «Я не льстец, я льстивец».
Литературовед не может быть писателем и вместо этого реконструирует исследуемого писателя. Но, сказав А, нужно сказать Б (впрочем, см. А): чтобы он не хотел быть читателем и вместо этого тоже реконструировал читателя. А это ему дается гораздо хуже: ему очень хочется, вопреки логике, остаться читателем, хотя бы и незаконным.
Литературоведение «Если вы занимаетесь одним автором, то это история литературы, а если двумя, то это теория?» – спросила Н. Брагинская.
Личность как точка пересечения Живут шесть мужчин: семьянин, патриот, блондин, химик, спортсмен и мерзавец – и шесть женщин с такими же характеристиками. Все друг с другом связаны: супруги, любовники, приятели, сотрудники. Отношения запутываются, семьянин ревнует жену к спортсмену, по наущению мерзавца добывает у химика отраву и губит соперника. Начинается следствие, и скоро обнаруживается, что все шестеро были одним и тем же лицом. Больше того, не исключена возможность, что и следователь то же самое лицо. Но что же, стало быть, произошло: самоубийство? или все-таки нет? Не разобрался.
Личность как половина: я знаю, что она составлена из напластований; что они случайны; что они такого-то происхождения; что среди них нет того-то и того-то; отсюда тоска по тому, чего во мне нет, не менее сильная, чем по платоновой дополняющей половине.
Все, что во мне есть, дано мне лишь на подержание (как детские деньги на покупку хлеба). Талант – это как подаренный мне паровозик (не богом, а обществом, наслоившимся в меня), гордиться им так же смешно. «Это не твой мир! – говорили мне с детства. – Его дали тебе подержать-поиграть в пользование: ничего не испорть!» И вы удивляетесь моему характеру? Я что-то улучшаю и порчу только в себе.
Личность Начало ненаписанной книги о римских поэтах: «Все эти стихи были бы написаны на тех же силовых линиях и без этих поэтов, но явление этих поэтов стягивало эти линии в такие-то пучки, и натяжение это было болезненно и для нитей, и для скрепок – эта боль и составляет предмет нашего дальнейшего рассмотрения» и т. д.
Логика «Как атеист смеет комментировать Достоевского?» – мысль И. Золотусского в «Лит. газете», 17.6.1992. А как нам комментировать Эсхила?
Логика «Парфянский народ весьма лживым почитался для того, что, по свидетельству Геродотову, учреждены были у них жесточайшие законы против лжецов» (Кантемир).
Логика У Блока Смерть говорит: «Я отворю. Пускай немного / Еще помучается он», – хотя по смыслу, кажется, надо бы: «Я подожду. Пускай…» и т. д.
Ложе «Ложепеременное спанье» – переводил Лесков слово «адюльтер».
Ложь Спрашивали ребенка: «Зачем ты солгал? Тебе же не было никакой выгоды». Он ответил: «Я боялся, что, если скажу правду, мне не поверят».
Ложь «Если для тебя все вокруг – враздроб и единично, то понятно, почему ты не чувствуешь, когда тебе лгут: у единичного всегда может найтись своя правда». А мне и неинтересно знать, врет человек или не врет, мне интересно знать, что есть на самом деле, а этого ни один отдельный человек все равно не знает. Зато, кажется, я никогда и не верю тому, что мне говорят, а откладываю для проверки. Разочаровываться приходится редко – только в самом себе.
Лотман был против философии вообще – не только Маркса, но и Гегеля. Философия кончилась на Канте, точнее – на Шиллере: Шиллер внес в нее свободу. Какую свободу? Неопределимую: не ту, которая от, а ту, которая для. Вместо истины–добра–красоты для него главным, пожалуй, были свобода–творчество–любовь – вы ведь не сможете определить, что такое любовь? Под конец жизни задумывался о религии, но говорил: ум понимает, что она нужна, а сердце противится. Как Пестель. (И как Пушкин, добавил бы Мирский.) Его стоицизму казалось: потребность в Боге – это какая-то внутренняя слабина.
Любовь «Когда кто влюблен, он вреден и надоедлив, когда же пройдет его влюбленность, он становится вероломен» (Платон). Любовь – это когда мучишь ближнего не случайно, а сосредоточенно.
Любовь Великую любовь Пушкина каждый сочинял по своему вкусу: Щеголев – Раевскую, Брюсов – Ризнич, Цявловские – Воронцову, Ахматова – Собаньскую, Тынянов – Карамзину. Психоанализ Пушкина – дело сомнительное, но психоанализ пушкиноведения – вполне реальное.
Любовь Ключевский называл Бартенева посмертным любовником Екатерины II.
Любовь Люблю старшего племянника за то, что умен, а младшего за то, что глуп (Вяземский).
Любовь Нельзя возлюбить другого, как себя, но можно невзлюбить себя, как другого.
Любовь Шершеневич о Есенине: деревня его раздражала, а он боялся ее разлюбить.
Любовь Я разбирал перед американскими аспирантами «Антония» Брюсова: «страсть» – понятие родовое, «любовь» – видовое, происходит семантическое сужение и т. д. Меня переспросили, не наоборот ли. Я удивился. Потом мне объяснили: для них love – общий случай приятного занятия (love-making), а passion – это досадное отягчающее частное обстоятельство, от которого нужно как можно скорее избавиться.
«Любовь – это не тогда, когда люди смотрят друг на друга, а когда они смотрят на одно и то же» («в телевизор», добавляют циники). Может быть, мне оттого легче говорить с людьми, что я смотрю не на них, а на их предметы; и оттого тяжелее, что эти предметы мне безразличны.
Любовь и смерть
П. В. Жадовский, брат своей сестры
Мазохизм Бог, создавший мир с человеческой свободной волей, был мазохистом. «И садистом», – добавил И. О. «Это он играет нами сам с собою в кошки-мышки», – сказал третий.
Маневр В «Русской старине» 1888 года было написано, что бухарцы перед боем падали на спину и болтали ногами в воздухе, увидев, что так делали штурмующие русские после брода (чтобы вытекла вода из сапог). Такое вот культурное взаимовлияние.
Мария «В микроколлективе двух близнецов одна больше рисует, другая больше шьет – естественное распределение функций. Не были ли Марфа и Мария близнецами?» (К. А. Славская).
Мария Марию-Терезию звали Мария-Терезия-Вальпургия. А дочерей ее, сестер Иосифа II, – Мария-Анна-Жозефина-Антуанетта-Иоанна, Мария-Христина-Иоанна-Жозефина-Антуанетта Саксонская, Мария-Каролина-Луиза-Иоанна Неаполитанская, Мария-Амелия-Жозефина Пармская, Мария-Елизавета и Мария-Антуанетта Французская.
Мария Панин велел Топильскому составить экстракты из житий всех Марий и после этого даже по имениям запретил крестить во имя непотребных (восп. К. Головина).
Маркс НН преподавала латынь в группе, где были студенты Брежнев и Хрущева; одна из начальниц остановила ее в коридоре и сказала: «Вы не думайте, это чистая случайность, не делайте никаких выводов». А на психологическом факультете, когда училась моя дочь, на одном курсе были студент Энгельс и студентка Маркс. «И их не поженили?» – спросил сын. – «Нет». – «А вдруг у них родился бы маленький Ленин…»
Матерный «Приемлю дерзновение всеподданнейше просить подвергнуть меня высокоматерному Вашего Величества милосердию» («Рус. старина», 1886).
Матизмы В немецко-русском купеческом разговорнике Марпергера 1723 года русские фразы непременно включали несколько слов непристойной брани, в переводе опускаемых («Рус. старина», 1896). Наивный издатель пишет, что это какой-то шутник подсмеялся, диктуя немцу.
Матизмы Говорят, было заседание – давно-давно! – и кто-то смело сказал: «Как интересна для исследования матерная лексика». Вдруг послышался голос (чей?): «А что интересного? 17 корней, остальные производные!» – и наступила мертвая тишина, только было слышно, как шуршали мозги, подсчитывая знакомое. Будто бы до 17 так никто и не досчитал, а спросить – стеснялись невежества: так тогда и осталось это неизвестным. А теперь-то!
Упражнения Давида Самойлова: «Замените одно неприличное слово двумя приличными. Замените все приличные слова одним неприличным».
Митирогнозия (термин Щедрина). Muttersprache – называл Пастернак русский мат. В шествии 18 октября 1905 года «даже извозчики не ругались, хотя ругань есть красивый лиризм ремесла», – писал Вяч. Иванов в письме Брюсову.
Медиевальность «Как известно, Византия ни в одном жанре не достигла полной медиевальности, а только сделала первые шаги к ней» (С. Полякова о византийских сатирических диалогах). Я вспомнил анекдот об исторической пьесе, где оппонент героя будто бы говорил: «Мы, люди средних веков…»
Меню Царю Алексею Михайловичу с Натальей на свадьбу подавали «лебединый папорок с шафранным взваром, ряб, окрашиван под лимоны, и гусиный потрох». Для патриарха в пост: «четь хлебца, папошник сладкий, взвар с рысом, ягодами, перцем и шафраном, хрен-греночки, капусту топаную холодную, горошек-зобанец холодный, кашку тертую с маковым сочком, кубок романеи, кубок мальвазии, хлебец крупичатый, полосу арбузную, горшечек патоки с имбирем, горшечек мазули с имбирем и три шишки ядер» (Терещенко. Быт рус. народа).
Мера Вы не заблуждайтесь, в больших количествах я даже очень неприятен: знаю по долгому знакомству с собой.
Мертвые души Цензоры-азиатцы говорили: нельзя, теперь все начнут скупать мертвые души. Цензоры-европейцы говорили: нельзя, два с полтиной за душу – унижает человеческое достоинство, что подумают о нас иностранцы? (Гоголь в письме Плетневу 7 янв. 1842 г.).
Мир Сборник статей бывших верующих назывался «Как прекрасен этот мир, посмотри!» (строчка из популярной песни); я второпях прочитал «как прекрасен этот мир, несмотря».
Мировая литература А. В. Михайлов говорил: изобретение этого понятия ввело филологию в соблазн судить о книгах, которых она не читала, и тогда-то филология перестала быть собой.
Мистика «Что значит мистик? Немножко мистики, и человеку уже полегче жить на свете!» – отвечает Сема-переплетчик Янкелю-музыканту в пародии на пьесы О. Дымова.
Мнение «Многие признаны злонамеренными единственно потому, что им не было известно: какое мнение угодно высшему начальству?» (Козьма Прутков).
Мнение Гримм говорил о Франкфуртском парламенте: когда сойдутся три профессора, то неминуемо явятся четыре мнения.
Мнимые образы Словарь Морье: «метонимия благородной крови = от благородных предков объясняется тем, что формула крови наследуется». Но сложилась эта метонимия тогда, когда ни о какой формуле крови не знали. Когда мы читаем у Пастернака про Кавказ «Он правильно, как автомат, / Вздымал, как залпы перестрелки, / Злорадство ледяных громад», то нам нужно усилие, чтобы не представлять себе автомат Калашникова, потому что стреляющих автоматов в 1930 году не было. (У Жуковского «Пришла судьба, свирепый истребитель», кажется, воспринимается легче – почему?) А когда мы читаем про героев Пушкина или Расина, то нам лень делать усилие, чтобы не вкладывать в них наш собственный душевный опыт. Маршак переводил Шекспира: «Как маятник, остановив рукою…», хотя часы с маятником были изобретены Гюйгенсом уже после смерти Шекспира, а Мандельштам в переводах сонетов Петрарки писал: «О семицветный мир лживых явлений!» – хотя Петрарка не знал Ньютона.
Сон о Блоке . Мы с товарищем пришли к нему взять книг почитать. На лестничной площадке, ярко освещенной, стояла большая ломаная журнальная полка. Мы вытащили комплект «Вестника друзей Козьмы Пруткова»; серию в серых обложках с первым изданием «Двенадцати» (идут серые Двенадцать, а на первом плане сидит, свесив ноги, мерзкий Пан, вроде сатириконовского); сборник рассказов под инициалами Н. Щ. Ь. О. Ф.; книгу с надорванным титулом «Новый роман писателя-извозчика Н. Тимковского» и еще что-то. Несем Блоку для разрешения. Он молодой, в сером стройном костюме, на Тимковском указывает нам дату: 1923, говорит: «Какие широкие стали поля делать». Идет записывать выданное в тетрадь, комната забита книгами с французскими старыми корешками. «А вы знаете, что мне одна дама подарила за глоток воды из стакана?» – я, не видя, угадываю: Вольтер, «История Петра Великого». – «Да». – «По-французски или по-русски?» – «Все равно». Выходим, я вспоминаю стихи Борхеса: «Среди этих книг есть, которые я уже не прочту; От меня уходят время, пространство и Борхес». Думаю: нужно успеть вот так же раздать и свои книги; любит ли НН Эпиктета? А на лестничной площадке мать и тетка Блока снаряжают двух белых кур в подарок ребятам: нужно только привязать к спинам ярлычки: «Для ребят Нарвской заставы», а там куры сами добегут.
Молодой человек был похож на штопор концом вверх.
Молодые переводчицы строем сидели вдоль стен с напряженной собранностью недокормленных хищниц.
Мощи Были две династии сахарозаводчиков, Харитоненко и Терещенко. Харитоненко благодетельствовал городу Сумы, за это его там похоронили на главной площади, как греческого героя-хранителя, и поставили памятник работы Матвеева. После революции памятник убрали, а вместо него поставили Ленина.
Мы «Ну, вот уж мы, поляки, начинаем немножечко бить нас, евреев» – писал Ходасевич Садовскому в 1914 году. Будто бы В. Стенич на Гражданской войне тоже говорил: «Вот как мы на нас ударим…» А великий князь Константин Павлович в 1831 году: «Как мои поляки бьют наших русских!»
«Мы», – пишет в воспоминаниях Ахматова, имея в виду то пространство, в середине которого – Я. «Мы и весь свет», – говорили крот и мышь в сказке Андерсена.
А. Ромм
Мысль «Люди думают, как отцы их думали, а отцы – как деды, а деды – как прадеды, а прадеды, они совсем не думали» (Л. Толстой, по Н. Гусеву).
Мысль «Недозволенной мысли он не скажет, но дозволенную скажет непременно соблазнительным образом» (Лесков).
Мысль «Последние две фразы дописаны при редактировании, чтобы ярче выразить мысль, которой у автора не было» (из редакторского заключения о рукописи).
«Мыслю – следовательно, сосуществую».
Мышь родила гору, и гора чувствует себя мышью.
Интеллигентский разговор
– Как вы себе представляете Пушкина, если бы он убил Дантеса, а не Дантес его?
– Представляю по Вл .Соловьеву, ничего лучше не могу придумать.
– Ведь Дантес вряд ли хотел его убивать. Почему он попал ему в живот? Скверная мысль: может быть, целился в пах?
– Исключено: ниже пояса не целились, дуэльный этикет не позволял.
– А если бы попал?
– Очень повредил бы своей репутации.
– Совсем трудно стало представлять себе, что такое честь. Сдержанность: оскорбление от низшего не ощущается оскорблением. В коммунальной квартире так прожить трудно. У Ахматовой было очень дворянское поведение.
– Это она писала: для кого дуэль предрассудок, тот не должен заниматься Пушкиным?
– Да.
– О себе она думала, что понимает дуэль, хотя в ее время дуэли были совсем не те.
– Как Евг. Иванов писал Блоку по поводу секундантства, помните? «Помилуй, что ты затеял: что, если, избави Боже, не Боря тебя убьет, а ты Борю, – как ты тогда ему в глаза смотреть будешь? И потом, мне неясны некоторые технические подробности, например: куда девать труп…». Вот это по Соловьеву.
– Отчего Пастернак обратился к Христу?
– А отчего Ахматова стала ощущать себя дворянкой? Когда отступаешь, то уже не разбираешь, что принимать, а что нет.
– Ахматова смолоду верующая.
– Пастернак, вероятно, тоже: бытовая религиозность, елки из «Живаго».
– Нет, у Пастернака сложнее: была память о еврействе.
– А я думаю, просто оттого, что стихи перестали получаться.
– А почему перестали?
– Он не мог отделаться от двух противоестественных желаний: хотел жить и хотел, чтобы мир имел смысл. Второе даже противоестественней.
– Не смог отгородиться от среды: дача была фикцией, все равно варился в общем писательском соку.
– Ему навязывали репутацию лучшего советского поэта, а он долго не решался ее отбросить, только в 37-м.
– Когда он родился? Да, в 1890‐м, удобно считать: 50 лет перед войной, 55 после войны [«Это он на собственный возраст примеривает», – сказал потом Ф.], война ослабила гайки режима, мир опять затянул их. О том, как он отзывался на антисемитские гонения и дело врачей, нет ни единого свидетельства, но в самый разгар их он писал «В больнице»: «Какое счастье умирать».
– Не люблю позднего Пастернака [оказалось: никто из собеседников не любит]. Исключения есть: про птичку на суку, «Август», даже «Не спи, не спи, художник». Но вы слышали, как он их читает? Бессмысленно: я ручаюсь, что он не понимал написанного.
– Ну, не понимать самого себя – это единственное неотъемлемое право поэта.
– И сравните, как он живо читал фальстафовскую сцену из «Генриха IV» и сам смеялся.
– Он читал ее мхатовским актерам и очень старался читать по-актерски.
– И потом, любоваться собою ему, вероятно, было совестно, а Шекспиром – нет.
– Я стал понимать Пастернака только на «Спекторском», лет в 16.
– Я тоже, хотя к тому времени и знал наизусть половину «Сестры – жизни», не понимая. «Значенье —суета и слово – только шум». А вы?
– Я, пожалуй, на «Темах и вариациях».
– Четыре поэта – Пастернак, Мандельштам, Ахматова и Цветаева – как носители четырех темпераментов: сангвиник, меланхолик, флегматик, холерик. Каждый может выбирать по вкусу. И равнодействующая двух непременно пройдет через третьего.
– А ваше предпочтение?
– Цветаева и Мандельштам.
– Несмотря на Ахматову?
– Цветаева могла бы написать всю Ахматову, а Ахматова Цветаеву не могла бы. Ахматова говорила: «Кто я рядом с Мариной? – телка!»
– Ну, это была провокация.
– Да, конечно, опять дворянская сдержанность и т. д.
– Вы слышали ранние пастернаковские прелюды? Они построены на музыкальных клише.
– Странно: поэтика клише – привилегия Мандельштама.
– Нет: цитата и клише – вещи разные.
– Правда, в музыке он пошел не дальше Скрябина. Харджиев его за это осуждает. Но ведь Скрябин, Шенберг, Стравинский – это как раз и есть три пути музыкального модерна.
Собеседниками были И. Бродский, Л. Флейшман и я.
Над «Она всегда думает над чем-нибудь, а не о чем-нибудь» (Лесков).
Наедине О. Седаковой духовник сказал о ее стихах: «Это не всегда можно понять, нужно остаться с собой далеко наедине». А я давно не могу так, получается только близко наедине, а это самое неприятное место – область угрызений совести и проч.
Наоборот «В службе не рассуждают, а только исполняют, а вне ее – наоборот», – говорил генерал Плещеев в оправдание своих вольных речей на досуге.
Напряжен, как струя, переливаемая из пустого в порожнее.
Наслаждение Риторика, упорядочив общее, позволила наслаждаться индивидуальным, все равно как культура в XVII веке, победив природу, позволила наслаждаться горными и морскими пейзажами.
Наука Естественные науки существуют, чтобы человечество не погибло от голода, гуманитарные – чтобы не погибло от самоистребления. «Об одном прошу: выбирай профессию в базисе, а не в надстройке», – сказал отец моему ровеснику-десятикласснику.
Наука (ее границы). Я представляю, что такое вещь в себе: меня что-то бьет, то под дых, то по затылку, а я могу только отмечать и рассчитывать ожидание ударов, чтобы съежиться или уклониться. Я умная марионетка, я стараюсь, чтобы дерганья моих нитей не были неожиданны, и неважно, какой мировой порядок ими кукловодит. Но очень уж много нитей, и все тянут в разные стороны. Впрочем, быть марионеткой и думать, откуда твои нити, внутренние и внешние, – лучше, чем делать вид, что их нет.
Национальность Немцам у А. Дурова особенно нравились свиньи, французам козел и собаки, испанцам кошки и крысы, итальянцам петухи («Ист. вестник», 1893).
Начальство «Воздухом дышали потому, что начальство, снисходя к слабости нашей, отпускало в атмосферу достаточное количество кислорода» (Н. Любимов о Каткове).
Наш «Нет у нас ни либералов, ни консерваторов, а есть одна деревенская попадья, которая на вопрос, чего ты егозишь в Божьем доме, отвечает: это не Божий дом, а наша с батюшкой церковь».
Не «Если бы вы знали, как трудно написать хорошую трагедию», – говорил трагик. «Зато знаю, как легко совсем не писать трагедий», – говорил критик.
Не За разделом стихов неопубликованных должен следовать раздел стихов ненаписанных. Кажется, осуществил это только А. Кондратов (ср. ненаписанный рассказ Дельвига). Я сказал С. Ав. «Мое лучшее сочинение – это ненаписанная рецензия на мой ненаписанный сборник стихов, продуманная, с цитатами и всем, что положено». Он заволновался: «Миша, ее непременно нужно написать!» – но я решил, что это ее только испортит: нарушит чистоту жанра.
Не с кем О малом говорить незачем, а о большом не с кем.
Нет Личность определяется не тем, что в тебе есть, а тем, чего в тебе нет: ты ее проявляешь, не делая того-то и того-то. Этому и учил Сократа демоний.
Не совсем Ренан говорил: люди идут на муку только за то, в чем не совсем уверены.
Несомненно «Это несомненно, потому что недоказуемо», – было сказано на Цветаевских чтениях в докладе «Цветаева и Достоевский» – в том, где говорилось: «внутренний свет М. Ц. можно увидеть через сезамы»; «звено между ними Блок, но на этом не останавливаюсь, ибо это уведет за пределы не только темы» и «между ними есть и словесные совпадения, например: „мне совершенно все равно“».
Несомненно Ходасевич жаловался Гершензону на научное одиночество: «Гофман – очень уж пушкинист-налетчик; а Котляревский – ужасно видный мужчина, и все для него несомненно» (И. Сурат).
Нравственность – это чтобы знать, что такое хорошо и что такое плохо, и не задумываться, для кого хорошо и для кого плохо.
Нравственность По черновикам видно: Пастернак ведет слово, Мандельштама ведет слово, Цветаева сочетает то и другое: прозаическими наметками указывает направление, но идет в этом направлении по-мандельштамовски, слушаясь слова. Черновики Б. П. нравственней, чем черновики О. М., потому что временного себя он правит с точки зрения постоянного себя: много раз у него пробивается тема «больной весны», но он всегда ее вычеркивал (И. Ю. Подгаецкая).
Nevermore На дверях у Сергеева-Ценского было написано: «Писатель Сергеев-Ценский не бывает дома никогда» (восп. В. Смиренского, РГАЛИ).
Nevermore Стихотворение Мореаса под таким заглавием начиналось:
а по-русски:
По всему опыту теории и практики перевода должно казаться, что русский текст – оригинальный, а французский – переводной.
«Нива» Я предложил студентам задать мне стихотворение для импровизированного анализа, предложили «В горнице моей светло…» Рубцова. Пришлось отказаться: такие простые стихи были труднее для разбора, чем даже Фетовская «Хандра». Рубцов копировал стиль стихов «Родника» и «Нивы» за 1900 год, и копировал так безукоризненно, что это придавало им идеальную законченность: перенеси на страницу старой «России» – не выделится ни знаком. Собрание сочинений Жуковского состоит из переводов из европейских поэтов, собрание Рубцова – из переводов из русских поэтов.
«О» Когда в 1952 году появилась статья «О романе В. Гроссмана…», Твардовский сказал: «Если „о“, то добра не жди».
Обоняние Охота Ротшильда: с утра таскают по лесу оленью шкуру, а днем с собаками охотятся на запах без зверя (Гонкуры, 24 дек. 1884 г.). Вспомнил бы это Розанов!
Осязание Восп. Н. Петрова: в октябре 1917 года в Смольном первое ощущение – идешь не по плитам, а, как по листьям, по мягкому слою окурков и обрывков; второе – не найти комнату, потому что ни одного номера на дверях не видать вплотную за махорочным дымом.
Оборона необходимая Первая русская книга о ней называлась: «Незаменимая саморасправа» (Кони).
Образ автора Лукреций написал страстную поэму во славу Эпикура и эпикурейства. Эпикур и эпикурейцы считали идеалом тихую неприметность и душевный покой. Видимо, Лукреция следует представлять себе скромным и добропорядочным человеком, в уютном садике на мягком ложе неспешным пером набрасывающим пламенные строки. Но почему-то никто этого не хочет. А НН отказывается верить в единственный достоверный портрет Петрарки – кругленького, мешковатого и похожего на пингвина.
Обращение «мужчина!», «женщина!» почему-то слышится на улицах только в устах женщин: мужчины обходятся без них. Что, если ответить: «Женщина…» – звучало бы это бранью?
Я вошел в издательство «Наука». Новопоставленный вахтер окликнул: «Молодой человек!» Я подошел, снял шапку, показываю седину и лысину: «А я не такой уж молодой». Он, по-человечески понятливо: «Ну а как называть? гражданин? так не в милиции же!»
Обустроить «Любезный почитатель!.. Пишите, я оботвечу все вопросы», – писал Северянин Шершеневичу.
Общее Утверждая лишь общеизвестное и пересказывая лишь общедоступное.
Общее А с Аверинцевым при всех несходствах («теплой компании не составишь») объединяет то, что одинаково слышали стихи: мне не претило его чтение Мандельштама, ему – мое из Кузмина и Окуджавы.
Одиночество «Позиция Цветаевой – публичное одиночество: оставшись без публики, она не могла жить» (Саакянц, с. 489). «Воинствующее одиночество» Маяковского, читающего «Облако…» в Куоккале, вспоминала Л. Чуковская.
Одиночество «Самомнение – спутник одиночества» (Платон, письмо 4) – любимая сентенция Плутарха.
«Ни истории, ни родни. Наконец мы совсем одни» – приснившаяся строчка. К чему бы это?
«Однобой бывает хуже разнобоя» (Д. С. Лихачев).
Однофамильцы Музыку на стихи Маяковского писали композиторы В. Белый и В. Блок.
Олигархи в наших газетах – это совсем не то, что «олигархи» в греческой древности. Там это были хозяева политической жизни, а у нас – хозяева экономической жизни, просто капиталисты. От экономической власти до политической им бывает очень далеко. Так что ни Платон, ни Аристотель за наших олигархов не в ответе.
Ономастика В Ленинграде была улица А. Прокофьева, к юбилею ее переименовали в улицу С. Есенина. (Так Хармс каждый день давал новое имя знакомой собаке, и гулявшая с нею домработница важно говорила знакомым: «Сегодня нас зовут Бранденбургский концерт!») А в Калинине есть улица Набережная Иртыша – узкая, кривая и сухая.
Ономастика Город Мышкин близ Углича выродился в населенный пункт Мышкино; группа энтузиастов устроила в городе мышиный музей – куклы и «все о мышах» – и спасла город (слышано в «Мире культуры»).
Опечатка Машинистки в «Диогене Лаэртском» вместо «стихи Гесиода» упорно печатали «стихи Господа».
Определеныш «Не думайте, что я какой-то определеныш, что я знаю больше, чем вы» (С. Дурылин; кажется, в письмах к В. Звягинцевой).
Орфография старая: в переводе Мея из Гюго: «Спросили они: как на быстрых челнах… – Гребите, – оне отвечали». При переводе на новую орфографию диалог обессмысливается; так, обессмысленным, кажется, его и поют в романсе Рахманинова.
Орфография Святополк-Мирский в «Русской лирике» 1923 года печатал петербургских поэтов по старой орфографии, а московских по новой.
Относительность Если бы у нас не было Лермонтова, мы восхищались бы Бенедиктовым; и мы гнушались бы Лермонтовым, если бы у нас был НН, которого у нас не случилось. (Ср. Бы.) «Конечно, по сравнению с Гадячем или Конотопом Миргород может почесться столицею; однако ежели кто видел Пирятин!..»
Охрана Общество охранки памятников старины.
Оценочность в филологии – лишь следствие ограниченности нашего сознания, которое неспособно вместить все и поэтому выделяет самое себе близкое. Не надо возводить нашу слабость в добродетель.
Очень Ф. А. Петровский любил пример на избыточность гиперболы: «Я вас люблю» и «Я вас очень люблю» – что сильнее? У кого был хлестаковский стиль, так это у Цветаевой: 40 000 курьеров на каждой странице особенно заметны в прозе («Русские песни – все! – поют о винограде…»). Хорошо, что мне это пришло в голову после цветаевской конференции, а не до: разорвали бы. (Так и Ахматова говорила Л. Чуковской: «Мы, пушкинисты, знаем, что „облаков гряда“ встречается у Пушкина десятки раз», – это неверно, см. Пушкинский словарь.)
Американская аспирантка писала диссертацию «Отношение к Лескову в современной русской культуре», читала журналы «Молодая гвардия» и «Наш современник» и огорчалась, не находя ничего разумного. Я сказал: и не найдете. Лесков умудрился совместить несовместимое: быть одновременно и моралистом, и эстетом. Но моралистом он был не русского интеллигентского или православного образца, а протестантского или толстовского. И эстетом был не барского, леонтьевского образца, а трудового, в герои брал не молельщиков, а богомазов, и орудие свое, русский язык, любил так, что Лев Толстой ему говорил: «Слишком!» Таким сочетанием он и добился того, что оказался ни для кого неприемлем, и если какая-то литературная партия хочет взять его в союзники, то вынуждена для этого обрубать ему три четверти собрания сочинений, а при такой операции трудно ожидать разумного. Нынче в моде соборность, а у него соборно только уничтожают чудаков-праведников. Интеллигенции положено выяснять отношения с народом, а Лесков заявлял: «Я сам народ», – и вместо проблемных романов писал случаи из жизни. В XVIII веке, когда предромантики пошли по народную душу, им навстречу вышел Роберт Бернс, сказал: «Я сам народ», – и стал им не диктовать, а досочинять народные песни: «почему я не имею на это права?» Сопоставление это так меня позабавило, что дальше я уже не рассуждал.
Парнас Майков – потомственно беломраморный и возвышенно уютный. «А у Майкова Муза – высокопревосходительная», – говорил Фет, написавший «Пятьдесят лебедей…».
Паскаль У С. Кржижановского: «Учитель, проповедовать ли мне смертность души или бессмертие?» – «А вы тщеславны?» – «Да». – «Проповедуйте бессмертие». – ? – «Если ошибетесь – не узнаете; а если станете проповедовать смертность и, не дай Бог, ошибетесь, – ведь это сознание вам всю вечность отравит».
Партия. Когда в 1958 году вышла «Память» Слуцкого, я сказал: как-то отнесется критика? Г. Ратгауз ответил: пригонит к стандарту, процитирует «Как меня принимали в партию» и поставит в ряд. Так и случилось, кроме одного: за сорок лет критики именно «Как меня принимали в партию» («…где лгать нельзя и трусом быть нельзя») не цитировалось почти ни разу и не включалось в переиздания вовсе ни разу. («Был один случай», – сказал мне Болдырев, но точно не вспомнил.) Для меня это была самая меткая пощечина, которую партия дала самой себе.
Первочтение – тренировка на забывание ненужного, перечтение – на вспоминание нужного. Самед Вургун говорил: «Предпочитаю вольные переводы точным, потому что точные нравятся, когда я читаю их в первый раз, и противны уже со второго». «Joyce cannot be read – he can only be reread» (J. Frank).
Перевод «Я попробовал заставить Шекспира работать на меня, но не вышло», – сказал Пастернак И. Берлину. Пастернак в стихах этих лет искал неслыханной простоты, а привычную потребность в шероховатом стиле удовлетворял переводами, где на фоне обычной переводческой гладкости это было особенно ощутимо. Так и Ф. Сологуб в 1910‐е годы раздваивался на инертные стихи-спустя-рукава и на футуристические переводы Рембо.
Перевод А. Г. на кандидатской защите сказала: я полагала, что диссертацию о Хармсе можно писать немного по-хармсовски. (Статей о Деррида, написанных по-дерридиански, мы видели уже очень много.) Это все равно, что – по доктору Кульбину – не переводить стихи с языка на язык (в данном случае научный), а переписывать русскими буквами.
Перевод – «это не фотография, а портрет оригинала». Это напоминает, как Хлебников говорил И. Е. Репину: «Меня уже писал Давид Бурлюк. В виде треугольника. Но получилось, кажется, не очень похоже». Я сделал экспериментальную серию сокращенных переводов лирики верлибрами. Теперь я знаю, на что они похожи: вот на такие треугольники.
Перевод Переводчики – скоросшиватели времени. Был международный круглый стол переводчиков: все жаловались на авторов, знающих язык переводчика и тем сковывающих его свободу. Как будто заговор авторов против мировой культуры.
Перевод «Переводить так, как писал бы автор, если бы писал по-русски». Когда писал? при Карамзине? при Решетникове? при нас? Да он вовсе бы не писал этого, если бы писал при нас! Задача перевода не в том, чтобы дать по-русски то, чего не было по-русски, а в том, чтобы показать, почему этого и не могло быть по-русски.
У. Оден
ВОЛЬТЕР В ФЕРНЕЕ 15
Перпетуум-мобиле Работа головы не останавливается даже в нерабочие паузы: засыпая, я слышу свои мысли от слова до слова и при всей их быстроте успеваю быть ими крайне недоволен.
Петля Кончил заказанную статью – будто в петле повисел.
Пирог Все мои душевные проблемы в конечном счете сводятся к желанию и съесть пирог, и в руках его иметь («вот он съеден, и что теперь?»). Но, кажется, к этому сводятся и все проблемы всех проблемствующих?
«Плакаться в бронежилетку», – сказала Н.
Пламень «Жители юга, избалованные расточительною природою, более ленивы, но пламенны». «Немки кофею пьют мало и не крепкий, по причине пламенных воодушевлений к нежностям» (Терещенко. Быт рус. народа).
Платон Продавали первый том Монтеня отдельно от второго, в котором был общий комментарий к обоим. «Вот платоновский человек, расколотый на половинки, – сказала Н., – теперь будут браки по объявлению между владельцами томов».
Погода . Я шел по Арбатской площади – ровное-ровное серое небо, черная, без снега земля, промытый прозрачный воздух, все ясно и отчетливо. И вдруг показалось, что вот она, моя погода, мы с нею созданы друг для друга и ждали этой встречи всю жизнь, и как жалко, что это счастье мимолетнее всякого другого. На обратном пути небо уже расслоилось волокнами, и все разрушилось.
Подгонка под ответ – таков механизм функционирования культуры. Нам задано: Шекспир, Рембрандт, Бах – великие художники; и нам предложено: извольте каждый обосновать почему. Кто выполнит это подробнее и оригинальнее, тот и культурнее. Нужно быть Львом Толстым, чтобы сказать: «Да может быть, ваш Шекспир – плохой писатель!» (собственно, очень многие думают, что Шекспир – порядочная скука, но стесняются об этом говорить). И нужно быть полу-Толстым, чтобы внушить: «А ведь Вермеер – художник не хуже Рембрандта!» Почему полу-? Потому что открытия новых ценностей в прошлом, кажется, происходят чаще, чем закрытия старых. В античности уже не осталось места, свободного от ценностей, и только такой полубог, как Виламовиц, мог мимоходом бросить: «Эта эпиграмма плоха». Как писал Э. Паунд, «издали все – крупнее, независимо от качества». Принятие готовой религии – это ведь тоже все равно как подгонка своего религиозного чувства под заданный ответ.
Я защищал кандидатскую диссертацию в 1962 году («Федр и Бабрий»; секретарь ученого совета упорно делал ударение «Бабри́й»). Получил две трети голосов – в обрез: одним меньше, и не прошел бы («Вы везунчик», – сказала потом Л. Вольперт). Это было по совести: вторая защищаемая диссертация была на тему «Труд в поэзии Маяковского», из провинции, и написанная так, как должны были писаться такие диссертации. Любому члену совета должно было быть ясно: если одна из этих двух диссертаций – наука, то другая – не наука. А дальше каждый делал выбор по своему искреннему разумению.
Подлежащее В газете, к 10-летию Чернобыля: «К нам ко всем отношение – как к радиоактивной пыли: не замечают, не замечают, а потом оказывается, что ты подлежишь захоронению».
Подлинность Речь в защиту ее произнес С. Аверинцев, а я, будучи, как и он, переводчиком и античником (античную архитектуру мы знаем по развалинам, скульптуру по копиям, а живопись по описаниям), долго этому удивлялся. Радиозаписи чтений Качалова случайно стерлись, но их сымитировал К. В. Вахтеров, актер, брат Марии Васильевны, жены моего шефа Ф. А. Петровского, переводчицы; их-то мы и слышим.
Подразделение Хочется сказать «по поколениям не подразделяюсь», как Гиппиус говорила: «по половому признаку не подразделяюсь».
Подтекст «При Низами, чтобы стать поэтом, нужно было знать на память 40 000 строк классиков и 20 000 строк современников». И еще, оказывается, знать наизусть 10 000 строк и забыть их. Чтобы они порождали подтекст.
Подтекст 5-стопный анапест «Девятьсот пятого года» Пастернака – не от застывшего стиха «Разрыва», как я думал раньше, а от романса С. Сафонова: «Это было давно… я не помню, когда это было…/ Пронеслись, как виденья, и канули в вечность года. / Утомленное сердце о прошлом теперь позабыло…» и т. д.
Подтекст Вот и достигнут логический предел: Л. Ф. Кацис объявляет подтекстом «Неизвестного солдата» словарь Даля («De visu», 1994, № 5).
Подтекст Самый совершенный образец использования подтекста – анекдот о еврее, который сокращал текст телеграммы (или вывески) до нуля.
Поздравление А. И. Доватуру: «Вам 80 лет, но мы знаем, что Вам больше, потому что наука наша долго жила на таком положении, в каком и ныне солдатам засчитывается месяц за год. А мы, знающие мифографов с их генеалогиями и хронологиями, где иное десятилетие идет за год, а иной год за десятилетие…» и т. д. Телеграмма: «В Ваши Платоновы годы желаем Вам Аргантониевых лет».
Пол «Ахматова успела из дамы стать женщиной, а из женщины человеком», а Г. Иванов, этот манекенщик русской поэзии, все еще… (С. Парнок, 1922 г.).
Поликратово счастье, или «Какая с этого хлеба лебеда будет».
Кл. Лемминг
Польза Бог послал бы нам второй потоп, когда бы увидел пользу от первого (Шамфор).
«Понаслушались», – объяснил ямщик, погонявший лошадей: «Ой вы, Вольтеры мои!» (Вяземский).
Понимание Белинский через сто лет не понимал Ломоносова и говорил, что у нас нет литературы; мы через сто лет не понимаем Толстого, но уверяем, что у нас есть литература, да еще какая!
Понимание Психиатр по подростковым самоубийствам говорила: труднее всего ей найти взаимопонимание с учителями, с милиционерами – легче.
Детское воспоминание. Долгий серый асфальтовый двор, я что-то спрашиваю, бабушка тянет меня за руку и раздраженно говорит: «Земля же круглая…»; я не решаюсь переспрашивать и только откладываю в памяти: нужно проверить. И другой случай. Бабушка переливает молоко из бидона в банку, молоко течет мимо, на корявый изрезанный стол, вкопанный у террасы. Я думаю: зачем? Замечает, спохватывается, начинает убиваться. Я говорю: «А я думал, ты делаешь опыт, насколько размякает доска от молока». Меня сильно изругали. Но уверенность, что мир – правильный и только нужно его понять, осталась непоколебленной.
«Понятное – это не только то, что уже понято» (Брехт). «Раньше писатели старались быть понятными, теперь – быть понятыми».
Поперек Фет в Италии завешивал окна кареты, чтобы не смотреть на всем нравящиеся виды.
«Пораженец рода человеческого» называл Шпенглера Т. Манн.
Порядок Николай I посетил Оуэна в Нью-Ленарке и выразил удовлетворение порядком; а вот лондонский парламент ему совсем не понравился.
Пост Цзи Юнь говорил: поститься – это все равно что не брать взяток по вторникам и четвергам.
Постмодернизм «Что такое постмодернизм?» – «Продукция последних лет, в которой еще не успели разобраться». – «А постмодернисты говорят, что они – новая культура, потому что раньше старое и новое противопоставлялось, а теперь они сосуществуют». – «Это они выдают ущербность за достоинство: когда название начинается с „пост“, это уже противопоставление». – «И что у них нет больше риторики». – «Мысли без риторики так же неизложимы, как слова без грамматики: самая яркая индивидуальность не станет сочинять себе язык из небывалых слов».
Постмодернизм Фомичев говорит, что в новом академическом Пушкине непристойности все равно будут заменяться черточками. Почему? – потому что очень уж много их наплыло в современную литературу. Вот постмодернизм – другое дело: он воспринимает Пушкина на фоне Юза Алешковского.
В. П. Зубов писал Ф. А. Петровскому письма от лица помещицы Коробочки и других лиц. В них он, например, спрашивал: «Как печатать такие слова, как „ни фаллоса“? не набирать ли их латинскими буквами, а объяснять в примечаниях, вместе с „Эос“ и „гиатусом“?»
Постмодернистам Конфуций бы сказал: вы ищете что-то за текстом («то, что сделало возможным текст»), – а то, что в тексте, вы уже поняли?
Потребительское отношение к человеку у М. Цветаевой: зажечь им себя и выбросить, как спичку.
Потребности От каждого по способностям, каждому по потребностям. А если моя потребность – в том, чтобы мною восхищались за то, к чему я не имею способностей? Ср. профессию «читатель амфибрахиев» в «Сказке о тройке» Стругацких.
Почти «Почти гений» стало почти термином применительно к Андрею Белому.
Поэзия по Салтыкову-Щедрину: «Вольным пенкоснимателем может быть всякий, кто способен непредосудительным образом излагать смутность наполняющих его чувств».
Поэзия Есенин с извозчиком: «А кого из поэтов знаешь?» – «Пушкина». – «А из живых?» – «Мы только чугунных» (Мариенгоф).
Поэзия Александр Вознесенский (наст. фамилия Бродский), автор «Черного солнца», после революции работал в кино. Случайно встретив, его подозвал Маяковский: «Ну, Вознесенский, почитайте ваши стихи!» – «Зачем, Вл. Вл., вы ведь поэзию не любите?» – «Поэзию не люблю, а стихи люблю» (РГАЛИ).
Поэт «М. Шелер был на диете, но забыл роль философа и на банкете ел как поэт; через два месяца он умер» (Л. Шестов).
Правда Когда не знаешь, что сказать, – говори правду. Я очень часто не знаю, что сказать.
Правда «Я боюсь Бога, когда лгу, и вас, когда говорю правду», – сказал Ахнаф халифу Муавие.
Правда У Станиславского и Немировича «одно было общее – обоим никогда нельзя было до конца сказать правду» (Виленкин). Знаменитый разговор между ними в Славянском базаре кончился репликами: «…нужно будет говорить правду в глаза». – «Нет!» – ? – «Я не могу, когда мне говорят правду в глаза». В своих воспоминаниях Немирович замечает: «Никто другой не сказал бы этого вслух».
Примечания Мне позвонил Витковский (дело очень редкое). Саркастически: «„Литературку“ читали?» – «Нет». – «Ну почитайте, там Кружков хвалит Катулла в переводе Гаспарова». Через час звонит Кружков, растерянным голосом извиняется; я говорю: «Мне-то что, а вот что вы скажете Шервинскому?» О. Б. Кушлина ничуть не удивилась: «Люди теперь читают не стихи, а примечания». Мне стало обидно за стихи.
Прямота И. П. Архаров, встретя в старости друга юности: «Скажи мне, друг любезный, так ли я тебе гадок, как ты мне?» (Вяземский). Подтекст горюхинского «да и вы, батюшка, как подурнели».
Право на существование – а то еще бывает обязанность существования, с отношением к этому как к обязанности – с отвращением.
Православие современное. «Атеисты всемилостивейше пожалованы в действительные статские христиане» (Ключевский. Письма).
Православие «Я неверующий», – сказал я. «Но православный неверующий?» – забеспокоился старый Ш. И услышав «да», успокоился.
Православие «Я прочитал Катехизис», – с гордостью сказал знакомый моего сына. «Это что, Евангелие?» – спросил товарищ. «Нет, это вроде методического пособия», – ответил тот. У Лескова персонаж говорит: «Так как катехизис Филарета я уже читал и, следственно, в Бога не верил…»
Предлоги По аналогии с свободой-от и свободой-для, вероятно, можно говорить о совести-для (диктующей выбор) и совести-от (отягчающей его последствия)? А по аналогии с забытой свободой-в – о совести-в, знающей свои пределы, такие же узкие, как у свободы? («Тоска о том, что у тебя нет совести, – это и есть совесть», – сказала Т. В.)
Препинание Кокошкин, переводчик «Мизантропа», служит при Мерзлякове восклицательным знаком, говорил Воейков.
«Преподавание – это сочетание неприятного с бесполезным», – говорила Л. Я. Гинзбург.
Преподавание Отношение к нему погубило Галилея. В Падуе его охранила бы Венеция; но он так тяготился университетским преподаванием, что принял приглашение в придворные ученые к тосканскому герцогу и там попался.
Притча Был рыцарь с пружиною вместо сердца, совершал подвиги, спас короля, убил дракона, освободил красавицу, обвенчался – прекрасная была пружина, а потом, в ранах и лаврах, приходит к тому часовщику: «Да не люблю я ни вдов, ни сирот, ни гроба Господня, ни прекрасной Вероники, это все твоя пружина, осточертело: вынь!» (В. Жаботинский. Пятеро).
«Это он о самом себе, – сказал Омри Ронен, – писатель по призванию, а заставил себя всю жизнь заниматься политикой!»
Пропаганда Были в войске два товарища, язычник и христианин, второй все старался об обращении первого, довел его до богохульств, тут конь понес его и убил, и друг горько плакал о его погибшей душе. Но Христос явился ему и сказал: не плачь, он в раю, он стремился ко мне вседневно и всечасно, а ты ему только мешал своими уговорами (источника не помню).
Пропаганда Сталинградский приказ Сталина немцы разбрасывали с самолетов как листовки, чтобы вызвать в нашей армии панику («Лит. газета», сент. 1987). А японские пропагандистские фильмы показывали такие ужасы войны, что казались американцам антивоенными.
Пропаганда Книга А. Камерона о Клавдиане начиналась приблизительно так: «Опыт нашего века заставляет нас пересмотреть наше отношение к историческим источникам: сто лет назад мы считали, что никакая пропаганда не могла выдать поражение за победу, теперь же…»
Перед выборами говорили: «Если придут коммунисты, то будет гражданская война, а если Жириновский, то будет третья мировая». На самом деле Жириновский не так страшен, как многие думают: скорее, он демагог и пустослов, и движет им не программа, а личное тщеславие. Но когда так много измученного народа готовы пойти навстречу любым демагогическим обещаниям, это страшно и опасно. Я не экономист, я не знаю, как спасать Россию; но я филолог, мое дело – слово, я понимаю, как важно говорить с людьми на понятном им языке, и мне больно видеть, что этого никто, кроме Жириновского, не умеет. Старой, сталинской технике пропаганды разучились, а новой, демократической не научились.
Просвещение В XVII веке в Готе, самой просвещенной в Германии, принцессам мыли головы через субботу в 4 часа, а раз в месяц принималась ванна. У Кампанеллы в Городе Солнца будут менять белье не реже раза в месяц.
Проституция процвела в Петербурге после освобождения крестьян, с закрытием помещичьих гаремов (Скабичевский).
Психологический расчет Психолог Бромфенбреннер два года был в СССР, написал книгу «Два мира – два детства» и, чтобы ее перевели, слова написал хорошие, а в таблицах дал данные настоящие. Оправдалось: таблиц никто не читал.
Психология В. Сапогов разослал всем письма: «будет конференция по Северянину, шлите тезисы». Все отказались: «никогда не занимались»; разослал вторично: «будет конференция, ваша тема такая-то, шлите тезисы» – все прислали. Легче признаться, что ничего не знаешь о Северянине, чем усомниться, что лучше всех знаешь тему «Северянин и (скажем) Пастернак».
Псоглавцы «Монголы посылали разведчиков на север, безбородых чукчей приняли за сплошных женщин, а чтобы объяснить детей, предположили, что они от ездовых собак: сильный половой диморфизм, только и всего», – предположила Е. Р.
Пушкин Ахматова стилизовала Пушкина под свою жизнь, Цветаева – под свое творчество.
Пушкин Л. Толстой о памятнике Пушкину: стоит на площади, как дворецкий с докладом «кушать подано» (восп. И. Поливанова).
Пушкин Ф. Сологуб говорил в ленинградском Союзе поэтов: «Будет время, когда придет настоящий разбойник в литературу. Он смело и открыто ограбит всех, и это будет великий русский поэт». А неоклассики грабят не всех, а выборочно, и каждый одного, поэтому мало надежды, что из них явится Пушкин («Ленинград», 1925, № 27).
Разбор Если я разбираю на составляющие древних поэтов, то не обязан ли я прежде всего разобрать самого себя?
Разум «Это когда мне жарко, а я не пью воды», – сказала девочка (К. Гросс. Душевная жизнь ребенка).
Раньше Греки считали часы от рассвета, евреи от заката, отсюда вполне осмысленный вопрос Александра Македонского голым мудрецам: что было раньше, день или ночь?
Революция Мясник сказал Щепкину в 1848 году: «Что это, батюшка Михаил Семеныч, какие беспорядки везде? То ли дело у нас! мирно, смирно, а прикажи только нам государь Николай Павлович, так мы такую революцию устроим, что чудо!»
Редакция Султан был недоволен, когда ему сказали: «Ты увидишь смерть всех близких»; но был доволен, когда сказали: «Ты их всех переживешь».
Режим А выбирать мы будем между одним хреном и несколькими редьками.
Сыну приснилось, как овощи в супе выбирают себе поварешку.
Резолюция Ковалевский, из попечителей став министром народного просвещения, на трех своих же ходатайствах написал: отказать (Белоголовый).
Реклама «Осторожно, окрашено краской фирмы West».
Reservatio mentalis «Ан. Франс в „Маленьком Пьере“ пишет, как в детстве не умел ставить вопросительные знаки; поэтому теперь он ставит их в уме после каждого предложения. Просоветские его выступления трудно понять, если не иметь в виду эти знаки» (Алданов).
Решимость В книге оказались мысли, о которых я не решился не доложить (И. Ф. Горбунов).
Рим Все дороги ведут в Рим – вот те на!
Словарь Бирса
Риторика Нас в школе учили в конце разбора каждого произведения перечислять три его значения: познавательное, идейно-воспитательное и литературно-художественное. Собственно, это точно соответствует трем задачам риторики: docere, movere, delectare (ум, воля, чувство).
Мне позвонил незнакомый голос: Я такой-то («ах, знаю, конечно, читал»), я защищаю докторскую, не откажите быть оппонентом. Тема мне близкая, специалистов мало, я согласился. Времени, как всегда, в обрез. Прочитав работу, я преодолел телефонный страх и позвонил ему: «Я буду говорить самые хорошие слова, не смогу сказать лишь одного – что это научная работа; я надеюсь, что моего риторического опыта хватит, чтобы ученый совет этого не заметил, однако подумайте, не взять ли вам другого оппонента». Он подумал полминуты и сказал: «Нет, полагаюсь на вас». Риторического опыта хватило, голосование было единогласным.
Рифма «Тезоименита лопата Ипату, а Вавиле могила».
Сон : женщина, в слезах, ругала другую женщину стихами: Лгунья, лгалка, жалости жалко! и т. д. (все не запомнил).
Рифма Пий Сервьен говорил: Буало писал белые стихи с рифмами, а Банвиль – рифмы, дополненные до строк.
Родительного падежа «Звучит колыбельная ночи, / и где-то парит Азраил. У ангела смерти нет мочи / сложить своих аспидных крыл» (Р. Гамзатов. Книга любви, 1987, пер. Я. Козловского).
Родительного падежа «Почтеннейший Иван Иваныч! / Великодушный доктор наш! / Всегда зачитываюсь за ночь / Статеек ваших. Гений ваш – / Благотворитель всей России! / Вы краше дня, вы ярче звезд, / И перед вами клонит выи / Весь Новоладожский уезд…» (Некрасов, в фельетоне 1845 года «Письмо к доктору Пуфу»). Одесские обороты появились не в Одессе: калька с aussehen была уже у гр. В. Соллогуба: «Княгиня Кочубей действительно выглядывала настоящей барыней».
Роль писателя в своей и чужой литературе различна: для финской литературы учителем реализма был Булгарин.
Романтизм – апофеоз средних жанров, как революция – апофеоз среднего сословия. Средние жанры – те, в которых личность не дробится в низких мелочах на случай и не растворяется в высоких абстракциях: масштаб на уровне личности.
«Ромул» Дюрренматта: «Когда государство начинает убивать, оно всегда зовет себя Отечеством».
Роскошь Пуритане считали пуговицы роскошью и носили крючки. Многие умели читать (Библию), но не писать.
Россия гибнет не от злоупотребления, считал А. Жемчужников, а от исполнения каждым своей должности (потому что каждый сидит не на своем месте).
Россия Французский посол при Николае I писал, что русская администрация напоминает театр, где идут одни генеральные репетиции.
Рота в ногу Чукотские олени – полудикие: если один отобьется, приходится подгонять к нему все стадо, потому что стадо послушнее, чем отдельная особь (Богораз).
Русский язык М. И. Каган, невельский друг Бахтина, родился в еврейской семье, и первыми русскими словами, которые он узнал, были: «я тебя убью!» и «дозволено цензурой».
Рюрик «Земля наша велика и обильна, а порядку у соседей нет!» См. I, Не у нас.
Рюрик Еще один источник А. К. Толстого: когда вместо микешинского пупа земного в Новгороде хотели возвести лишь памятник Рюрику, то Стасюлевич писал Плетневу 2 июля 1857 года, что на подножии следовало бы написать: «Земля наша сделалась еще больше, а порядку в ней еще меньше».
«Сначала я сочинил балет под названием „Добродушный Гостомысл и варяги, или Всякое дело надо делать подумавши“…» (Салтыков-Щедрин. Признаки времени).
Сам Издатель А. Ф. Маркс, не застав автора, оставлял записку: «Буль у вас. Сам Маркс» (Ясинский).
Сам Сын Н. Брагинской спросил няниного отца, сторожа при стадионе: «Дедушка, а кем ты там служишь?» – «Как кем? самим собой». (А я-то думал, что самими собой мы служим только у Господа Бога.)
Самиздат Александр II не читает печатного: книги и статьи по его интересу переписывают ему канцелярским рондо (Тургенев у Гонкуров, 21 нояб. 1875 г.).
Samovar – в точном греческом переводе: authepsa. У греков был такой кухонный прибор, я даже знал, как он был устроен, но забыл; во всяком случае, не пузатый и не с трубой. Эта автепса упоминается в речи Цицерона: В. М. Смирин измучился, подыскивая такой перевод, который не вызывал бы неуместных ассоциаций. Наконец написали самовзварка.
Samovar, pogrom В газете сказано, что из русского языка в европейские перешло еще одно слово: khaljava.
Самовыражение «Нет, Платон точно так же хотел выражать не себя, как авторы Нового Завета. Но им это удалось, потому что они канонизировали четыре однородных текста сразу – сумели канонизировать мысль, не канонизировав слова. А Платон именно этого и не мог» (Т. М.).
Самовыражение Гречанинов сказал: я недоволен этой литургией, мне не удалось вложить в нее всего себя. Владыка Антоний сказал: «Какой ужас была бы литургия, в которой весь Гречанинов!» С. Ав. о Вайнхебере: «Это австрийское сочетание таланта и китча: он хорош, когда безлик, и гибнет, когда в стихах просовывается его личность».
Самозванец При самозванце уже пошел слух, что Борис Годунов не умер, а опоил и схоронил другого, сам же бежал в Англию (Карамзин). «И беседовал там с сочинителем Шекспиром», – добавил И. О.
Самоубийство в рассрочку встречается чаще, чем кажется. Лермонтов поломал свою жизнь, поступив в юнкерскую школу, оттого что видел: хорошие романтические стихи у него не получаются, значит, нужно подкрепить их романтической жизнью и гибелью, а для этого в России нужно быть военным. Потом, после 1837 года, неожиданно оказалось, что стихи у него пошли хорошие и погибать вроде бы даже не нужно, но машина самоубийства уже была пущена в ход. (Если бы он вышел в отставку и стал профессиональным литератором, то на Петербург средств могло оказаться недостаточно, пришлось бы жить в поместье, а на дальнейшее «если бы» воображения не хватает. Байрон у Алданова, наоборот, хочет смертью оправдать свою поэзию post factum – это больше похоже на самоубийство Амундсена по полярному долгу.) Чехов, профессиональный врач, прогнозировал свою смерть примерно на 1900 год, закончил все дела, продал собрание сочинений, чтобы обеспечить ближних, женился, чтобы дать женщине возможность называться «вдовою Чехова», но смерть затягивалась, и все последние годы он нервничал, провоцировал ее несвоевременными приездами в холодные столицы и т. д. Блок, кончив университет и не желая служить, наметил сжечь себя богемной нищетой лет за пять («мне молоток, тебе игла»), но сперва это затянулось оттого, что появились гонорары из «Золотого руна», при которых умереть с голоду было просто невозможно, а потом это отменилось из‐за отцовского наследства, и пришлось сочинять новую программу, не с гибелью, а с рождением нового сильного нордического человека и т. д. Когда пришла революция и настоящий голод, то смерть для него была уже продуманной. (Об этом – у А. Пайман, но не до последней точки.) Марина Цветаева запрограммировала себе гибель еще с юности: она была пародией на Лермонтова, как Ахматова пародией на Пушкина. Был доклад: Гоголь в «Переписке» подражал Сильвио Пеллико, причиной неуспеха ее счел биографическую неподкрепленность и вместо Темниц построил себе Самоубийство. Как жизнестроительство, так есть и смертестроительство.
«Самоучка имеет самого скверного учителя». Наедине с собой имеешь самого скверного собеседника. Это диалог?
Самый «Какой человек самый лучший?» – спросили Платона. Он ответил: «Тот, которого еще не испытали». Это от вопроса Александра Македонского голым мудрецам: какой зверь самый хитрый? – Тот, которого никто еще не видел. А какой писатель самый лучший?..
Свет Хасан из Басры: «Встретил я мальчика со свечой, спрашиваю: откуда свет? Он дунул и говорит: скажи, куда он исчез, тогда скажу, откуда он взялся» (Ремизов. Павлиньим пером).
Свобода была благом, когда высвобождаемые силы личности обращались на природу, и стала злом, когда обратились на общество. Тоска о борьбе с природой (за полюс, за космос и т. д.) – от стремления снова почувствовать свободу сил как благо.
Свобода У сына в отрочестве был страх заниматься тем, что ему интересно: вдруг это обяжет и поработит? Я помню, как в ЦГАЛИ открыли архив Шенгели, и я подумал: какой интересный новый камень на шею.
Свобода воли Бросить монетку и сделать наоборот.
Свобода воли «Все мы – Боговы обручи, которые он бросает с пригорка, закружив так, чтобы они, коснувшись земли, катились обратно к нему». Важно, о какой пригорок споткнешься…
Свобода воли В споре с Ресовским Лысенко был адвокатом ангела: чтобы переродиться, достаточно свободной воли. Его последняя идея: кукушки самозарождаются в чужих яйцах под воздействием лесного кукования. А Ресовский был генетик, детерминист, и потому работал на расизм, пока в 1943 году не разочаровался (О. Ронен). А еще можно сказать, что для лысенковской свободы воли нужно было советское мышление: если очень долго бить и мучить растительный вид, то он предпочтет превратиться во что угодно.
Сволочь Как Ященко мирил А. Толстого с Эренбургом, каждому говоря: «Тот о тебе сказал: сволочь, а здорово написал!» (Р. Гуль).
Синтаксис поэтический. «Заря смотрела долгим взглядом, / ее кровавый луч не гас, / но Петербург стал Петроградом / в незабываемый тот час» – Маяковский издевался, предлагая подставить в эти стихи Городецкого вместо но – и или а – ничего не изменится. А если, наоборот, перевести этот сочинительный синтаксис в подчинительный, то получится логика стихов Бродского.
«Поселились и Скнижились» (Ремизов. Иверень).
Слово «Большевикам помогли три удачных слова: большевик, совет и чека: всякий понимал, что без чеки на оси никуда не уедешь» (разг. П. Вайля и Т. Толстой).
Служба «Я не служитель Муз, а служащий».
Сотрудничать на нескольких службах теперь приходится, как приходилось в 1919–1920‐х годах, потому что иначе не прожить. При этом мне живется еще гораздо лучше, чем другим, – я все-таки полный академик, так сказать, генерал от науки. Впрочем, когда я попал в академическую больницу и жена пришла спрашивать врачей, каков диагноз академика такого-то, ей твердо сказали: «Нет у нас академиков!»; потом посмотрели бумаги, засуетились, занервничали, стали оправдываться: «Если бы мы знали, не положили бы в общую палату, но он же не похож на академика!» – и, проницательно посмотрев на нее, врач добавил: «Впрочем, вы тоже не тянете на жену академика!» Я считаю это большим комплиментом: я очень не хотел бы походить на академика. Ну а жены академиков – это такая человеческая порода, о которой и говорить не хочется.
Когда жена рассказала об этом случае дома, то дочь оглядела себя: «Пожалуй, и я не тяну на академическую дочку», а М. высокомерно откликнулась: «Из вас всех только я похожа на академическую внучку». Что да, то да. Мама-психолог больше всего боялась, чтобы у девочки не сложился комплекс неполноценности, и, кажется, перегнула палку в другую сторону. А о младшей внучке старшая пренебрежительно говорит: «Ничего, сойдет для сельской местности».
Случай «Художник платит случайной жизнью за неслучайный путь» (восп. Книпович о Блоке).
Смена форм литературных, по Тынянову: «Новая труба гласно, а старая согласно». М. Дмитриев объяснял спор классиков с романтиками так: романтики говорят, «да первоет портной у кого учился?», классики отвечают: «а первоет портной, может, хуже моего шил». У Симони же об эпигонстве: «Не люби потаковщика, люби встрешника».
Смысл Мандельштамом или Маяковским можно наслаждаться, не понимая, а Хлебников для наслаждения требует понимания (В. Марков).
Смысл О. Деллавос об альтмановском портрете Ахматовой: «Похож ужасно, но в каком-то отрицательном смысле». Я вспомнил НН, который о тыняновских переводах из Гейне твердо говорил: «не так!» – а потом, сверив с подлинниками: «так, а непохоже!»
Смысл Экспериментальные науки ищут законов, интерпретативные – смыслов. Для кого? Определите сперва смысл звука д или камня на дороге. Интерпретаторство на ассоциациях, как над пятнами Роршаха, – психоанализ филологов (Жолковский психоанализирует Эйзенштейна, предоставляя потомкам психоанализировать Жолковского). Потомство старой аллегористики, довесок Золотой цепи, 35 значений к слову aqua. Настоящий смысл – только тот, до которого мы не в силах дотянуться, как самое хитрое животное Александра Македонского.
Со- «Какая ему цена?» – «Две мнасы. Знает сослучайное и присослучайное» (Лукиянов торг жизней, «Трудолюбивая пчела», 1759).
Собеседник Статья Мандельштама «О собеседнике»: стихи старых поэтов у тебя в руках – это как письмо в бутылке, брошенное в море и предназначенное для нашедшего. Да, но в таком письме может быть написано только об одном – о чьей-то гибели.
Совесть – «душ великих сладострастье» (Батюшков).
«Совесть – внутренний голос, который предостерегает, что кто-то на тебя смотрит» (Г. Менкен).
Совесть (революционная?). «Судьи на уставы мало смотрят, а вершат по своей природной пыхе» (Посошков).
Страх и совесть Оксман как-то сказал: «Я служил большевикам не за страх, а за совесть, но не доверял им ни минуты. А другие служили за страх, но верили. Поэтому я выжил, а они нет». И. И. Халтурин говорил: «Беда Зощенко в том, что он, хоть и дворянин, и штабс-капитан, был совершенно советский человек и верил в справедливость. А Ахматова твердо знала, что писателю ничего хорошего никогда не бывает. Она должна была бы благодарить за Октябрьскую революцию: к 1917 году все поэтессы уже научились писать не хуже ее. А теперь посмотрите на нее – знаменосица!»
Саид Исфаганский
Советский режим обвиняют в двуличии. Он двуличен не более чем всякий другой, предписывающий разные мысли и поступки в разных обстоятельствах. Когда в самом христианском обществе на время войны отменяется заповедь «не убий», а на время мира «не лихоимствуй», это то же самое.
Солнечная система Анненский был неверующий. А Вяч. Иванов на вопрос «веруете ли в Христа?» загадочно ответил: «только в пределах солнечной системы» (восп. С. Маковского).
Соотношение Брюсов мотивировал изобретение одностишия: во многих больших стихотворениях хорош только один стих на фоне слабых – будем же записывать только эти строки, а фон уберем. Не получилось: на странице одностиший ощущаются хорошими только одно-два, а остальные уходят в фон. Важным оказывается не стих, а соотношение между стихами: Gestalt, как когда курочек кормили на черно-серых и серо-белых подстилочках.
Сослуживцы по семье.
Сотворчество читательское. Б. Покровский доказывает зрительское сотворчество примером: «Шепните соседу, что он должен написать о спектакле рецензию, и сотворчеству конец».
Сотворчество Когда писатель говорит это о себе, это значит: «то, что я домысливаю от себя к предшественнику, – правда», а когда о читателе: «то, что ты домысливаешь от себя ко мне, – неправда, изволь угадать мое, и только мое».
«Социализм – это общественная энтропия, приют для дефективных: лучше вымереть и начать сначала» (Г. Шенгели, кажется, в письмах к Шкапской).
Социалистический классицизм тоже мог быть и придворным, и просветительским; просветительский он – у Брехта.
Спать «Я всегда хочу спать, когда события», – сказал Блок Чуковскому в кронштадтские дни (20 янв. 1921 г.).
Способности «Русские проявляют свои способности скорее в умении пользоваться плохими орудиями, нежели в улучшении их» (Кюстин).
Справедливость Ю. К. Щеглов об американском преподавании. Конечно, отвергается старое понятие классики как авторитарное. Для изучения предлагаются не dead-white-men, а, наоборот, меньшинства. Но когда кто-то выделяется только за лесбийство и проч., это тоже несправедливо. Нужно выделять невыделяющихся, по возможности бездарных, как представителей большинства. Идеалом было бы изучать писателей не просто бездарных, а писателей неписавших. Но, конечно, это можно доверить только литературоведу непишущему. А главной кафедрой должна стать кафедра читательского сотворчества. См. Не.
Сыну приснилось стихотворение «Сон» :
Стамбул Ободранные дома, залатанные рекламами. Бескрайний ночной рынок с курганами накрытых черной пленкой товаров и кострами караульщиков, как будто ты не в городе, а в дикой степи. Патриарх принимал, сидя за столиком рококо. На патриарших служащих погоны с крестами, а дворцовый караул в шлепанцах и национальных скуфьях.
Старость Из письма: «А счастливых старостей в ХX веке не бывает: сверстники расходятся, потому что дорог стало больше, а дети отшатываются, потому что время стало меняться быстрее».
Старость Я сейчас на точке того профессора, который, неожиданно уходя на пенсию, сказал: «Я стал читать хуже: сейчас это замечаю я, а вы не замечаете, – хуже будет, когда станете замечать вы, а я не замечать» (о Крепелине).
Статистик Молинари показывал, что ремесло убийцы безопаснее ремесла рудокопа (Алданов).
Стенгазета . На филологическом факультете МГУ стенгазета называлась «Комсомолия», по Безыменскому, а сатирический отдел в ней – «Филологические были», по Андрею Белому. Не знаю, помнил ли кто об этом. Когда началась оттепель, газета закипела и стала разрастаться. Это была ватманная полоса на стене напротив крашеного гардероба, шагов пять в длину; сперва она вытянулась и загнулась за угол, затянув от одевающихся настенное зеркало; потом продолжение ее повисло в буром коридоре, шагов на двадцать с перерывами для дверей аудиторий; и наконец наступил день, когда продолжение продолжения перекинулось в другое здание старого университета на всю ширь балюстрадной стены против Коммунистической аудитории, не знаю уж на сколько шагов. Это был предел, потом пошло обратное сокращение. Из содержания этих царь-номеров не запомнилось решительно ничего. Я рассказал об этом Осповату, он откликнулся: «Когда меня в первый раз арестовали – помогал Буковскому, добивавшемуся обнародования дела Синявского, – то отвезли на Варсонофьевский, не били, не пугали. Трехэтажный дом, но повели вниз: первый подземный этаж, третий, десятый, и тут начинается страх, потому что ясно: из таких мест не возвращаются. Я уже готов ко всему, как вдруг где-то на площадке минус восемнадцатого этажа вижу: стенгазета „Дзержинец“ (говорят, и сейчас еще выходит). И сразу на душе покой – видно, что это не Дантов ад, а советское учреждение».
Стиль «В ней улыбались воспоминания» – кто это написал? Гончаров в «Обрыве».
Стиль «Ребята сделали себе веселье», – начинается в «Азбуке» Л. Толстого рассказик о водяной мельнице.
Столоначальником придворной конторы был отец Мережковского – где-то в советское время это было переведено «сын придворного лакея».
Стыд «Жены стыдиться – детей не видать» (Даль).
«Стыдно хвалить то, чего не имеешь права ругать» (Ремизов. Мартын Задека).
Судьбоносный молодое слово: стали говорить, стесняясь говорить «роковой».
Суматоха О. Седакова о шестилетней племяннице, сделавшей явно дурной поступок. «Но ты же знаешь, я вообще-то так не делаю». – «А почему сейчас сделала?» – «От суматохи, знаешь, всегда такое делают от суматохи». Я для себя поняла, что многое сделала именно из‐за этого.
Сумма НН умен и энергичен, но эти два качества у него не помогают, а мешают друг другу. В Брюсове-пушкинисте поэт до какого-то момента помогал филологу, а с какого-то начинал мешать; определить эту точку – самое главное.
Тайна В 1570 году папа Сикст отлучил от церкви Елизавету Английскую, но и Франция, и Испания искали с ней союза, буллу пришлось везти тайно и подбросить под дворцовую дверь, подбросившего нашли и казнили.
Талант возбуждать ненависть: Сухозанета даже солдаты ненавидели, «хотя от солдата до министра – как до Сатурна».
Теория «Что можно сделать по эксперименту? – только отчет об эксперименте. А теорию можно сочинить просто из головы», – сказала Т. В. Я бы ответил: сочинять из головы на свободе ничем не ограниченной интуиции – неинтересно. Интересно сочинять теорию среди препятствий и запретов, как вырубать статую из кривого камня: как будто я втискиваю себя в спичечную коробку. Это и называется экспериментальной проверкой гипотез. Но всего этого я не сказал.
Тепло А. И. Анненкова садилась в карету не иначе, чем за полчаса обогрев это место толстой немкою (зап. П. Гебль).
Терпимость «Агрессивная терпимость» – выражение Моруа о Шелли.
Тлен М. П. Штокмар в молодости терпеливо и трудолюбиво переписывал несобранные газетные заметки Лескова – «ведь газетная бумага скоро истлеет», – и не думал, что его тетрадная бумага 1930‐х годов истлеет гораздо раньше.
Торопители Такая должность была на версальской кухне у Людовика XIV, штат из десяти человек.
Тост «Без женщин не было бы стихов, без стихов не было бы стиховедов, итак, выпьем же за женщин!» Нет, стиховедение уже выросло настолько, что может существовать и без стихов.
Тост «За сбычу мечт!» – произносил тост один шофер (рассказала дочь).
Точка зрения Повторять один и тот же сюжет с разных точек зрения – это, собственно, начали не Фолкнер и не Браунинг, а четвероевангелисты, только тоньше.
Точка пересечения В. Иванов и В. Топоров написали: «Духи – это точки пересечения каналов связей»; «Мне стало до боли обидно за духов», – сказала Е. Новик.
Точка пересечения Текст ведь тоже точка пересечения социальных отношений, а мне хочется представлять его субстанцией и держаться за него, как за соломинку. Может быть, это в надежде, что и я, когда кончусь, перестану быть точкой пересечения и начну наконец существовать – по крупинкам (крупинка стиховедческая, крупинка переводческая…), но существовать?
«Трофейными иностранцами» были названы в русской культуре прибалтийские немцы.
Троянская война Теория Л. Клейна: гиссарлыкское поселение – не Троя, потому что вокруг нет следов ахейского стана, а на холме остатков ахейских стрел. (Финли делал вывод, что Троя была, а войны не было.) Это все равно что раскопать Москву и сказать, что это не Москва, потому что слишком мало найдено наполеоновских ядер.
Труп После 1812 года захоронено было 430 707 человеческих трупов и 230 677 скотских («Ист. вестник», 1912, № 4).
Тышлер говорил: у него были четыре брата, первого повесил Слащев за большевистские листовки, второго махновцы (хотя при самом Махно состояли евреи), третьего расстрелял Сталин, четвертого сожгли немцы.
Угол По телевизору передача «Углы Достоевского»: почему он жил в углах и писал об углах, углы как место отрицательного биополя и проч. Статистика показала, что да, у Д. углы упоминаются чаще, чем у Тургенева или Толстого, но у Гончарова, например, еще чаще. А пра(?)внук Д. сказал, что просто писатель был небогат, а угловые квартиры были дешевле. И кто-то добавил: улицы были короче и угловые здания чаще.
Указ («Неискоренимая вера Петра I в творческую силу указа», писал Ключевский.) «„Все кажущееся непоправимым у других, – говорит Кокорев, – легко исправляется у нас одним росчерком пера: стоит лишь издать указ сидеть всем дома пять лет и есть щи с кашей, запивая квасом, и тогда финансы правительства и наши придут в цветущее состояние“. Эти слова К., как бы звучащие иронией, произнесены были с большим пафосом и полной серьезностью…» (П. Берлин). См. Деньги деревянные.
Ультрацвета, ультразвуки Давайте не забывать, что мы не чувствуем в мире того, что чувствует любой муравей.
Ум «У кого много ума, надо столько же ума, чтобы пользоваться им» (Л. Толстой у Маковицкого). Вариант: «Ум-то ум, а дураку достался». Мой шеф Ф. А. Петровский говорил наоборот: «Умный-то он умный, да ум у него – дурак», – и настаивал, что в немецком языке вообще нет слова для понятия умный. М. Е. Грабарь-Пассек загадочно улыбалась.
Умный «Когда государь говорит с умным человеком, – сказал Тютчев, – у него вид, как у ревматика на сквозняке» (Феокт.).
Ура «Иначе сказать: в Будущем объявлено благоденствие, а в Настоящем покуда: Ура-а-а!!!» (Сухово-Кобылин. Квартет).
Ура А. Я. Сыркин, византинист, был единственным студентом, освобожденным от военного дела по особому распоряжению военной кафедры. Он сдавал зачет, ему сказали: вы командуете батальоном в окружении, спереди пехота, сзади танки, сбоку пушки, что вы будете делать? Он думает. «Пока вы думаете, треть вашего батальона погибла, налетают самолеты, что будете делать?» Он думает. Его трясут; он говорит: «Я думаю, надо кричать ура». Эта фраза стала на факультете поговоркой (В. Успенский).
Уточнить «К нам в Пушкинский дом прислали запрос из архива МИДа: уточнить дату рождения Горчакова, в июне или июле юбилей? У них самих – надежнейшие документы, но своему привыкли не верить». Так у Феофраста дурак, сложив сумму, спрашивает соседа: сколько же это будет?
Учение «И медведь костоправ, да самоучка» (Даль).
Учение «Он учится на гениального самородка», – сказали о НН.
Факт «Подсудимый, признаёте ли вы себя виновным в том, что 30 февраля с. г. на Лиговке имели с обдуманным намерением и умыслом продолжительный разговор о предметах, суду неизвестных?» – «Нет, не признаю!» – мрачно отвечает тот. – «Подсудимая, признаёте ли вы… что в то самое время, когда Сидоров имел упомянутый разговор, вы, тоже с умыслом, находились на Галерной с целью покупки себе шерстяных чулок?» Та, срываясь с места, стремительно отвечает: «Да! признаю! но я была в состоянии аффекта, – и после размышления: – В факте – да!» (И. Ф. Горбунов).
Фаллос Опрос студенток о браке и семье (к 8 марта): в муже ценят, во-первых, способность к заработку, во-вторых, взаимопонимание, в-третьих, сексуальную гармонию. Однако на вопрос, что такое фаллос, 57% ответили – крымская резиденция Горбачева, 18% – спутник Марса, 13% – греческий народный танец, 9% – бурые водоросли, из которых добывается йод, 3% ответили правильно.
Филология говорит, как вежливый француз: выберите любое непротиворечивое понимание текста, а если хотите выбрать правильное, то оно такое-то.
Философия и филология «Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками» (1-е Кор. 14:39). «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода» (14:14). А христианство в это время для многих молящихся было еще очень незнакомым языком.
Философия и филология В античности соревновались философия и риторика за высшее образование, а грамматика, среднее образование, тихо сидела в стороне. Сейчас с нами, грамматиками, под именем философии спорит не кто иной, как риторика: деструктивистская софистика без метафизики. Из этого, видимо, следует, что философия уже умерла. Филология – то ли умерла, то ли нет, а философия – уже бесспорно.
Хвост
А. А. Фет
Хитрость Суворов говорил: тот не хитер, о ком все говорят: «хитер». Подтекст – вопрос Александра Великого голым мудрецам.
Христианство Когда военнопоселенский архитектор попросил выплатить ему жалованье договорное, а не урезанное, Аракчеев сказал ему: брось ты эту вольтеровщину и будь истинным христианином (Кизеветтер).
Хронотоп (доклад «О хронотипах и хронотопах» упоминался в журнале «Знамя»). Лимерик И. Оказова с правкой С. Аверинцева:
Хронотоп – это пространственно-временной континуум по формуле: «рыть канаву от забора до обеда».
Царь спросил Шаляпина, почему басов любят меньше, чем теноров. «Поем либо монахов, либо дьяволов, либо царей – разве сравнишь?» Царь подергал бородку: «Да, какие-то роли неинтересные» (Седых).
Цель На митинге солдат говорил: «Если с немцем не драться, то что же с ним делать?» (М. Кузмин. Стружки, 1925). А зачем с немцем нужно что-нибудь делать, никому неизвестно. Многие заботы об искусстве, его природе и назначении напоминают этого солдата.
Ценность Психолог сказал: «У Житкова в „Что я видел“ самое замечательное и труднодостижимое для взрослого – безоценочность».
Борис Житков был очень интересный советский писатель; сейчас его помнят только как автора детских книжек, а он был гораздо больше. Родился в 1886 году – умер в 1938‐м (своей смертью!), был революционером, моряком, штурманом плавал вокруг света, инженером строил в Англии корабли для русского флота, работал биологом в сибирской экспедиции, получал премии как профессиональный фотограф и т. д. Маленький, сжатый, как пружина, свирепый, и все умел. Мать моего школьного товарища, литературный критик, рассказывала: «Он пришел к нам, едва знакомый, когда я пеленала сына на столе, сразу сказал: Не так! и стал пеленать сам; и ведь правда запеленал лучше». Когда в 1921 году он вернулся в Петроград безработным и нищим, его бывший гимназический товарищ Чуковский предложил ему попробовать написать рассказ для детей. Житков, чтобы нечаянно не впасть в шаблонный стиль, написал рассказ (о моряках) по-французски, перевел на русский и принес Чуковскому; и на следующий день все говорили, какой замечательный появился писатель. У него есть рассказ (для взрослых) «Слово», три странички: мне он кажется одним из лучших во всей русской литературе, включая Толстого и Чехова. При жизни он не печатался – не по политическим причинам, он чисто психологический, но написан с такой силой, что ни один журнал не мог его взять: сразу выцветали все соседние. (Напечатано посмертно в журнале «Москва», 1957, № 5.)
Ценность Ахматова Блока ценила «за Тютчевым», а Гумилева «около Дельвига».
Ценность Когда я говорю «это 4-стопный ямб», я – ученый, когда говорю «этот ямб хороший», я – изучаемый.
Ценность Отзывы детей о политиках: «Ельцин – и плохой, и хороший: плохой, потому что Чечню разбомбил, хороший, потому что нас не разбомбил» («Арг. и факты», 1995, № 36).
Цитата В анекдоте дама недовольна «Гамлетом»: «Общеизвестные цитаты, сшитые на живую нитку!» Собственно, каждый человек есть связка цитат, и у меня только перетерлась нитка, на которую они нанизаны.
«Цнотхим» была вывеска на доме в Старосадском переулке; cnota по-польски значит «добродетель».
Герасим Смотрицкий
«Цынцырны – цынцырны – цынцырны – цыцы», – изображает Блок бредовую мазурку в проекте варшавской главы «Возмездия». Это звукоподражание – от любимого им Полонского: «… И цынцырны стрекотанье…» («Ночь в Крыму», с примеч. «татарское слово, то же, что и цикада»).
Человек – это мыслящий тростник, а НН – это чувствующий гранит.
Четверг считался недобрым днем по созвучию с червем и добрым по созвучию с верхом (С. М. Толстая).
Чечня «Здесь совсем чужие горы, / И чужая здесь река. / Здесь чужое бродит горе / С автоматами в руках…» – писал когда-то сын-школьник об афганской войне.
Чичиков и Манилов В Китае, когда двое пропускают друг друга в дверь, третьей репликой следует сказать: «Подчинение выше уважения», – и пройти (слышано от В. М. Солнцева, а Б. Рифтин сказал: «Может быть, так было в эпоху вежливости, но не сейчас»).
Член-корреспонденство – это как сановника, от которого больше нечего ждать, назначают членом государственного совета. «Как я буду теперь смотреть в глаза Мелетинскому?» (еще не членкору) – сказал С. Ав. после своего избрания. «А каково мне было два года смотреть в глаза вам?» – напомнил я.
Чтение «Ты хочешь читать в его душе слишком уж мелкий шрифт».
Что и о чем По радио на Пасху читают стихи Набокова о Марии: «…что, если этих слез / Не стоит это Воскресенье?» Стихотворение – антихристианское, но, видимо, опять важнее, о чем говорится, чем что говорится. Так когда-то прославлением революции считалось вступление Пастернака к «Девятьсот пятому году», кончавшееся: «Ты бежишь не одних толстосумов – все ничтожное мерзко тебе».
Чувство «Очень чувствительна и очень бесчувственна», – сказала дочь о НН.
Чувство Г. Уолпол говорил: мир – это комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует. «Думай за себя, чувствуй за других», – кажется, это Хаусмен?
Чувство Есенина водили в ночлежку (чтобы вправду было: «Я читаю стихи проституткам…»), он изо всех сил читал стихи, слушали его прохладно, только одна женщина плакала навзрыд. Когда уходили, он подошел, заговорил, она не ответила: оказалось – глухая (Эрлих).
Чувственность. В «Комс. правде» была анкета «Насколько вы чувственны?» с вопросами:
1) У вас есть любимое время года? 2) Любите ли вы смотреть на радугу? 3) пробовать новую пищу? 4) любоваться закатами? 5) ощущать прикосновения? 6) прикасаться к любимым людям? 7) Случалось ли вам плакать от музыки? 8) Связываются ли для вас запахи и звуки с определенными воспоминаниями? 9) Возбуждают ли вас духи? 10) Любите ли вы прикасаться к некоторым тканям? 11) к шелку? 12) хрустеть по свежему снегу? 13) Нравится ли когда солнце согревает лицо? 14) Раздражают ли громкие и назойливые звуки?
Я на все ответил «нет» (на первый и последний с колебанием) и оказался ниже нуля. А. на все твердо ответила «да».
Чужое слово Если я в газетной заметке возьму каждое слово в кавычки – она обретет фантастическую глубину: почти Андрей Белый. Кавычки – знак безответственности (как и тире).
Саид Исфаганский
Шкура Эйдельман сказал Городницкому: «Все, социализм уже не вернется, в худшем случае на несколько лет, не больше». – «Так за эти несколько и тебя, и меня убить успеют». – «Ну, не знал я, что ты такой шкурник!»
Щель «Не позавидовать ли человеку в футляре, который прячется в мир, где есть хотя бы слово anthropos, человек?» – спросил А. Л. Ренанский.
«Э» Буква Э была приметою иностранных слов, писали Эва и Эврипид, но Етот; еще Грот жаловался на jеканье от иных написаний. Теперь, кажется, наоборот: е от церковных написаний (в словах, пришедших еще до изобретения буквы э) кажется престижнее: Ефес, Елевсин почтеннее, чем Эфес, Элевсин. Для Северянина это был еще знак иностранной элегантности: он писал шоффэр и грезэрка и даже французское написание Embassadeur рифмовал с русским пример. За ним последовала Цветаева: написав имя Lausun по-русски – Лозэн, она стала по аналогии писать Антуанэтта, Розанэтта, а само это имя рифмовать с измен и даже с Reine.
Эволюция О. Форш рассказывала о докторе Шапиро, который считал: Бога еще нет, есть дьявол, медленно эволюционирующий в Бога (А. Штейнберг).
Эдип Одна из версий его смерти: он был сыном Гелиоса и погиб на поле брани. («А может быть, его убили разбойники? – спросил И. О. – Может быть, это у них наследственное?») С. Ав. говорил, что разноречия в Евангелиях лучше всего свидетельствуют об историчности Христа: если бы его выдумывали, то постарались бы свести концы с концами. Ср. I, Прогресс.
«Экзигзаг», – предпочитал говорить в детстве художник И. С. Ефимов, оттого что трехсложное слово лучше передавало изломанность.
Экология «Если хочешь, чтобы курица неслась, терпи ее кудахтанье» – англ. пословица.
Экономика На редсовете РГГУ было сказано: «Две самые высокооплачиваемые женские профессии – путана и печатница; первая дешевеет из‐за избыточного предложения, вторая дорожает из‐за недостаточного; а начальство этого не понимает и удивляется расходам».
Экономика Ремизов «народные говоры и допетровскую письменность превратил в колонию, в источник сырья для футуристической промышленности» (Н. Ульянов).
«Энтропическая доброта В. Соловьева – как будто он обогревал собою очень большую комнату, в которую мог войти всякий, даже Величко» (Е. Р.).
Эпиграф Композитор Гаджиев написал сочинение, взяв тему из Шостаковича и лишь орнаментировав на восточный лад. Это заметили, встало дело о плагиате, он поспешил к Ш. и принес записку: «Подтверждаю, что сочинение Г. не имеет с моим ничего общего». Шостакович, чтобы отстали, подписывал всё. Эту записку надо бы печатать эпиграфом при сочинении Гаджиева, но где она сейчас – неизвестно (слышано от Д. Д.).
Этажерка Разговор, когда российскую делегацию везли – целым контейнером – на конференцию в Мэдисон: «А вы летали на этажерках? Я летала – из Горького в Болдино; перед глазами – ноги пилота, тряска вверх и вниз, сосед сказал: как в телеге по небу едешь».
Юмор – привлекательная странность ума или нрава (Академический словарь 1847 года).
Юмор В одном издательстве меня попросили написать, что я еще переводил: вдруг можно будет переиздать? Увидев в списке «Поэзию вагантов», удивились: «Так у вас есть и чувство юмора?» – «Нет», – сказал я (см. Главные вещи).
Б. Успенский говорил: есть языки комические и некомические: комичен английский и китайский, из‐за обилия омонимов, и русский, из‐за обилия синонимов, русских и церковнославянских; а французский не комичен, он афористичен.
Я Илл. Вас. Васильчикова назначили председателем Государственного совета. «Всю ночь не мог заснуть: до чего мы дожили! на такую должность лучше меня никого не нашли» (В. Соллогуб).
Звоню из Малеевки, не случилось ли чего дома? «Нет, только звонили из Верховного Совета СССР: хотели посоветоваться. Дочь сказала: „Докатились!“»
Я «Собака у реки боялась пить, пугаемая своим отражением; так между нами и нашими мыслями стоит препятствием наше мнение о самих себе» (суфийская притча).
Язык Когда Меццофанти сошел с ума, он из всех своих 32 языков сохранил в памяти только цыганский (В. Вейдле).
Язык «Я владею чужими языками, а мною владеет мой» (Карл Краус).
Язык русский И. Г. Покровский. «О неправильностях языка у русских писателей» («Москвитянин», 1853): Ревность означает усердие, ревнивость – подозрительность. Около значит вокруг: «остановился подле нея», а не «около нея». Вследствие – приказный прозаизм. Спинной хребет – тавтология, вместо спинная кость. Не жест, а телодвижение, не поза, а телоположение. Слова недовольство нет, а если бы было, значило бы бедность, скудость. Лучше уж черезчурие, чем утрированность. Советчик – новое слово, лучше уж советыватель. Вместо вонь в приличном обществе говорят зловоние. Новые слова: приятельство, непроглядный. Не людской род, а человеческий, потому что «люди» – уже родовое понятие. Не всклокоченный (от клокотать), а всклоченный.
А Писемский упрекал Майкова, что воркотня может быть производным только от ворковать.
Яйца «Требуют, чтобы мы несли золотые яйца только затем, чтобы нас тотчас резали».
С. Кржижановский
Ясность «Таким образом, этот вопрос совершенно ясен, что говорит о его недостаточной изученности».
Ясность
Рафаэль Альберти
Ять Говорят, что готовится конференция по восстановлению этой буквы: некоторые считают, что развал культуры пошел от облегченного образования. Может быть, нужна кампания по возрождению (скажем, 50-процентной) неграмотности? с восстановлением юсов, большого и малого?
Поль Фор
МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ 16

VI
ВРАТА УЧЕНОСТИ
Первый шедевр в вашей жизни? Что это было? Кто сказал, что это шедевр?
Из анкеты
В начале было имя. Взрослые разговаривали и упоминали Евгения Онегина, Пиковую Даму, Анну Каренину, Чарли Чаплина, причем ясно было, что это не их знакомые, а персонажи из другого, тайного их мира, для детей закрытого. От вопросов они отмахивались – некогда и слишком сложно. Чтобы проникнуть в их мир, нужно было запомнить и разгадать имена.
Имя Пушкина не произносилось – оно как бы самоподразумевалось. Когда я в пять лет спросил бабушку: «А кто такой Пушкин?» – она изумилась: «Как, ты не знаешь Пушкина?!» Через месяц я твердил сказки Пушкина наизусть вслух с утра до вечера. А через год началась война. Случилось чудо: в эвакуационном поселке, где вовсе нечего было читать, оказался старый, растрепанный однотомник Пушкина. Стихи были непонятны, но завораживающи. Я ходил по бурьянным улицам и пел: «Скажите: кто меж вами купит ценою жизни ночь мою?» Что это значило, было неважно. Потом я много страдал от этой привычки: из‐за звуков ускользал смысл. («И слово – только шум, когда фонетика – служанка серафима».) Уже подростком, уже много лет зная наизусть тютчевское «как демоны глухонемые, ведут беседу меж собой», я вдруг понял зрительный смысл этой картины – ночные вспышки беззвучных красных зарниц. Это было почти потрясение.
Мне повезло: в том же дошкольном возрасте мне ненадолго попался в руки другой том Пушкина, из полного собрания, с недописанными набросками: «[Колокольчик небывалый / У меня звенит в ушах,] На заре – — – алой / [Серебрится] снежный прах…». Я увидел, что стихи не рождаются такими законченно-мраморными, какими кажутся, что они сочиняются постепенно и с трудом. Наверное, поэтому я стал филологом. Если бы мне случилось хоть раз увидеть, как художник работает над картиной или рисунком и в какой последовательности из ничего возникает что-то – может быть, я лучше понимал бы искусство.
Я рос в доме, где не было даже «Анны Карениной». Тютчева, Фета, Блока я читал по книгам, взятым у знакомых, почти как урок: скажем, по полчаса утром перед школой. Они не давались, но я продолжал искать в них те тайные слова, которые делали их паролем взрослого мира. У других знакомых оказалась Большая советская энциклопедия, первое издание с красными корешками. Там были картинки-репродукции, но странные: угловатые, грязноватые, страшноватые, непохожие на картинки из детских книжек. Взрослые ничего сказать не могли: видно, это был пропуск в какой-то следующий, еще более узкий круг их мира. Статьи «Декадентство» и «Символизм» тоже были непонятны, хотя имен там было много. Некоторые удавалось выследить. Четыре потрясения я помню на этом пути, четыре ощущения «неужели это возможно?!»: Брюсов, Белый (книжечка 1940 года с главой из «Первого свидания»), Северянин, Хлебников. Брюсова я до сих пор люблю вопреки моде, Северянина не люблю, Хлебников не вмещается ни в какую любовь, – но это уже неважно.
Моя мать прирабатывала перепечаткой на машинке. Для кого-то она вместо обычных технических рукописей перепечатывала Цветаеву – оригинал долго лежал у нее на столе. (Как я теперь понимаю, это был список невышедшего сборника 1940 года – бережно переплетенный в ужасающий синий шелк с вышитыми цветочками, как на диванных подушках.) Я его читал и перечитывал: сперва с удивлением и неприязнью, потом все больше привыкая и втягиваясь. Кто такая была Цветаева, я не знал, да и мать, быть может, не знала. Только теперь я понимаю, какая это была удача – прочитать стихи Цветаевой, а потом Мандельштама (по рыжей книжечке 1928 года), ничего не зная об авторах. Теперешние читатели сперва получают миф о Цветаевой, а потом уже – как необязательное приложение – ее стихи.
«Вратами своей учености» Ломоносов называл грамматику Смотрицкого, арифметику Магницкого и псалтирь Симеона Полоцкого. Врата нашей детской учености были разными и порой странными: кроссворды (драматург из 8 букв?), викторины с ответами (Фадеев – это «Разгром», а Федин – «Города и годы»), игра «Квартет», в которой нужно было набрать по четыре карточки с названиями четырех произведений одного автора. Для Достоевского это были «Идиот», «Бесы», «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные». Я так и остался при тайном чувстве, что это – главное, а «Братья Карамазовы» – так, сбоку припека. Мне повезло: школьные учебники истории я прочитал еще до школы с ее обязательным отвращением. В разделах мелким шрифтом там шла культура, иногда даже с портретами: Эсхил–Софокл–Еврипид, Вергилий–Гораций–Овидий, Данте–Петрарка–Боккаччо, Леонардо–Микеланджело–Рафаэль («воплотил чарующую красоту материнства», было сказано, чтобы не называть Мадонну). Рабле–Шекспир–Сервантес, Корнель–Расин–Мольер, Ли Бо и Ду Фу. Я запоминал эти имена как заклинания, через них шли пути к миру взрослых. Может быть, я не рвался бы так в этот мир, если бы мог довольствоваться тем, что сейчас называется детской и подростковой субкультурой; но по разным причинам я чувствовал себя в ней неуютно.
Мы жили в Замоскворечье; Третьяковка, только что из эвакуации, была в четверти часа ходьбы. Я ходил туда каждое воскресенье, знал имена, названия и залы наизусть. Но смотреть картины никто меня не учил – только школьные учебники с заданиями «расскажите, что вы видите на этой картинке». Теперь я понимаю, что даже от таких заданий можно было вести ученика к описательскому искусству Дидро и Фромантена. Потом, взрослым, теряясь в Эрмитаже, я сам давал себе задания в духе «Салонов» Дидро, но было поздно. Краски я воспринимал плохо, у меня сдвинуто цветовое зрение. Улавливать композицию было легче. В книгах о художниках среди расплывчатых эмоциональных фраз попадались беглые, но понятные мне слова: как построена картина, как сбегаются диагонали в композиционный центр или как передается движение. Я выклевывал эти зерна и старался свести обрывки узнанного во что-то связное. Иногда это удавалось. У меня уже были дети, у знакомых были дети, подруга-учительница привозила из провинции свой класс, я водил их по Третьяковке и Музею изобразительных искусств, стараясь говорить о том, что только что перестало быть непонятным мне самому. Меня останавливали: «Вы не экскурсовод?» – я отвечал: «Нет, это я со своими знакомыми». Кто-то запоздавший сказал, что старушка-смотрительница в суриковском зале отозвалась: «Хорошо говорил», – я вспоминаю об этом с гордостью. Теперь я забыл все, что знал.
Старый русский футурист Сергей Бобров, к которому я ходил десять лет, чтобы просветить меня, листал цветные альбомы швейцарской печати, время от времени восклицая «А как выписана эта деталька!» или «Какой кусок живописи!». Эти слова меня всегда пугали, они как бы подразумевали то тайное знание, до которого мне было еще так далеко. Из его бесед невозможно было вынести никаких зерен в амбар памяти, но когда я в позднем метро возвращался от него домой, то на все лица смотрел как будто промытыми глазами.
С музыкой было хуже. Я патологически глух, в конце музыкальной фразы не помню ее начала, ни одной вещи не могу отличить от другой (кроме «Болеро» Равеля). Только из такого состояния я мог задать Боброву отчаянный вопрос: а в чем, собственно, разница между Моцартом и Бетховеном? Бобров, подумав, сказал: «Помните, у Мольера мещанину во дворянстве объясняют, как писать любовные письма? Ну так вот, Моцарт пишет: „Ваши прекрасные глазки заставляют меня умирать от любви; от любви прекрасные ваши глазки умирать меня заставляют; заставляют глазки ваши прекрасные… “ и т. д. А Бетховен пишет: „Ваши прекрасные глазки заставляют меня умирать от любви – той любви, которая охватывает все мое существо, – охватывает так, что… “ и т. д.» Я подумал: если бы мне это сказали в семь лет, а не в двадцать семь, то мои отношения с музыкой, может быть, сложились бы иначе. Впрочем, когда я рассказал этот случай одной музыковедше, она сказала: «Может быть, лучше так: Моцарт едет вдаль в карете и посматривает то направо, то налево, а Бетховен уже приехал и разом окидывает взглядом весь проделанный путь». Я об этом к тому, что даже со слепыми и глухими можно говорить о красках и о звуках, нужно только найти язык.
Когда мне было десять лет и только что кончилась война, мать разбудила меня ночью и сказала: «Слушай: это по радио концерт Вилли Ферреро, „Полет валькирий“ Вагнера, всю войну у нас его не исполняли». Я ничего не запомнил, но, наверное, будить меня ночью тоже стоило бы чаще.
Книги о композиторах были еще более расплывчато-эмоциональны, чем книги о живописцах. Я пытался втащить себя в музыку без путеводителя и без руководителя: два сезона брал по два абонемента на концерты, слушал лучших исполнителей той пятидесятилетней давности. Но только один раз я почувствовал что-то, чего не чувствовал ни до, ни после: как будто что-то мгновенно просияло в сознании и словам не поддается. Играл Рихтер, поэтому никаких выводов отсюда не следует.
Слово, живопись в репродукциях, музыку на пластинках – их можно учиться воспринимать наедине с собой. Театр – нельзя. Я застенчив, в театральной толпе, блеске, шуме мне тяжело. Первым спектаклем, который я видел, были «Проделки Скапена»: ярко, гулко, вихрем, взлетом, стремительно, блистательно (у артистки фамилия Гиацинтова, разве такие в жизни бывают?) – я настолько чувствовал, что мне здесь не место, что, вернувшись домой, забился в угол и плакал весь вечер. Я так и не свыкся с театром: когда я видел незнакомую пьесу, то не поспевал понимать действие, когда знакомую – оказывалось, что я заранее так ясно представляю ее себе внутренне, что мне трудно переключиться на то, что сделал режиссер. Потом, когда меня спрашивали: «Почему вы не ходите в театры?» – я отвечал: «Быть театральным зрителем – это тоже профессия, и на нее мне не хватило сил».
То же и кино: действие идет быстро, если за чем-нибудь не уследишь – уже нельзя перевернуть несколько страниц назад, чтобы поправить память. Я жалею о своей невосприимчивости: мы росли в те годы, когда на экранах сплошь шли трофейные фильмы из Германии с измененными названиями и без имен: бросовая продукция пополам с мировой классикой. Если бы было кому подсказать, что есть что, можно было бы многому научиться. Но подсказать было некому. Был фильм «Сети шпионажа», из которого я на всю жизнь запомнил несколько случайных кадров – оказалось, что это «Гибралтар» самого Штрогейма. И был югославский фильм «Н-8» (я даже не знаю, «аш-восемь» или «эн-восемь»), ни в каких известных мне книжках не упоминавшийся, но почему-то врезавшийся в память так, что хочется сказать ему спасибо.
Чтобы стать профессиональным кинозрителем, нужно просматривать фильмы по несколько раз (а на это не у всякого есть время) или иметь в руках программку: сюжет такой-то, эпизоды такие-то, обратите внимание на такие-то кадры и приемы. Когда кино начиналось, это было делом обычным, а теперь против этого, наверное, будут протестовать так же, как протестуют против десятистраничных дайджестов мировой литературы. Я читал книги по кино, старался смотреть со смыслом: следить за сменой и длительностью кадров, за направлением движения. Это не приносило удовольствия. И сейчас в телевизоре я вижу просто смену картинок, где за любой может последовать любая другая, и героиня с равной вероятностью может вот сейчас и поцеловать героя, и ударить его. Никому не пожелаю такого удовольствия, но для меня оно не меньше, чем для гоголевского Петрушки.
По музеям, по книгам с репродукциями, по кино я шел с торопливой оглядкой: сейчас я не приготовлен, чтобы воспринять, чтобы понять эту вещь, – вот потом, когда будут время и возможности, то непременно… А так как на все вещи заведомо не хватит времени и возможностей, то сейчас главное – отделить большое от малого (в музеях часто – буквально, по размеру), важное от неважного, знаменитое от безвестного, и реже всего – понравившееся от непонравившегося. (Потому что чего стоит мое невежественное «понравилось»?) Разложить по полочкам, иерархизировать, структурировать, как говорят мои товарищи. А там – вникнуть, когда время будет. Что считается (как мне, по счастью, подсказали) знаменитым и общепризнанным, то я буду одолевать, не жалея усилий. И через несколько лет перечитывания (по каждому стиховедческому поводу) мне наконец понравится скучный Фет, а через несколько страниц внимательного французского вчитывания (без начала и конца, тоже по лингвистическому поводу) понравится хаотический Бальзак, а когда-то в невидимом будущем, может быть, понравится и удушающий Пруст.
Я уже филолог, словесность – моя специальность. И тут – парадокс! – я теряю право на всякое «нравится», на всякий голос вкуса. Я могу и должен описать, как построена вот эта поэма, из каких тонких элементов и каким сложным образом она организована, но мое личное отношение к ней я должен исключить. «Если для вас Эсхил дороже Манилия, вы – ненастоящий филолог», – говорил А. Э. Хаусмен, английский поэт и сам филолог, больше всего любивший Эсхила, но жизнь посвятивший именно всеми забытому Манилию. Если у меня перехватывает горло там, где у Овидия Икар начинает падать в море, то я должен сказать: вот они легко летят над морем и островами, и об этом сказано легкой и плавной стихотворной строчкой, а вот следующая, через запятую, «но вот мальчик начинает чересчур радоваться удачному полету», и она уже полна ритмических перебоев (как в авиамоторе), предвещающих близкую катастрофу. Если вы талантливый педагог, то ваши слушатели почувствуют то же, что и вы. Это трудно: красноречивейший Зелинский плакал перед студентами оттого, что не мог найти слов описать, чем прекрасна строка Горация. А ограничиться словами «это хорошо», «это прекрасно», «это гениально» он как профессионал не имел права. Как специалист я не имею права на восторг, как человек – конечно, имею: нужно только твердо знать, от чьего лица ты сейчас говоришь.
Такова справедливость. Мы выбираем себе специальность и в этой специальности поверяем алгеброй гармонию: ботаник объясняет строение цветка, геолог – горного кряжа, филолог – стихотворения, и никто из них не скажет о своем предмете «красиво», хотя каждый это чувствует (а если анализ мешает ему это чувствовать, то лучше ему выбрать другую специальность). Зато ботаник получает право спокойно и бездумно сказать «красиво» о горном кряже, а геолог – о стихотворении, а филолог – о картине, здании, спектакле или фильме. «Бездумно», то есть полагаясь на свой вкус. Некоторые думают, что вкус – это дар природы, одинаков у всех, а кто чувствует иначе, тот заблуждается. Другие думают, что вкус нам подсказывает (если хотите – навязывает) общество, а какими тонкими способами – мы и сами обычно не сознаем. Я тоже так считаю; поэтому я и решился рассказать здесь о том, как складывались мой вкус и мое безвкусие.
АНТИЧНОСТЬ
Выполняла ли Ваша углубленность в античность роль заслона от маразма советской (и, наверное, не только советской) действительности?
Из анкеты
Дети любят заумные слова, а потом взрослые их от этого отучивают. Мне удалось сохранить эту любовь почти до старости. До сих пор помню юмористический рассказ про индейца, которого звали Угобичибугочибипаупаукиписвискививичинбул, что будто бы значило «маленькая ящерица, сидящая на сухом дереве, с хвостом, свешивающимся до земли». (Так Крученых приводил на пушкинскую заумь примеры из «Джона Теннера».) Я полюбил историю и географию, потому что в них было много заумных имен и названий. В географии – главным образом в экзотических странах. В истории – главным образом в древности и в средние века. Мне повезло прочитать школьные, а потом университетские учебники раньше, чем по ним пришлось учиться, и они звучали как музыка. Но лишь пока не начиналась история нового времени: в ней почему-то имена исчезали, а оставались сословия, классы и партии. Поэтому древность была интереснее. Мне еще раз повезло: в доме у моего товарища было много книг античных авторов в русских переводах, и к концу школы я успел их прочесть и полюбить. Когда я кончал школу, то твердо знал, что хочу изучать античность: в нее можно было спрятаться от современности. Я только колебался, идти ли мне на исторический факультет или на филологический. Я пошел на филологический, рассудив: на филологическом легче научиться истории, чем на историческом – филологии. Оказалось, что я рассудил правильно.
В 1952 году классическое отделение было немодным, на него загоняли насильно: собирались вводить латынь в школах, и для этого надо было готовить учителей. Не сдавшим на русское отделение предлагали забирать документы или зачисляться на классическое. Добровольно поступивших было двое из двадцати пяти. На третьем курсе, когда стало ясно, что латыни в школах не будет, желающим предложили перевестись на русское. Ушла только половина, двенадцать человек остались на классическом, хоть и понимали, что найти работу будет трудно. Это значит, что у нас были хорошие учителя: приохотили. О себе я знал, что античность мне интересна и что я буду ею заниматься даже назависимо от будущей службы; но мне повезло: из‐за заикания я не был послан в школьные учителя, а из‐за молвы о моей старательности был принят в античный сектор ИМЛИ.
О наших университетских преподавателях: А. Н. Попове, К. Ф. Мейере, С. И. Радциге – я уже писал. Думаю, с нами им было скучно: знали мы после университета немногим больше, чем дореволюционные гимназисты, какой тут интерес. Но любовь к своему предмету в них была, прорывалась и иногда заражала.
Но учился я все же в основном по книгам. Недавно один поэт быстро спросил меня: «У кого учились?» – имея в виду, конечно, не только классическую филологию. «У книг», – ответил я. «А-а, подкидыш!» – воскликнул он с видимой радостью. Я согласился.
Я рано понял, что литературоведение мне интереснее лингвистики, а латинская литература интереснее греческой, и сосредоточился только на ней. Это потому, что у меня нет способности к языкам, и латинский язык мне давался легче, чем греческий, – как и всякому. Старый А. И. Доватур говорил: латинский язык выучить можно, а греческий нельзя, потому что это не один язык, а много: в разных жанрах, диалектах, эпохах и т. д. По-латыни я рано стал сверх университетских заданий читать неурочные тексты, а по-гречески это не получалось. По-латыни научился читать без словаря, по-гречески – только со словарем. (Однажды Р. Д. Тименчик попросил меня перевести записку А. Волынского к И. Анненскому на греческом языке: они побранились в редакции «Аполлона», и на следующий день Волынский написал Анненскому, что просит прощения за сказанное, однако все-таки лучше бы Анненский сидел со своим Еврипидом и не вмешивался в современное искусство. Лишь переведя до конца, я понял, что переводил не с древнегреческого, а с новогреческой кафаревусы, видимо Волынский научился ей в Константинополе и на Афоне.) Потом я много переводил и с латинского, и с греческого, но с греческого – всегда неуверенно и всегда сверяясь с английским или французским параллельным переводом. Когда кончал большой греческий перевод, то с удовольствием чувствовал: ну, на этой работе я наконец-то выучил язык. Но проходило несколько месяцев, усвоенное выветривалось, и за новый перевод я опять брался как будто от нуля. С латинским языком этого не было.
Страшно подумать, первую работу на втором курсе я написал, выражаясь по-нынешнему, о структурных аналогиях комедий Аристофана и «Мистерии-буфф» Маяковского – зная Аристофана, разумеется, только по переводам. Потом, опамятовавшись, я занялся выискиванием политических намеков в литературных сатирах и посланиях Горация: это советская филология приучила нас к тому, что главное в литературе – это общественная борьба. Попутно я разобрал композицию этих стихотворений и на всю жизнь усвоил, что нет такого хаоса, в котором при желании нельзя было бы выследить блистательный порядок. Этими разборами я и стал потом заниматься; посторонние называли это структурализмом. Видимо, это детскую страсть к заумным звукам (поллой мен лектой, олигой д’эклектой! – званый, но не избранный, это я) я отрабатывал сочинением сухих всеохватных композиционных схем.
Если делить классическую филологию XX века на этапы, то этапов будет три: дореволюционное существование, послереволюционное несуществование и последующее восстановление, а в нем уже свои этапы, о которых судить не решаюсь. Была ли московская школа классической филологии? Там лучше, где нас нет: из Москвы кажется, что в Ленинграде была школа, значит, по контрасту можно говорить и о московской. Но, наверное, если у них есть специфика, то это слабые следы дореволюционного времени, уже простывшие. Об индивидуальностях говорить проще: в Ленинграде был Зайцев, а в Москве Аверинцев. Но это еще не школы.
После университета я больше тридцати лет служил в Институте мировой литературы, в античном секторе, десять лет был заведующим. С самого начала здесь были С. И. Соболевский, Ф. А. Петровский и М. Е. Грабарь-Пассек. Про Соболевского я уже рассказывал.
Петровский, седой и щеголеватый («белоподкладочник», говорила Грабарь), гордился, что учился в одной гимназии с шахматистом Алехиным и выигрывал в теннис у Пастернака. Из университета в ИМЛИ его выжил Дератани. Он был талантлив и ленив: «Какое счастье, что его сослали в Архангельск, без этого он никогда бы не перевел Лукреция», – говорила Грабарь. Над дачным столом у него висела надпись: «Главное в научной работе – это борьба с нежеланием работать. – И. П. Павлов». Когда нужно было составлять себе планы на очередной год, он говорил: «Когда Акакия Акакиевича хотели повысить, он говорил: „Нет, мне лучше что-нибудь переписать“; вот так и мне: лучше бы что-нибудь перевести». Свои последние переводы, «Об ораторе» и «Фасты», он давал мне на редактирование, оно получалось очень густым; это много мне дало.
Грабарь-Пассек – большая, колоколообразная, с лицом доброй львицы – была единственная среди старших, кто чувствовала, что наука – это не только то, чему обучали в гимназиях. На Высших женских курсах она писала диплом по Канту, а при советской власти сдавала экзамены по истмату. Шесть раз ее увольняли за дворянское происхождение. Первый свой доклад по античности в ГАХН она делала о строении гексаметра у Феокрита; жалела, что не пришлось напечатать. «Как преподавал Михаил Михайлович Покровский! Как будто сам с Цицероном чай пил!» – восхищалась она. Это Мария Евгеньевна подталкивала сектор заниматься позднеантичной, а потом средневековой латинской литературой: потому что этих поздних писателей никто не знал и не уважал. Это называлось «довести Трифиодора до широкого советского читателя». При всей шутливости, здесь сказывались два качества ее натуры: демократизм и доброта. Демократизм – в сознании, что мировую культуру делают не только великие, но и рядовые, из которых, не противопоставляясь, вырастают те Цицерон и Пиндар, которых она очень любила и ценила. А доброта – в том, что если кто-то забыт и обделен вниманием высокомерных историков, то за него надо заступиться и о нем позаботиться. К истории она вообще подходила очень трезво: когда мы переводили поздних латинских авторов, она говорила: «Почему таким светопреставлением воображают взятие Рима варварами? Рим был каменный, горел плохо, дома разбивать было некогда. Эти варвары могли только взять и унести что плохо лежит: это мы в Гражданскую войну видели».
Но главной, задушевной любовью ее была все-таки не античная, а немецкая литература – и тоже вплоть до таких невеликих любимцев, как Арно Хольц и Цезарь Фляйшлин, которых сейчас не помнят и очень образованные немцы.
Всего в секторе нас было десять человек, мы писали коллективные труды, потому что монографии не поощрялись: в монографию легче проскользнуть чему-нибудь оригинальному и нестандартному. «Коллективный труд» – это значит: мучительно придумывалась общая тема, потом каждый писал о ней на привычном ему материале, а тот материал, с которым никому не хотелось связываться, приходилось брать мне. Книга по античной литературе без упоминания о греческой трагедии выглядела бы неприлично – пришлось написать о сюжетосложении трагедии, которой я никогда не занимался (разумеется, перечитав 33 трагедии больше по переводам, чем по подлинникам). Жаль, что не случилось так же написать о сюжетосложении комедии – это было бы интереснее. У В. Шкловского есть книжка случайных статей «Поденщина», где он пишет, что время умнее нас, и поденщина, которую нам заказывают, бывает важнее, чем шедевры, о которых мы мечтаем. Я тоже так думаю.
Соболевский подбирал младших сотрудников по твердому критерию: чтобы не склочники. Это удавалось: весь институт завидовал нашему сектору. Но моральные добродетели не всегда совпадают с интеллектуальными, научных достижений у сектора было немного. В коллективных трудах каждый писал о том, о чем когда-то защищал диссертацию, а когда обнаруживались тематические провалы, их приходилось кое-как затыкать мне. А чтобы рухнуло и моральное единство, достаточно оказалось принять одного только человека не по критерию Соболевского. («Кажется, мы с вами, Миша, были последними, кого принимали не по звонку сверху», – сказал Аверинцев.) Идеологического давления было мало, сектор периферийный, держали его, потому что как-то неприлично без античности. Зато когда понадобилось устроить нам проработку за религиозную тематику в «Памятниках средневековой латинской литературы», ее провели по полной программе.
Я не преподаватель: заикаюсь, не умею импровизировать, не чувствую контакта со слушателями. «Вы на кафедре – как под стеклянным колпаком», – сказала мне коллега. Вместо преподавания я старался служить просвещению переводами. Как выбирались переводы? Как и темы в секторских трудах: я заполнял пробелы, переводил непереведенное, переводить по второму разу уже переведенное было бы роскошью. Для кого предназначались переводы? Для грамотного неспециалиста («для культурного инженера», говорили при советской власти; я сам себя чувствовал таким культурным инженером, поэтому что-то получалось): я и просветительские комментарии пробовал делать по-новому, именно для такого читателя, и старался привить это в «Литпамятниках» и в худлитовской «Библиотеке античной литературы». Переводя, читаешь текст внимательнее всего: переводы научили меня античности больше, чем что-нибудь иное. Интереснее всего было переводить тех, с кем я меньше всего чувствовал внутреннего сходства, – оды Пиндара, «Науку любви» Овидия: это как будто расширяло душевный опыт. Я нашел в архивах много неизданных переводов из античной (и не только античной) литературы: в РГАЛИ лежат переводы А. Пиотровского из Еврипида, в РГБ, как мне сказали, – незаконченный перевод Фета из Лукреция («Какой прекрасный поэт, жаль, что материалист», – писал Фет) – и хотел наладить публикацию этих переводов силами нашего сектора, но, к сожалению, не успел.
При переводах были научно-популярные вступительные статьи и комментарии. Я рос на античных переводах со статьями и комментариями Ф. Ф. Зелинского и старался отрабатывать то удовольствие, которое когда-то получил от них. «А я с Зелинским сидел рядом в варшавском бомбоубежище в 1939 году, – сказал Ю. Г. Кон из Петрозаводской консерватории. – Он тряс седой головой, смотрел сумасшедшими глазами и прижимал к груди рукописи». (Кон, один из самых светлых людей и умных собеседников, каких я встречал, был официально признанным покойником. В 1939‐м он ушел от немцев пешком на восток, в 1941‐м его с остальными «польскими шпионами» повезли в Сибирь; он был в таком виде, что для облегчения эшелона его на каком-то полустанке записали покойником и выгрузили, но он чудом отлежался, дошел до Ташкента, там доучился, стал преподавать, а потом перебрался в Петрозаводск.)
Я хорошо помню, как я рос, какие книги читал, чего мне не хватало, и я старался дать новым читателям именно то, чего недоставало мне. Разумеется, статьи мои были компилятивные: чтобы донести до русского читателя как можно больше из того, до чего додумалась западная филология насчет Горация или Вергилия. Тот же Зелинский когда-то написал про позднюю античность: «В предчувствии наступающих темных веков она словно торопилась упаковать самое необходимое свое добро в удобосохраняемые компендии, вроде Марциана Капеллы или Исидора Севильского». Точно так же и я старался покрепче логически связать обрывки прочитанного и потуже их умять в полтора листа вступительной статьи к очередному античному автору. Потом иногда с удивлением приходилось слышать: «Какие у вас оригинальные мысли!» Вероятно, они появлялись сами собой от переупаковки чужого.
Комментарии тоже были компилятивные, «импортные» – я выпустил больше десятка комментариев к своим и чужим переводам, и в них была только одна моя собственная находка (к «Ибису» Овидия, про смерть Неоптолема). Для комментариев пришлось вырабатывать новые формы. Сто лет назад комментарии были рассчитаны на читателя, который после школы сохранял смутное общее представление об античной истории и культуре, и нужно было только подсказывать ему отдельные полузабытые частности. Теперь, наоборот, читатель обычно знает частности (кто такой Сократ, кто такая Венера), но ни в какую систему они в его голове не складываются. Стало быть, главное в современном комментарии – не построчные примечания к отдельным именам, а общая преамбула о сочинении в целом и о той культуре, в которую оно вписывается. Постепенно стало удаваться продвигать их в печать именно так; впервые, пожалуй, – в комментарии Е. Г. Рабинович к трагедиям Сенеки в «Литературных памятниках».
Не обходилось без сопротивления. Комментируя Овидия, я перед примечаниями к каждой элегии написал, как спокон века писалось при комментариях к латинскому подлиннику: обращение (стихи такие-то), описание своих забот (такие-то), отступление с мифом о Медее (такие-то) и т. д. Редактор (а это был лучший редактор над «Литпамятниками» за тридцать лет) возмутился: «Это неуважение к читателю: может быть, вы и к „Погасло дневное светило“ будете составлять такое оглавление?» Я подумал: а почему бы нет? – но, конечно, пришлось уступить, а сведения об овидиевской композиции вводить в комментарий обходными маневрами. Бывают эпохи, когда комментарий – самое надежное просветительское средство. Так Кантемир снабжал свои переводы Горация (а Тредиаковский – Роллена) примечаниями к каждому слову, из которых складывалась целая подстраничная энциклопедия римской литературы и жизни.
Комментарий хорош, когда написан просто. Мне помогало прямолинейное мышление – от природы и от советской школы. Однажды шла речь о том, что античная культура была более устной, чем наша: читали только вслух, больше запоминали наизусть, чтили красноречие и т. д. Я сказал: «Это оттого, что античные свитки нужно было держать двумя руками, так что нельзя было делать выписки и приходилось брать памятью». С. С. Аверинцев очень хорошо ко мне относился, но тут и он взволновался: «Нельзя же так упрощенно, есть же ведь такая вещь, как Zeitgeist». Наверное, есть, но мне она доступна лишь через материалистический черный ход. Однажды я говорил студентам, как от изобретения второй рукояти на круглом щите родилась пешая фаланга, а от нее греческая демократия; а от изобретения стремени – тяжеловооруженная конница и от нее феодализм. Я получил записку: «И вам не стыдно предлагать такие примитивно-марксистские объяснения?» Я сказал, что это домыслы как раз буржуазных ученых, марксисты же, хоть и клялись материальной культурой и средствами производства, представляли их себе очень смутно. Кажется, мне не поверили.
В разговоре с маленькими упрощение позволительней. Я написал детскую книжку «Занимательная Греция». У Мольера педант говорит: «Я предпринял великое дело: переложить всю римскую историю в мадригалы»; а я – всю греческую историю в анекдоты. (О технике греческого анекдота я всю жизнь мечтал написать исследование, но написал только две страницы – в преамбуле к одному комментарию.) Писал я для среднего школьного возраста, знающего о Греции ровно столько, сколько написано в учебнике Коровкина; потом прочитал несколько глав перед студентами – им оказалось интересно; потом перед повышающими уровень преподавателями – им тоже оказалось интересно. Философы говорили: «Все очень хорошо, но про философию, конечно, слабее»; искусствоведы говорили: «Все очень хорошо, но про искусство, конечно, слабее»; я заключил, что вышло как раз то, что нужно. Может быть, поэтому, а может быть, почему другому книжка прождала издания двадцать лет. Я думаю, что это самое полезное, что я сделал по части античности.
Античность не для одного меня была щелью, чтобы спрятаться от современности. Я был временно исполняющим обязанности филолога-классика в узком промежутке между теми, кто нас учил, и теми, кто пришел очень скоро после нас. Я постарался сделать эту щель попросторнее и покомфортнее и пошел искать себе другую щель.
СТИХОВЕДЕНИЕ
Что дает «поэтическая наука» стиху? Помогает ли Вам изучение поэзии лучше понимать и чувствовать стихи?
Из анкеты
Меня спросили: зачем мне понадобилось кроме античности заниматься стиховедением. Я ответил: «У меня на стенке висит детская картинка: берег речки, мишка с восторгом удит рыбу из речки и бросает в ведерко, а за его спиной зайчик с таким же восторгом удит рыбу из этого мишкиного ведерка. Античностью я занимаюсь, как этот заяц, – с материалом, уже исследованным и переисследованным нашими предшественниками. А стиховедением, как мишка, – с материалом нетронутым, где все нужно самому отыскивать и обсчитывать с самого начала. Интересно и то, и другое».
В эвакуации, где было нечего читать, случился номер журнала «Костер» (кажется, № 1 за 1938 год), а в нем две страницы литконсультаций юным авторам – по некоторым признакам, Л. Успенского. Одна страница – по прозе; там цитировался самый гениальный зачин, какой я знаю: рассказ назывался «Сын фельдшера», а первые фразы были: «Отец сына был фельдшер. А сын отца был сын фельдшера». Другая – по поэзии: там объяснялось, что одно и то же четверостишие можно написать ямбом, хореем, дактилем, анапестом и амфибрахием: «Вот утро раннее настало», «Утро раннее настало», «Раннее утро настало», «Вот и раннее утро настало», «Вот раннее утро настало». Загадочные слова «ямб» и «хорей» я уже встречал в «Евгении Онегине» и был заинтересован. Когда мы вернулись в Москву и мать устроилась в Радиокомитет, я попросил из библиотеки что-нибудь по стихосложению. Она принесла две книжки: С. Бобров, «Новое о стихосложении Пушкина», 1915, и Б. Ярхо (и др.), «Метрический справочник к стихотворениям Пушкина», 1934 (хорошая библиотека была в Радиокомитете!). У Боброва поминались еще более загадочные «корзины», «крыши» и «прямоугольники», в «Справочнике» были сплошные таблицы с цифрами, а у меня с арифметикой всегда не ладилось. Мне было десять лет, я ничего не понял, но не испугался, и это, видимо, решило мою судьбу.
Потом русский писатель Алексей Югов, которому моя мать перепечатывала рукописи («Ахилл был скиф…»), подарил мне за ненадобностью книгу Белого «Ритм как диалектика»; после этого мне уже ничего не было страшно. Я отыскал среди 300 непонятных страниц три понятные и стал на уроках химии самостоятельно высчитывать кривые ритмической композиции. Потом откуда-то появились «О стихе» Томашевского и «Трактат» Шенгели, и таким же образом, обезьянничая, с десятого перечитывания я научился и их методикам. Только таким подражательством я и учился всю жизнь. Университет ничего мне не прибавил – даже Бонди.
С. М. Бонди по начавшейся оттепели возобновил тогда курс по стихосложению. На лекции о сложном дольнике он для иллюстрации прочитал «Гайдука Хризича» из «Песен западных славян» – как обычно, с замечательной четкостью выделяя голосом каждый ритмический ход. Потом вдруг, неожиданно присев по-охотничьи: «А я вот с уверенностью скажу: никто! из вас! этого стихотворения! ведь не читал! – Правильно?» Я съежился: можно ли так оскорбительно думать о русистах третьего-четвертого курса? И тут вся круглая аудитория со всех сторон радостно грянула: «Правильно! не читали!» Я съежился еще больше – и промолчал.
К подсчетам и графикам Бонди относился со сдержанной неприязнью: зачем столько считать, когда и так слышно? Ему казалось, что подсчеты не помогают, а мешают слуху, чтобы ввести нас в заблуждение. Потом он однажды рассказывал: «Андрей Белый делал доклад о ритме и смысле в „Медном всаднике“ – критиковали его очень сильно. Возвращаемся после заседания, он не может успокоиться: „Пусть я бездарен, но метод мой – гениален!“ —„Да нет, – говорю я ему, – это вы, Борис Николаевич, гениальны, а метод ваш бездарен“».
О монографии К. Тарановского, просчитавшего 300 000 строк ямбов и хореев в подкрепление той теории ритма, которую принимал и сам Бонди, он говорил уважительно, но с недоумением в голосе: стоило ли?.. Я услышал о ней впервые и с трудом отыскал ее по-сербски в Ленинке. Было очень завидно – не таланту автора, это уж от Бога, а трудолюбию: просчитал больше, чем Томашевский и Шенгели вместе взятые! Захотелось сделать что-нибудь похожее, хотя бы количественно; я стал подсчитывать 3-иктные дольники от Блока до Игоря Кобзева и удивился, какие сами собой получаются складные результаты. Когда удалось напечатать первые работы, я отважился послать их Тарановскому, завязалась переписка.
В начале 1970‐х Тарановский в первый раз, еще туристом, должен был приехать в СССР. Перед этим меня вызвали в гостиницу «Москва». Незнакомый человек в штатском не терпящим возражений голосом предупредил: «Вы будете с ним встречаться – извольте потом представить сведения о нем и его поведении». Я представил большой панегирик и его учености, и его лояльности – копия у меня сохранилась. Больше меня не вербовали, но панегирик, видимо, учли: в следующий раз он приехал уже на полгода по научному обмену, мы разговаривали каждую неделю, и он намекал, осторожно и усмешливо, что знает об этом моем произведении. Но в эти годы он уже занимался не ритмикой, а семантикой стиха – только что вышла его книга о контекстах и подтекстах у Мандельштама. Потом я стал подражать ему и в этой области – но это уже к стиховедению не относится.
С арифметикой отношения у меня так и не наладились. («Сколько будет один да один да один да один да один?» – «Как?» – спросила Алиса. «Она не знает сложения!» – объявила Королева.) Я начинал считать ударения на деревянных конторских счетах, потом перешел на железный арифмометр с крутящейся, как у мясорубки, ручкой, потом на портативный калькулятор. Но лучший прибор для одновременного счета нескольких предметов, сказали мне, – это медицинская машинка для подсчета кровяных телец в поле зрения микроскопа, а такой у меня не было. В таблицах сумма по столбцам и сумма по строкам никак не хотели сходиться; какими хитростями я их одолевал – не буду об этом рассказывать. Доверительные интервалы надежности результатов я (как и мои предшественники и сверстники) подсчитывал очень редко, здесь потомки еще сделают охлаждающие оговорки к нашим открытиям. Впрочем, таблицы с цифрами мало кто читает: в моей книге «Современный русский стих» (1974, с. 337) неправильно суммированы подсчеты по тактовику Блока и поэтому неправильны все выводы из них, но за тридцать лет никто этого не заметил.
Меня много раз спрашивали, не убивают ли подсчеты алгеброй гармонию, не мешают ли они непосредственному наслаждению поэзией. Я отвечал: нет, помогают. Неправильно думать (как Бонди), будто все и так слышно: многие мелочи, из которых складывается гармония, лежат ниже уровня сознания и непосредственно слухом не отмечаются; только когда нащупаешь их подсчетами, начинаешь их замечать. (Нащупывать приходится путем проб и ошибок; сколько на этом пути сделано трудоемких подсчетов, оказавшихся излишними, – не счесть.) Кроме того, подсчеты требуют медленного чтения и перечитывания стихов, а это полезно.
Мне не случилось в молодости полюбить стихи Фета – так уж сложились обстоятельства, я лучше знал пародии на Фета, чем самого Фета. А я знал, что Фет заслуживает любви. И вот я стал каждую свою стиховедческую тему разрабатывать сперва на стихах Фета. Ритм словоразделов, связи слов в стихе, расположение фраз в строфе – что бы это ни было, я сперва смотрел и подсчитывал, как это получается у Фета, а потом уже – у других поэтов. С каждым перечитыванием стихи все глубже западали в подсознание. И после десяти или двадцати таких упражнений внимания я почувствовал, что научился любить Фета.
Я хорошо понимаю, что это черта личная: другим (и многим) анализировать поэзию, поверять алгеброй гармонию значит убивать художественное наслаждение от нее. Ничего плохого в таком отношении нет, просто это значит, что такому человеку противопоказано заниматься филологией, как близорукому водить машину. Ведь филолог – это не тот, кто, читая стихотворение, чувствует что-то особенное, как никто другой; он чувствует то же, что и всякий, только, в отличие от всякого, он дает себе отчет в том, почему он это чувствует: «вот это место для меня выделяется потому, что здесь необычный словесный оборот, а вот это потому, что в нем аллитерация» и т. д. Дальше он спрашивает себя, почему этот оборот кажется ему необычным, а это сочетание звуков – аллитерацией, и тут уже начинается научная работа, с сопоставлениями, подсчетами и всем прочим.
Красота с детства пугала меня, на нее было больно смотреть, как на солнце. («Красота страшна, – вам скажут…») Я до сих пор не могу отличить красивого лица или пейзажа от некрасивого – боюсь об этом думать. Моим детям над книгами с картинками я говорил: «Такое лицо считается (или считалось) красивым». В музеях, под толстыми стеклами, красота казалась укрощенной и уже не такой опасной – как звери в клетках. Разбирать, как устроены стихи – ритм, стиль, образы и мотивы, – означало исследовать повадки и обычаи красоты: дознаваться, с какой стороны она может неожиданно на тебя напасть и подмять под себя. Поэтому же было приятно умножать материал, рядом с Пушкиным подсчитывать Дельвига, а рядом с Блоком – Игоря Кобзева: это было демократичнее, гений не противопоставлялся детям ничтожным мира, а вырастал из них и опирался на них. Здесь работало и тщеславие: если я изучаю третьестепенных поэтов, то, может быть, кто-нибудь когда-нибудь будет вот так же изучать и третьестепенных литературоведов.
Сейчас я занимаюсь не столько ритмом, сколько синтаксисом стиха: выявлением ритмо-синтаксических и рифмо-синтаксических клише. Когда я нахожу в такой-то ритмической форме у Пушкина вереницу строк «Его тоскующую лень», «Ее рассеянную лень», «Вдался в задумчивую лень», «Сойду в таинственную сень», «Лесов таинственная сень», «Она в оставленную сень», «Едва рождающийся день», «Его страдальческая тень», «Его развенчанную тень», а потом у Блока «Твоя развенчанная тень», а потом у Ахматовой «Твоя страдальческая тень», то я радуюсь, потому что это значит: стихи поэту диктует не откровение, мне недоступное, а привычка, которую я могу проследить и понять. Меня спрашивают: «Вам не жалко лишать поэзию ее тайн?» Я отвечаю: нет, потому что тайн в поэзии бесконечно много – хватит на всех. Если угодно красивое сравнение, то поэт – это конкистадор, а стиховед – колонист: он осваивает, осмысляет завоеванное пространство и этим побуждает поэта двигаться дальше, на новые поиски.
Зачем вообще нужна поэзия – только ли ради тайн красоты? В каждой культуре есть некоторое количество текстов повышенной важности, рассчитанных на запоминание и повторение. Чтобы лучше запомниться, они складывались не в произвольной, а в скованной форме: с ритмом, рифмой, параллелизмом, аллитерациями и проч. Ритм или аллитерация помогали припомнить случайно забытое слово. Язык в скованных формах должен был изворачиваться, напрягать все свои запасные силы (как при гимнастике), использовать необычные слова и обороты. А все необычное поражает наше внимание, в том числе и эстетическое: заставляет задумываться, красиво это или некрасиво. Таким образом, первая человеческая потребность, на которую отвечает поэзия, – это потребность ощутить себя носителем своей культуры, товарищем других ее носителей. Грубо говоря, русская культура – это сообщество людей, читавших Пушкина или хотя бы слышавших о нем. (Когда после поэзии родилась художественная проза, то стало возможным вместо Пушкина подставить имена Толстого и Достоевского; но пока проза не полностью вытеснила поэзию, привилегированный статус стихотворных строк все еще сохраняется, и мы чувствуем, что Надсон хоть в какой-то мелочи, а выше Толстого.) И только вторая потребность, на которую отвечает поэзия, – эстетическая, потребность выделить из окружающего мира что-то красивое и радоваться этому красивому. При этом критерии красивого различны – исторически, социально, индивидуально; поэтому и эту вторую потребность можно свести к первой: когда я люблю Блока или Высоцкого, этим я себя приписываю к субкультуре тех моих современников, вкус которых предпочитает первого или предпочитает второго. Вкус может сплачивать (и раскалывать) общество не меньше, чем, например, вера.
А может быть, можно сказать проще: я люблю стихи, они приносили и приносят мне радость, и я чувствую нравственную обязанность в благодарность перед поэзией отработать эту радость. Я ученый, аналитик и делаю это как умею: разымаю поэзию на части и жонглирую ее элементами и структурами. Как «жонглер Богоматери».
При советской власти стиховедение всегда было под подозрением в формализме: нельзя разымать произведение, как труп, нельзя изучать стих в отрыве от темы и идеи. В учебниках о нем упоминалось только потому, что Л. И. Тимофеев (когда-то аспирант Б. И. Ярхо, сам начинавший с толковых подсчетов) придумал защитную формулу: идеи реализуются в характерах, характеры в интонациях, а стих есть типизированная форма эмоциональной интонации. Первой книгой о стихе после двадцати мертвых лет были «Очерки теории и истории русского стиха» Тимофеева 1958 года. Я написал на нее рецензию с критическими замечаниями и пошел показать их Тимофееву: больной, тяжелый, на костылях, он когда-то читал нам на первом курсе теорию литературы. Он сказал: «С замечаниями я не согласен, но если в журнале будут спрашивать, скажите, что поддерживаю». По молодости мне показалось это естественным, лишь позже я понял, что так поступил бы далеко не всякий. Потом он был редактором двух моих книг, очень несогласных с ним, но не изменил в них ни единого слова. Свою предсмертную книгу он подарил мне с надписью из его любимого Блока: «Враждебные на всех путях (Быть может, кроме самых тайных)»…
Тимофеев начал собирать в Институте мировой литературы группу стиховедов – сперва это были ветераны: С. П. Бобров, А. П. Квятковский, М. П. Штокмар, В. А. Никонов, которых слушали несколько молодых людей, потом это превратилось в ежегодные конференции, куда приезжали П. А. Руднев, В. С. Баевский, К. Д. Вишневский, А. Л. Жовтис, М. А. Красноперова и другие – те, чьими трудами русское стиховедение было сдвинуто с мертвой точки двадцатилетнего затишья. Эти «тимофеевские чтения» продолжались много лет и после смерти Тимофеева. Программный доклад о том, что в стиховедении правильно и что неправильно, каждый раз делал Б. Гончаров, мой однокурсник, верный ученик Тимофеева, потом я и другие делали доклады, по большей части несогласные с этим. В чем было несогласие? Мы представляли литературное произведение как федерацию, в которой, кроме общих законов, на каждом уровне строения были свои внутренние законы: в образах и мотивах, в стиле, в стихе: эти-то внутренние законы стиха и подлежали изучению. А Гончаров вслед за Тимофеевым представлял произведение как централизованную цельность, в которой каждый малый сдвиг на командном идейном уровне порождал сдвиги на всех остальных уровнях (сегодня бы это назвали «властная вертикаль»), так что выделять стих как предмет изучения вообще было нельзя, и непонятно было, зачем же мы собираемся. Так и шло.
Самая полезная моя книга называется «Очерк истории русского стиха», вышедшая в 1984 году. У меня мелкий почерк, заметки по этой теме я делал на полях старой книги Г. Шенгели «Техника стиха»; из маргиналий к одной странице Шенгели иногда получалась целая статья. Служил я в античном секторе ИМЛИ, заниматься стиховедением приходилось урывками. Самым трудным было уместить огромный материал в 18 листов – больший объем для монографий не разрешался. Я посчитал, сколько печатных знаков придется на каждый из 150 параграфов, взял тетрадь в клетку и на 150 разворотах вычертил рамку, в которую должно было уместиться ровно столько знаков – по три буквы в клеточке. Так, вписываясь в эту рамку, я и сделал книгу: вот польза от ограничений и самоограничений, без них текст расплылся бы и ничего бы не вышло. Большие и малые поэты выстраивались плечом к плечу и не мешали друг другу. Времена были строгие, эмигрантов поминать не разрешалось (десятью годами раньше еще было можно), вместо «у Ходасевича» приходилось писать «у одного поэта», а о поэтах самиздата я и сам ничего не знал.
Через 15 лет книгу собрались переиздавать. Все переменилось, главными в ХX веке стали считаться именно эмигранты и бывшие самиздатцы, а официозные поэты советского силлабо-тонического истеблишмента превратились как бы в пустое место. Но я не стал ничего менять – только добавил эпилог «Стих как зеркало постсоветской культуры». Отделять хорошие стихи от плохих – это не дело науки; а отделять более исторически значимые от менее значимых и устанавливать сложные связи между ними – для этого еще «не настала история», как выражался Козьма Прутков. В каждой исторической эпохе сосуществуют пережитки прошлого и зачатки будущего; разделить их с уверенностью можно, только глядя из будущего. Я на это не решаюсь – мне больше по плечу роль того мертвого, которому предоставлено хоронить своих мертвецов. Пусть это расчистит поле для работы будущих стиховедов.
ПЕРЕВОДЫ
Почему я не пишу оригинальных сочинений? Вероятно, потому, что рассуждаю как тетушка у Булгакова: «А зачем он написал пьесу? разве мало написано? век играй, не переиграешь».
Из анкеты
Я филолог-классик, переводить мне приходилось почти исключительно греческих и латинских поэтов и прозаиков. По традиции этими переводами занимаются только филологи, всеядным переводчикам такая малодоходная область неинтересна. Так называемые большие поэты в нашем веке тоже обходят ее стороной. Есть исключения: для одной книжки избранных стихов Горация фанатичный Я. Голосовкер заставил перевести по несколько стихотворений не только И. Сельвинского, но и Б. Пастернака. Переводы получились хорошие, но нимало не выбивающиеся из той же традиции, заданной стилем переводчиков-филологов. Любопытно, что в другой не менее специальной области – в переводах из арабской и персидской классической поэзии – положение иное: там большинство переводов делается (или, во всяком случае, делалось) приглашенными переводчиками-поэтами, работавшими с подстрочника, без филологической подготовки. Вероятно, в такой системе были и плюсы, но требования к точности стихотворного перевода на восточном материале заметно ниже, чем на античном. Наверное, это значило, что Восток, даже классический, был актуальнее для советской культуры, чем античность. Об этом я слышал и от ориенталистов, и от мастера, много переводившего как с античных подлинников, так и с восточных подстрочников, – от С. В. Шервинского.
Часто говорят: «переводчик должен переводить так, чтобы читатели воспринимали его перевод так же, как современники подлинника воспринимали подлинник». Нужно иметь очень много самоуверенности, чтобы воображать, будто мы можем представить себе ощущения современников подлинника, и еще больше – чтобы вообразить, будто мы можем вызвать их у своих читателей. Современники Эсхила воспринимали его стихи только со сцены, с песней и пляской, – этого мы не передадим никаким переводом.
Кроме привычки к точности, переводчик-филолог знает лучше других – или, по крайней мере, должен знать – еще одно правило, на этот раз – противодействующее точности. Его сформулировал в начале XX века бог классической филологии У. Виламовиц-Мёллендорф: «Не бывает переводов просто с языка на язык – бывают переводы только со стиля на стиль». Тот, кому кажется, что он переводит без стиля, просто честно и точно, – все равно переводит на стиль, только обычно на плохой, расхожий, казенный. Виламовиц предлагает в доказательство блестящий эксперимент, который был по силам только ему. Как перевести древнегреческими стихами «Горные вершины…» Гете? Язык – мертвый; как ни вырабатывай на нем новый стиль, он все равно получится мертвый. Значит, нужно выбирать готовый стиль из имеющегося запаса. Подходящих оказывается два: во-первых, архаическая лирика (благо фрагмент про ночь есть у Ивика) и, во-вторых, александрийская эпиграмма. И Виламовиц переводит восьмистишие Гете сперва в одном греческом стиле, потом в другом; получается очень убедительно и выразительно, но сказать «точно» – нельзя не покривив душой.
Русский язык – не мертвый, как древнегреческий; но оказывается, что это мало облегчает стилистическое творчество. Создать новый русский стиль для передачи иноязычного стиля, не имеющего аналогов в русском литературном опыте, – задача величайшей трудности. На античном материале я знаю здесь только две удачи: перевод «Илиады» Н. Гнедича и перевод «Золотого осла» М. Кузмина. И замечательно, что подвиг Гнедича, который фактически сделал гораздо больше, чем думал, – создал новый искусственный русский поэтический язык, вполне аналогичный искусственному поэтическому языку греческого эпоса, – остался совершенно беспоследственным. Этим языком не овладел никто – даже настолько, чтобы перевести им хотя бы «Одиссею» и не удивлять русского читателя разительной несхожестью двух классических переводов двух гомеровских поэм, «Илиады» Гнедича и «Одиссеи» Жуковского.
Стиль – это, упрощенно говоря, соблюдение меры архаизации и меры вульгаризации текста. Достаточны ли мои средства для этого? Не думаю. Современным жаргоном, как уличным, так и камерным, я не владею – к счастью, для переводов античных авторов он не так уж необходим (разве что для непристойных насмешек Катулла?). Я знаю, что для пушкинской эпохи, например, слово покамест (вместо пока) или надо (вместо нужно) – вульгаризмы; ибо (вместо потому что) – архаизм; ежели (вместо если) и словно (вместо будто) – просторечие; что тогда писали не вернуться, а воротиться и предпочитали союз нежели союзу чем. Я мог разделить ужас моего товарища С. С. Аверинцева, когда его прекрасные переводы из византийских авторов искренне хвалили за стилизацию под XV век, тогда как они были стилизованы под XVII век. Но сделать безупречную аттицистическую подделку под языковую старину я не смог бы. Когда я начинал переводить Ариосто, мне хотелось строго выдержать язык русских романов XVIII века – ведь «Неистовый Роланд» и наш «Бова-королевич» – это один и тот же рыцарский жанр на излете. Этого я не сумел: пришлось вводить искусственные обороты, для языка того времени нереальные, но стилистически эффектные. Так в театре мужики из «Плодов просвещения» Толстого говорят на фантастической смеси совершенно несовместимых диалектов, и это оказывается гораздо выразительнее лингвистического правдоподобия. А жаль.
Архаизацию приходится дозировать – но как? Античных писателей мы переводим русским языком XIX века, в идеале – пушкинским. Но вот тридцать лет назад мне и моим коллегам пришлось делать антологию «Памятники средневековой латинской литературы». Нужно было передать ощущение, что это – другая эпоха, не классическая латынь, а народная и церковная. Это значило, что стилистический ориентир нужно взять более примитивный – то есть, по русскому словесному арсеналу, более ранний (скажем, XVII века), сочетающий упрощенный нанизывающий синтаксис с лексической пестротой приказных канцеляризмов, просторечия и церковнославянства. Так мы и старались писать – конечно, каждый по мере своих сил. Однако средневековые писатели были разные: одни писали как бог и школа на душу положат, другие вчитывались в доступных им античных классиков и подражали им, иногда неплохо. Эту разницу тоже хотелось передать в переводе – и для средневековых цицеронианцев, вроде Иоанна Солсберийского, мы вновь брали для перевода русский язык XIX века. Получался парадокс: более древних, античных и подражающих античным латинских писателей мы переводим более поздним, пушкинским и послепушкинским языком, а более поздних, средневековых латинских писателей – более архаическим, аввакумовским русским языком. Думаю, что с таким парадоксом приходилось сталкиваться многим переводчикам, если только они заботились об ощущении стилистической перспективы в переводе.
Конечно, лучше было бы «испорченную» средневековую латынь переводить «испорченным» по сравнению с XIX веком современным русским языком. Я не решался: боялся, что получится плохой язык вне всякой стилизации. Но мне случилось быть редактором перевода Григория Турского, знаменитого своей «испорченной» латынью. Неопытная переводчица перевела его как могла – современными, почти газетными клише. Переписать это от начала до конца было невозможно, пришлось отредактировать, придавая современной испорченности стиль средневековой испорченности. Кажется, что-то удалось, хотя перевод мучился в издательстве «Литературных памятников» много лет.
У А. Тойнби есть замечательный эксперимент: он перевел сборник отрывков из греческих историков, до предела модернизовав их стиль – введя сноски, скобки и тот лексический волапюк, в котором греческая агора – это пьяцца, а самоубийство Катона – харакири. А Уэйли переводил японские пьесы, убирая из них все трудновыговариваемые названия и малопонятные реалии. Для первого знакомства с чужой культурой это необходимый этап. У нас таких облегченных переводов – приближающих не читателя к подлиннику, а подлинник к читателю – почти нет (разве что для детей). Мне бы хотелось перевести какое-нибудь античное сочинение в двух вариантах: для подготовленного читателя и для начинающего. Интересно, какая получится разница.
Самый дорогой мне комплимент от коллеги-филолога был такой: «У вас по языку можно почувствовать, какие стихотворения были в подлиннике хорошими, а какие плохими». Хорошие и плохие – понятия не научные, а вкусовые. Фраза «Какие хорошие стихи прочитал я вчера!» – значит очень разные вещи в устах человека, который любит Бродского и который любит Евтушенко. Как филолог, я по самой этимологии своей специальности должен любить всякое слово, а не избранное. Я уже вспоминал выше слова Хаусмена: «Кто любит Эсхила больше, чем Манилия, тот ненастоящий филолог». И все-таки мне пришлось однажды испытать ощущение, что между плохими и хорошими стихами разница все-таки есть. Я переводил впрок стихотворные басни Авиана (басни как басни, что сказать?), как вдруг выяснилось, что в книге, включавшей разные переводы понтийских элегий Овидия, которую мы с коллегой готовили к изданию, одна элегия случайно оказалась забытой. Пришлось бросить все и спешно переводить ее самому. Одним шагом ступить от нравоучительных львов и охотников к «На колесницу бы мне быстролетную стать Триптолема!..» – это был такой перепад художественного впечатления, которого я никогда не забуду.
Самыми трудными с точки зрения точности для меня были два перевода, на редкость непохожих друг на друга.
Один – это «Поэтика» Аристотеля. Здесь точность перевода должна быть буквальной, потому что каждое слово подлинника обросло такими разнотолкованиями, что всякий выбор из них был бы произволен. А стиль «Поэтики» – это стиль конспекта «для себя», в котором ради краткости опущено все, что возможно и невозможно. Перевести это дословно – можно, но тогда пришлось бы рядом приложить для понятности развернутый пересказ. Я постарался совместить это: переводил дословно, но для ясности (хотя бы синтаксической) вставлял дополнительные слова в угловых скобках: пропуская их, читатель мог воспринять стиль Аристотелевой записной книжки, а читая их – воспринять смысл его записи. Так как греческий синтаксис не совсем похож на русский, то пришлось потратить много труда, чтобы сделать такое двойное чтение возможным.
Такой же точности требовал от меня и перевод «Поэтики» Горация: один раз, для научной статьи, я сделал его в прозе, другой раз, для собрания сочинений Горация, – в стихах. Было бы интересно сравнить по объективным показателям («коэффициент точности», «коэффициент вольности»), велика ли между ними разница. Такой же точности требовал и перевод «Жизни и мнений философов» Диогена Лаэртского: каждому слову греческой философской терминологии должно было соответствовать одно и только одно слово перевода, даже если у разных философов этот термин обозначал разные вещи. Надежной традиции, на которую можно было бы опереться, не оказалось, многие термины приходилось придумывать самому. Многозначность греческих слов иногда приводила в отчаяние. Как, например, перевести «логос»? Т. В. Васильева нашла гениальный русский аналог его многозначности – «толк»; но у этого слова – сниженная стилистическая окраска, применительно к ней пришлось бы менять всю терминологическую лексику снизу доверху, на это я не решился.
«Коэффициент точности» – это процент слов подлинника, сохраненных в переводе, «коэффициент вольности» – процент слов перевода, добавленных без всякого соответствия с подлинником. Их можно рассчитать отдельно для каждой части речи – будет видно, что переводчики стараются сохранять существительные и вольничают с остальными словами, им важнее о чем, чем что сказано. Это позволяет точно подсчитать, во сколько раз Брюсов переводил точнее Бальмонта или Вяч. Иванова. Особенно это видно на переводах с подстрочника. Был закрытый конкурс переводов из Саломеи Нерис с двух, общих для всех, подстрочников; кончился провалом, ни одной первой премии. Моя ученица В. В. Настопкене сделала подсчеты по этому редкостному материалу – самые точные переводы оказались самыми безобразными. Из этого следует, что «точный» и «хороший» вещи разные, – что, впрочем, и без того было известно. Когда меня спрашивают: «Где изложена ваша методика измерения точности перевода?» – я отвечаю: «В статье В. В. Настопкене в вильнюсском журнале „Literatūra“ за 1981 год».
А другим переводом, требовавшим особенно высокой точности, был «Центон» Авсония, римского декадента IV века, – эпиталамий в полтораста строк, составленный целиком, как мозаика, из полустиший Вергилия. При дворе справлялась свадьба, император написал в честь ее стихи и предложил Авсонию сделать то же. Написать лучше императора было опасно, а написать хуже было, вероятно, очень трудно. Авсоний вышел из положения, сложив свои стихи сплошь из чужих слов, чтобы можно было сказать: «Если получилось хорошо, то это вина не моя, а Вергилия». Художественный эффект здесь заключался в том, что одно и то же полустишие в новом контексте воспринималось на фоне воспоминаний о его старом контексте. У римских читателей такие воспоминания сами собой подразумевались, у русских их не было и быть не могло. Значит, к каждому полустишию авсониевского центона я должен был мелким шрифтом привести две-три строки Вергилия, в которых это полустишие звучало бы дословно так же, а означало бы совсем другое. Конечно, интереснее всего было бы взять эти строки из старых русских переводов Вергилия. Но тут-то и оказалось, что почти нигде это невозможно: когда поэты переводили «Энеиду» целиком, держа в сознании сразу большой ее пассаж, то для его общей выразительности они сплошь и рядом жертвовали как раз той мелкой полустишной точностью, которая была мне необходима. Чем более легок и удобочитаем был перевод «Энеиды» в целом, тем менее он был пригоден для использования в переводе авсониевского центона. В. Брюсов, взявшись за свой принципиально буквалистический перевод «Энеиды», объявил, что его цель – в том, чтобы любую цитату можно было давать по его переводу с такой же уверенностью, как по подлиннику. Но и он этого не добился: старый Фет в своем переводе без всяких деклараций умел быть буквальнее, а Брюсов не добивался точности, а симулировал точность. Для меня это было яркой иллюстрацией такого важного теоретического понятия, как «длина контекста» в переводе – или, предпочел бы я выразиться, «масштаб точности». Пришлось и полустишия Вергилия переводить самому.
А с точки зрения стиля самым трудным для меня оказался самый примитивный из моих авторов – Эзоп. Неслучайно каждая национальная литература имеет золотой фонд пересказов Эзопа и никаких запоминающихся переводов Эзопа. Таков уж басенный жанр: к стилю он безразличен, и стилизатору в нем почти не за что ухватиться. Как мне написать: «Пастух пошел в лес и вдруг увидел…» или «Пошел пастух в лес и вдруг видит…»? По-русски интонации здесь очень различны, но какая из них точнее соответствует интонации подлинника? Я недостаточно чувствовал оттенки греческого языка, чтобы это решить. Пришлось идти в обход: я выписал по межбиблиотечному абонементу большую испанскую монографию о лексике эзоповских сборников, по ней разметил с карандашом в руках всего Эзопа – классическую лексику красным, вульгаризмы синим, промежуточные формы так-то и так-то – и потом в тех баснях, которые больше рябили красным, писал: «Пастух пошел в лес…», а в тех, которые синим, – «Пошел пастух в лес…» Мне это было интересно; не знаю, было ли полезно читателю.
Два перевода, которыми я, пожалуй, больше всего дорожу, официально даже не считаются моими. Это две книги Геродота, «перевод И. Мартынова под ред. М. Гаспарова», и семь больших отрывков из Фукидида, «перевод Ф. Мищенко – С. Жебелева под ред. М. Гаспарова». Делался сборник «Историки Греции»: Геродот, Фукидид, Ксенофонт. Обычно историческую прозу переводят как документ: все внимание – фактам, никакого – стилю. Мы с покойным С. А. Ошеровым хотели представить ее как художественную, а для этого – показать разницу между стилем трех поколений и трех очень индивидуальных писателей. «Анабасис» Ксенофонта Ошеров сам перевел заново, современным нам языком, замечательно правильным и чистым. Фукидида взяли в переводе 1887 года (выправленном в 1915-м), Геродота – в переводе 1826 года, со всеми ощутимыми особенностями тогдашнего научно-делового стиля. Историко-стилистическая перспектива возникала сама собой. Но оставить их без редактуры было нельзя. Геродот писал плавными фразами, а Мартынов то и дело переводил его отрывистыми; нужно было переменить синтаксис Мартынова, не тронув его лексики и не выходя за пределы синтаксических средств русского языка начала XIX века. Фукидид – самый сжатый и сильный из греческих прозаиков, а Мищенко и Жебелев, сумев с изумительной полнотой передать все оттенки его смысла, ради этого сделали его многословнее раза в полтора; нужно было восстановить лаконизм, не повредив смыслу. Это было мучительно трудно, но очень для меня полезно; я на этом многому научился.
Не все переводчики любят редактировать своих предшественников (или современников) – многие говорят: «Я предпочитаю переводить на неисписанной бумаге». Я редактировал очень много: не хотелось терять то (хотя бы и немногое), что было сделано удачно в старых переводах. Был любопытный случай исторической немезиды. Поэт Ин. Анненский, переводчик Еврипида, умер в 1909 году, не успев издать свой перевод; издатели и родственники поручили это сделать его другу Ф. Ф. Зелинскому, переводчику Софокла. Зелинский стал издавать переводы Анненского, сильно их редактируя – меняя до 25% строк текста. Родственники запротестовали, Зелинский ответил: «Я делал это в интересах Еврипида, читателей и доброго имени Анненского; я поступал с его наследием так, как хотел бы, чтобы после моей скорой смерти было поступлено с моим». Через семьдесят лет с его наследием было поступлено именно так: стали переиздавать Софокла в переводе Зелинского, и оказалось, что без редактирования (в интересах Софокла, читателей и доброго имени Зелинского) это сделать нельзя. Редактирование было поручено В. Н. Ярхо и мне. Мы были бережнее с Зелинским, чем Зелинский с Анненским, и изменили не больше, чем по 10% строк текста; не знаю, остался ли Зелинский на том свете доволен нашей правкой.
С интересом вспоминаю, как я сам был жертвой редактирования. В издательстве «Мысль» молодому решительному редактору был дан мой перевод Диогена Лаэртского. Мы быстро выяснили пункты, по которым ни он, ни я не были согласны ни на какие уступки, и дружно решили, что лучше книгу совсем не издавать. С этим мы пошли по всем начальственным инстанциям издательства снизу вверх. Я заметил, что начальники на этих ступенях чередовались: умный—дурак—умный—дурак; универсальное ли это правило, не знаю. Мы дошли до предверхней ступени, там сидел умный. По дороге выяснилось, что молодой редактор вот-вот улетает в эмиграцию, потому он и не цепляется за свою работу. («Подумать только, – сказал Аверинцев, – человек живет в стране, которую можно считать редакторским Эдемом, и летит туда, где самого слова „редактор“ нет ни в каких словарях!»)
Я рад тому, что много переводил стихов: это учит следить за сжатостью речи и дорожить каждым словом и каждым слогом – даже в прозе. Однажды я сравнил свой перевод одной биографии Плутарха (так и не пригодившийся) с переводом моего предшественника – мой был короче почти на четверть. В прозе всегда есть свой ритм, но не всякий его улавливает: часто ораторский ритм Цицерона переводят ритмом канцелярских бумаг. Я впадал в противоположную крайность: когда я перевел одну речь Цицерона, то редактировавший книгу С. А. Ошеров неодобрительно сказал: «Вы его заставили совсем уж говорить стихами!» – и осторожно сгладил ритмические излишества. Есть позднеантичная комедия «Кверол», в которой каждая фраза или полуфраза начинается как проза, а кончается как стихи; в одной публикации я напечатал свой перевод ее стихотворными строчками, в другой – подряд, как прозу, и давно собираюсь сделать психолингвистическую проверку: как это сказывается на читательском восприятии. Однажды в книге по стихосложению мне понадобился образец свободного стиха с переводом; я взял десять строк Уитмена с классическим переводом К. Чуковского. Перевод был всем хорош, кроме одного: английскую «свободу» ритма Чуковский передал русской «свободой», а русские слова в полтора раза длиннее английских, и поэтому напряженность ритма в его стихах совсем утратилась, – а она мне была важнее всего. Я начал редактировать цитату, сжимая в ней слова и обороты, и кончилось тем, что мне пришлось подписать перевод своим именем.
Переводчику античных поэтов легче быть точным, чем переводчику новоевропейских: греки и римляне не знали рифмы. От этого отпадает ограничение на отбор концевых слов, заставляющее заменять точный перевод обходным пересказом. Мне только один раз пришлось делать большой перевод с рифмами – зато обильными, часто четверными. Это были стихи средневековых вагантов. Перевод был сочтен удачным; но я так живо запомнил угрызения совести от того, что ради рифмы приходилось допускать такие перифразы, каких я никогда бы не позволил себе, переводя античного безрифменного автора, что после этого я дал себе зарок больше с рифмами не переводить.
Больше того, я задумался: если соблюдение стиха понуждает к отклонениям от точности, то, может быть, имеет смысл иногда переводить так, как это сейчас делается на Западе: верлибром, без рифмы и метра, но за счет этого – с максимальной заботой о точности смысла и выдержанности стиля? Таких переводов – «правильный стих – свободным стихом» – я сделал довольно много, пробуя то совсем свободные, то сдержанные (в том или другом отношении) формы верлибра; попутно удалось сделать некоторые интересные стиховедческие наблюдения, но сейчас речь не о них. Сперва я сочинял такие переводы только для себя. Когда я стал осторожно показывать их уважаемым мною специалистам (филологам и переводчикам), то последовательность реакций бывала одна и та же: сперва – сильный шок, потом: «а ведь это интересно!» Теперь некоторые из этих переводов напечатаны, а в 2003 году вышла целая книжка под названием «Экспериментальные переводы» .
Оглядываясь, я вижу, что выбор материала для этих экспериментальных переводов был неслучаен. Сперва это были Лафонтен и разноязычные баснописцы XVII–XVIII веков для большой антологии басен. Опыт показывает, что любой перевод европейской басни традиционным русским стихом воспринимается как досадно ухудшенный Крылов; а здесь важно было сохранять индивидуальность оригинала. Мой перевод верлибрами (различной строгости) получился плох, но я боюсь, что традиционный перевод получился бы еще хуже. Потом это был Пиндар. Здесь можно было опереться на традицию перевода пиндарического стиха верлибром, сложившуюся в немецком штурм-унд-дранге; кажется, это удалось. Потом это был «Ликид» Мильтона: всякий филолог видит, что образцом мильтоновского похоронного «френоса» был Пиндар, и мне показалось интересным примерить к подражанию форму образца. Потом – «Священные сонеты» Донна: форма сонета особенно затруднительна для точности перевода образов и интонаций, а мне казалось, что у Донна всего важнее именно они. Потом – огромный «Неистовый Роланд» Ариосто: убаюкивающее благозвучие оригинала мешало мне воспринимать запутанный сюжет, убаюкивающее неблагозвучие старых отрывочных переводов мешало еще больше, и я решил, что гибкий и разнообразный верлибр (без рифмы и метра, но строка в строку и строфа в строфу), щедрый на ритмические курсивы, может оживить восприятие содержания. Потом – Еврипид. Ин. Анненский навязал когда-то русскому Еврипиду чуждую автору декадентскую расслабленность; чтобы преодолеть ее, я перевел одну его драму сжатым 5-стопным ямбом с мужскими окончаниями, начал вторую, но почувствовал, что в этом размере у меня уже застывают словесные клише; чтобы отделаться от них, я сделал второй перевод заново – упорядоченным верлибром. Результат мне не понравился; 5-стопная «Электра» была потом напечатана, а верлибрический «Орест» надолго остался у меня в столе. Из других авторов, которых я переводил, мне дороже всего У. Б. Йейтс и Георг Гейм.
За этим экспериментом последовал другой, более рискованный. Я подумал: если имеют право на существование сокращенные переводы и пересказы романов и повестей (а я уверен, что это так и что популярные пересказы «Дон Кихота» и «Гаргантюа» больше дали русской культуре, чем образцово точные переводы), то, видимо, возможны и сокращенные переводы лирических стихотворений. В каждом стихотворении есть места наибольшей художественной действенности, есть второстепенные и есть соединительная ткань: причем ощущение этой иерархии у читателей разных эпох, вероятно, разное. Что, если показать в переводе портрет подлинника глазами нашего времени, опустив то, что нам кажется маловажным, – сделать, так сказать, художественный концентрат? Упражнения античных поэтов, которые то разворачивали эпиграмму в элегию, то наоборот, были мне хорошо памятны. И я стал делать конспективные переводы верлибром, некоторые из них напечатаны ниже.
Есть еще одна переводческая традиция, мало использованная (или очень скомпрометированная) в русской практике, – это перевод стихов даже не верлибром, а честной прозой, как издавна принято у французов. Я попробовал переводить прозой поэму Силия Италика «Пуника» – и с удивлением увидел, что от этого римское барокко ее стиля кажется еще эффектно-напряженнее, чем выглядело бы в обычном гексаметрическом переводе. Но этот перевод я так и не закончил.
Приложение. Верлибр и конспективная лирика 17
Сейчас в Европе свободный стих очень широко используется для переводов. Вещи, написанные самыми строгими стиховыми формами, переводятся на английский или французский язык верлибрами. Обычно плохими: ни стихи, ни проза – так, переводческая lingua franca. У нас эта практика пока не очень распространена. Из известных мастеров так переводил, пожалуй, лишь М. Волошин, писавший о своей работе: «Я, отбросив рифмы, старался дать стремление… метафор и построение фразы, естественно образующей свободный стих». Последователей он не имел: наоборот, еще памятно то советское время, когда поэты переводили верлибры аккуратными ямбами и вменяли себе это в заслугу.
Сам я считаю, что в переводах верлибром есть свои достоинства. Когда нужно подчеркнуть общие черты поэтической эпохи, то лучше переводить размером подлинника, а когда индивидуальность поэта – то верлибром: без униформы александрийского стиха или сонета она виднее. Я много экспериментировал с такими переводами. Но если такая практика станет всеобщей, я вряд ли обрадуюсь. Известно: писать хорошим верлибром труднее, чем классическим стихом, а плохим гораздо легче. Но сейчас речь не об этом.
Когда переводишь верлибром и стараешься быть точным, то сразу бросается в глаза, как много в переводимых стихах слов и образов, явившихся только ради ритма и рифмы. Илья Сельвинский любил сентенцию: «В двух строчках четверостишия поэт говорит то, что он хочет, третья приходит от его таланта, а четвертая от его бездарности». Причем понятно, что талант есть не у всякого, а бездарность у всякого, – так что подчас до половины текста ощущается балластом. Когда мы это читаем в правильных стихах, то не чувствуем: в них, как на хорошо построенном корабле, балласт только помогает прямей держаться. Но стоит переложить эти стихи из правильных размеров в верлибр, как балласт превращается в мертвую тяжесть, которую хочется выбросить за борт.
И вот однажды я попробовал это сделать. Я переводил верлибром (для себя, в стол) длинное ямбическое религиозное стихотворение Ф. Томпсона «Небесные гончие», поздневикторианский хрестоматийный продукт. И я решил его отредактировать: не теряя ни единого образа, в балластных местах обойтись меньшим количеством слов – только за счет стиля и синтаксиса. Оказалось, что объем вещи от этого сразу сократился на пятую часть: вместо каждых десяти стихов – восемь. Повторяю, без всяких потерь для содержания. По обычному переводческому нарциссизму это мне понравилось. Я подумал: а что если сокращать и образы – там, где они кажутся современному вкусу (то есть мне) избыточными и отяжеляющими?
Пушкин перевел сцену из Вильсона, «Пир во время чумы»; переводил он очень точно, но из 400 стихов у него получилось 240, потому что все, что он считал романтическими длиннотами, он оставлял без перевода. Это был, так сказать, конспективный перевод. И он очень хорошо вписывался в творчество Пушкина, потому что ведь все творчество Пушкина было, так сказать, конспектом европейской культуры для России. Русская культура начиная с петровских времен развивалась сверхускоренно, шагая через ступеньку, чтобы догнать Европу. Романтизм осваивал Шекспира, и Пушкин написал «Бориса Годунова» – длиной вдвое короче любой шекспировской трагедии. Романтизм создал Вальтера Скотта, и Пушкин написал «Капитанскую дочку» – длиной втрое короче любого вальтерскоттовского романа. Романтизм меняет отношение к античности, и Пушкин делает перевод «Из Ксенофана Колофонского» – вдвое сократив оригинал. Техника пушкинских сокращений изучена: он сохраняет структуру образца и сильно урезывает подробности. Я подумал: разве так уж изменилось время? Русская литература по-прежнему отстает от европейской приблизительно на одно-два поколения. Она по-прежнему нуждается в скоростном, конспективном усвоении европейского опыта. Разве не нужны ей конспективные переводы – лирические дайджесты, поэзия в пилюлях? Тем более что для конспективной лирики есть теперь такое мощное сокращающее средство, как верлибр.
Я не писатель, я литературовед. Новейшую европейскую поэзию я знаю плохо и не берусь за нее. Я упражнялся на старом материале: на Верхарне, Анри де Ренье, Мореасе, Кавафисе. Верхарна и Ренье я смолоду не любил именно за их длинноты. Поэтому сокращал я их садистически – так, как может позволить только верлибр: втрое, вчетверо и даже вшестеро. И после этого они моему тщеславию нравились больше. Вот одно из самых знаменитых стихотворений Верхарна: сокращено вчетверо, с 60 строк до 15. Оно из сборника «Черные факелы», называется «Труп»:
Вот для сравнения точный его перевод – старый, добросовестный, Георгия Шенгели:
Сокращения такого рода вряд ли могли быть сделаны без помощи верлибра. Однообразие приемов легко заметить: выбрасываются связующие фразы, выбрасываются распространяющие глаголы, сохраняются преимущественно существительные, а из существительных удерживаются предметы и выпадают отвлеченные понятия. Со стихами, в которых предметов мало, а отвлеченных понятий много, такие эксперименты получаются хуже. Вот пять примеров, не совсем обычных: первое стихотворение сокращено втрое, второе и третье – примерно вчетверо, четвертое – впятеро, пятое – почти всемеро. Дробь в правом углу над стихотворением означает соотношение строк перевода и подлинника (так сказать, в какую долю оригинала)
* * *
10 / 32
* * *
12 / 56
* * *
8 / 36
* * *
7 / 36
* * *
31 / 209
Оригиналы – это Лермонтов, «Элегия», 1830; Пушкин «Любовь одна…» , 1816; Гнедич, «Осень», 1819; Баратынский, «Поверь, мой милый друг…», 1820; Тепляков, «Гебеджинские фонтаны», 1829. Кто хочет, может проверить: строка или две в каждом стихотворении сохранены почти буквально. Это, так сказать, переводы с силлабо-тонического языка на верлибрический. (Так Батюшков переводил греческие эпиграммы с метрического языка на силлабо-тонический.)
Мне не хотелось бы, чтобы эти упражнения выглядели только литературным хулиганством. В истории поэзии такие переработки появляются не впервые. Когда александрийские поэты III века до н. э. стали разрабатывать камерную лирику вместо громкой, то они брали любовные темы у больших лириков-архаиков и перелагали в короткие и четкие эпиграммы, писанные элегическим дистихом. В этом была и преемственность, и полемичность. Такая стилистическая полемика средствами не теории, а практики была в античности привычна: если Еврипиду не нравилась «Электра» Софокла, он брался и писал свою собственную «Электру» (современный литератор вместо этого написал бы эссе «Читая „Электру“»). Разумеется, ни мне, ни кому другому не придет в голову полемизировать от своего имени с поэтом Лермонтовым или поэтом Верхарном. Но полемизировать от имени современного вкуса против того вкуса риторического романтизма или риторического модернизма, которыми питались Лермонтов и Верхарн, – почему бы и нет? Если мы не настолько органично ощущаем стиль наших предшественников, чтобы уметь подражать им, как аттицисты аттикам, – признаемся в этом открыто, и пусть потом наши потомки перелицовывают нас, как мы – предков (если, конечно, они найдут в нас хоть что-то достойное перелицовки).
Можно ли утверждать, что именно лаконизм – универсальная черта поэтики ХX века? Наверное, нет: век многообразен. Но это черта хотя бы одной из поэтических тенденций этого века – той, которая восходит, наверное, к 1910‐м годам, когда начинали имажисты и Эзра Паунд написал знаменитое стихотворение из четырех слов – конденсат всей раннегреческой лирики вместе взятой: «Spring – Too long – Gongyle» (Гонгила – имя ученицы Сапфо, затерявшееся в ее папирусных отрывках). Краткость ощущалась как протест против риторики – хотя на самом деле, конечно, она тоже была риторикой, только другой. Напомним, что и задолго до Паунда у самого Лермонтова такое известное стихотворение, как «Когда волнуется желтеющая нива…», было не чем иным, как конспектом стихотворения Ламартина «Крик души»: та же схема, та же кульминация, только строже дозированы образы, и оттого текст вдвое короче. Впрочем, краткость краткости рознь, и не от всякой стихотворение приобретает вес. Марциал писал другу-поэту:
При обсуждении этих переводов было замечено, что Верхарн в них становится похож на молодого Элиота. (На мой взгляд, скорее на Георга Гейма.) А сокращенный Мореас, кажется мне, – на японскую или китайскую поэзию. Это, конечно, дело субъективных впечатлений. Важнее другое: вероятно, если два переводчика-сократителя возьмутся за одно и то же стихотворение, то у них получатся два совсем разных сокращения: один выделит в оригинале одно, другой другое, и каждый останется самим собой. И очень хорошо – не всем же переводам быть филологически честными.
А мне лично, как литературоведу, интереснее всего такой вопрос. Можно ли вообще считать получающиеся тексты переводами? Идейное и эмоциональное содержание оригинала сохранено. («Нет, – возразили мне, – от сокращения эмоция становится сильнее». Может быть.) Композиционная схема сохранена. Объем резко сокращен. Стиль резко изменен. Стих изменен еще резче. Много убавлено, но ничего не прибавлено. Достаточно ли этого, чтобы считать новый текст переводом старого, пусть вольным? Или нужно говорить о новом произведении по мотивам старого?
КРИТИКА
Одна из сказок дядюшки Римуса начинается приблизительно так. Было когда-то золотое время, когда звери жили мирно, все были сыты, никто никого не обижал, и кролик с волком чай пили в гостях у лиса. И вот тогда-то сидели однажды Братец Кролик и Братец Черепаха на завалинке, грелись на солнышке и разговаривали о том, что ведь в старые-то времена куда лучше жилось!
Начало критической статьи
Критика из меня не вышло. Однако список моих сочинений, который время от времени приходится подавать куда-нибудь по начальству, все же с обманом. Первым в нем должна идти рецензия не на книгу Л. И. Тимофеева по стиховедению 1958 года, а на сборник стихов 1957 года.
Я кончал университет; попаду ли я на ученую службу, было неясно. Нужно было искать заработка. В журнале «История СССР» мне дали перевести из «Historische Zeitschrift» большой обзор заграничных работ по русской истории – для тех русских историков, которые по-немецки не читают. Я узнал много интересного, но заработал немного. Мне предложили прочитать в спецхране английскую книжку – воспоминания председателя украинского колхоза, бежавшего на Запад: я перескажу это одному историку, а он напишет рецензию. Я прочитал, меня спросили: «Как?» – «Интересно». – «Они, антисоветчики, всегда интересно пишут», – осуждающе сказал редактор. Но рецензент так и не собрался написать рецензию с голоса.
Вера Васильевна Смирнова сказала: «Ты пишешь в Ленинке аннотации на новые книжки стихов – выбери книжку и напиши рецензию для „Молодой гвардии“, я дам тебе записку к Туркову». «Молодая гвардия» была журналом новорожденным и либеральным. Редактором был Макаров. Турков, молодой и гибкий, заведовал критикой. Я написал рецензию на сборник стихов поэта Алексея Маркова. Из сборника я помню только четыре строки. Две лирические: «Брызжет светом молодая завязь, поднимаясь щедро в высоту!»; две дидактические: «Счастье – не фарфоровая чашка. Разобьешь – не склеишь. Ни за что!» Сборник назывался «Ветер в лицо», а рецензия называлась «Лирическое мелководье», так тогда полагалось. Говорили, будто Марков потом бегал по начальству, потрясая журналом, и кричал, что Макаров и Турков решили надругаться над ним от имени какого-то Гаспарова.
Потом, служа в аннотациях, я читал и другие книги Маркова. В одной из них он вспоминал в предисловии, как первые стихи его редактировал сам Ф. Панферов, командир журнала «Октябрь». Откидываясь от трудов на спинку кресла и задумчиво глядя вдаль, Панферов говорил: «Не ценят у нас редакторского труда! Почему, например, никто не помянет добрым словом тех редакторов, которые дали путевку в жизнь таким книгам, как „Ревизор“, „Путешествие из Петербурга в Москву“…»
Для Туркова я написал еще одну рецензию – на первую книжку стихов Роберта Рождественского. Какие там были предостережения громкому поэту, я не помню. Рецензию не напечатали. «Хватит откликаться на каждый его чих!» – сказал Турков. Вместо этого мне стали давать для ответа стихи самодеятельных поэтов, шедшие самотеком. Это называлось «литературная консультация». Каждый ответ начинался: «Многоуважаемый товарищ такой-то, напечатать Ваши стихи, к сожалению, мы не можем», – и дальше нужно было объяснять почему. Школьная учительница писала стихами, что главное в жизни – быть самим собой; я отвечал ей, что для этого сперва нужно познать самого себя, а это трудно. Удалой лирик из-под Курска писал: «Как без поцелуя до дому дойти, если так серьезно встретились пути?» – я объяснял, почему это не годится, стараясь не пользоваться таким трудным словом, как «стиль». Таких писем я написал за то лето штук сорок.
Я старался присматриваться, как пишут настоящие критики. «Вот Твардовский начинает поэму: „Пора! Ударил отправленье / Вокзал, огнями залитой…“ Другой поэт дал бы картину и всей вокзальной толчеи, и запоздалого пассажира, бегущего с чайником, – а здесь только две строчки, и как хорошо!» Это было напечатано в «Литературной газете». Я понимал, что критик хотел сказать: «Если бы это писал я, то непременно написал бы и про толчею, и про чайник; Твардовский этого не сделал, а поди ж ты, получилось хорошо – как же не похвалить!» Мне такая логика казалась неинтересной. Мне хотелось писать критику так, как когда-то формалисты: с высоты истории и теории литературы. Паустовский выпустил новую книгу, я написал ей похвалу для факультетской стенгазеты, но, по-видимому, слишком непривычными словами: все решили, что я не хвалю его, а ругаю, и поклонницы Паустовского собрались меня бить. Тут я понял, что в критики не гожусь.
Писать рецензии на научные книги было легче: в них была логика. Но и тут случались неожиданности.
Был ленинградский ученый В. Г. Адмони, германист, скандинавист, совесть питерской интеллигенции. Дружил с Ахматовой и сам писал стихи по-русски и по-немецки. Я очень мало был с ним знаком, но когда вышла книга его покойной жены Т. Сильман «Заметки о лирике», то он попросил меня написать рецензию. Плиний Старший, который прочел все книги на свете, говорил: «Нет такой книги, в которой не было бы чего-то полезного». Я выписал это полезное, привел его в логическую последовательность, написал «как интересно было бы развить эти мысли дальше!» и понес рецензию в «Вопросы литературы». Редактора звали Серго Ломинадзе; имя отца его я видел в истории партии, «антипартийная группировка Сырцова–Ломинадзе», а собственное его имя я нашел много позже в антологии стихов бывших лагерников. Рецензия ему не понравилась. Он говорил: «Вам ведь эта книга не нравится: почему вы не напишете об этом прямо?» Я отвечал: «Потому что читателю безразлично, нравится ли это мне; читателю интересно, что он найдет в книге для себя». Спорили мы долго, по-русски; на каком-то повороте спора он даже сказал мне: «Я, между нами говоря, верующий…» – а я ему: «А я, между нами говоря, неверующий…» Наконец я сказал: «Вы же поняли, что книга мне не понравилась; почему же вы думаете, что читатели этого не поймут?» После этого рецензию напечатали. Не знаю, понял ли это Адмони; но лет через десять, уже при Горбачеве, когда он напечатал маленькую поэму о своей жизни, он опять попросил написать на нее рецензию. Я написал так, как мне хотелось в молодости: «как когда-то формалисты». Он напечатал ее в «Звезде».
Интереснее был случай, когда мне пришлось быть экспертом при судебном следствии о стихах Тимура Кибирова. Рижская «Атмода» напечатала его «Послание к Л. Рубинштейну» и отрывок из «Лесной школы». Газету привлекли к суду за употребление так называемых непечатных слов. Мобилизовали десять экспертов: лингвисты, критики, журналисты из Риги и Москвы. Вопросник был такой, что казался пародией, но я честно постарался на него ответить.
– Какова литературно-художественная (композиционная) характеристика данных стихов Т. Кибирова?
– Не уверен, что понял вопрос. Идейная концепция поэмы – разложение современного общества, от которого спасет только красота. Эмоциональная концепция – отчаяние, переходящее в просветленную надежду. Система образов – нарочито хаотическое нагромождение видимых примет времени. Система мотивов – преимущественно стремительное движение, оттеняемое статическими картинами мнимо-блаженного прошлого. Сюжет отсутствует – поэма лирическая. Композиция – по контрастам на всех уровнях. Стиль – столкновение хрестоматийных штампов с вульгаризмами современного быта. Фигуры речи – преимущественно антитетические, с установкой на оксюморон. Стих – четырехстопный хорей с рифмовкой. Фоника – в основном паронимическая аттракция. Наиболее близкий жанровый тип – центон.
– Можно ли отнести данные произведения к направлению авангардизма?
– Термин «авангардизм» научной определенности не имеет.
– Если да, то что об этом свидетельствует?
– Явное неприятие этих стихов профессионалами традиционного вкуса.
– Допустимо ли и оправданно ли в пределах этого жанра и направления использование отдельных устоявшихся в обществе понятий (выражений), в том числе нецензурных слов, для литературно-художественного отражения и характеристики общественно-политических и субъективных процессов, событий и личностей?
– Конкретных событий и личностей, характеризуемых с помощью нецензурных слов, я в поэме не нахожу. Имена Сталина, Лосева, Берии, Леви-Стросса, Кобзона, Вознесенского, Лотмана, Розенбаума, Руста, Пригова, Христа, Вегина, де Сада и др. имеют в виду не личности, а типические явления и приметы времени; является ли реальным лицом упоминаемый Айзенберг, мне неизвестно.
– Каково целевое назначение поэмы?
– Как и всякого художественного произведения – отразить действительность и выразить авторское отношение к ней.
– Для печатных изданий какого рода и направления данные произведения предназначаются?
– Полагаю, что для всех, какие пожелают их напечатать.
– Соответствуют ли литературно-художественные средства, понятия и сравнения (выражения), использованные в этих стихах для характеристики конкретных процессов, событий и личностей, современным критериям, устоявшимся в литературе, публицистике и журналистике, а также в разговорной и письменной речи определенных слоев общества, трактовке объективных социально-экономических и политических факторов сегодняшнего общества и этапа истории?
– Не уверен, что понял эту фразу. В устной же речи «определенных социальных слоев общества» употребительность непечатных выражений известна каждому по ежедневному уличному опыту; и я, и (судя по печати) многие другие слышали такие выражения даже от лиц партийных и начальствующих.
При составлении настоящего экспертного заключения я был должным образом полностью уведомлен, согласно закону, о правах эксперта и о его ответственности, с чем и старался сообразовываться. Приношу благодарность за возможность познакомиться с чрезвычайно интересным филологическим материалом.
Потом Е. А. Тоддес сделал на этом чрезвычайно интересном филологическом материале очень хорошую статью в рижском «Роднике». А для меня это было первое знакомство со стихами Кибирова, так что я и впрямь благодарен этому случаю. Была ли эта экспертиза критикой или не критикой, не знаю.
СЕМИОТИКА: ВЗГЛЯД ИЗ УГЛА
Без эпиграфа.
Ю. Тынянов
Когда в 1962 году готовилась первая конференция по семиотике, я получил приглашение в ней участвовать. Это меня смутило. Слово это я слышал часто, но понимал плохо. Случайно я встретил в библиотеке Е. В. Падучеву, мы недавно были однокурсниками. Я спросил: «Что такое семиотика?» Она твердо ответила: «Никто не знает». Я спросил: «А ритмика трехударного дольника – это семиотика?» Она так же твердо ответила: «Конечно!» Это произвело на меня впечатление. Я сдал тезисы, и их напечатали.
Сейчас, сорок с лишним лет спустя, мне кажется, что и я дорос до той же степени: не могу сказать о семиотике, что это такое, но могу сказать о предмете, семиотика это или нет. Эпоха структурализма прошла, о тартуско-московской школе стали писать дискуссионные мемуары, и в них я прочитал, будто и вправду еще не решено, что такое семиотика: научный метод или наука со своим объектом. Это меня немного утешило.
Дискуссию начал Б. М. Гаспаров, написав, что тартуская семиотика была способом отгородиться от советского окружения и общаться эсотерически, как идейные заговорщики. Ему возражал Ю. И. Левин, полагая, что это был не столько орден с уставом, сколько анархическая вольница с добрыми личными отношениями: не столько Касталия, сколько Телем. Выступавшие в дискуссии описывали не столько мысли, сколько живящий воздух этого Телема – даже не Тарту, а тартуских летних школ в Кяэрику. Я не был ни на одном собрании этих летних школ: по складу характера я необщителен, учиться предпочитал по книгам, а слушать молча. С Борисом Михайловичем Гаспаровым мы сверстники, и ту научную обстановку, от которой хотелось отгородиться и уйти в эсотерический затвор, я помню очень хорошо. Но мне не нужно было даже товарищей по затвору, чтобы отвести с ними душу: щель, в которую я прятался, была одноместная. Мой взгляд на тартуско-московскую школу был со стороны, верней – из угла. Из стиховедческого.
Казалась ли эта школа эсотерической ложей или просветительским училищем? И то, и другое. Обсуждающие сопоставляли традиции литературоведческого Ленинграда и лингвистической Москвы18. Но возможно и другое сопоставление: между формализмом ленинградского ОПОЯЗа и московской ГАХН. Опоязовцы бравировали революционностью: они подходили к изучению классики с опытом футуристической современности, где каждые пять лет новое поколение ниспровергало старое. Москвичи бравировали традиционностью: они подходили к современной словесности с опытом фольклористики и медиевистики, от лица которых Веселовский когда-то сказал, что когда-нибудь и самоновейшая литература покажется такой же традиционалистичной, как старинная. Интересные результаты получались и у тех, и у других. Опоязовские формалисты бурно вмешивались в жизнь, гахновские – отгораживались от нее на своей Пречистенке. Официальную науку раздражали и те, и другие: ленинградцы своим литературно-инженерным жаргоном, москвичи – своей грецизированной риторической номенклатурой. Бывают эпохи, когда и просветительство остается заботой столь немногих, что их деятельность кажется эсотерической причудой.
Когда я студентом перечитал все написанное русскими формалистами, я понял, что московская традиция мне ближе. Терминологию Р. Шор и Б. Ярхо можно было выучить хотя бы по Квинтилиану, а что такое «теснота стихового ряда», предлагалось понять самостоятельно из вереницы разнородных примеров, это было труднее. (Я до сих пор не встретил ни одного научного определения этого тыняновского понятия – только метафорические.) В тартускую «Семиотику» я пришел в первый раз с публикацией из Ярхо и о Ярхо. Помню, как мне позвонил Ю. М. Лотман и назначил свидание в ЦГАЛИ. Он сказал: «Вы меня узнаете по усам». Много лет спустя я обидел однажды Н. Брагинскую, заподозрив, будто она сама себя отождествляет с О. М. Фрейденберг, которую она издавала. Она написала в ответ, что и я так же отождествляю себя с Ярхо. Я ответил: «Нет, мое к нему отношение проще: я его эпигон, и вся моя забота – в том, чтобы не скомпрометировать свой образец».
Почему меня приняли в «Семиотику»? Я занимался стиховедением с помощью подсчетов – традиция, восходящая через Андрея Белого к классической филологии и медиевистике более чем столетней давности, когда по количеству перебоев в стихе устанавливали относительную хронологию трагедий Еврипида. Эти позитивистические упражнения вряд ли могли быть интересны для ученых тартуско-московской школы. К теории знаков они не имели никакого отношения. В них можно было ценить только стремление к точной и доказательной научности. То же самое привлекало меня и в тартуских работах: «точность и эксплицитность» на любых темах, по выражению Ю. И. Левина, «продвижение от ненауки к науке», по выражению Ю. М. Лотмана. Мне хотелось бы думать, что и я чему-то научился, читая и слушая товарищей, – особенно когда после ритмики я стал заниматься семантикой стихотворных размеров.
Потом я оказался даже в редколлегии «Семиотики», но это уже относится не к науке, а к условиям ее бытования. В редколлегию входил Б. М. Гаспаров, и его имя печаталось среди других на обороте титула даже после того, как он уехал за границу. Цензор заметил это лишь несколько выпусков спустя. Но Ю. М. Лотман сказал ему: «Что вы! это просто опечатка!» – и переменил инициалы.
Около десяти лет в Москве работал кружок (или семинар?), похожий на филиал московско-тартуской школы. Собирались сперва в Инязе, потом у А. К. Жолковского, потом у Е. М. Мелетинского. Из Иняза нас прогнали за то, что мы пригласили с докладом иностранца – Джеймса Бейли: до сих пор помню, как я должен был выйти и сказать ему в лицо, что его доклад (о ритмике Йейтса!) запрещен. У Жолковского собрания прекратились, когда Жолковский эмигрировал. У Мелетинского – когда умер Брежнев, пришел Андропов, и хозяин, дважды отсидевший при Сталине, почувствовал, что погода не благоприятствует ученым сборищам.
Доклады были сперва по стиху, потом по поэтике, потом по всему кругу московско-тартуских интересов. Темы были разные, и методы были разные. Общим было только стремление к научности, к «точности и эксплицитности» (Ю. И. Левин был самым постоянным участником). Предлагалось описание текста, группы текстов, обряда, мифа и обсуждалось, корректно ли выведены его закономерности. Впечатления «проверки единого метода на конкретных материалах» не было, а если оно возникало, то встречалось критически. Здесь мне было легче учиться, чем на тартуских изданиях: выступающие говорили понятнее, чем писали. Вероятно потому, что не нужно было шифровать свои мысли от цензуры. Вообще же язык мне давался с трудом. Слово «модель» я еще долго переводил в уме как «схема» или «образец», а слово «дискурсивный» – как «линейный». «Если наша жизнь не текст, то что же она такое?» – сказал однажды с кафедры Р. Д. Тименчик, и я понял, что не все то термин, что звучит. Но упоения «птичьим языком» я у говорящих не чувствовал. Паролем служили скорее литературные вкусы: Набоков, Борхес. Когда М. Ю. Лотман невозмутимо делал доклад о поэзии Годунова-Чердынцева, мне понадобилось усилие, чтобы вспомнить, кто это такой. А когда Ю. И. Левин заявил тему о тексте в тексте у Борхеса, кто-то сказал: «Идет впереди моды».
Здесь я в первый раз попробовал от пассивного усвоения нового для меня языка перейти к активному. А. К. Жолковский делал разбор стихов Мандельштама «Я пью за военные астры…»; разбор этот в тогдашнем виде показался мне артистичным, но легкомысленным. Истолкование какой-то последовательности образов показалось слушателям неубедительным; я в шутку предложил другое, стараясь держаться манеры Жолковского. Он отнесся к этой пародии всерьез и попросил разрешения сослаться на меня. («См. словарь Ожегова, ссылка 1–2», – писал по поводу таких разрешений Ю. И. Левин.) После этого я стал относиться серьезнее к своим разборам стихотворений, а Жолковский, кажется, шутливей, – передоверив некоторые из них профессору Зет своих рассказов.
Философского обоснования методов не было, слово «герменевтика» не произносилось. Ю. И. Левин справедливо писал, что это была реакция на то половодье идеологии, которое разливалось вокруг. Мне кажется, что это сохранилось в собиравшихся и посейчас, хотя захлестывающая идеология и сменила знак на противоположный. У более молодых спроса на философию больше, но сказывается ли это на их конкретных работах – не знаю. Главное в том, чтобы считать, что дважды два – четыре, а не столько, сколько дедушка говорил (или газета «Правда», или Священное Писание, или последний заграничный журнал). Философские обоснования обычно приходят тогда, когда метод уже отработал свой срок и перестал быть живым и меняющимся. Видимо, это произошло и со структурализмом. Сменяющий его деструктивизм мне неблизок. Со своей игрой в многообразие прочтений он больше похож не на науку, а на искусство, не на исследование, а на творчество, и, что хуже, бравирует этим. Мне случалось помогать моей коллеге переводить Фуко и Деррида, и фразы их доводили меня до озверения. В XIX веке во Франции за такой стиль расстреливали. Конечно, я сужу так, потому что сам морально устарел.
Когда сделанное уже отложилось в прописные истины, делаемое перешло в руки наследников, а товарищи по делу разбрелись географически и методологически, то естественно возникает ностальгия по прошлому. Социальная ситуация изменилась, стало возможным говорить публично о том, что раньше приходилось таить. Просветительский ум должен этому только радоваться, но эмоционально это может ощущаться как профанация. Оттого-то Б. М. Гаспаров, описывая прошлое тартуско-московской школы, подчеркивает в ней не просветительский аспект, а черты эсотерического ордена с тайным терминологическим языком. А Ю. И. Левин делает на мандельштамовской конференции доклад «Почему я не буду делать доклад о Мандельштаме»: потому что раньше Мандельштам был «ворованным воздухом», паролем, по которому узнавался человек твоей культуры, а сейчас этим может заниматься всякий илот, стало быть, это уже неинтересно. Я-то чувствую себя именно таким илотом от науки и радуюсь, что больше не приходится тратить половину сил на изыскание способов публично сказать то, что думаешь.
Б. М. Гаспаров применил в описании тартуско-московской школы тот анализ, который она сама привыкла применять к другим объектам. И тартуско-московская школа сразу занервничала, потому что почувствовала, насколько такой анализ недостаточен. Это хорошо: такая встряска может оживить ее силы. А если нет – что ж, «тридцать лет – нормальный жизненный срок работоспособной научной гипотезы», – писал один очень крупный филолог-классик. Гипотеза, о которой шла речь, была его собственная.
VII. ОТ А ДО Я
ordnung ordnung
ordnung ordnung
ordnung ordnung
ordnung ordnung
ordnung ordnung
ordnung unordn g
ordnung ordnung
ordnung ordnung
ordnung ordnung
ordnung ordnung
ordnung ordnung
Тимм Ульрихс
Сочинению книг несть конца
Eccl. 12:12
Ничто никем впервые не было сказано.
Ter. Eun., 40
Раз мне что-то кажется, значит, это не так.
Эпиграф
Аборт Будто бы Институт русского языка довел Словарь языка Ленина до конца и представил к утверждению, но партийное начальство его листнуло, увидело, что первое по алфавиту слово – «аборт», и решило отложить.
«Австрийская литература», «канадская литература» и проч. – «однакоже горюхинцу легко понять россиянина, и наоборот».
Ад L’enfer c’est l’autre (ад – это Другой, сентенция Камю) оборачивается для меня L’enfer c’est moi, потому что не может же быть адом такой большой, устроенный, нерушащийся мир. Конечно, он хорош только пока не под микроскопом, пока не видишь, как мошки пожирают мошек, а кислоты и щелочи грызутся друг с другом. Но себя-то я вижу только в микроскоп.
Азбука Ю. Кожевников стал специалистом по румынскому потому, что после войны курсантов в Военном институте иностранных языков распределяли по алфавиту: от а до в – английский, от г до е – болгарский и т. д. На к пришелся румынский.
Азимут «Зюганов как теоретик блудит по всем азимутам», – сказал Горбачев в телеинтервью («Итоги», март 1996). Ср.: «Это было, когда наше кино находилось в эпицентре своего падения вниз», – сказал Э. Рязанов, тоже по телевизору.
Активность / пассивность Пермяков спрашивал встречных, сколько кто знает пословиц; отвечали: около двадцати. Потом раздавал список пословиц и просил проставить крестики; получалось около двухсот. Так мы недооцениваем весь архаико-фольклорный пласт в нашем сознании (слышано от С. Ю. Неклюдова).
Алгеброй гармонию Г. Кнабе сказал: «Вы утверждаете, что наука только там, где можно опереться на подсчеты. Везде ли это так? Совокупность культуры, ее атмосферу цифрами не выразишь. Помню, как сам я оценивал стиль модерн: камерность, изнеженность, завиточки ар нувель. У нас ведь было в обычае смотреть на него свысока: безвкусица, пошлость. А однажды меня осенило, какая это человечная эстетика – не дворец и не каморка, а квартира, выгороженный уют, независимость и достоинство. Цифрами этого не передашь».
Аллегория С. Аверинцев: символ и аллегория подобны слову и фразе, образу и сюжету: первый цветет всем набором словарных значений, вторая контекстно однозначна, как оглобля, вырубленная из этого цветущего ствола.
Амплуа О. Седаковой звонили: «Нам для подборки молодых поэтов нужен реалистический мужчина и тонкая женщина – не посоветуете ли?»
Анестезия: статьи, которые я писал к переводам античных поэтов, должны были анестезировать от качества переводов.
Анестезия Ко мне пришла чужая аспирантка с диссертацией о ритмике русской, английской и др. прозы в свете экзистенциализма. Я уклонился: «экзистенциализм – удел душевных складов двоякого рода: во-первых, это толстокожие, душевно ожирелые (как Дионисий Гераклейский, которого нужно было колоть иглой сквозь дикое мясо, чтобы он очнулся для государственных дел), которым нужна гурманская встряска, чтобы что-нибудь воспринимать; во-вторых, тонкокожие, которым так мучительно каждое соприкосновение с миром, что они вынуждены искать в этих муках наслаждения. А для остальных анестезией при соприкосновении с миром служит мысль. Этой терапии учил нас Сократ, которого экзистенциалисты не любят».
Анкета (РГГУ) причисляете ли себя к какой-нибудь научной школе? – Нет. – Считаете ли кого-нибудь своим учителем? – Загробно Б. И. Ярхо (простите за цветаевский стиль). В следующий раз напишу: Аристотель.
Аннотация . Сорокин В. В. Лирика: стихотворения и поэмы. М.: СП, 1986. Не нужно удивляться, что под названием «Лирика» в эту книгу входят и поэмы: широкий размах тем и интонаций поэта Валентина Сорокина неизменно влечет его к большим формам. Самое крупное произведение в сборнике называется «Бессмертный маршал»; список действующих лиц его начинается: «Сталин. Жуков. Иван Кузнецов, уралец, боец, друг Жукова…», а кончается: «…Гитлер. Гудериан. Паулюс. Ева. В эпизодах: Бойцы. Русалки. Черт. Черти». И они не только действуют, а и говорят, и описываются, и вызывают поток авторских эмоций: «И сам за верность отчей колыбели готов принять распятие Христа»… и т. д.
Анти- Духовность при желании можно видеть везде: в черной избе она для одного есть, для другого нет, в древней Руси для славянофилов есть, для западников нет. Это просто такое антибранное слово.
Апокалипсис Каждому поколению хочется, чтобы история кончилась именно на нем. Конец света должен был состояться в 1932–1933 годах – по пророчеству полковника Бейнингена, слушать которого в 1910 году сходились чиновники и мастеровые, женщины в платочках и в широких шляпках; или, как говорили иоанниты, даже в 1912‐м, когда Пасха совпала с Благовещеньем.
«Можно ли писать после Аушвица? Так, вероятно, говорили: можно ли писать после гибели Трои?» – сказала Т. Толстая. А вот можно ли писать до Аушвица?
Апрель «Надо же быть иногда дежурным по страданию» (Б. Зубакин). С этим согласился бы и Б. Окуджава.
Аромат Архив В. Розанова хранился в Сергиевом Посаде у Флоренского, «который распорядился вынести его в сарай, говоря, что он не выносит аромата этих рукописей» (Д. Усов – Е. Архиппову, РГАЛИ, 1458, 1, 78).
Ахилл и черепаха Делимость времени понималась труднее, чем делимость пространства, потому что не было часов с «тик-так» (и долгое время даже с «кап-кап»).
Сон сына. «А когда Ахилл догнал черепаху, она ему ска…» Дальше сон оборвался.
Банка Анненский познакомился со стихами Вяч. Иванова лишь за год до смерти: не только его не читали, но и он никого не читал, жил словно в стеклянной банке, на виду как директор-инспектор, но дыша только баночным воздухом французских символистов и перелицовываемого Еврипида. Когда он в 1909 году разбил свою банку, это оказалось смертью.
Барокко Мне было трудно воспринимать беллетристику (а особенно драму и кино), потому что у меня не было сюжетных ожиданий, подтверждаемых или опровергаемых: я знал, что равно вероятно, ударит ли Шатов Ставрогина или Ставрогин Шатова: как захочется автору, вот и все. Это как бы барочное восприятие: всё в каждом моменте, а связь моментов неважна.
Бедная Лиза А. Осповат: «Скажу Топорову, что одну бедную Лизу он в своей книге пропустил: собачку Петра I Лизетту Даниловну, ее Меншиков крестил (или крестил князь-папа, а Меншиков был восприемником) – и было это под тот 1709‐й, когда родилась Елисавета Петровна, тоже бедная Лиза».
Бег на месте «Ты всю жизнь бежишь к чему-то, я всю жизнь бегу от чего-то».
Безнаказанность – «промежуток между преступлением и наказанием» (словарь Бирса) – «смотреть на свою жизнь как на преступное занятие и ежеминутно ждать карающей власти» (А. Платонов. Чевенгур).
Белый Скобелев был «белым генералом», потому что сражался, преодолевая страх, и, чтобы скрыть бледность, одевался в белый мундир и скакал на белом коне.
Бестактность Каждое мое слово может быть бестактным, каждое может кого-нибудь обидеть, поэтому «молчи, скрывайся и таи». Поэтому, а не по-тютчевски.
Блюстись Журнал «Радонеж» рекомендует в великий пост воздерживаться не только от жены, но и от компьютера.
Божественно О. Фрейденберг писала: «я божественно говорю по-гречески, хотя не понимаю слов» (от Н. Перлиной).
Болезнь «Неправда, что в войну от напряжения люди не болели, просто заболевшие тут же умирали и не могли об этом сказать потомкам». В 1812 году больше французов погибло от дизентерии, чем от русских.
«Бормашина какая-то!» – отзывался Андрей Белый о Прусте (восп. П. Зайцева).
Борьба Усатый офицер скандалил в буфете на станции. Лев Толстой огорчался, а потом подумал: «Ведь только поэтому мы все-таки получаем здесь свежую пищу» (дневник Гольденвейзера, 27 июля 1905 г.).
Брак «Разрешаю похоронить гражданским браком» – была резолюция сельсовета об умершем Хлебникове.
Брак Бернард Шоу говорил: «Брак – как масонство: кто не вступил в него, ничего не может сказать, кто вступил, ничего не смеет сказать».
Бузина «Русский ассоциативный словарь» (имени профессора Роусса), частота откликов: свадьба – в Малиновке (44), золотая (80), веселая (6), водка (3), бухло, кабала, развод, Фигаро, эфир (1); светофор – зеленый (14), горит (11), красный (4), для дураков (1), Колумб (1). Колумб, вероятно, потому, что Христофор.
Бытие «Вот книжка, доказывающая, что Наполеона не существовало. Не попробовать ли тебе доказать, что ты сам не существуешь, и этим отрешиться от твоих неврозов?» – «Что ты сам не существуешь – это так очевидно, что доказывать это значит, наоборот, убеждаться, что ты, к сожалению, существуешь».
Бытие «Заведующий тем, что есть и чего нет» назывался казначей Северного Египта (источник не выписан).
Бытие Черномырдин сказал: «Мы были, есть и будем: только этим и занимаемся».
Бытие А. Н. Толстой на прогулке подошел к Тэффи, снял шляпу и сказал: «Простите, что я существую». Она ответила: «Пусть. Это же не от меня зависит».
Бытие Дочь сказала: «Бытие определяет сознание». Семилетняя внучка спросила, что это значит. «Ну вот: что важнее – что ты думаешь или что ты делаешь?» – «Именно я?» – «Именно ты». – «Я – что думаю, а другие – что делают». И объяснила: она-то знает, что толкнулась в коридоре не нарочно, а учительница не знает, видит только то, что сделано, и записала выговор.
Валаамова «Потому она и была ослица, что заговорила, когда ее не спрашивали» («Рус. старина», 1890).
Вежливость Тарановский делал к письмам приписки для перлюстраторов: «Написано по-сербски».
Вежливость Объясняю молодой коллеге: не надо в докладе говорить «как все могут видеть», говорите лучше «как всем известно». «Как известно…» – лучшее начало доклада, каждому так приятно, что, если вы даже скажете, что дважды два пять, все воспримут это как должное. И каждые пять минут задавайте риторические вопросы. Как генерал Сипягин: «Должен ли застрельщик торопиться при стрелянии? – Нет, и напротив того».
У меня от привычки к близорукости – беспамятность на лица. Однажды я полчаса говорил с НН, потом он меня спросил: «Вот вы были знакомы с Бобровым: не осталось ли от него заметок о Хлебникове, кроме уже известных?» – «Не знаю, но есть такой Парнис, он у Боброва бывал, должен все знать». НН странно поглядел на меня: «А я и есть Парнис». – «Ах, извините» и проч. В кино я начинаю отличать мужа от любовника только к тому времени, когда это уже неважно. Однако для авангардно-загадочных фильмов (к сожалению, я их не вижу), вероятно, это даже хорошо: придает лишний слой загадочности, как близорукость близорукому – лишний слой эстетических впечатлений. (Как Ремизов-гимназист, надев очки, огорчился, что звезды из лучащихся пучков превратились в точки.) «Импрессионизм – это мир, видимый мною без очков».
Великаны Некогда вместо нас на земле жили большие люди и назывались волоты, кости их и ныне в земле находят, а после нас будут жить малые люди и называться пыжики (Записки Рус. географ. общества).
Великаны Русские великаны, подаренные в Пруссию, могли еще биться против нас в Семилетнюю войну.
Верлибр, этот подстрочник ненаписанных шедевров.
Вернее Подменяя аргументацию убежденностью или, вернее, маскируя убежденность аргументацией.
Веспер – вечерняя Венера; у Пушкина «встречен Веспер петухом» – то ли намеренная игра, то ли такая же обмолвка (вечер вместо утра), как у Мандельштама равноденствие вместо солнцестояния и старт вместо финиша. Если игра, то потому, что вся дуэль в «Онегине» нереальна: состоит из непрерывных нарушений дуэльных правил; так же нереальна, как вторая кульминация – финальная сцена, где Онегин сквозь пустой дом доходит до будуара Татьяны.
Ветер «Можно плыть по ветру и против ветра, но нельзя со вчерашним или завтрашним ветром» (Брехт).
Ветер Предсказать поведение обычного флюгера легко, но сверхчувствительного – такого, как Н. Б., – невозможно.
Вечный огонь – он горел на кухне в ресторане Вери, где пил Зарецкий (Алданов).
Взаимопомощь Выговор от Куделина за беззаботность при выборах в членкоры: «Есть такой еврейский анекдот (я семитолог, мне можно): Еврей молится: „Господи, помоги мне выиграть в лотерею!“ Бог высовывается из облачка и говорит: „Лазарь, я к тебе со всей душой, но помоги и ты мне – купи хоть один билет!“»
Вид Приказ по германским частям 1918 года на Украине: не иметь победоносного вида, чтобы не раздражать население («Минувшее»).
Вильнюс Тойнби писал о нем в 1920‐х годах: «Город, который населен преимущественно белорусами и евреями, но спорят за который литовцы и поляки».
Вина «„Нарзану нет“, – сказала продавщица и почему-то обиделась». Вот поэтому мы и ходим как провинившиеся, особенно перед продавцами, паспортистками, любыми чиновниками, и первым словом хочется сказать «простите».
Вкус мой – враг мой: это ограда, защищающая меня, но и не выпускающая меня в мир.
Вкус «Вкусовые ассоциации в именах: Давид – большой синий изюм; Владимир – початая плитка шоколада в серебряной бумажке и брызнувший красный сок из спелого королька; Александр – густо намасленная пшенная каша в серебряной ложечке и четверик стеариновых блестящих свеч» и т. д. (записи Б. Садовского). Я давно предлагал издавать литературно-критический журнал «Дело вкуса» на глянцевой бумаге с цветными фотографиями тортов и салатов.
А у меня вкусовые, как и цветовые, ассоциации связывались не с именами, а с книгами, которые в это время читал. Булка, купленная на пустой, серой утренней улице, запомнилась не вкусом, а мягкостью и картинками Радлова в книжке, над которой она жевалась. Белый размазанный по блюдцу творог, присыпанный хрустящими сахаринками, тесно связан с белыми простынями полубольной постели, где я лежу с книжкой о Робин Гуде. Помню дырчатый кусок сыра на бутерброде, когда его кусаешь, масло продавливается сквозь дырочки и по бокам, я запиваю его сладким чаем над старым «Костром» с «Джаббервоками»; пресный вкус яичного пирога на дощатой дачной террасе, где я что-то выписываю из толстого тома средневековой истории, а спелая, прогретая солнцем земляника – это мы перечитываем с А. «Старика Хоттабыча» в Тарусе…
Вкус Зачем отвергать? Если останется только то, что нам нравится, – ведь станет очень скучно. Мир, нравящийся нам, был бы ужасен. Именно поэтому Сципион отстаивал сохранение Карфагена.
Вкус Качалов чуть не заплакал от злобы на себя за то, что ему не понравилось, как читала Ермолова (Виленкин).
Вкус Кузмин ценил в Маяковском такое же приятие безвкусицы, дурного тона, какое было у него.
Вкус Положим в кастрюлю добродетели манну милосердия, польем елеем благочестия и заправим приправою смирения («Голос минувшего», 1926, № 2).
Вкус Спрашивать, «какие стихи вам нравятся», вероятно, так же непристойно, как «какие женщины вам нравятся». «Какие современные поэты вам нравятся?» – спросил нас с Падучевой и Успенским Пятигорский. Я не догадался ответить, что мы уже в том возрасте, когда любят не поэтов, а стихотворения, я сказал: Юнна Мориц.
Внематочная поэзия Цветаева была в хроническом состоянии влюбленности – такой, что неважно в кого (в ее записях 1918 года я прочитал: «Стахович умер – значит, мне нужно влюбиться в Волконского»).
Водка Сухой закон 1914 года был введен по требованию общества, правительство боялось потери дохода и тревожилось о непривычном самоограничении. Когда война затянулась, это вызвало лозунги: «Мира!»
Военные поселения Аракчеева давали небывалые урожаи; Николай I забросил их только потому, что боялся этого как бы государства в государстве.
Возраст «Молодые люди всегда одарены, это вроде возрастной болезни» (Брехт). «Пушкин нам кажется старше себя, а Лермонтов моложе, потому что он глупее, глупость очень молодит», – заметила Р.
Возраст «Он не старый, он бывший молодой».
Возраст В тридцать восемь лет я чувствовал себя на сорок восемь, в сорок восемь – тоже на сорок восемь, а в пятьдесят почувствовал себя на шестьдесят, боюсь, что в семьдесят почувствую себя на восемьдесят, а то и больше.
Сын кричал «Не хочу взрослеть!» в тринадцать лет, внучка – в пять. А я точно помню даже место на улице, под фонарем, где в десять лет подумал, что хорошо бы пропустить взрослый, ответственный возраст и сразу стать стариком, на которого уже махнули рукой и с которого ничего не спрашивают. Вот и дожил до старости – а спрос не уменьшился.
Возрождение с его национальными языками, вавилонское столпотворение европейской культуры.
Война Эйзенштейна спросили: «Ваша воинская специальность? – «Вероятно, движущаяся мишень».
Вопреки «Корабли Тихоокеанского флота даже выходят в дальние походы, – как говорят офицеры, вопреки реальности» (командующий, по телевидению). Как будто вся Россия существует не вопреки реальности. См. I, Флот.
Вопрос «У вас слишком мало неотвеченных вопросов», – сказал мне С. Ав. Общество не учило меня никаким вопросам, а природа осыпала слишком многими, вот я и чувствую себя вечным экзаменуемым, призванным к ответу.
Вор «Разделяясь без остатка на бездарных хозяйственников и талантливых воров» (кажется, 1913 год). Ср.: «Не могу понять наше правительство: почему не дать человеку то, что он все равно украдет?» (кажется, 1985 год, А. Л. Жовтис).
Вор Молитва пахаря: «Боже, взрасти… и на трудящего, и на крадящего» (зап. книжки М. Шкапской, РГАЛИ). Заговор «от волка и напрасного человека» у тувинских старообрядцев.
Воспитание В конце 1917 года было покушение на Ленина, его заслонил Ф. Платтен, доска в память которого висит на Инязе. С покушавшимся провели воспитательную работу и отправили его в Красную армию. Потом, в 1937‐м он оказался с Платтеном в одном концлагере.
Воспитание Вырастили, дали все, что могли, и внушили отвращение ко всему, что дали.
Воспитание Криминолог Н. Гернет писал: «Воспитание человека начинается за сто лет до его рождения».
Воспитание По определению миссис Пипчин, оно заключается в том, чтобы дети не делали того, что им нравится, и делали то, что им не нравится («Домби и сын»). Цивилизация как инерция садизма.
Восток и запад В конце войны немцы предпочитали сдаваться союзникам, потому что слишком разъярили нас; а японцы – нам, потому что слишком разъярили китайцев и американцев.
Врач Иногда спрашивают: «Какие книги для вас свои?» А это вопрос бессмысленный. Все книги – чужие, потому что Гораций писал не для меня, и Пушкин не для меня, и (подозреваю) писатель-сосед пишет тоже не для меня. Когда в чужой монастырь со своим уставом приходит иноверец, это страшно, когда приходит врач – это не страшно. Я хочу приходить в литературное произведение как врач. Хотя бы как патологоанатом – все же это нравственней, чем быть гальванизатором трупов. (В. Непомнящий гальванизирует мертвого Пушкина точкой зрения липовых крестьян.) Разница читательского и исследовательского отношения к тексту – это разница человеческого и врачебного отношения врача к больному. Я могу любить или ненавидеть пациента (желать ему смерти), но буду резать его так, чтобы спасти: я давал гиппократову клятву моей науке.
Все «В английской революции короля поддерживали все помещики, все крестьяне и все поэты, кроме Мильтона».
Оказывается, не все. У Гюго Кромвель говорит Мильтону: «Ты хороший стихотворец, хотя и похуже Уизера и Донна». Этот Уизер (Wither, Пушкин писал «Вайверс»), автор богом забытых сатир, тоже воевал за парламент. Г. Кружков рассказывал (по Обри), что однажды Уизер попал в плен, его хотели расстрелять, но другой поэт (Данхем) сказал: «Не надо. Сейчас самый плохой английский поэт – это он, а если его казнить, то худшим окажусь я».
Все Подростку: «Быть как все – значит быть хуже, чем каждый».
Все Англичанин сошел на берег, увидел одного рыжего голландца, потом другого и записал в книжечку: «Все голландцы – рыжие». Мы смеемся над ним, а между тем сами по одной встрече с собой решаем: все – такие как я.
Все Лотмана спрашивали: «Как вы могли принять ее в соискатели?» – «Но она талантлива». – «Все наши враги талантливы» («Вышгород», 1998, № 3).
Все Толстой говорил: «Все хвалят – плохо, все бранят – хорошо, половина очень хвалит, половина очень бранит – превосходно; видимо, Горький превосходен» (восп. Гольденвейзера).
Всё Бальмонт, впервые обежав Лувр, спросил швейцара: «Это всё?» – «Ну хоть что-то», – ответил вежливый швейцар (восп. О. Мочаловой).
Все несчастья преходящи Притча в письме Гаршина: хохол, в первый раз в жизни напившись пьян, стал горько плакать: «Как же я теперь пахать и косить буду, коли на печку взлезть не могу?»
Вудсворд Письмо Шагинян к Зощенко 4 апр. 1926 г.: «Вы – классический русский писатель, величайший сатирик нашего времени (и, пожалуй, всего человечества за этот отрезок времени, за исключением Вудсворда)…» Имеется в виду, конечно, Вудхауз. Звучит это как у Белинского: «Конечно, Гоголь великий писатель, но не мировой, потому что далеко ему до Жоржа Занда, не говоря уже о Купере!» Но в примечании, разумеется, сказано: «Вордсворт У. (1770–1850), англ. поэт, принадлежавший к Озерной школе».
В целях Перед войной, когда все никак не удавалось вытеснить на пенсию старого акад. Державина, было издано постановление, почти дословно: «…в целях развития славяноведения – закрыть Институт славяноведения и открыть кабинеты при…» (от В. П. Григорьева).
Выбор Детская выучка – как можно меньше хотеть. Хотеть предлагалось обычно лишь при выборе из двух зол меньшего.
Корявая детская записка сына из аппендицитной больницы: «Мамочка, я тут все делаю не так, возьми меня отсюда!» Я в жизни тоже все делаю не так, возьмите меня из жизни! Ненаучное выражение: стоять над душой. У меня будто целый мир стоит над душой.
Вымирание Как вымирал от одного до другого конца души Вяземский, как умирал, чтобы не вымирать, Пушкин.
Моностих Кл. Лемминг
Газета Г. Кнабе вспоминал: Соболевский был единственный, кто читал по-гречески, как мы по-французски. Не расшифровывал, а как газету.
Галлюцинация В академической поликлинике психоневролог спросила: как спите, не бывало ли видений или голосов? Я сказал: несколько лет слышу глухую, будто из‐за стены, музыку вроде гимна СССР. Она явно оказалась неподготовлена к этому и не переспрашивала.
Гамлет
Это стихотворение К. Бальмонта «Мировая пыль» из сб. «Зарево зорь». Собственно, в подтексте «…Я вышел на подмостки» – не только лермонтовское «Выхожу один я на дорогу», но и его же «Не могу на родине томиться…» и «Я рожден, чтоб целый мир был зритель / Торжества иль гибели моей».
«Гениальные вещи не являются ни по заказу, ни по самозаказу».
Генофонд Наиболее расово чистые культуры – эндогамные, каннибальские.
Гиппопотам Из потомства Готье–Гумилева («Гиппопотам с огромным брюхом / Лежит в яванских тростниках…») – наш ответ Элиоту:
И далее:
П. Орешин
Глаголы движения «Ты уже вошел в историю, чего ты теперь по ней бегаешь?» – говорила Раиса Максимовна Горбачеву в телевизионных «Куклах».
Глокая куздра Примеры из палайского языка в книге Мунэна: «Эти кувани в ташуре да будут… Эти верлахи в куволимах да будут… Ты! таццу (императив) эти картинанта! Ты! таццу эти иттинанта!» Таков же любой жаргон и любой иностранный язык для начинающего.
…Глуповата «Поэзия должна быть глуповата» – «Может быть, Пушкин имел в виду, что поэзия, по Вяч. Вс. Иванову, подчиняется правому полушарию?» – спросила Н. Он считал, что поэзия чужда рассудку и забывал лишь добавить: такому, как мой. Из рецензии: «Чем старше становлюсь, тем меньше, перечитывая, нахожу хороших стихов и тем лучше нахожу эти немногие».
Глуповата В «Месте печати» напечатали «Оммаж Проперцию» Паунда – он мне показался глупее, чем раньше. Почему? Из-за графики: все строки с больших букв, концы длинных строк переносятся не в конец, а в начало следующей строки, поэтому кажется, что это не стихи, а проза сверхкороткими – как у Дорошевича или Шкловского – абзацами; лишь потом замечаешь, что в конце их часто не точка, а запятая. А от прозы инстинктивно ждешь большей содержательности. Многозначительность Паунда достигалась прихотливым расположением строчек, а оно и стерлось.
Глухой глухого звал Текст – если он диалог, то с глухим или глухих. Текст меня не слышит никогда, а я его не слышу, если не имею филологической подготовки.
Годить Было очередное постановление о совершенствовании литературной критики и проч., В. Е. Холшевников спросил: «Вам это ничего не напомнило?» – «Нет». – «Как начинается „Современная идиллия“?» – «Заходит ко мне однажды Молчалин и говорит: „Надо, братец, погодить“. – „Помилуйте, Алексей Степаныч, да что ж я и делаю, как не всю жизнь гожу“?» – «А дальше?» Дальше я не помнил. «А дальше сказано: до сих пор ты годил пассивно, а теперь должен годить активно». Придя домой, я бросился к Щедрину: точно так, только не столь лаконично.
«Щедрина нужно было держать в козьем копыте», – сказал сын, памятуя, как Александра Македонского отравили стиксовой водой. Он поносил всю русскую литературу, потому что чувствовал, что сам бы мог ее так написать («Ну хотите, я вам буду один каждый месяц писать по такому журналу? только вот драму Островского не напишу – эх, драма, драма, и куда тебя занесло!»), только поэтому и не считал это нужным. Он это называл: «Как будто вся русская словесность есть сочинение госпожи Анны Дараган». Я утешался мыслью: а вот «Анну Каренину» не написал бы, – а потом понял, что написал бы, и все ее переживания оказались бы неопровержимым небокоптительством. От реплики Стрижа-критика: «Здесь есть что-то седое…» – пошел весь стиль «Арабесок» Белого, который вряд ли читал эту строчку. Из «Мелочей жизни» вышли «Сентиментальные повести» Зощенко. «Побольше цитируйте Щедрина в „Записях и выписках“, – сказал мне А. Осповат, – вы не думайте, его никто не читал». Может быть, и правда: 29 июня 1999 года по телевизору сказали, что вице-премьер Аксененко распорядился подготовить ему бумаги о повышении производительности труда на следующий год на 20%. Точно так старший помпадуров сын писал в сочинении: предложу статистику, по которой всего будет вдвое и втрое. Впрочем, гувернер сделал пометку: «А что с сими излишками будет сделано?» («Испорченные дети»).
Гоморра «Что ни дом, то содом, что ни двор, то гомор» (Даль).
Гордость «У таракана, ежели он в щи попадет, вид меланхолический, покоряющийся неизбежности, но гордый» (М. Шагинян – З. Гиппиус, 30 нояб.1910 г.).
Гордость Переписка О. Фрейденберг с Б. Пастернаком – переписка гордости с уничижением паче гордости.
Гордыня – в том, чтобы искать самый высокий алтарь, чтобы принести всего себя в дар. Все равно как книга, которая рвется раскрыться кому-то сразу всеми страницами.
Гортанный А. А. Зализняк писал, что всякий незнакомый язык описывается как гортанный. Так римляне всех варваров считали белокурыми и синеглазыми, даже цейлонцев (В. Кролль).
Грамматика «Они не существуют: они не спрягаются в страдательном», – писал Пастернак. А еще ведь есть и мучительский залог.
Графология Лурье ревновал Ахматову к ее почерку: не позволял посылать в журналы стихи от руки, только на машинке. Кокто поразил Эйзенштейна тем, что, увидев его, вскочил, бросился к столу и стал писать его почерком. Ничего особенного: не только Гиппиус в письмах Волынскому тоже писала его почерком, но и Цветковская в письмах Бальмонту. У Т. М. была знакомая старушка, угадывавшая характеры по почерку, я послал ей тетрадь конспектов по античности – тут и русский, и латинский, и прямой, и косой… Вернула: «Вот если бы частное письмо…»
Груз культурный: Эйдельман (жовиальный моветон, похожий на маленького слона навеселе) из побывки в Стэнфорде вывез 29 кг ксероксов.
Груша Почему у Некрасова дедушка Яков кричит: «По грушу! по грушу! Купи, сменяй!»? Потому что Некрасов брал эти крики не со слуха, а из книжной записи (какой?), не очень толковой: на самом деле коробейник, вероятно, кричал «пó-грошу! пó-грошу!» (в северных говорах это безударное о действительно звучит похоже на у, – сказал Вяч. Вс. Ив.). Не нужно переоценивать личное общение поэтов с народом. Общеизвестная песня поется «Уж-как-пал-туман-седой – на-синё-море», но Пушкин в начале 1820‐х годов знал ее только по невнимательно прочитанному книжному тексту «Уж как пал туман седой на си́нее море» и примеривал на этот ритм фантастические подтекстовки «Легконогие олени по лесу рыщут» и проч., считая их народным размером.
Γνῶθι σεαυτόν Мы начинаем познавать себя, прикладывая к себе чужие меры (многие на этом и останавливаются); потом находим свою; а потом (немногие от этого удерживаются) начинаем прилагать ее к другим.
Даже «Если бы Христос пришел сегодня, его бы даже не распяли» (Карлейль).
Дамаск, путь в Дамаск: «Там газ и отопление, там все на свете, там свет блеснет в твои глаза, и ты будешь таким, как сумеешь» (Зощенко).
Дар Дарительная формула Эразма: не книга красит место, а место книгу.
Дарвинизм Лев Толстой о нем: «Не сразу видно, что глупый, потому что кудрявый».
Дата Улица Кузнецкая была официально переименована в ул. 16 ч. 05 м. 22 января 1924 г. (дата смерти Ленина), но ее никто так не называл и не писал, поэтому ее переименовали обратно в Новокузнецкую. Ср. как в ул. Калинина переименовали не Коминтерновскую, а бывшую Воздвиженку. «„Улица 1 Мая, угол 8 марта“. – „Я вас не число спрашиваю. Я адрес“» («Комедия с убийством»). В Москве есть две улицы 8 Марта и одна 4-я улица 8 Марта. – Адрес К. Циолковского был: Калуга, ул. Брута (бывш. Коровинская), д. 81.
Дать Не «бери что дают», а «делай что дают».
Декламация Почему у нас поэты читают нараспев, а на Западе – как прозу? Может быть, и тут и там это реакция на театральное чтение. У нас в XIX веке актеры читали стихи как прозу, у них – скандировали по-классицистически; а в ХX веке поэты стали от них отталкиваться, каждый от своих. У нас поэты переучили актеров – по крайней мере, к послевоенному времени; кажется, и на Западе тоже?
Демократия «Греческие цитаты без переводов – это недемократично по отношению к читателю», – сказали Аверинцеву.
Дерево «Натуралисты показывают человека, как дерево – прохожему, реалисты, как дерево – садовнику» (Брехт).
Детерминизм «До рождения мы свободны, а выбрав рождение, полезай в кузов детерминизма» (Вяч. Иванов – М. Альтману).
Детерминизм Ребенок эгоцентрически спрашивает: для чего солнце? – взрослый спрашивает: почему солнце? Но от вопроса «для чего Пушкин?» к «почему Пушкин?» переходит только филолог, и даже не всякий филолог. Большинство успокаивается на ответе: «чтобы он мне нравился».
А. Вознесенский
Дети «Родители, берегите детей от себя. На том свете с вас спросится за неуважение не к предкам, а к потомкам». Чей-то риторический вопрос: а что потомки сделали для нас? – То, что они вас заменят.
Дети Альбрехт сказал: «Наше поколение дважды бито: сперва отцами, потом детьми. Впрочем, за одного битого… как это?»
Дефицит Целый год не выдавали академических и член-корреспондентских билетов: не было кожи для обложек.
Deus ex machina Христос – как бог из машины, пришедший вызволять запутавшееся человечество. И что из этого получилось?
Диалог с книгой: я усваиваю из нее нужное мне, как из куска пищи. Если это диалог, то диалог удава со съеденным кроликом: наверное, удав тоже думает, что оказывает кролику честь на равных. А диалог с живым – это «долотом, долотом».
Диалог «Выносливой метафорой» назвал бахтинские «диалогические отношения» В. Шмид («Проза как поэзия»).
Диалог По немецким подсчетам, в разговоре внимание может сосредоточиваться на одном предмете не дольше 1,5 минут, дальше начинаются ассоциации. И разговорное общение так разладилось, что муж с женой разговаривают в сутки 9 минут (Н. Комлев).
Диалог Sen. De ira, III, 8: «Не согласись со мной хоть в чем-нибудь, чтобы нас было двое!»
Диалог Где-то было написано, что мы (все? или только европейцы?) начинаем рассматривать картину и сцену слева направо, потому что при встрече с любым человеком ждем удара от его правой руки, которая слева от нас.
Диалог Ю. Кристевой понадобилось поехать в Китай, чтобы убедиться, как люди не понимают друг друга! Может быть, неделикатно сказать: «Если любые два друга намертво не понимают друг друга…»; тогда скажем: «Если умные сын и отец настолько не понимают друг друга, насколько мы видим в переписке Пастернака с родными».
Дискурсивность в противоположность симультанности: наконец-то я понял – это просто чтение по складам. «Вы не помните лиц, потому что они не дискурсивны – это у вас от одностороннего развития левого полушария», – сказали мне.
Дистанция Античных героев в средние века изображали в рыцарских костюмах, в Возрождение надели на них тоги. («Они одевали Энея в свои костюмы, а мы в свои мысли и чувства», – сказала Т. Васильева.) «Горе от ума» игралось в современных костюмах до ермоловских времен; Немирович еще застал самое начало антикварной реформы и сам завершил ее.
Дистанция Зарянко прилагал к картинам надпись о расстоянии, с которого смотреть.
Для Л. Баткин сказал: «Вам было бы грустно в Ферраре: дом Ариосто заперт, забит, стекла выбиты – не то что дом Петрарки с зеленым садом, где хозяин словно только что вышел». – «Что вы, я бы только радостно укрепился в ощущении, что классики писали не для нас».
Для При Пушкине «писать для себя – печатать для денег» можно было одни и те же вещи, теперь только разные.
До- Мое дело – додумывать чужие мысли. Но ведь в этом и состоит культура?
Добродетель «Насильственно привитая добродетель вызывает душевные нарывы» (Вяч. Иванов – М. Альтману).
Добродетель Если к старости все-таки становишься неспособнее к подлости, то это не природа, а привычка.
Добродетель Итальянские войны, а потом европейские войны XVI–XVII веков были школой равновесия – все на одного, а потом подавленному помогают, чтобы подавивший не слишком усилился: падающего отнюдь не подталкивают. Политика неожиданно оказывается школой добродетели.
Доброта О Сократе трудно сказать: он добрый; но хочется сказать: он по-доброму мыслит. Что это значит? Это как один коллега мне сказал: «Вам дороже истина, чем собственное мнение».
Доклад «Конец цитаты Ницше, начало цитаты Флоренского», – сказал докладчик.
Домик «Граница между природным и искусственным все больше сменяется границей между данным и новым. Какую природу рисует ребенок, впервые взявший карандаш? Домик. Искусство прежних эпох для нас такая же данность, как природа, исторический подход к ней – проблема вроде космогонической».
Дополнительности принцип Нильса Бора спросили, какое качество является дополнительным к истинности, он ответил: ясность. У А. Боске есть стихотворение «Вопросы»19:
Н. Вс. Завадская, вряд ли помнившая о Нильсе Боре, сказала: «Это о тех, кому ясность дороже истины».
Дорога В Улан-Баторе академик диктовал дорогу: выйдя из гостиницы, на северо-восток 400 м, потом поворот на восток 200 м, потом поворот… Дальше гости уже не воспринимали этих степных ориентиров большого города (от А. Куделина).
Другой Для меня Новый Арбат – другой город, а сталинские высотные дома – старый, вросший, скликающийся с Василием Блаженным и Кремлем. Как важен для нас Исторический музей в облике Красной площади, а кто сказал ему доброе слово?
Дурная привычка Ю. К. слепнет; лаборантка с его кафедры посочувствовала: «Да, если кто привык читать книги, тому без этого трудно».
Дух Я при стихе врач, а не духовник: выдаю справку о теле, а не о душе; но без меня тело вымрет и душа испарится.
Духовенства в России 1851 года было 280 тыс., а купцов всех трех гильдий 180 тыс.
Духовная цензура «Московский листок» велено было представлять в Духовную цензуру. Пастухов пошел плакаться: «Зачем? у нас ведь только отчеты о скачках…» – «А вы на них-то и посмотрите». Смотрит и видит: «жеребец такой-то, сын Патриарха и Кокотки…» (восп. Амфитеатрова). А Иванов-Разумник уверял, что Замятину запретили начало повести: «На углу Блинной улицы и улицы Розы Люксембург…».
Духовные стихи «Если есть жестокие романсы о любви, почему бы не быть жестоким романсам и о смерти?» (из доклада С. Е. Никитиной).
Духовные стихи Я понимаю, что свои духовные стихи С. Ав. пишет для себя, но для чего он их печатает? не для денег же!
Dies irae. Эту секвенцию я перевел очень давно, когда наш античный сектор ИМЛИ высиживал антологию «Памятники античной литературы», а может быть, и раньше. Кажется, этот перевод уже использовался где-то в театрах, но напечатать его ни разу не случилось. Видимо, здесь для него лучшее место.
Евклидов и неевклидов подход к анализу литературы (о них говорилось на встрече «Философия и филология») – где проходит граница между ними? Видимо, по линии здравого смысла, т. е. человеческого масштаба: неевклидовыми остаются предметы слишком малые и слишком большие, «мир в „Онегине“» и «звук б в „Онегине“». К сожалению, понятие здравого смысла сейчас само взято под микроскоп и тотчас перестало восприниматься. Это отношение между обыденным сознанием и научным: если мы начнем интерпретировать «Солнце всходит и заходит» с точки зрения астрономии, песенка получит фантастическую космическую глубину.
Европейский пейзаж Железная дорога, на горизонте тупые треугольники Апеннин в темно-зеленом меху, гребни зубчиками, будто башенками, луга выстрижены, рощи высажены, пашни вычерчены, домики кубиками.
Евнапий Сардский, фр. 54, Тойнби кончает им ту антологию античной культуры, где агора называется пьяццей, а Катон делает харакири. Некоторый трагический актер, которого Нерон изгнал из Рима, отправился с представлениями по дальним городам и дошел до таких, где о театре никогда не слышали. Зрители, увидев его на котурнах, в маске и с трубным голосом, в перепуге разбежались. Тогда он обошел поодиночке лучших людей города, каждого успокаивая и объясняя что к чему. После такой подготовки он вновь явился перед испуганным народом, изображая «Андромеду» Еврипида, и сперва постарался говорить и петь тихо и мягко, лишь потом усиливая голос и опять ослабляя. Люди бросились к его ногам и умоляли продолжать еще и еще. От приспособления к такой непонимающей толпе большинство красот трагедии утратилось – и выразительность слов, и прелесть ритма, и характеры, и даже смысл событий, – и все равно после представления они бросились поклоняться ему, как богу, и жертвовать ему все свое лучшее, пока ему это не стало в тягость и он не скрылся из города тайным образом. А через неделю в городе случилась болезнь, люди лежали на улицах, мучаясь животом, но и в изнурении они не переставали петь, кто как мог, даже без слов, которых они не помнили. Таково пришлось им тяжело от этой «Андромеды», что город обезлюдел, и пришлось заселять его вновь жителями из окрестностей.
Единственный в своем роде. Ф. Зиссерман, автор «Пушкина и Великопольского», был единственный в России еврей-гусар. Воевал у белых, арестован ЧК, на допросе заложил всех, расстрелян. Единственный еврей, расстрелянный за дворянско-монархический заговор!
Емкость Пушкин вместил наследие XVIII века и Байрона, а вместить лютый французский романтизм уже не мог. Поэты следующего поколения вместили его, но вместить Пушкина уже не могли. Таковы пределы душевной вместительности.
Жалость «Мне ее жалко, но окружающих ее – тоже» (из письма).
Желание «К сожалению, жизнь сейчас такая, что уходить на свалку по собственному желанию нет возможности» (из письма).
Желание У Платона Пол говорит собеседнику: «Разве ты отказался бы стать тираном, разве тебе не хочется казнить людей и отбирать их имущество?»
Жена «Желание Пушкина перевоспитать свою жену слабело перед ее нежеланием идти этому навстречу» (П. Брандт, цит. Б. Томашевский).
Жена Статистика: женщины чувствуют себя без мужей неполноценными, а мужья – при женах неполноценными.
Жербуаз-зверь: передние лапы как руки, питается травою, живет в норах, как кролик (Ремизов. Россия в письмах), имеется в виду тушканчик. Ср. «Ербуис, заяц земляной» в Акад. словаре 1847 года.
Жизнь «Мы никогда не жили, а только стояли в очереди за жизнью». Три четверти человечества делали то же, но мы почему-то считаем себя вправе сравниваться с четвертой четвертью.
Жизнь «Не до жи́ву».
Жизнь Анекдот: разговаривают два близнеца в утробе: «Знаешь, как-то страшно рождаться, ведь оттуда еще никто не возвращался».
Жизнь Л. Я. Гинзбург: «Жить по Достоевскому интереснее, а по Толстому важнее».
Саид Исфаганский
За Додумывать за стихотворением поэта – такая же привычка, как видеть за природою Бога. За одной и той же природой все культуры видят разных богов.
Заграница «Стоит посмотреть, но не стоит пойти посмотреть» (д-р Джонсон).
Закон «При Александре II в армии отменили телесные наказания, так что солдат мог утешаться, что его бьют не по закону, а по обычаю» (М. Н. Покровский). На интеллигентских тротуарах России 1913 года еще витал закон, а на проселках царил сплошной обычай. И все мы шкурой чувствуем («критерий практики»), что обычай в жизни важнее. Как в субботе: если бы все субботние законы исполнялись в точности, мы давно были бы в раю.
«Закон, этот простывший след пролетевшей справедливости».
«Застрелиться, слава богу…» Хотели издавать «Вертера» в «Литпамятниках», я умолял переиздать перевод XVIII века с любыми (но стилистически выдержанными) доработками и переработками – можно даже параллельно с современным переводом, как иноязычный, – но не убедил. Хотя, читая любой перевод ХX века, всякому ясно: не может такой переведенный застрелиться!
Затылок «Ложечка лежала затылком в красной лужице» (Б. Житков. Виктор Вавич).
Звезда Зачем затемнять жизнь отчаянием и тяжестью? «От этого гаснет твоя звезда на небе, а что делать тому бедняку, который уже привык, чтобы она ему светила? Ты его и не знаешь, а он есть. Ради него не должна ты омрачать своей звезды, как бы тебе ни было тяжело» (Е. Гуро. Бедный рыцарь).
Здоровье Не здоровья, а «независимости от здоровья» желал в письмах Лесков.
ПИСЬМО ИЗ ИЕРУСАЛИМА:
…Пишу тебе из Святой земли, куда прибыл благополучно и, ступив на которую, особого трепета не ощутил. Жалко, что не удалось поехать вместе. Ты бы здесь и больше увидела, и лучше бы описала (глядишь, и пригодилось бы для какого-нибудь рассказа). А я, как ты знаешь, новых впечатлений боюсь, по улицам хожу с отключенным слуховым аппаратом и почти зажмурившись, предпочитаю отсиживаться в гостинице.
Помнишь, когда Аверинцев в первый раз был в Иерусалиме, он очень гордился, что его гостиница стояла окнами на Геенну. Вот в нее меня вместе со всей делегацией и поселили, она как раз для конференций средней руки. В лакированных коридорах висят фотографии великих людей, которые там жили: Леви-Стросс, Ален Гинзберг, Чеслав Милош, Ю. Любимов, Деррида. Аверинцева пока еще нет.
Геенна – это расщелина между старым городом и новым городом, по травяным склонам ее сидят художники с мольбертами, а по асфальтовому дну бегают автомобили и автобусы. По ту сторону Геенны стоит старый город – акрополь в аккуратных серых стенах, строенных султаном Сулейманом. Внутри – улички, как коридоры, продираешься сквозь выставленные на продажу рубашки, сумки и ювелирные побрякушки, а у порогов вальяжно сидят и попыхивают черноусые лавочники. Кварталы – христианский, армянский, еврейский и мусульманский. На месте Соломонова храма стоит Омарова мечеть, видом точь-в-точь храм Христа Спасителя, я туда не подходил.
Новый город напоминает одновременно Тбилиси и Ереван. Как Тбилиси, он весь громоздится на склоне, сходящем в Геенну; улицы серпантином, повороты – высший пилотаж для шоферов, вместо проходных дворов – сетка каменных сотов с оградками в пояс человеку, непредсказуемо соединенных лабиринтом лесенок. Вдоль улиц парапеты, из‐за которых торчат черепичные крыши и кипарисные верхушки нижнего яруса. Но все облицовано в один цвет, как в Ереване, – светлый камень, чуть коричневый и серый, притворяющийся неотесанным. Кто строит нечто могучее и бетонное, все равно обязуется драпировать его светлым камнем. На зеленых полянках каменные кубики-кенотафы.
Посредине города – памятник лестнице Иакова: каменная, узкая, крутая, без опор, ступеньки стесаны, чтобы никто не лазил. У въезда в город – конструкция из больших красных полуколес: памятник красной корове из народной поговорки, но саму поговорку наши спутники вспомнить не могли. Говорят, когда в городе стали строить стадион, то вышли протестовать евреи-фундаменталисты с плакатом: «Стадионы – грекам!»: они живут еще маккавейскими временами.
Если в Италии казалось, что там съехалась вся русская наука, то здесь тем более. По меньшей мере трое, кому я сам писал рекомендательные письма… Встретил Сегала. Десять лет назад он еще был тугой и брызжущий, теперь уже серебрист и держится римским патрицием. Спрашиваю Тименчика: что преподают? Что хотят: в позапрошлом году за семестр разобрали три страницы «Дара», в прошлом – две, в будущем, наверное, один абзац. Много студентов из России, два года они учатся бесплатно, а потом куда-то рассасываются…
Конференция называлась «Русская литература после падения коммунизма». Все тихо удивлялись: а разве коммунизм-таки был? Бурнее всего обсуждались сочинения Пелевина и скандальная повесть Наймана про его друзей и современников. Я сказал Найману: «Кажется, я здесь единственный, кто ее не читал», – он ответил: «Слава богу». Приятие советской действительности советскими писателями называли «стокгольмский синдром» (это когда заложник отождествляет себя с захватчиком).
Из всей конференции я лучше всего запомнил один японский тезис: «в ситуации или-или ни один выбор не правилен». Давай примем его за руководство к действию…
А въездно-выездный город Тель-Авив стоит на месте городка Луд (или Лод?), откуда будто бы был родом наш московский Георгий Победоносец. Привезу ему привет с родины…
Игра Э. Ле Шан: «Атомная бомба – это детская игра по сравнению с детской игрой».
«Игрология, или физическо-химическое учение о соках человеческого тела, соч. Г. Доктора» (видел сам в букинистическом магазине).
Идеал Ремизов в детстве хотел быть кавалергардом, разбойником и учителем чистописания («Лица»).
Импичмент В. Шендерович в «Итого»: «то ли дело при Павле I: пришел к нему Зубов с представителями от общественности, и за три часа – полный импичмент. Семья была в курсе».
Имя Был вечер Окуджавы, ответы на записки: «Как вы относитесь к критике?» – «К добросовестной хорошо, к доносам плохо – вот, например, на последний роман в Комиздате была рецензия, что это сионистская пропаганда и что о русской истории можно писать только русским. Иногда рецензенты скрывают имена, но этот назвался – Ю. Скоп». Потом пришла записка: «Я вас еще больше уважаю за то, что вы назвали мерзавца мерзавцем»; он ответил: «А мерзавцем я никого не называл».
Имя Датского киноактера Псиландера в русском прокате называли Гаррисон; дочь Эола Канаку («хорошее имя, от kanache, «вихрь», – соглашался Зелинский) тот же Зелинский в «Героидах» переименовал в Эолину, чтобы не звучало как «каналья»; автомобилю «Жигули» из‐за созвучия с «жиголо» при экспорте дали имя «Лада»; что делают с китайскими словами в русской транскрипции, знают все китаеведы. Самый яркий пример – как «Скачку Елды» (Yeldis) Ренье Гумилев переименовал в «Кавалькаду Изольды». Но точно так же и Пушкин переименовал Матрену Кочубей в Марию.
Имя Диодор Крон называл своих рабов союзами и предлогами (Alla men…), полагая, что они в обществе недостаточно самозначимы.
Имя Селение Сново-Здорово (упомянуто в газете).
Сыну приснился человек по имени Кузьмич Соломонович.
Иначе Некто хотел умереть не в надежде, что будет лучше, а что будет иначе. Так критик на вопрос стихотворца, которое из двух стихотворений печатать, выслушав первое, сказал: печатайте второе (Вяземский).
Инструкция начиналась словами: «Внимательно прочитывайте инструкции, даже если вы не собираетесь им следовать…».
«Интеллигент – это тот, кто, споткнувшись о кошку, назовет ее кошкой». А персонаж у Тихонова («Рискованный человек») говорит, перефразируя, кажется, Бодлера: «Человек досуга и общего развития», – в точном античном понимании otium. Как «профессиональный революционер», так сложился и «профессиональный интеллигент» – В. Лоханкин.
Интеллигенция В XIX веке это – воспитанные для управления и сосланные в умственный труд. В ХX веке это – воспитанные для умственного труда и сосланные неизвестно куда.
«Интеллигенция не может простить Ельцину, что ее не перевешали», – сказал кто-то. «Да, – заметила М. Чудакова, – есть такая вещь: комфорт насилия, интеллигенция все не может от нее отвыкнуть».
Интернационал П. говорил Л. Столовичу, что его цель – создать международный союз патриотов.
Интерпретаторство Через катехизис Филарета можно истолковать не только Пушкина, а и Калидасу. Собственно, это и делают те, кто объявляет шопенгауэровца Фета и демонопоклонницу Цветаеву глубоко религиозными поэтами, потому что «как же иначе?».
«Интерпретация Мандельштама – дело настолько разрушительное…» – начал доклад не кто иной, как Г. А. Левинтон.
Интонация Когда на стиховедческой конференции в подавляющем и уничтожающем натиске вихревой интонации докладчика соседствуют дважды два и стеариновая свечка, то они неминуемо уравниваются по смежности.
Искренность «Сию книгу читал и аз многогрешный, обаче за скудоумие мое, или что иное препятствие бяше, весьма мало пользовался. Даруй же Господи прочим и могущим вникнути в ню лучший разум и полезному чтению слышание» (Вяземский).
«Искренность, выдерживаемая в поэзии последовательно, становится позой» (доклад Вяч. Иванова о Байроне). А П. Вайль говорил: «Не искренность авторов важна, а тот способ, который они избрали для ее преодоления».
«Искренность – то, что вы думаете, честность – то, что вы делаете. Искренность – на зрительских трибунах, честность – на арене. Когда акробат подхватывает акробата, никому нет дела до того, что он чувствует».
«Испортил себе некролог человек», – выражение Кизеветтера.
Испытание «Был на испытании у умственности и выпущен по безумию» (Лесков).
Искусство ради искусства. «Минойская письменность к тому же давала возможность экономить бумагу. Гаспар не знал, зачем он ее экономит, но приятно было уметь» (Е. Витковский. Земля Святого Витта). Вот, оказывается, откуда мой мелкий почерк.
Истина Гете сказал: между двумя крайностями лежит не истина, между ними лежит проблема.
Истина На конференции в Риге из аудитории вставал неизвестный человек и каждому докладчику задавал вопросы. По докладу «Концепция исследователя и ее вариации» он спросил: «Ленин сказал: из столкновения мнений рождается истина. Сартр сказал: исследователь – это охотник, который неожиданно подсматривает нагую красавицу и насилует ее взглядом. Какая истина рождается из столкновения этих мнений?» Меня он спросил: «Эпикур сказал: будем вести хозяйство и наслаждаться философией. Бергсон сказал: художник радует нас образами через слова, но это возможно лишь благодаря ритму. Какая истина рождается?..» Я честно сказал: не знаю. Это была та конференция (1984 год), на которой было сказано: наконец-то наше время нашло определение: «длительное совершенствование зрелого социализма». Из-за этой длительности Чехов и становится вновь актуальным писателем.
История Сентенция в газете: «Почему мы умеем делать только историю, и больше ничего?»
Источники А ведь Марк Аврелий начинает свою книгу не как философ, а как филолог: от отца во мне то-то, от матери то-то, от наставника то-то…
Источники Перед метро «Арбатская» – стоячая православная демонстрация, плакаты с ерами: «Без истинного покаяния проклято всякое голосование – Иов. 7:48-49; Исх. 30:1-3».
Источниковедение Д. Толстой, министр просвещения, говорил: «По французской поговорке, нет пророка в своем отечестве». Е. Киселев в «Итогах» (11. 8. 1996), наоборот: «Как сказано, кажется, в Писании, единожды солгавши, кто тебе поверит?» А Тургенев (напоминает Алданов) в «Песни торжествующей любви» приписывает любовь сильна, как смерть «одному английскому писателю».
Итака – насел. пункт в Читинской обл., ок. 300 км от Сретенска к Становому хребту.
Их нравы И. Альтман сказала: есть региональные нравы и характеры. Киев работает под флагом благожелательности, киевлянка скажет: «но ведь недостатки всюду есть!» – а киевлянин: «может быть, нужно помочь?» Одесса хочет, чтобы все за нее работали, потому что она так уж за всех печется и за всех страдает, – этого много у Ахматовой, хоть она и рано покинула Одессу.
Кабельтов, 185,3 м, почти точно равен греческому стадию – почему? Это 100 двойных шагов (примерно длина станции метро «Арбатская», той, что построена позже, – белой, с широкими колоннами).
Из Ш. ван Лерберга 20
(конспективный перевод)
Каверин на Тыняновских чтениях сидел в президиуме строгий, как иссохшая Немезида.
Как все Единственный из слышанных хороший анекдот о Сталине. Умер Сталин, журналист хочет написать о нем необычное, идет к банщику. «Какой он был?» – «Ну, как все, любил попариться». – «А потом?» – «Ну, как все, спросит пива и воблы». – «А потом?» – «Ну, как все, пойдет ругать советскую власть».
Каламбур В Тарту за спиной университета стоит бронзовый его фундатор Густав-Адольф, как маленький мушкетер. В конце 1940‐х его сняли, потому что король. Но в память о нем водрузили на пьедестал вазу (его имя означает сосуд). После самостоятельности опять открыли памятник, только поменьше.
Кальвинисты удивительно походили на большевиков: их мало, но они воинственны. Когда Голландия начала отлагаться, в ней было не больше 10% кальвинистов: в городах – кальвинизм, в деревнях – католичество. Протестантская этика, на которую мы так умиляемся, начиналась с церковных экспроприаций и иконоборческих погромов, а арминианство Олденбарневелта и Гроция было попыткой кальвинизма с человеческим лицом. Н. Котрелев добавил: и еще он внес этику газавата, войны на уничтожение, вместо кондотьерской взаимобережливости. Бицилли замечал, что «тварь ли я или право имею?» – предельно кальвинистский вопрос.
Кампания Был в Таллине Белькинд, писал о «Повестях Белкина» (так!), выбрался туда из Средней Азии; в 1949‐м ему приказали найти двух космополитов, иначе арестуют его самого. У него не хватило духу, он пришел и сказал: «Вот, один у вас уже есть, другого ищите сами». Пронесло (рассказывала Л. Вольперт).
Канон В «Ист. вестнике», 1904, № 25, в некрологе приводится перечень больших писателей, чьи полные собрания сочинений купил А. Ф. Маркс: Г. Данилевский, Шеллер, Лесков, Григорович, Чехов, Щедрин, Потапенко, Майков, Полонский, Фет, Случевский, Станюкович, Авсеенко, Луговой, Терпигорев, Головин-Орловский, Баранцевич, Ромер, Альбов, Полевой, Сементковский, Стерн.
Кант. По Канту переживалась в детстве советская действительность: видели одно, говорили другое, но это было не противоречие, а различение феноменального и ноуменального плана, «мира общего и мира единичного» – отдельные недостатки сами по себе, прекрасная суть сама по себе, даже если недостатков – тысячи. («Считалось, что изучать то, что мы видим своими глазами, – уже не марксизм», – сказал один социолог.) Но, собственно, так ведь устроен и весь Божий мир: вероятно, за тем, что мы видим, стоит что-то более важное, чего мы не знаем по недостатку информации, но принимаем на веру. В философии и религии такое отношение культивируется, а в политике почему-то осуждается. Хенрик Баран осторожно спросил меня: если все-таки можно было жить и не знать, что происходит на самом деле, то как наступало узнавание? Я ответил: у кого как. Вот я любил историю и заметил, что в учебнике 4‐го класса Шамиль, с бородатым портретом, был борцом за свободу, а в учебнике для 9-го – агентом английского империализма, и что учебник европейской истории между средними веками и Новым временем так обезличивался и выцветал в скучные абстракции, что приходило в голову: власть боится истории, а это, по Марксу же, нехорошо. Поэтому 1956 год был для меня меньшим потрясением, чем для большинства студентов-сверстников.
Кантовская эстетика «Он уважал величественное, если оно было бессмысленно и красиво; если же в величественном был смысл, например в большой машине, он считал его орудием угнетения масс и презирал с жестокостью души» («Чевенгур»).
Катулл искал несуществующих слов для новоизобретенных чувств, как петровский стипендиат, который писал, что был инаморат в венецейскую читадинку.
«Кафедральная эротика», – выражался Бобров о «Noctes Petropolitanae» Карсавина 1922 года («Мужественность насильственно разверзает, расчленяет единство женственности, разрешая его во множественность…») с припоминанием «…и зыблет лжицей до дна вскипающий сосуд» у Вяч. Иванова. «Эротический солипсизм», «эротическая разруха» – выражения Ф. Степуна.
Кирпич «Всякий кирпич падает с неба», аминь, – писал Чаадаев А. И. Тургеневу в 1836 году.
Кл. Лемминг
Китай Вторую часть «Робинзона Крузо» не напечатали в «Библиотеке всемирной литературы» из‐за фразы: «Доехал до Урала, а всё Китай».
Классик В «Литпамятниках» утверждали заявку на «Фрегат „Паллада“», я шепнул Егорову: «Гончаров – вот кто умел при всех режимах оставаться классиком!» Он ответил: «Профессора Адамса в Тарту знаете? Так вот он говорит: „Я жил при восьми режимах, и при всех писателям было плохо“».
Колхоз «Это все равно вот ежели б одно письмо для всей деревни писать» (Гл. Успенский).
«Комизм условнее, чем трагизм, – сказал Б. Успенский. – Ребенок рождается плачущим, и его еще нужно научить улыбаться».
Комиссар синодальной команды. Он заведовал церковным имуществом в провинциях.
Коммунизм «Если бы граф Аракчеев продержался подольше, давно бы у нас на каждой версте стояло по фаланстеру, а шпицрутены бы сами отпали за ненадобностью» (Салтыков-Щедрин. Письма к тетеньке).
Компромисс «Переводчик должен искать компромисса между насилием над подлинником и насилием над своим языком». Это так же невозможно, как убийце искать компромисса, убить одного или другого. Можно, конечно, убить обоих (переводчики часто так и делают), но это будет уже не компромисс, а перевыполнение плана.
Конспективные переводы Сталин много читал современную литературу, но по 20–30-страничным дайджестам, которые писали для него секретари. Вероятно, они сохранились и должны быть очень интересным предметом для исследования.
Континуум Из письма: «…хотя встречаться нам все реже позволяет разваливающееся пространство, а списываться – съеживающееся время».
Концовки горациевских од похожи на концовки русских песен – замирают и теряются в равновесии незаметности. Кто помнит до самого конца песню «По улице мостовой»? А от нее зависит смысл пушкинского «Зимнего вечера».
Коньяк В Мандельштамовской энциклопедии при ссылках на научную литературу можно ставить звездочки, как в кинорейтинге: * – не тратьте времени, *** – почитайте, ***** – необходимо.
Коррупция В демократических Афинах судебные коллегии приходилось делать огромными во избежание подкупа – «не потому, что бедняки были подкупнее богачей, а потому, что купить их можно было меньшею суммой» (Белох). В Венеции при выборах дожа во избежание подкупа жребием выбирали первую комиссию – 30 избирателей, из тех жребием вторую – 9, они тайным голосованием третью – 40, те четвертую – 12, те пятую – 25, те шестую – 9, те седьмую – 45, те восьмую – 11, те девятую, окончательную, – 41. Все равно подкупали.
Кухня «Мы-то, известно, на кухне у Господа Бога живем…» – начало рецензии Замятина на Келлермана.
Кухня Л. Баткин о коллективных трудах ИВГИ: как цыганский борщ – каждый валит, что украл, а борщ получается, потому что плохого не крадут.
Куцый Когда отлучили Толстого, акад. Марков написал в Синод: я тех же взглядов, прошу отлучить и меня. Синод ответил: Толстого все читают, поэтому взгляды его опасны, а вы до анафемы еще не доросли. Есть пословица: «Далеко куцему до зайца».
Латинские поэты «Мы начали: они были не такие, как казались до нас; и кончаем: и они были не такие, как кажутся нам».
Латынь Рассказывала М. Е. Грабарь-Пассек: ее муж в начале ХX века ездил в Испанию, в области басков у него сломалась коляска, местные по-испански не понимали, объясняться с ними пришлось через священника, а со священником – по латыни. Когда с доктором Джонсоном случился первый удар, он для проверки умственных сил обратился к Господу по-латыни.
«Литературные памятники» Цвет серии определили советские паспорта – на обложки был пущен избыток материала, шедшего на паспорта. Изменилась форма паспортов – начались перебои с оформлением. А на «Памятники науки», тремя годами раньше, шел материал импортный, был 1945 трофейный год. Внедрялась форма для дипломатов, для школьников и для серий (от Б. Ф. Егорова).
Лицо Седакова подарила свою книжку папе римскому, он сказал: «Читаю по стихотворению в день, а когда не все понимаю, то смотрю на вашу фотографию – и помогает»; она удивилась. Я вспомнил Слуцкого «Какие лица у поэтов!» и совет Е. Р. о несуществующем портрете Мецената: пусть это будет человек, читающий свиток, который закрывает от нас его лицо. Я бы на многих фронтисписах предпочел именно такие портреты. Кстати, моя любимая фотография подростка-сына, где он читает лежа и лицо заслонено раскрытой книгой.
Личность «У Макса вместо личности – пасхальное яйцо, а в нем другое, третье» (Шенгели о Волошине в письмах к Шкапской). См. III, Точка.
Личность – эта точка взаимодействия наследственности с изменчивостью, то есть неизвестного с неуловимым.
Личность Самоощущение, по Беркли наизнанку: «Я существую, пока вы на меня смотрите». В переводе с галантного языка: «…пока ваше социальное отношение направлено в мою сторону».
Личность Т. В. говорила, что в письмах Цицерона нет лиц, а только перекрещивающиеся отношения; антитеза письмам, скажем, Розанова.
Логика Я его боюсь, потому что он обо всем говорит только с середины. См. V, Несомненно.
Лотман Венцлова сказал Бродскому: не любишь Лотмана, а у самого получается похоже. Бродский ответил: это единственный способ быть понятным.
Лошадь как лошадь Вейдле о Северянине: помесь лошади с Оскаром Уайльдом. Кузмин об Анне Радловой: помесь лошади с Полой Негри.
Любовь «Искал безответной любви, потому что чувствовал, что неспособен к ответной». «Я люблю вас больше, чем это хорошо для меня, но меньше, чем это хорошо для вас» (с английского, откуда?). Г. Адамович цитирует (и тоже не помнит откуда): «Я тебя люблю, но это не твое дело».
Любовь «Я не завидую, что его любили, я завидую, что он умел уклоняться», – сказал С. Ав.
Любовь Был кинофильм «Осенний марафон», при выходе из кино я расслышал женский разговор: «Не люблю таких мужчин». В печати после некоторого колебания общий тон рецензий был: партия и правительство не любят таких мужчин.
Любовь Волошин называл матросские бордели «любилища».
Любовь Из записей Крученых о Маяковском. Олеша: «Не обижайте НН. Его надо любить». Маяковский: «Надо, но не хочется».
Любовь Цявловские устроили опрос: за что вы любите Пушкина? Бонди ответил: «За то, что он не Горький, не Бедный, не Голодный». А Виноградов сделал пустые глаза и спросил: «А откуда вы взяли, что я люблю Пушкина?»
Любовь «Кого любишь, того и ярмо несешь» – вавилонская пословица (Ламберт).
«Чего ей нужно? у нее – все, чего она хотела в жизни, кроме счастья. Чего мне нужно? у меня – то же». (Из разговора.)
«Любопытство: Человек стал человеком, овладев огнем, а это значило: в нем одном из всех животных любопытство пересилило страх». Так и в Петре I любопытство к Европе пересилило страх перед ней.
Мало Я мало даю, но стараюсь еще меньше брать.
Город Мальта при Павле I приравнивался к российским губернским. «А в Адрианополе губернский суд», – писал у Щедрина Николай I Поль де Коку.
Маразм От В. С. Баевского: Б. Я. Бухштаб пришел к директору своего института: «Я совсем слепой и глухой – наверно, пора уходить в отставку». Директор твердо ответил: «Профессоров мы держим до полного маразма». («Он понимал, что у них в „крупе“ (Пединститут им. Крупской) должны плавать такие овощи, как Бухштаб и Рейсер», – пояснила Л. Вольперт.)
Марр Может быть, сал–бер–йон–рош были у полиглота Марра лишь мнемоническим приемом для овладения новыми рядами слов, а потом он поверил, что они существуют и объективно? А палеонтологический метод – не только обида за языки без письменного прошлого, а и сохраненное детское удивление, что по-русски «да» значит одно, а по-немецки – другое? Отец его Джеймс родил его в 85 лет от грузинки, это могло быть генетической травмой; мать говорила только по-грузински, отец только по-английски и по-французски. Что это, как не наглядное скрещение языков?
Матизмы Под Иркутском разбился Ту-154, Москва затребовала черный ящик, «но снять всю матерщину». Осталось несколько разрозненных бессмысленных слов. Восстановили мат – катастрофу удалось реконструировать до подробностей.
Мемуары «Секрет истины: кто дольше живет, кто кого перемемуарит» (В. Шаламов). Это он пересказывает Ф. Сологуба, который говорил: поэт в России должен жить долго, чтобы пережить всех мемуаристов. Иногда кажется, что именно ради этого долго жила Ахматова.
Из писем помещицы Коробочки к Ф. А. Петровскому: «Г-н Гольденвейзер на двух фортепьянах играл „Эй, ухнем“, а г-жа Яблочкина исполняла стриптиз. Прочитав эти мемуары, одобрила все, кроме того, что о ней».
Меньшее Как демократия – меньшее из политических зол, так разум – меньшее из философских. Разум, этот брайлевский шрифт нашей слепоты.
Мертвые языки При переиздании «Путешествий» Брема самым трудным оказалась зоологическая терминология, и притом латинская: ничто не меняется так быстро, как она.
Местоимение в зачине без предварительного называния героя – это и «Стоял он, дум великих полн», и почти одновременное «Скребницей чистил он коня».
Местоимение мистическое («Когда я с Байроном курил»). О совпадениях: «Перевожу студентом стихи Байрона о прощании с Ньюстедским аббатством и здороваюсь с ним уже на склоне лет, оказавшись рядом с ним на симпозиуме по случаю столетия Ахматовой» (восп. Вяч. Вс. Иванова в «Звезде»).
Местоимение «А скверная вещь эта холера! Того и глядишь, что зайдешь ты завтра ко мне… нет, зайду я к тебе, и скажут мне, что ты умер» (Вяземский).
Местоимение Август выгнал за разврат юношу Геренния. Тот умолял: «Что скажет мой отец, узнав, что я тебе не понравился!» Август ответил: «А ты скажи, что это я тебе не понравился» (Макробий).
Мета- НН не любит Бродского за смешение стилей, за допущение вульгарности. «Сексуальной?» – «Нет, так сказать, метасексуальной».
Минус-прием Искать мифопоэтические мотивы в стихах – все равно что умиляться: «в этом стихотворении присутствует буква м!» Плодотворнее было бы изучать отсутствие тех или иных мифологических мотивов.
Мифопоэтический анализ Сведение Гоголя или Блока к «фольклорно-мифологическим архетипам» освобождает от необходимости знать Гофмана и вообще типологию переработки архетипов, если таковая существует. Ссылка на «Мифы народов мира» освобождает от всех забот. Я говорил диссертантам: «Ссылаться на „Мифы народов мира“ так же непристойно, как на энциклопедию Брокгауза, там ведь при каждой статье – библиография, проработайте и ссылайтесь», – но не встречал понимания.
Мнемоника Если наука есть упрощение мира для его удобоохватываемости и удобоусвояемости, то структурализм есть не что иное, как хороший мнемонический прием.
Много «Государь Николай II – многосторонний мученик», – пишет Нафанаил, митрополит Венский и Австрийский.
Много «Он многограннее даже отрывного календаря», – сказала НН об одном очень крупном структуралисте.
Мода М. И. Твардовскую спросили, не хочет ли она поставить крест на могиле мужа, она ответила: «Александр Трифонович не был модернистом».
Может быть Завещание Моммзена: «Я знаю, что по правилам должны будут написать мою биографию, – я решительно прошу этого не делать. Всю жизнь я прожил среди историков и филологов, не будучи ни тем, ни другим [он был юрист по образованию, оттого и совершил переворот в римской историографии], и мне совестно; кроме того, всем самым глубоким и, может быть, лучшим во мне я всегда хотел быть гражданином, а жил в стране, где можно было быть только служащим. Пусть издают мои книги, пока они нужны, а обо мне не думают».
«Молодость человека простирается до первого расстройства его здоровья и возобновляется, только когда оно совершенно исчезнет» (Чернышевский, письмо 1887 года).
Морг Исследуются творческие явления? Нет, мертвые остатки творческих явлений. Мировая литература – это их бескрайний морг. Анекдот навыворот: «Какие приметы вашего покойника?» – «Он кашлял…»; а теперь вместо этого: «Вот покойник; скажи, Кювье, кашлял ли он?» Никакая любовь к трупу Расина или Пушкина не поможет на это ответить, сколько ни говори постструктуралисты: «Ну что, брат Расин?..»
Москва «Москва – что доска: спать широко, да везде гнетет» (Пословицы Симони).
Москва и Петербург В. Н. Топоров – к разнице петербургского и московского текста: все ленинградцы, откликавшиеся на его «Бедную Лизу», жалели, что в книге нет указателя, а из москвичей – ни один. А. Битов сказал: если сбросить на Ленинград нейтронную бомбу, то останется Петербург, а к Москве это неприложимо.
Музейное отношение к прошлому. Кто-то очень ратовал за него; а я боялся, что оно очень уж легко переходит в музейное отношение к настоящему.
Музыка Первую гильотину строил клавесинных дел мастер Т. Шмидт.
Мы кузнецы «Христианский накал» – выражение А. Журавлевой. Я вспомнил, как поступал на работу в ИМЛИ в 1957 году и А. А. Петросян, партийная командирша, свирепо спросила: «Почему вы такой небоевитый?»
Мысль Отношение к своей мысли: шаг влево, шаг вправо считается побегом.
Мысль «В Германии мысль нужна, чтобы ее обдумать, во Франции – чтобы высказать, в Англии – чтобы исполнить, у нас – ни на что» (Чаадаев, 1913, 1, 153).
Мысль и чувство («Сердце и думка» назывался роман Вельтмана). Воспоминания Лотмана – как, когда их отправляли на фронт, старый мужик сказал: «Погляжу я на вас – и жаль мне вас. А подумаю я о вас – ну и хрен с вами».
Эти мои стихи про Калигулу были напечатаны в тартуской газете «Alma mater». Нравились Аверинцеву.
На За «характеристикой на…» уже появилась «рекомендация на…». Это экспансия словосочетания «донос на…». Каждая партия предлагает свои рецепты на возрождение России — слова митрополита по телевидению.
Надсада И. Ю. Подгаецкая сказала: «Тютчев был не трагического склада, а в стихах старался быть трагичен, отсюда душевная надсада».
«Наш народ идет от надежды к надежде». Кажется, эта формула уже устарела.
Наслышка (ср. Рабле). Блок впервые прочитал Ницше в 1906 году, а до этого все было понаслышке. Ибсен написал «Катилину», еще не читав Шекспира, а только о Шекспире.
Наука «Мы умрем и станем наукой», – сказал Андрей, чернобыльский подросток.
Наука «Философия была наука, а теперь – дисциплина», – сказал моей дочери преподаватель марксизма.
Наука Хомский говорил, в пику Якобсону, что от поэтики до лингвистики – как от французского садоводства до ботаники. Якобсон отвечал: генеративисты принимают свое невежество за научные перспективы.
Наука Что было искусством, отделяющим умных от глупых, становится наукой, соединяющей их. Хаусмен жизнь положил на то, чтобы это задержать.
Наука Уже выявляется тенденция финансирования науки: в четные годы удается получить половину обещанного, а в нечетные годы – треть. А в високосные? – Еще не набралось наблюдений.
Что такое общее собрание Академии наук? Это вот что такое. По нескольким десяткам научных институтов числятся то ли 1000, то ли 1500 действительных членов и членов-корреспондентов Академии наук: это, так сказать, генералы от науки. До последних десятилетий это были действительно лучшие ученые всех специальностей; сейчас, говорят, стало больше случайных людей. Раз или два в год они все съезжаются в Москву и тесно сидят в большом зале-амфитеатре. Все они старые и важные. Для большинства это просто возможность увидеться и поговорить с коллегами из других городов, хотя найти знакомого в такой толпе трудно. Для меньшинства – возможность поинтриговать с начальством, чтобы на такую-то должность выбрали нужного человека. Для всех – возможность услышать, сколько денег на науку обещает дать правительство в новом году. Уже, говорят, обнаружены закономерности (см. выше). Один раз от правительства выступал сам тогдашний премьер-министр – тот, которому принадлежат (по другому поводу) бессмертные слова: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Он обещал много, но тот год был нечетный. В другой раз приезжал выступать сам президент. Здание Академии было оцеплено караульными машинами за целый квартал, и охранников в здании было больше, чем академиков.
Науки прогресс «Размостил улицы, вымощенные его предшественниками, и из добытого камня настроил себе монументов».
Не Вл. Соловьев писал: цель наша – не «сделать жизнь раем», а «не сделать жизнь адом», т. е. не «люби», а «не мучай». Бернард Шоу о том же: «не делай ближнему, чего себе не хочешь». Это лучше, чем «делай ближнему то, чего себе хочешь»: у вас могут оказаться разные вкусы.
Не Пирогов говорил: лучшая операция – та, которую удалось не делать. Кто сказал: величайшее событие XIX века – это та пролетарская революция, которая не произошла в Англии? А величайшее событие ХX века – та пролетарская революция, которая не могла произойти в России.
Небытие «…Челобитную о небытии – повелеть ему не быть в анатомии, куншткаморою называемой: уже стало ему, горькому, тошно вся дни провождать посреди лягв, и младенцев утоплых, и слонов, – и за то свое небытие даст он впятеро больше противу своей цены» (Ю. Тынянов. Восковая персона). Отработал ли я впятеро за свое небытие?
Невстреча «Лотман тоже уклонился от знакомства с Ахматовой», – сказала М. П.
Когда Е. Р. с товарищами была у Ахматовой, там на столе лежала машинопись с чем-то очень интересным про Гумилева, но Ахматова быстро отняла: «Вы не там читаете», – и раскрыла на другом месте, где было написано, что юная Аня Горенко была просто прелесть.
Неизвестность «А песнь о Роланде сочинил неизвестно кто, да и то, наверно, не он».
Неизвестность На которую ногу хромал Байрон – неизвестно (А. Азимов. Книга фактов).
Немезида «Бледный огонь» в пер. Веры Набоковой: стихи переведены нерифмованным разностопным ямбом, как сам Набоков переводил «Онегина», и с таким же разрушительным результатом – Пушкин отмщен.
Неожиданность Дочь о женихе: «Никогда не представляла, что ко мне можно так хорошо относиться».
Несварение мозга: то мысль не поспевает за материалом, то материал за мыслью, и за всеми не поспевают руки.
Не сейчас Евтушенко бывает артистичен и обаятелен, в разговоре он несколько раз сказал: «Я человек проданный и купленный». Это сознание, наверное, есть у многих; а разница людей – в выборе пути после этого сознания: искупать или увязать. Большинство, кажется, выбирает третий путь: искупать, но не сейчас. (Domine, da mihi castitatem, sed non statim). М. О. Чудакова сказала: и Евтушенко, и Вознесенский в жизни ребячески любят щеголять, как мальчики в новой матроске, но Евтушенко щеголяет перед всеми, а Вознесенский перед начальством.
Никакой Выражение «И никаких!» пошло от команды «Смирно, и никаких движений!»: в пехоте оно сократилось до «Смирно!», в коннице – до «И никаких!». Так объясняет гусар у Боборыкина.
Новинкой была при Пушкине езда тройками, потому она и переживалась поэзией: в XVIII веке ездили цугом или парами.
Номер Карсавина спросили в ЧК, не брат ли он первой балерины, он ответил: нет, первая – это Павлова, а Карсавина – вторая (А. Штейнберг). Ср. «Бетховен был первый, а Моцарт единственный».
Нужно «Хорошо, когда твое искусство ненужно, тогда делаешь только необходимое» (Волошин – Остроумовой-Лебедевой, 16 нояб. 1924 г.).
«Какие-то нылы ноющие: и в короб не лезут, и из короба нейдут».
Сыну приснилась машина времени – не аппарат, а таблетки, целая переносит назад на сто лет, полтаблетки на пятьдесят и т. д. Когда кончается срок действия таблетки, человек возвращается в свое время, если, конечно, его в прошлом не убили.
Обида «В том же 1931‐м, когда было написано „Я пью за военные астры“, недавно очень идиотически интерпретированное, я забыл кем…» Из зала подсказывают: таким-то! – «Я не хотел никого обидеть».
Обида Значит, этика – это расписание, кого можно обижать в первую очередь и кого во вторую; потому что если кто попробует без разбора никого не обижать, это обернется еще больнее.
Общение Оно легче всего с неблизкими, потому что здесь предсказуемее набор поводов; труднее с близкими, потому что оно – обо всем; а труднее всего – с самим собой.
Общение Собираются на конференциях для устного общения, хотя знают работы друг друга и в печати, и в рукописях. Так на почте приемщица непременно спрашивает: «Заказное? куда?» – хотя все это написано перед ней на конверте.
Окно Замечание художника Кускова: Петр I прорубил в Европу окно, но не дверь – смотри, но не суйся. И даже не окно, а васисдас.
Оксиморон У Державина златая луна плавает в серебряной порфире и с палевым лучом – сшибаются четыре цвета, а никто не замечает. А «сребророзова лицом» у него же – это не отсвет, это серебряная пудра.
Опала Горький – замечательно интересная фигура. Сейчас его не любят (как и Маяковского) за его советскую официальную славу, только обсуждают, убил его Сталин или не убил. Но когда о политике забудут и займутся им как писателем, то найдут много очень интересного.
Опыт «Приглашаются гостиничные работники, желательно без опыта работы» – видимо, чтобы не крали.
Органы Щедрин называл «Анну Каренину» романом из жизни мочеполовых органов – что к этому добавляют психоаналитики и постмодернисты?
Островский (упражнения сына в школе). «Царь Эдип, или Правда глаза колет»; «Отелло, или Что русскому здорово, то немцу смерть». См. V, Рюрик.
Отдельно «Не люблю себя отдельно, а как часть человечества – уважаю» («Чевенгур»). «Люблю тебя, Ольга, как трудовую единицу», – говорил жене историк Щапов.
Относительность Знак превращается в предмет. Старушка в очереди просила: «Мне хлеб по двадцать две, который по пять тысяч». Или французское de (из такого-то поместья) обессмысливается, и Бунин величает себя de Bounine. Или дерптский полицмейстер Ясинский плачет о смерти императрицы Марии Феодоровны: «Кто же теперь у нас будет вдовствующей императрицей?»
В Ленинграде-Петербурге каждое 19 октября собирается общество и отмечает годовщину пушкинского Лицея; что это был старый стиль, не вспоминают. Это как в рассказе Зощенко: захожу во двор, вижу на высоте третьего этажа дощечку – «До этого места доходила вода в наводнение 1924 г.», – воображение рисует страшную картину; тут выходит управдом и говорит: «Да, вот куда пришлось повесить, а то мальчишки, паршивцы, все время отдирают».
Относительность «Борис Ник., Зюганов получил 55% голосов!» – «Плохо». – «Да, но вы-то получили 65%!»
От нуля Я разговариваю только готовыми анекдотами, цитатами и сентенциями. А Пастернак (по рассказам), наоборот, обо всем говорил от нуля, как впервые в истории, только своими словами. Потому-то мне и противопоказано заниматься Пастернаком.
Отражение «Занимаемся отражением изящной словесности в неизящной словесности».
Граф Хвостов, о петухе
Оттенение «Благостно-пакостный дух Кузмина» (письмо Д. Гордеева). Обычно поэты бравировали, оттеняя высокого себя-поэта низким собой-человеком (насмотревшись на это, Вересаев сочинил Пушкина «в двух планах»), Кузмин – наоборот: главным было «полюби нас черненькими», а светлая поэзия служила лишь для оттенения. Стихами не щеголял и нарочито преуменьшал их значение: в дневнике о них не писал, говорить предпочитал о варенье (уверял Гумилев). Хотя на самом деле стихи были для него средством спасения от той самой своей черной дневниковой ипохондрии.
Х. Л. Борхес
«Шахматы» 21
(два сонета)
Оттепель «Издание непечатавшихся Радищева и проч. – как оттаивающие в оттепель замерзшие слова Рабле» («Весы», 1906). Эренбург тоже помнил этот образ.
Отцы и дети Родители учат детей ценностям своей жизни, как военные готовят войска к вчерашним войнам. См. V, Воспитание.
Отцы и дети Дочь крупнейшего историка, ректора Московского университета академика С. М. Соловьева вышла замуж за физкультурника (Д. Усов – Е. Архиппову, РГАЛИ).
Оценка складывается из представления об оригинальности и богатстве средств произведения – первое важнее: «что здесь нового для меня и людей моего круга?» (точнее, определить богатство средств без долгих подсчетов нам не под силу, вот оно и кажется нам менее важным). Трудность в том, чтобы увидеть в себе, что ты уже знаешь о стихах и чего еще не знаешь. Мы априорно уверены, что Пушкин, как великий поэт, знает больше нас (а если не видим этого в стихах, то изо всех сил домысливаем), а Бенедиктов, как невеликий, – меньше нас. Усомнись мы в том, что все знаем лучше, чем Бенедиктов, – и он начнет расти в великие поэты.
Оценка Бернарда Шоу спрашивали, что ему важнее, социализм или драматургия, – за что Бог в раю поставит вам выше отметку? «Если он вздумает выводить мне отметки, мы крупно поссоримся».
Оценка Собственно, «великое произведение» мы говорим для краткости вместо «произведение, такими-то признаками возбуждающее такие-то эмоции у лиц такого-то пола, возраста и темперамента, принадлежащих к такой-то субкультуре».
Оценка Субъективная оценка – «мне нравится», объективная – «начальству нравится». Вместо начальства теперь принято говорить: «референтная группа». «А что у нас внутри, как не начальственные предписания?» – писал Салтыков-Щедрин в «Благонамеренных речах».
Память «Память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого» (О. Мандельштам. Шум времени).
Симонид сказал Фемистоклу: «Хочешь, я научу тебя все помнить?» Фемистокл ответил: «Лучше научи меня забывать». Я не так измучен жизнью, как Фемистокл, но мне тоже чаще хочется забывать ненужное, чем помнить нужное: освободить память, и тогда нужное само в ней уляжется. Ненужное – это все житейское, хронологическое, вся последовательность напластовывающихся впечатлений, отличающая меня от других. Нужное – это все системное, синхроническое, вся машина мышления, одинаковая у меня с другими и пригодная с лязгом дробить и пережевывать новые и новые задачи, подбрасываемые жизнью, пока не сотрутся челюсти и меня не выбросят в железный лом.
Память Один знакомый моей знакомой ведет картотеку «Что я помню, хоть я еще не старый». А я бы лучше писал: «Что я помню, хоть я этого и не видел».
Пани Л. Пщоловска пишет в статье, что как хорош у Пушкина «Будрыс», так плох «Воевода». «Оттого, что короткий стих принижает содержание?» – «Нет, он слишком пожалел даму и перекосил картину. И вообще называет ее панна». – «А он, вероятно, и не знал разницы между панна и пани». – «Никогда не думала!»
Параллель Митрополит Филарет белорусский (внешность отца Варлаама) был сыном левого художника, а сам до семинарии закончил музыкальную школу по контрабасу. Собирался ввести на филфаке Минского университета параллельно с курсом литературы XIX века курс «Христианство в русской литературе». Ему возразили: даже при коммунистах не назначали параллельного курса «Пролетарская история русской литературы».
«Паровоз» назывался самый солидный литературный журнал в Исландии, потому что железных дорог там нет.
Парогон «Дым и пламя, визг и клокот, / Флейты свист, волторны рокот, / Полночь, темень и мороз – / Гордо, шумно парогоны / Мчит могучий паровоз» (Н. Сушков. Ночь на железной дороге, 29 генваря 1852). Ср.: «Увы! как бедный пешегонец, / От вас, по сердцу мне родных, / Скачу, скачу на почтовых / В какой-то городок Олонец» (Ф. Глинка в «Рус. старине» 1889 года).
Пароход Слово было изобретено адм. Рикордом по заказу Греча.
Пародия Тютчевское «Умом Россию…» я воспринимал как пародию, а сочувствие Платонова его подлиповскому социализму – всерьез; говорят, это тоже неправильно.
Патриотизм Когда шли на Куликово поле, то знали ли, против кого идут? Конечно, попы из отдела пропаганды успели объяснить, что на агарян и басурман. Но как их представляли? Татар видели только проездами; даже налоги на татар собирали вряд ли с объяснениями; а татарские набеги дальше Рязани редко шли.
«Патриотизм XIX века – это обожествление географической карты» (J. Harmand). Мы потеряли такое чувство, как ощущение рода, приобрели такое, как патриотизм, и еще хотим понимать античность.
Педагог Горький писал сыну: «нет злых людей, есть только обозленные» (за эту фразу многое можно ему простить); в первую очередь это относится к учителям.
Перевод Когда перевод старается быть прежде всего хорошими стихами, то когда-нибудь они перестанут быть хорошими; когда не старается – есть надежда, что когда-нибудь они станут хорошими. Это работа на вырост. «Ты старомоден – вот расплата / За то, что в моде был когда-то», – написал Маршак, в оригинальных стихах смолоду боявшийся быть модным, а в переводах уже предательски старомодный.
Й. Сеферис
Перевод Рассказывал Ю. Александров: Хрущев ехал в дружеский Афганистан, Александрову и Адалис велели срочно издать антологию афганской поэзии! «А подстрочники?» – «Сами сочините». Сделали и выпустили за две недели, Хрущев вручил, китайцы спешно перевели на китайский, афганцы перевели с китайского – все были довольны.
Перевод (напр., поэзии в прозу при интерпретации). Для понимания предмета нужно его переводить на какой-то другой язык. Трудность современной русской философии в том, что она потеряла свой марксистский язык (с помощью нецентральных его понятий, вроде «отчуждения» или «превращения формы», она хорошо управлялась и во времена застоя: вольнее, чем филология), а получила лишь язык русских религиозных мыслителей да хаотически наплывающие языки самоописаний современной западной философии. С. Д. Серебряному кто-то сказал: «При советской власти писать было легче, потому что тогда маразм был системный, а теперь нет».
Перевод «Бесы» Цветаевой оказались недостаточно французскими? Скорее недостаточно пушкинскими: с ее-то бальмонтовской щедростью аллитераций и проч.
Перевод Фет: дословный перевод – это «ковер, по которому в новый язык вкатывается триумфальная колесница оригинала».
Перевод Собственно, Пастернак был идеальным воплотителем того советского отношения к переводу, которое сформулировал И. Кашкин: переводить нужно не текст, а действительность за текстом («не слова, а мысли и сцены», – выражался Пастернак).
Перевод – это не только когда звуки своего языка подбираются на смыслы чужого языка, а и наоборот: как Кирсанов ставит эпиграф «Les sanglots longs Des violons De l’automne» к своим стихам «Лес окрылен, / веером – клен. / Дело в том, / что носится стон / в лесу густом, / золотом… / Это – сентябрь, / вихри взвинтя, / бросился в дебрь, – / то злобен, то добр / лиственных домбр / осенний тембр…» и т. д. Так, говорят, переводили модные английские песенки для незнающих языка (ср. указания Набокова английским читателям о произношении русских имен); так приходится переводить для кино или для вокала, с учетом открывающегося и закрывающегося рта. В кино это также перевод с интонации на интонацию – с игрой контраста между ровной громкой русской и еле слышимой эмоциональной подлинника. Собственно, бывает и перевод, где смыслы своего языка подбираются даже не на звуки, а на ритмы оригинала: таковы песни «на голос такой-то» или эвфемистические переводы с матерного языка, как в известном описании фейерверка: «Сначала – ни черта! потом – эх, черт побери! потом опять – ни черта! потом опять – эх, черт побери!» («Вы, наверно, на меня уже хориямбами ругаетесь», – писал Аксенов Боброву, РГАЛИ.) Наконец, о подборе с опорой на графику чужого языка см. I, Интуиция, пример «хрен жили русы». Когда нужно было на машинке напечатать латинское или греческое слово среди русских, то Аверинцев печатал, скажем, :опогап::а, а потом обводил чернилами так, что получалось ignorantia.
Переводы бывали полезны как школа лексики, но сейчас скорее как школа синтаксиса. «Взять бы „Декамерон“ Любимова и вернуть его к синтаксису Веселовского!» – вспоминал С. Аверинцев гоголевскую невесту.
Кл. Лемминг
Переписка («точность – вежливость королей»). На письмо Людовика XV о рождении сына Елисавета Петровна медлила с ответом три года. См. III, Чукчи.
Перестановка слагаемых Два «Сеновала» Мандельштама в первой публикации были понятнее, чем в окончательной, потому что стихотворение со словом «сеновал» вначале шло первым. Это еще ничего; а вот когда стихи Ахматовой и Блока в «Любви к трем апельсинам» переставили, чтобы не он, а она любезничала первой, это уже имело концептуальные последствия.
Перестановка слагаемых П. Богатырева спросили, какой был Н. Трубецкой. Он расплылся и сказал: «Настоящий аристократ!» А в чем это выражалось? Он подумал и сказал: «Настоящий демократ!» (Рассказывал В. Н. Топоров.) Поддается ли этот парадокс перестановке слагаемых? Хотелось бы.
Перестройка Янин рассказывал в РГНФ: в издательстве «Энциклопедия» от историков потребовали, чтобы в статье «История» не упоминались ни Маркс, ни Гегель, ни феодализм и вообще ничего позже Ключевского. Историки всей редакцией подали в отставку, только это и подействовало.
Перечап называется точка опоры на равновесе весов (Даль).
Пермь Пустому месту приказали быть городом, и оно послушалось, только медленно (Вигель).
Печать «Частному человеку нельзя позволить публиковать догадок своих в деле государственном, ибо причины и виды высшей власти ему неизвестны, а если оные известны, то тем более» – из записки около 1820 года («Рус. старина», 1887, № 56, с. 99).
Пика Почему Пушкин так хвалил скромные элегии Сент-Бёва? Привлекала мистификация? Или Пушкин так сильно не любил Гюго, что пропагандировал Сент-Бёва в пику ему – как Теплякова в пику Бенедиктову?
Пир Трималхиона более всего напоминает описание обеда в «Опрометчивом турке».
Писатель Отпевали Гоголя, не верили, что писатель; извозчик объяснял: это главный писарь при университете, который знал, как писать и к государю, и к генералу какому, ко всем (Барсуков).
«Писать надо не для кого-то и не для чего-то, а о чем» (Ремизов).
Пискулит «Все вы пискулиты», – писала М. Будберг Горькому; комментаторы ищут загадочное слово по всем словарям. От писк + скулить?
Плагиат – «умоокрадение» (Лесков).
По- «Позевотою, потяготою и пустоглавием стражду», – писал Костомаров. «Посудите, если все будет только одно положительное, такая куча выйдет, что ни пройти ни проехать; надо же кому-нибудь ее и прибирать с дороги».
Сон в ЦГАЛИ . Начало исторического романа – по правилам римского цирка, где гладиаторы бились разнооружные, а звери разнопородные; император Нерон приказал устроить битву мушкетеров с ланцкнехтами, и она имела едва ли не больший успех, чем прошлогодняя травля меловых динозавров с юрскими; но затем, когда стало сниться, что на следующие игры был назначен бой кирасиров с кассирами, то я заволновался, проснулся и вновь оказался сидящим над поздним Андреем Белым.
«Поглаживание», по современной психологии, – всякое действие, признающее ценность другого человека. Дом и мир меня не поглаживали. «Песчинка может быть жемчугом, погладь меня и потрепли», – писал Державин. Отсюда мое амплуа всеобщего поглаживателя и жемчугодела.
Подросток в своем развитии растянулся, как поезд, и изнемогает, бегая вдоль себя от головы к хвосту. Сковорода писал: «Мир ловил меня, но не поймал; ты сам лезешь миру в пасть, а он от тебя отплевывается… Беда в том, что ты сам себя черненьким полюбить не можешь, несмотря на все твои усилия». А подросток отвечает: «Кто без греха, в того я первый брошу камень».
Подтекст У Батенькова есть строчка «И чувство чувства не поймет», которую копирует Мандельштам в «И сердце сердца устыдись», хотя при Мандельштаме этот текст Батенькова еще не был опубликован (замечено М. Шапиром). У античников это называется: был общий эллинистический источник.
У Языкова есть строчки «Блажен божественный поэт: / ему в науку мир сует / разнообразный колос родит…», но Некрасов их не читал: это стихотворение Языкова (1828 года) опубликовано только в 1913 году.
Р. Торпусман, переводя Катулла, нашла в «Поэме воздуха» рядом две реминисценции из Cat. 46: praetrepidans – предзноб блаженства и aequinoctialis – в бурю равноденства, хотя латыни Цветаева не знала. У самой Цветаевой в «Федре» предфинальная служанкина строчка «На хорошем деревце повеситься не жаль» копирует последнюю строчку парабазы в «Лягушках» в переводе Пиотровского, опубликованном позже: «А на дереве хорошем и повеситься не жаль!» Вряд ли и Пиотровский, готовя книгу, вышедшую в 1930 году, успел познакомиться с «Современными записками» 1928 года. Общего их эллинистического источника где-нибудь в пословицах Даля я не нашел.
Подтекст Ахматовой: «Не оглядывайся назад, ибо за тобой пожар Содома» – фраза из М. Швоба. «С новым годом, с новым горем» – было в письмах Шенгели к Шкапской (в 1920‐е годы). А общий их подтекст – Северянин: «С новолетьем мира горя, / С новым горем впереди! / Ах, ни счастья, ни отрады, ни сочувствия не жди!» (1908 год). От «прозрачной слезой на стенах проступила смола» у Мандельштама – сурковское «на поленьях смола, как слеза».
Подтекст графический. Даже серийная обложка «Цеха поэтов» (и первой Ахматовой) – копия с брюсовского «Urbi et orbi». То-то Ахматова ненавидела Брюсова.
Подтекст изобразительный. У Пастернака в «Маргарите» ее жест – одна рука лежащей заломлена под затылком и соединена с рукой [Фауста], другая скорее закинута, чем заломлена, прямая, в тень ветвей и дождя, – это поза врубелевского «Демона»; лиловый цвет – от «Демона» же и от «Сирени»; и все это подводит к врубелевскому витражу «Маргарита», хоть там поза и другая.
Сон сына . старый Ифит, ворчун вроде Лаэрта, «богатыри не вы» («Когда мы с Фемистоклом при Саламине…» – «С кем?» – «А-а, ты его не знаешь!»): он был и с Моисеем в Исходе, и манна была не крупа, а кочанчики величиной с теннисные мячики, и их варили на огненном столпе. Господь растил их на своем небесном огороде, как Диоклетиан: стал бы он сыпать своему народу такую мелочь, как крупа! Он плавал и с аргонавтами: бестолковщина! про компас знали только понаслышке, у Ясона была подвешена на веревочке железная стрелка, но не намагниченная, он каждое утро щелкал по ней и плыл, как по брошенному жребию.
«Позитивизм хорош для рантье, он приносит свои пять процентов прогресса ежегодно» («Шум времени»). Нет, позитивизм, который не учит, не судит, а только приговаривает «вот что бывает», – это не безмятежность, позитивизм – это напряженность: все время ждешь, что тысяча первый лебедь будет черный, что следующий прохожий даст мне в зубы, а случайный булыжник заговорит по-китайски. От этого устаешь.
Политика А. Осповат: «Книга Эйдельмана о Лунине была важней, чем Лебедева о Чаадаеве (только цитаты!) или Белинкова (только памфлет!) – она показывала легальную оппозицию в условиях деспотизма, политику как искусство для искусства. Лунин был как бы депутат от Нерчинского округа в несуществующий парламент. А Белинков – это, так сказать, листовка в 500 страниц».
Политика и словесность Смотреть на политику, конечно, противно; но разве это не всегда и не везде? Самое же главное: народ стал спокойнее, ничего ни от кого не ждет, каждый старается выжить сам по себе и меньше слушает политиков. Даже если власть захватят националисты или фашисты, они продержатся недолго: на баррикады за них никто не пойдет. Развал государства, кажется, кончается, но государственная нищета, при которой если заплатить шахтерам, то не хватит врачам, а если заплатить врачам, то не хватит солдатам, – это больно и трудно, и осознавать этого никому не хочется. Я не политик и не знаю, какой вариант пути лучше. Но я словесник, и я вижу, что разговаривать с народом у нас никто не умеет и не хочет.
Полифония Почему-то и Бахтин, и его последователи смотрят только на роман и не оглядываются на драму, где полифония уж совсем беспримесная, и все же никто не спутает положительного героя с отрицательным. Достоевский, как Мао, сначала дает пороку высказаться, а потом его наказывает.
Порядок – это значит: всякую мысль класть туда, откуда взял.
С детства складывалась привычка все класть на место, чтобы остаться незамеченным – особенно в черном книжном шкафу, оплоте взрослости, – хоть я и не помню ни одного наказания, кроме угрозы: «не буду с тобой разговаривать». Это было страшно, как в рассказе Веры Инбер, где мать «молчит, но так, что маленький Изя начинает плакать, уверяя, что его укусила деревянная лошадь». Я никогда не пытался понять мою бабушку, дважды выбитую из среды, всю жизнь готовую к ударам, но эту готовность я, наверное, взял от нее.
Последний «Извините, что в последний момент…» – «Ах, что вы? Вся наша жизнь – из последних моментов!..»
Пост «Допостсоветский» – выражение О. Проскурина. («В этой стране все просто: или пост, или пост», – писал С. Кржижановский.)
Постструктурализм – стремление высвободиться из-под авторитетов? Но авторитетно ведь каждое письменное слово (т. е. допускающее перечтение), в отличие от устного. Если, чтобы вызволиться, я начинаю писать сам – это я борюсь за подмену одной власти другой, а мы знаем, что из этого выходит. Пляшущий стиль Деррида – это атомная бомба в войне за власть над читателем.
Потомки Г. А. Дубровская учредила международный культурный центр «Первопечатник» – должен был называться «Федоровский центр», но оказалось, что когда по имени, то нужна бумага, что потомки Ивана Федорова не возражают.
Почва «На смену деструктивизму идет феминизм». В России нет для него почвы? Тем страшнее: для пролетарской революции в России тоже не было почвы, а что вышло?
Пошлость – это истина не на своем структурном месте. Не только низкое в высоком, но и наоборот: например, бог в Пушкине (из записей Л. Гинзбург). Мы называем вещь пошлой за то, что она напоминает нам о чем-то в нас, что мы сейчас хотели бы не вспоминать. Мы вымещаем на мире наши внутренние конфликты. А чтобы уберечь вещь от этого ярлыка, домысливаем к ней боль и надрыв: разве мало у нас средств для симуляции не-пошлости?
Поэзия «Новейшая поэзия разделяется на два вида: стихи, которые читать невозможно, и стихи, которые можно и не читать» (альм. «Первая тетрадь кружка „Адская Мостовая“», кажется, 1923 год, типография ГПУ. Стихи там были такие: «Вечерами в маленькой кофейне / Матовые светятся огни. / Перелистывая томик Гейне, / Тонкую страницу поверни»). А Вейдле, «О поэтах», с. 124, цитировал Лунца: «бывают хорошие стихи, плохие стихи и стихи как стихи; последние ужаснее всего».
Поэт В. Розанов обнял Б. Садовского и сказал: «Какой тоненький – настоящий поэт».
Поэт М. М. Дьяконову сбавили гонорар за его долю в коллективном переводе Низами: «Он не пользуется подстрочником, а стало быть, не поэт».
Предательство «Если на человека нельзя положиться, значит, просто не он тебе поддержка, а ты ему» (из письма).
Первая Америка! Долгая железная дорога, долго налегающий на окна мир: всего слишком много. Мерзлые спирали речек по шерстисто-бурой равнине лугов. Утомительно-разнообразные домики из утомительно-однообразных кубиков. Автомобильное кладбище: красные и черные искалеченные каркасы громоздятся, как хрустящие насекомые. От шершавых небоскребов вдалеке горизонт – как терка. А когда подлетаешь вечером на самолете к Лос-Анджелесу, прочерченная огнями сетка прямых улиц внизу – совсем как раскаленная решетка св. Лаврентия.
Природа и общество «Холодной зимой общество дикобразов теснится близко друг к другу, чтобы защитить себя от замерзания взаимной теплотой. Однако вскоре они чувствуют взаимные уколы, заставляющие их отдалиться друг от друга. Когда же потребность в теплоте опять приближает их друг к другу, тогда повторяется та же беда, так что они мечутся между этими двумя невзгодами, пока не найдут умеренного расстояния, которое они могут перенести наилучшим образом» (цит. у М. Шкапской, «Сама по себе», 11. Кажется из Шопенгауэра?).
Природа и общество Жалуются, что Евгений в «Медном всаднике» из‐за государства лишился места в жизни, и не замечают, что государство же и дало ему место в жизни – регистраторский чин по табели. Евгений попал в ту самую щель между природой и обществом – общество недозащитило его от природы. Только до романтиков жертва жаловалась на природу, а теперь жалуется на общество.
Привычка Этнографы отбирают у староверов тетрадки с духовными стихами, и старушки перестают петь: не потому, что не помнят, поют наизусть, но при этом всегда держат тетрадочку в руке, иначе не могут (от С. Неклюдова).
Причины
«Рус. старина» , 1891
В. Маккавейский
Причины «Кто хочет делать, находит средства, кто не хочет, находит причины» (с арабского). Ср. III, Детерминизм.
Причины «Очень знаю, откуда приходят ко мне дурные мысли, одному безумцу предоставляю знать, откуда берет он благие» (Чаадаев, 1913, 1, 151).
Прогресс Просветительство и марксизм провозглашали прогресс, но даже они делали оговорки, что в культуре прогресс относителен. Единственный, для кого прогресс абсолютен и в культуре, – это Бахтин, для которого настоящая литература начинается с романа XVIII века, а все остальное – преддверие. Как для христианина история – преддверие явления Христа.
Пролетарий После перестройки я стал чувствовать себя не обывателем, а пролетарием: наемный работник государственного сектора. При советской власти (с ее непонятным смыслом слова пролетарий) это было невозможно.
Пропаганда «Клеветникам России» при жизни Пушкина переводилось на немецкий язык шесть раз: по нему его и знали в Европе.
Пророки в своем отечестве. Салтыков-Щедрин – недооцененный писатель, его публицистика читается как издевательства над нашим сегодняшним днем, а его насмешки над Золя – как насмешки над французским «новым романом». У Свифта ведь тоже есть поразительные догадки и о кибернетике, и о фотосинтезе.
Просто «Ведь есть же такая вещь, как просто понимать, которую вы упорно отрицаете», – сказал мне С. Ав. («Сережа, когда я позволял себе что-нибудь просто понимать, это всегда кончалось катастрофой».) «Просто» – это значит: несообщимо.
Пространство А. В. Михайлов писал в философской энциклопедии заметку о Т. Манне; «вы понимаете, кто там был рядом». Когда начался маоизм, соседнюю статью выкинули, а Манна велели (С. Аверинцеву) расширить вдесятеро. Пока расширяли, решено было Мао восстановить, и Манна велели (кому?) сократить вполовину. Так и пошло.
Сон А. под новый год. Выведена новая порода животных: вроде собачек, корма не требуют, сосут людям пальцы и трутся носами, а лекторы говорят, что этим решается мясная проблема, если запекать их в тесте. Потом оказывается, что эти зверьки рождаются и у людей, как мутанты или гибриды, и сын делает открытие, что они должны сменить людей на земле, так как устойчивее к радиации и проч. Начинаются споры, есть ли их в тесте или передавать им информацию всей человеческой культуры. Это трудно, потому что они очень умные, но только с голосу, а грамоте не научаются; но, может быть, это значит, что зато они могут телепатически слышать живого Пушкина и проч., и это можно развить. В то же время жаль отказаться есть их с лапшой, – и на этом сон обрывается.
Психология Военную психологию в России стали разрабатывать только после русско-японской войны, рассудив, что причины поражения в ней – конечно же, только психологические.
Путь от нашего разумения к пониманию подлинника и обратно к нашему разумению. Но понимание подлинника – путь бесконечный, поэтому с какого места мы поворачиваем обратно, это характеризует не подлинник, а только нашу выносливость.
«Пушка к бою едет задом». Источник этой поговорки в афоризмах И. Рукавишникова, а в фольклоре не отмечен. Жена Твардовского считала, что тот изобрел ее сам. Мы все идем в будущее задом, да еще зажмурившись.
Пушкин «Сейчас у нас не пушкинисты, а временно исполняющие обязанности пушкинистов», – сказал Л.
Сын в 14 лет в ответ на заказ для праздничной стенгазеты начал пародийное стихотворение так:
Я умолял его дописать до конца, послать в настоящую газету и посмотреть, что ответят, но не добился.
Радость Самое парадоксальное, остроумное и радостное на свете – это что дважды два все-таки четыре, несмотря на то, что все это без конца повторяют.
Раздвоенность «Ты любишь себя без взаимности: одно Я говорит: „я хороший“, другое Я: „нет, мерзавец“; то ли дело я, одно говорит: „я мерзавец“, а другое отвечает: „именно“».
«Разлагаться тоже надо умеючи», – говорил Мандельштам (против Вагинова – за Бодлера).
Разница Москвин утешал молодого актера: я тоже играю на штампах, только у вас их пять, а у меня тысяча. Вот так и новая литература отличается от традиционалистической.
«Разнузданное благородство» – выражение Мирского об Огареве.
Рай Притча Сведенборга–Борхеса: был постник-священник, умер, попал в рай. Там сперва ликуют, наскучивает – поют славу, наскучивает – ведут богословские беседы (спасение – не только верой, но и разумом!), и этого хватает на всю вечность. Но отшельник был неученый и заскучал, и тогда ангелы упросили Господа выгородить ему пустыньку, чтобы ему было хорошо. В ад и рай попадают по собственному желанию, но грешникам райский свет болезнен, и они просятся оттуда в ад, почти по Эриугене.
Расизм «Русские в Америке – расисты, потому что чувствуют себя третьим сортом и рады думать, что есть еще и четвертый, и пятый сорт» (рассказ Н. Б.).
Реклама В Ленинграде была выставка по истории русской рекламы. Через несколько дней всю гастрономическую часть пришлось ради спокойствия свернуть. Там были конфетные обертки 1915 года: «Ломоносов – борец против немцев».
«Религия – опиум для народа? может быть! Но политика для него – героин!» – граффито в университетской уборной в Риме.
Рецензия на рукопись: «Написано без скидок на среднего преподавателя». Следующая была уже без скидок на среднего академика.
Род «Скверное кофе» от лица рассказчицы и «кофе простыл» от лица светского персонажа – у Берберовой в «Аккомпаниаторше».
Романтизм Б. Садовской, «Черты из жизни моей»: «По зимней дороге… днем развлекали мой путь станции и постоялые дворы… По ночам луна сияла… под звук колокольчика, слушая ямщицкие песни и вой волков, летел я, дремля в кибитке…» – как будто ямщицкие пути были ночными, а ночлеги дневными.
Романтизм Наполеон, романтический герой, был человек без страстей: чистый ум, движущий страстями армий. Цветаева, его поклонница, наоборот: ей нужна была топка страстей, чтобы работал двигатель фабрикации рациональнейше выверенных стихов.
Роскошь «И не позволяй себе роскоши стать кому-то необходимым», – сказали мне.
Сон А . Она, балансируя, несет на голове большое оконное стекло, оно режет ей голову и руки, в зеркале на лице видны раны и струйки крови, как от тернового венца. Она берет полотенце, и они стираются, но вместе с лицом: полотенце – как нерукотворный лик, а в зеркале – безлицая голова, как яйцо.
Русская душа Ее не удается описать списком добродетелей, потому что неудобно отказать в таких же добродетелях другим нациям. (Впрочем, многие смело отказывают.) Может быть, попробовать описать ее списком пороков – в сопоставлении с такими же списками для других наций – и проиллюстрировать это табличкой из письмовника Курганова, односложно гавкающей почти по-крученыховски?
Опись качеств знатнейших европейских народов —
Н. Курганов, Письмовник, изд. 4, СПб., 1790, ч. 1, с. 290

Русская душа Не лучшее ли определение: «На миллион согреша, / На миллиарды тоскует: / То-то святая душа! / Что же сей сон знаменует?»
Сам Работа в искусстве начинается с самоутверждения, в науке – кончается самоутверждением.
Самоутверждение Марионетка, которая, утверждая свою свободу воли, рвет одну за другой свои нити и в конце концов остается грудой членов лежать на сцене, – откуда этот образ?
Самоубийство Сколько у Пушкина было в жизни дуэлей? Пушкинисты избегают прямого ответа. Его многочисленные вызовы и единичные дуэли аналогичны рулеточным выстрелам Маяковского, которых было много, но сработали они, только когда стало необходимо.
Сыну приснился сон про меня . Я иду на медведя, но больше всего стараюсь не сделать ему больно. Я нащупываю ему сердце, а он тем временем мотает на лапу мои кишки. Я его все-таки убил, но после этого понятным образом оказался в санатории «Омега», где написал машинописный роман. В предисловии сообщается, что четные главы я писал выздоравливая, а нечетные в бреду, и чередуются они для разнообразия. И что в романе много самоубийств, но на разных языках (НН удавился по-русски, а другие – следуют фразы латинская, испанская, немецкая…), поэтому не надо удивляться, что иные, умерев на одном языке, продолжают жить на других.
Сатира (сатир?). Аким Нахимов был «лицом некрасив, но физиономию имел многообещающую и сатирическую» (В. Маслович).
Свобода Стоики различали провидение и судьбу: первое – программа, вложенная в живое существо, второе – ее реализация, а в зазоре между ними – свобода воли. Ю. Ф. сказал мне: вот она, та внутренняя свобода, которой вам недостает.
Раннее детское впечатление. Улица, вечер, снежные сугробы, лиловые сумерки. Маленький мальчик в толстой неповоротливой шубе, расставив руки в варежках, ревет без слов, отчаянным голосом. Длинная узкая мать сверху говорит ему: «Ну что ж, если не хочешь идти, оставайся здесь насовсем, я пойду одна». Крик еще отчаяннее. Это не я. Но это знакомо и опасно близко. Я до подробностей чувствовал то же, что этот маленький человек: быть оставленным на улице; кругом пустота, прохожие – чужие и враждебные; ночь, снег, холод, смерть – несуществование, тебя нет и ничего нет.
Потом, лет в десять, мне попалось в научно-популярном журнале: «Представьте себе, что вы оказались на необитаемом острове – врасплох, только с тем, что сейчас при вас: перочинный нож, спички, карандаш… Что станете вы делать, чтобы выжить?» Я представил: у меня не было в карманах ни перочинного ножа, ни спичек. На то, чтобы выжить, – никакой надежды. Эти ощущения живы во мне до сих пор. Человек не может существовать один, он полностью зависит от общества – от других людей, которые дадут ему кусок хлеба или хотя бы перочинный нож. О свободе от общества имеет право говорить только тот, кто уверен, что выживет на необитаемом острове.
«Свобода тщеславия» – выражение Пимена Карпова.
Связь времен Фейхтвангер писал на античные и средневековые темы с современными реалиями – а как бы выглядел роман на современную тему с античными реалиями? Как стихи Поплавского?
Себя Каша, которая сама себя хвалит, кошка, которая сама себя гладит (слышались в интонациях доклада НН). «Идет дальше и видит: стоит каша фуфу и сама себя помешивает» (африканская сказка). Есть понятия «специалист по самому себе», «доклад о собственной эрудиции».
Секс Если переходить на сексологические термины, то литература (и наука) есть не что иное, как вуайерство при людях и природе. Мы, читатели, – не собеседники, мы подслушиватели чужих диалогов.
Семантика метра Что, если бы Пушкин не перешел в «Руслане» на лирический 4-стопный ямб и остался бы при эпическом 4-стопном хорее «Ильи Муромца» и «Бовы»?
Было бы впечатление погруженности в предмет вместо дистанцированности. По существу, Пушкин в «Руслане» уже играет точкой зрения, как потом будет в сцене смерти Ленского.
Семантический ореол Ремизов, уходя, вешал на дверь записку: «Выхожу один я на дорогу» (Седых).
Сенека теперь воспринимается как аналог «новому русскому», этакий римский Березовский, со своим богатством (от подарков императора, но не всё же!), правящий государством из‐за кулис. Только это и занимало современников, а что он еще был философ и хороший писатель, это знал лишь тонкий слой элиты.
Синонимы В издательстве АН одновременно выходили полные собрания Герцена и Белинского, при либерале Герцене были комментарии, а при рев. демократе Белинском – примечания.
Синтаксис «В отношении таких слов, которые являются нелитературными, грешен, употребляю. Но по отношению к людям – никогда, стараюсь не обижать личность. А для того, чтобы связывать различные части предложений, бывает» (Ю. Лужков, «Итоги», 28.10.1997).
Синтаксис Мы учимся сути по придаточным предложениям: в них те предпосылки, которые обычно умалчиваются по самоподразумеванию, а в главных предложениях может быть и вздор.
Сквозь огонь и т. д. Не имея возможности чувствовать себя огнем и водой, чувствую медной трубой, через которую мощно течет к российскому читателю Клавдиан или Ариост.
Слишком «Мемуаристы – это люди, у которых слишком скудное воображение, чтобы писать романы, и слишком скудная память, чтобы писать правду».
Слишком Мы слишком близки, чтобы понимать друг друга.
Г. Гор
Смерть «Идя потом домой, он соображал, что от смерти будет одна только польза: не надо ни есть, ни пить… ни обижать людей… От жизни человеку – убыток, а от смерти – польза» (А. П. Чехов. Скрипка Ротшильда).
Смерть «Распряжки и вывода из оглобель не трепещу» (Лесков).
Смерть Последние слова Кузмина: «Главное все кончено, остались детали».
Смерть «Умру и буду тебя вспоминать», – сказал Н. Брагинской ее маленький сын.
Смерть Киплинг: «Кто не дотерпел до смерти, тому нечего было терпеть». Ср. анекдот: «Равви, долго ли еще? у нас уже нет терпения!» – «Евреи, не дай бог, чтобы это длилось столько, сколько у вас терпения!»
Г. Ратгауз читал Ахматовой свое стихотворение (очень хорошее).
Ахматова сказала: «Очень страшные стихи – но вы не бойтесь, от них никто не умрет».
Смирно Подходить ко всякому человеку по форме «смирно», как для молитвы (Л. Толстой).
Со- Право на сосуществование, борьба за сосуществование.
Соборность Вяч. Иванов начинал ее с любви втроем: если двое стали одно, то почему бы им не любить третьего? Однако если один чувствует себя раздвоенным и сам себя ненавидящим, то может ли он любить хотя бы второго?
«Совок!» – «От лопаты слышу».
Современность «Современники вообще любят плохую литературу», – сказал А. Панченко.
Сознание и бытие Доклад О. Вайнштейн об одежде западных гуманитариев: НН ходила одетая по-феминистски просто, но в архив одевалась корректно: в фуфайке ей приходилось самой таскать пыльные папки, а когда была в дамском пиджаке, то ей помогали служители.
Сознание и бытие Крученых не хотел умирать и всегда платил за квартиру на много месяцев вперед, считая, что если уплачено, то смерть за ним не придет.
«Коллективный солипсизм», – писал Шестов о большевизме.
Сократ «Господи, прости их, они ведают, что творят» – это ведь вариация Сократа, «кто грамотней: тот, кто делает ошибки нечаянно или нарочно?»
Спираль Е. Г. Эткинд вспоминал: Эйхенбаум начал однажды оппонирование на защите словами: «Прежде всего я хочу сказать, что диссертация полностью удовлетворяет требованиям и автор заслуживает звания. Прошу это запомнить, потому что потом мне будет очень трудно к этому вернуться».
Спираль Г. Френкель открыл, что это была необходимая основа композиции ранней поэзии и прозы начиная от Гесиода: исполнение устное, назад не перелистнешь, периодически приходится возвращаться и напоминать главное. М. Е. Сергеенко самостоятельно нашла то же в «Земледелии» Катона. Я разобрал с этой точки зрения последний отчетный доклад Ленина в 1922 году: безукоризненно то же, мысль периодически прерывается и возвращается к «Но гвоздь в том…».
«Спокойно жить – это когда знаешь, что можешь умереть когда хочешь».
Способность к самостоятельности и потребность в несамостоятельности – тяжелое совмещение.
Способность У меня не то чтоб нет способности учиться языкам – у меня слишком велика способность их забывать. Читаю без словаря как без очков: понятно, но неясно, не сбиваешься с пути, но ничего не видишь по сторонам.
Справедливость и милосердие – атрибуты Божьи, школа диалектики. «Проси, говорит, у меня милости – отца родного съем; а будешь, говорит, по закону требовать, а тем паче по естеству – шабаш» (Салтыков-Щедрин. Завещание моим детям).
Старость Представить себе творчество старого Пушкина легче, чем старого Лермонтова. Первого – по образцу Вяземского и Тютчева, а второго – по образцу Огарева? – «Как сказано у старика Лермонтова…» – выразился кто-то. Ср. Возраст.
Старость «Как себя чувствуете?» – «Хуже, чем раньше, но лучше, чем потом» (слышано от В. Е. Холшевникова).
Старость, как и смерть, должна приходить вовремя.
Когда-то давно, лет двадцать, а то и тридцать назад, я написал преждевременные стихи, где были такие строки:
И дальше:
А может, я уже упустил свой миг?
Старуха В «Пиковой даме», гл. 3, графиня, умирая, «покатилась навзничь», а в гл. 4 утром «мертвая старуха сидела окаменев». Помнил ли это Хармс?
Статистика В 1996 году половина жителей России не прочитала ни одной книги. В. Виноградов говорил: «Мы любим гордиться размахом: нам скажут обидное, а мы в ответ: „Зато у нас одних неграмотных больше, чем все население Дании“».
Стилизация Какой породы была Муму? Никто не помнит. Испанской породы – спаниель. А обычно ее представляют более плебейской, дворняжкой, стилизуя под Герасима. А у чеховской «дамы с собачкой»?
Стиль К. Федин, как все сверстники, формировался на Достоевском, но без влияния стиля Достоевского – потому что это с ним было в Германии, по переводам. По той же причине ускользнул от русской стилистической моды и Вяч. Иванов.
Страдание «Царица страдала убеждением, что ее призвание – спасти Россию» (восп. Бьюкенена).
Страница Из всего, что мы пишем, сохранится одна страница, но ее я хотел бы выбрать сам.
Сумма Анненский в разговорах «выработал целую мистическую теорию: мир заключает в себе лишь известную сумму зла, и страдающие должны радоваться, если свалится на них лихая беда или лютая болезнь: они тем облегчат бытие всего человечества» (П. Митрофанов).
В ночь с 1 на 2 сентября приснился неясный мифологический персонаж и сказал:
Тайна Афоризм из газеты: «Как мы живем – это государственная тайна, а на что живем – коммерческая».
Тайна Священная свадьба Зевса и Геры справлялась на Самосе, длилась 300 лет и была тайной (Схолии к «Илиаде». Возможна порча текста).
Такое слово. Была пародия Б. Аннибала на «Дали» Брюсова с примечаниями к каждому слову («„Я чтил Христа, равно и Будду, / и Маркс был также мною чтим. / Теперь стихи писать не буду, / а только примечанья к ним“. Примечания: Христос – основатель христианской религии; Будда – основатель буддийской религии; Маркс – известный петербургский издатель»). К строчкам «Вошел – и знаком Зодиака был каждый осенен мой шаг» было примечание: «Зодиак – такое слово». Это лучшее примечание, какое я знаю: комментарий так и должен сообщать читателю, что такие-то слова рассчитаны на понимание (такое-то), а такие-то на непонимание. Есть произведения – «Конец хазы» или «Туатамур», – которые разом выцветают, если к ним приложить словарик.
Тмесис Сказка Державина начинается: «Царь жила-была девица, Шепчет русска старина…» – отсюда весь тмесисный стиль цветаевской «Царь-девицы». Ср.: «Если чего-нибудь ждать настоящего, то только здесь – не у бизнес же менов в Америке!» (слова Есенина в письме Зубакина Горькому). Еще точнее: «Контр твоя революция нам теперь вполне известна…» (М. Зощенко. Рассказы Синебрюхова).
«Товарищи!» – обращалась Цветаева к белогвардейцам («…жива еще – Мать – Страсть – Русь!»).
Толстой Нейгауз говорил: я понимаю, что Гольденвейзер не противится злу, но почему он так противится добру?
Из писем помещицы Коробочки к Ф. А. Петровскому: «Скажите, пожалуйста: от кого ушел Лев Толстой? С. А. пишет, что от Черткова, тот – что от Татьяны Львовны, та – что от Гольденвейзера, тот – что от Гусева, тот – что от Сергеенки, тот – что от Александры Львовны, та – что от Булгакова, а г-н Мейлах пишет, что от всех сразу, кто же прав?»
Транскрипция По телевидению показывали «Бесов» Вайды, и переводчик произносил фамилию Chatoff – «Чатов». Чего требовать… и т. д.
Труд Для Пастернака вдохновение, «сила» были синонимами быстроты: сейчас же и тут же. А работал он как ломовая лошадь и поэтому черновики уничтожал.
Труд Непрочитанный Языков – я бы начал о нем так: «Он был великий труженик: в Дерпте у него писалось столько строк в месяц, что не удивляешься, что он ничему не учился, а удивляешься, когда он успевал пить…»
Языков
Труд Тынянову было трудно не открывать новое, а доказывать очевидное, поэтому он и перешел от науки к литературе. Его критические статьи недооценены, а он был лучшим критиком, чем литературоведом: его жанр – эссе, бессильный в русской традиции. А тридцатые годы требовали больших жанров: видимо, Тынянову легче было примениться к ним в беллетристике, чем в науке.
Трусость «Есть несколько рецептов устоять перед соблазнами, но лучший – трусость» (Марк Твен).
Турецкоподданный «Отец умер со свойственной его турецкой душе беспечностью» (Ясинский).
Тщеславие Аракчеев делал запись на вкладках Евангелия каждый раз, когда он отказывался от Андреевского ордена.
Удобства Легенду о Федоре Кузьмиче пустил для саморекламы его покровитель купец Хромов; но В. Ф. Булгаков верил, потому что только в его избе на всю Сибирь было отхожее место («Минувшее»).
Увя В «Письмовнике» Курганова в списке междометий перечисляются: увы, увя – видимо, от oh Weh.
Узелок У мексиканских индейцев при очищении от грехов женщина сжигает веревочку с узелком на каждого мужчину (Фрезер).
Узелок Узелковое письмо перуанского типа самостоятельно изобрел капитан Головнин в японском плену, выщипывая разноцветные нитки из мундира, когда хотел побольше запомнить, а записывать было не на чем. Это тогда японцы будто бы перевели с его голоса оду Державина «Бог» на японский язык, о чем комментаторы поминают с гордостью, хотя этого перевода никто не видел.
«Ународовать» в значении популяризировать писал Срезневский: «…и десятисложный стих ународовался».
Уныние как грех: Лотман вспоминает пословицу «На печального и вошь лезет» (письма).
Уровень Л. Пинский о студентах в Ярославле: «Вижу, не понимают; стал понижать уровень, понижал, понижал, но так и не достиг дна» (восп. З. Паперного).
Устав На стенке в РФФИ выписка: «Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальства» (Устав Петра I).
Утилитарность искусства. Глеб Успенский в Колмове страдал запорами, но не давался клизме; а услышав, как санитар Федор напевает литургический стих («Ах! вы настоящий христианин!» – он ведь и в письмах обращался: «Святой Иван Иванович…»), дался, и Федор ставил промывание, напевая стихиры.
Уф! Наполеон спросил придворного, что скажут добрые французы, когда он умрет. «Ах, они скажут: что же теперь с нами будет?» – «Вы думаете? Может быть. Но сперва они скажут: Уф!» Мировая культура сказала «уф!» после смерти Пикассо, русская после смерти Толстого, но не после смерти Пушкина: его она похоронила заблаговременно еще в 1830-м.
Ушко Сон сына о верблюде, которому всю жизнь хотелось пройти в игольное ушко, а вместо этого он попал в царствие небесное.
А приятелю С. Аверинцева («надо его знать, чтобы оценить») приснился говорящий кот. Он счел кота оракулом и спросил, будет ли война. Кот ответил что-то матерное, а про войну – неразборчиво. Другой кот со шкафа пояснил: про войну он говорит только по-китайски.
«Фальшивый купон» – не он ли образец того рассказа Хармса, где неведомо взаимосвязанные герои в финале едут в одном трамвае? А заодно и поэтики совпадений в «Докторе Живаго», о которой теперь много пишут?
Feedback Эпиграф: «Делая подлость, не ссылайтесь на время. Помните, что время может сослаться на вас».
Физиология Я как тот персонаж из притчи Заяицкого, который забыл, что психология – наука неисчерпаемая, а физиология – исчерпаемая, не рассчитал темпа и к 45 годам выучил ее до конца. Очень был недоволен: в старой науке ничего не осталось, а новую начинать поздно. Так и кончил жизнь, занимаясь рыбной ловлей. Я тоже досрочно сделал работу, которой должно было хватить на полную научную жизнь, взялся за новую, за лингвистику стиха, и недоволен, что жизни уже не хватит. Эпилог пишется другим стилем, чем роман; жизнь свою я сочинил, а эпилог не получается.
Фирс С. Г. Голицын, «Длинный Фирс», не сделал карьеры, потому что именины Фирса – 14 декабря.
Формулы привычные Софья Андреевна вспоминала: «Вот эту стену проломили в 187* году; я ему сказала: „Я родила тебе тринадцать детей, а ты устрой хоть место, где бы они могли двигаться“». Ее перебили: «Мама, как же тринадцать?» И она замолкла, потому что, действительно, детей тогда было еще только пятеро.
Хер Ответ А. С. Хвостова на послание А. В. Храповицкого начинался: «От хера умного к посредственному херу / Пришло послание. / Доволен я чрез меру…» и т. д.
Хиромант Оказалось, что Д. Пригов – лицо реальное, образованием скульптор, претензиями поэт, талантом хиромант. В электричке он гадал Седаковой: «В 15 лет у вас было сотрясение мозга…» – но подошел пьяный парень, сказал: «Девушка, ты ему не верь: вот у него только второй разряд по шахматам, а он скрывает»; Пригов побелел, а парень добавил: «вот: мне и руки не надо, у меня отчим цыган». Но в произведениях его образ так закончен, что когда Седакова на конференции под низким сводом ГМИИ мне показала: «Вон тот затылок – это Пригов», – то мне его существование показалось избыточным.
Хмель Костров трезвый не любил стихов Петрова, а пьяный любил (Вяземский). По Геродоту, персы обсуждали все важные вопросы дважды: трезвыми и пьяными (имелось в виду наркотическое опьянение хаомой).
«Хорошее искусство – это то, которое современникам кажется старинным, а потомкам – новым» (Плутарх о Парфеноне).
«…а Царевна-лягушка , став красавицей, еще долго чувствовала себя чудовищем» – и наоборот: «Принц, конечно, к Золушке пришел, но не женился на ней», – сказала девочка.
Цареубийца «Оставалось истребить последнего тирана, а таким был он сам» (Ремизов о Савинкове). См. V, Афины.
Цвета В пьесе-сказке Гете были четыре фрейлины: Мана, Зора, Лато и Мела; для меня они были красная, зеленая, желтая и синяя.
За эти четыре цвета я держался как за соломинку, других цветов я не знал. Что значит палевый? бежевый? фисташковый? – мне объясняли, я не мог запомнить. Английские названия оттенков я узнал раньше, чем русские: лет в десять мне подарили коробку американских карандашей (1945 год, союзники!), их было 24, на каждом написан цвет: green, field green, crimson, purple – я не знал языка, но помнил все наизусть. Если бы я мог увидеть таблицы цветов, какие издаются для декораторов, – красный, багровый, пурпурный, малиновый, алый… – может быть, мир для меня был бы другим.
Цель «Дядя Филя! Что делается на том свете, ты чувствуешь?» – «Так себе – пустяки и мероприятия. Это несерьезно, Иван Федорович, зря люди помирают» (А. Платонов. Четырнадцать красных избушек).
Цензура «Благоразумный цензор держится системы: угадывать, как могут истолковать статью враги; неблагоразумный и такой системы не держится, а только боится» (дневник Никитенко, 22 дек. 1852 г.). Цензор Ахматов запретил арифметику, потому что в одном месте между цифрами стоял ряд точек, обнаруживавший тайный умысел (там же, 25 февр. 1853 г.).
В. Соллогуб
Человек «Еще в Петербурге я спросил К., как он к человеку относится. Ничему не удивляюсь, ответил К., жду от каждого самой последней подлости, но верю в добро – такая у меня повадка» (Ремизов. Учитель музыки).
«Теперь уж приходится спрашивать не „веришь ли в бога“, а „веришь ли в человека“ (Вяч. Иванов – М. Альтману).
«В человеке еще живет один маленький зритель – он не участвует ни в поступках, ни в страдании, он всегда хладнокровен и одинаков. Его служба – это видеть и быть свидетелем, но он без права голоса в жизни человека, и неизвестно, зачем он одиноко существует. Этот угол сознания человека день и ночь освещен, как комната швейцара в большом доме. Круглые сутки сидит этот бодрствующий швейцар в подъезде человека, знает всех жителей своего дома, но ни один житель не советуется со швейцаром о своих делах. Человек никогда не помнит его, но всегда ему доверяется – так житель, уходя из дома и оставляя жену, никогда не ревнует к ней швейцара. Это евнух души человека. Жители входят и выходят, а зритель-швейцар провожает их глазами. От своей бессильной осведомленности он кажется иногда печальным, но всегда вежлив, уединен и имеет квартиру в другом доме. В случае пожара швейцар звонит пожарным и наблюдает снаружи дальнейшие события» (А. Платонов. Чевенгур).
Четырнадцатый век Островскому сказали, что «Грозу» перевели во Франции, он удивился: «Зачем? для них ведь это – четырнадцатый век». Стивен Грэм, английский славянофил, исходивший пешком Россию и по Лондону ходивший в косоворотке, объяснял свое умиление: «Там все – как у нас при Эдуардах!» – т. е. тоже в четырнадцатом веке. Кто удивляется на то, что у нас сейчас происходит, пусть прикинет: прошло сто лет – какой у нас нынче век? Пятнадцатый. То-то.
Чечня Американцы свели все дело к войне не с терроризмом, а с Афганистаном и потом с Ираком. Выиграть такую войну тоже нельзя, но изобразить, будто она выиграна, – можно, этим дело и ограничится. А понять, что происходит, русскому человеку проще, чем иному: два слова – «всемирная Чечня».
Шапка-закидайка.
Шиш Дьявол может являться хоть в образе Христа (но не Богородицы), и Тереза Авильская проверяла, показывая шиш: от шиша бежал. «Чертенята ангелятам шишики показывают» (Ремизов).
Штаны В начале ХX века в петербургском свете это слово было приличнее, чем вульгарное «брюки» (В. Набоков в комм. к «Онегину»). Когда Остап Бендер предпочитает не «штанов нет», а «брюк нет» («граждане довольные расходятся по домам») – это уже другая культура. На двусмысленном пограничье стоит трагедия «Владимир Маяковский», где в нарастающем гуле кричат «Штаны, штаны!» и от этого страшно.
Эволюция Дарвинизм и ламаркизм совместимы: русская литература в советских условиях развивалась как вымиранием слабых, так и приспособлением сильных.
Эгоцентризм Ахматова говорила: когда на улице кричат «дурак», не обязательно оборачиваться.
Эпикур На него удивительно похож Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме»: пусть материя будет энергией, пусть чем угодно, только бы не проявлением божества.
Юности зерцало Когда стараются сочинить новую российскую идею, это напоминает, как американцы в XIX века сочиняли себе национальные обычаи, например – есть с ножа.
Я «Андрей Белый сам говорил про себя, что у него нет личности, нет Я. Иногда казалось, что он этим гордился» (Бердяев). Не было личности, а была индивидуальность, категория неморальная.
Я и мир «Ваш круг общения?» – «Это те, с кем я себя нормально мироощущаю» (интервью с артисткой Л. Зайцевой, «Комс. правда», 18.4.1997).
Язык «Вы думаете, что казенный язык – это разговорник, в котором есть только готовые фразы, а это – словарь, которым можно сказать и любые собственные мысли». См. I, Риторика.
Язык Анненский «любил просторечие, произнося его как иностранные слова» (восп. Волошина).
Язык Разницу между одеть и надеть не ощущал даже А. Д. Сахаров. И понятно: от одеть – производное одежда, а от надеть?
Язык На феррарско-флорентийском соборе переводили с латинского: «Глаголющи тремя языки, гречьскы, фрязскы и философскы» (цит. Лотман).
Язык «Бóтать по Дерриде» – выражение в «Неприкосновенном запасе» (кажется, Г. Дашевского).
Язык По радио сказали, очень уважительно: «Звонарь должен въехать в молитвенное настроение, тогда его звон будет в кайф верующим». В «Новой газете» герой интервью «произносит блок утренних молитв». «Пугачеву любите? А в мое время молодежь ее просто олицетворяла». Ср. у Чхартишвили-Акунина: «Хемингуэй олицетворял себя с матадором».
Язык Наташа Ав., когда к ней пристают цыганки, говорит им первые вспомнившиеся стихи Вергилия или Горация, и те с бранью отстают. От собственного языка они отшатываются еще скорее. А. А. Белецкий учил меня, как по-цыгански «пошел прочь», но я забыл.
Язык «Никакой язык», «тетушкин язык», «язык утверждает, что ничего не случилось» – выражения Б. Житкова.
Японский рецепт долголетия: раз в неделю ничего не делать.
Сон на заседании. Берег моря, олеографически голубое небо, пустой пляж, уходящий вдаль. Я иду по темной кромке песка, издали приближается девушка-подросток, босая, подвернутые брюки, клетчатая рубашка. Она смотрит на меня, и я понимаю: она ждет, что я почувствую вожделение, а она поступит как ей захочется. Но я не могу почувствовать вожделение, потому что не знаю, какой я. Такой как есть? как был в давнем возрасте? как представляю себя в фантазиях? И оттого, что я этого не знаю, я медленно исчезаю и перестаю существовать.
НАУКА И ЭТИКА
ПОЭЗИЯ БЕЗ ПОЭТА22
Когда-то античная литература была первоочередным материалом, на котором рассматривались и решались самые насущные проблемы литературоведения Нового времени. Теперь это редкость. Но именно такова предложенная читателю статья Н. Вулих23, – и это, конечно, очень хорошо. Она действительно посвящена не столько поэзии Овидия и поэтике «Тристий», сколько той теме, которая названа в заглавии: какой должна быть наука о литературе. Да, в поэзии есть поэтика; а должна ли в поэтике быть поэзия?
Тема эта очень большая, и поэтому взглянуть на нее сперва лучше издали.
Мы любим читать стихи, это нам легко и приятно, особенно когда стихи хорошие. Поэтому нам хочется думать, что поэту писать стихи тоже было легко и приятно: как будто он пишет, словно птица поет, раскрывает душу – и все тут. Мы как бы заочно делимся с поэтом своей радостью и заглушаем в себе неприятное ощущение того, как легко мы пользуемся плодами чьих-то нелегких трудов.
Поэты понимают читателей и идут им навстречу. Они мало пишут о трудностях своего словесного ремесла, зато много – о крылатом вдохновении и о том, как Муза сама диктует им стихи. У античности для этих двух сторон творчества были два отчетливых понятия: ingenium, «дарование» – о том, что идет из души, и ars, «искусство» – о том, что достигается трудом. И для ars была поговорка: «ars est celare artem», «главное искусство в том, чтобы скрывать искусство», потому что видеть писательский труд неприятно для читателя и расхолаживает его. Раскрывать скрытое искусство поэта – это оставлялось на долю ученых грамматиков-комментаторов. А читатели могли действовать по усмотрению: кто хотел понять и оценить поэта – те брались и читали комментарии, а кому достаточно было восторгаться и умиляться – те этого не делали. Поэты были рады и таким.
В разные эпохи читатели вели себя по-разному. За последние лет двести, начиная с эпохи романтизма, считать, что поэзия в сущности своей таинственна и иррациональна, стало прямо-таки хорошим тоном. Все, что касается искусства, ремесла, техники слова, оставалось достоянием частных разговоров литераторов между собой. Когда русские формалисты вынесли содержание таких разговоров на публику и стали обсуждать, «как сделан «Дон Кихот», подобно тому как техники обсуждали бы, «как сделан паровоз», – это произвело впечатление скандала. Античный человек такому скандалу бы удивился. Для него техника слова и техника мысли была предметом, знакомым со школьной скамьи, и назывался этот предмет риторика.
Н. Вулих не любит риторику: все, что в стихах Овидия относится к риторике, она называет «абстрактно-логическим» или «формально-логическим конструированием». Такое словоупотребление неправильно. Риторика – это отнюдь не формальная логика (это трудолюбиво объяснял еще Аристотель): риторика – это художественная логика. Формальная логика обращается к мысли читателя и слушателя, к его сознанию; риторика – к его чувству, к его подсознанию. Конечно, думать о том, что кто-то трезво и расчетливо по своему усмотрению приводит в действие твое подсознание, – мысль малоприятная. Люди Нового времени предпочитали утешать себя, полагая, что поэты и ораторы и сами-то не так рассудительны, как кажутся, а больше действуют по вдохновению. Люди античные предпочитали, наоборот, сами изучать риторику, и знание законов слова позволяло им нежелательные внушения парализовать умом, а желательные внушения принимать с двойным удовольствием – от того, что им преподносится, и от того, как это преподносится.
Что такое законы слова? Когда Пушкин писал стихами и обращался к читателю, он говорил о том, что ветру, и орлу, и сердцу девы нет закона: «гордись: таков и ты поэт, и для тебя условий нет» («Езерский»). А когда он обращался к другу-литератору, он говорил: «писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным» (письмо к А. Бестужеву, конец января 1825).
Словесность без закона немыслима, потому что без закона в ней не было бы и свободы. Читая стихотворение, написанное свободным стихом, мы не оценим его, если не будем знать, что «законными» формами поэзии тогда считались ямбы и хореи; читая строчку «у кумушки глаза и зубы разгорелись», мы не оценим ее, если не будем знать, что сочетание «глаза разгорелись» для русского стиля «законно», а «зубы разгорелись» – «незаконно». Только на фоне нормы можем мы ощутить отклонения от нормы; только зная «законы… над собою признанные», можем мы увидеть ту свободу, с которой поэт действует в очерченных им пределах. Попытку описать свод тех законов, которые признавал над собою Овидий, когда писал «Тристии», и представляет собою тот очерк, который так не понравился Н. Вулих. Ничего не поделаешь, закон есть закон: логический, со статьями, параграфами и пунктами.
Н. Вулих изучает творчество Овидия много лет. Пусть она представит себе читателя, который берет в руки стихи Овидия впервые, не читавши учебников по античной литературе. Что он увидит в «Тристиях» своим непривычным взглядом? Прежде всего ужасающее однообразие: почти сто стихотворений, без конца повторяющих на разные лады одни и те же считаные темы. Как помочь читателю преодолеть такое впечатление? Можно сделать это с помощью заклинаний: много раз повторять, что Овидий был великий поэт и что вот здесь, и вот здесь, и вот здесь перед нами гениально тонкие художественные находки. На некоторых читателей это действует. Но пониманием это назвать трудно. Я предпочел сказать читателю: «Знай заранее, что перед тобой будут одни и те же считаные темы, не жди никаких иных и сосредоточься на том, как Овидий повторяет их на разные лады; тут ты и сможешь оценить все безграничное изобретательное мастерство поэта. Перед тобой схема, одна на всю большую книгу; сравни с нею живой текст каждого из ста стихотворений и порадуйся их богатству и разнообразию». Н. Вулих недовольна тем, что эта прозаическая схема выглядит обеднением по сравнению с настоящим овидиевским текстом. Но я не думаю, что какой-нибудь читатель, сравнив их, подумает: «как убог этот пересказ»; скорее он подумает: «как хороши эти стихи, такие богатые на такой убогой основе». А это и требуется. Если бы я такого не сделал, каждому читателю пришлось бы самостоятельно, на ощупь сперва восходить от конкретных стихотворений к отвлеченной схеме, а потом нисходить обратно к живому тексту. Что делать, такова диалектика художественного восприятия. Я постарался сократить труд читателя наполовину; что еще может сделать филолог?
Мы подходим к главному. «Оценить мастерство», – сказали мы. Но: «одна техника, одно профессиональное мастерство не могут создать произведения искусства», – возражает Н. Вулих. Конечно, не могут; конечно, во всяком произведении присутствует нечто ускользающее от расчетов, иррациональное, таинственное – просто потому, что структурные элементы и отношения во всяком произведении искусства (как и во всяком произведении природы) бесконечно неисчерпаемы, а разум и расчет всегда конечны. Здесь кончается ars, мастерство, и начинается то, что мы для простоты называем ingenium, дарование. Первое поддается описанию, потому что оно рационально, и это – дело филолога. Второе не поддается описанию, потому что оно интуитивно, и филолог может здесь только остановиться и сказать читателю: смотри сам. Н. Вулих, как кажется, с этим вполне согласна: «художественное познание вещей – познание особенное, оно не поддается логическому анализу или описанию»; «в лирике действительность постигается своим неповторимым путем, недоступным прозаической речи». После этого непонятно лишь одно: почему тем не менее она так настойчиво пытается прозаической речью пересказать в Овидии именно то, что не поддается логическому анализу или описанию? «О чем нельзя сказать, о том следует молчать», – эта последняя сентенция «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна могла бы показаться тривиальной, если бы кто-то из комментаторов не добавил: «а не надо думать, будто об этом можно, например, насвистать». Да, если бы я был поэт, я тоже писал бы, что Овидий был движим крылатым вдохновением; но я слишком хорошо помню, что я не поэт и мои коллеги-филологи, насколько я знаю, – тоже. А если мы будем говорить это прозой (хотя бы и иными словами), то будет только смешно.
Но зато по сю сторону границы между рациональным и иррациональным в поэзии – в области искусства, мастерства, ars – никакие ссылки на неповторимые пути и неисповедимые тайны вдохновения недопустимы. «…Кто вопрошает богов о том, что можно знать посредством счета, меры, веса, и о тому подобных вещах, тот… поступает нечестиво», – говорил Сократ у Ксенофонта («Воспоминания о Сократе», I, 1, 9). Наука для того и старается двигать и двигать границу между рациональным и иррациональным, чтобы все больше делалась область «счета, меры и веса», чтобы вдохновение и интуиция могли не трудиться над тем, сколько будет дважды два, а тратились бы на более важные вещи. Не надо смотреть свысока на то, что можно знать счетом и мерою, и на ту науку, которая, вслед Сальери, старается алгеброй поверить гармонию. «Сальери достоин уважения и горячей любви. Не его вина, что он слышал музыку алгебры так же сильно, как живую гармонию. На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя… пришла живая поэзия слова-предмета, и ее творец не идеалист-мечтатель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник мастер Сальери, протягивающий руку мастеру вещей и материальных ценностей, строителю и производителю вещественного мира», – писал на четвертом году нашей революции такой малорационалистичный поэт, как О. Мандельштам (в брошюре «О природе слова»).
«Опасность отказа от самой поэзии при построении поэтики» – вот что видит Н. Вулих в нашей попытке говорить о пересказуемом и молчать о непересказуемом. Опасность забыть о поэте, говоря о поэзии, – вот что кажется мне более реальным в ее статье. Не о поэте как человеке: написать о его нравственной чистоте (candor animi) можно очень много, но это нимало не поможет понять, чем стихи Овидия лучше стихов такого-то другого, заведомо не менее прекраснодушного стихотворца. Речь идет о поэте как поэте, то есть «делателе» (таков этимологический смысл слова «поэт»), – о мастере слова, «протягивающем руку мастеру вещей». «Художественная ткань», «драгоценная художественная ткань» – вновь и вновь напоминает Н. Вулих, защищая Овидия от упрощения и схематизации (и даже «музыкальная ткань», «целая симфония звуков и красок» – знает ли автор, как выглядят описания симфоний у музыковедов?). Да, ткань бывает очень красива, если любоваться ею со стороны; но мне хотелось бы, чтобы читатель смотрел не на ткань, а на ткача, следил за его работой, понимал его действия, чтобы за прекрасными стихами он видел того, кто их сделал, и представлял себе, как он их сделал, чтобы он хоть в малой мере почувствовал себя не потребителем, а работником слова.
И не надо бояться, что читатель не оценит величия и красоты Овидия без нашей эмоциональной подсказки. Не мы, филологи, судим поэтов: судит их сам читатель, а мы только объясняем ему, по каким законам следует их судить в каждом данном случае. Если мы тысячу раз скажем «Овидий прекрасен», а читатель все-таки не будет его читать, – автор не войдет в нашу культуру и наше филологическое дело останется несделанным.
В заключение – о нескольких более конкретных недоразумениях.
Во-первых, о внутреннем мире Овидия. Я позволил себе написать: «Овидий – добрый поэт». Н. Вулих это не понравилось. Я не спорю: наверное, можно было бы найти и более точное слово. Но она продолжает: «не доброта в современном смысле слова, а humanitas – одно из значительнейших по нравственной глубине понятий… в котором отражена высокая оценка человека как венца творения, обладающего высочайшими качествами, присущими именно человеку: милосердием, сочувствием к страданиям людей, отвращением к злу и жестокости…». И вот с этим уже согласиться нельзя: римская humanitas значила не это. Humanitas – это то, что отличает человека, homo, от животных, то есть для античного человека, во-первых, разум (именно разум – та самая рациональность, которая так не нравится автору), а во-вторых, «вежественное», светское поведение; милосердие же и остальные перечисляемые черты внесены в это понятие уже христианством. Такое осмысление римского понятия стало общим после классической статьи Ф. Клингнера «Humanität und humanitas»24; Н. Вулих в своем перечне очень точно пересказала по ней именно то, что относится к Humanität, а не к humanitas. Отчего такое недоразумение? Оттого, что ей хотелось представить Овидия великим поэтом в романтическом смысле слова, Человеком с большой буквы, а не тем светским «изящным любовным игрателем», tenerorum lusor amorum, каким он представлял себя сам в той автоэпитафии, которую она сама же и цитирует. А Овидий был великим поэтом не в романтическом, а в доромантическом смысле слова, – и это тоже очень немало.
Во-вторых, о внешнем мире Овидия. Я написал, что образ Понтийской земли у Овидия условен и состоит из традиционных образов-знаков, наиболее привычных римскому читателю. Н. Вулих возражает: это мнение «находится в резком несоответствии как с выводами советских историков, так и с материалами современных археологических раскопок», «в „Тристиях“ содержится много драгоценных реалий…» и т. д. Я думаю, что это все-таки не так: только что вышла большая монография именно на эту тему, подводящая итоги и выводам историков, и материалам раскопок, и заключение ее таково: «…Анализ тенденциозности Овидия… приводит к выводу о малой в целом степени достоверности исторической информации Овидия, включенной в общую систему образа „варварской страны“, расположенной на Крайнем Севере. Механизм превращения отдельных реалий действительности в постоянные обобщающие характеристики… приводит к резко искаженной общей картине места его изгнания… Большинство деталей, относящихся к климату, ландшафту и земледелию понтийской страны, представляются малодостоверными…»25 и т. д. Автор тоже критикует то, что у меня написано об Овидии, но как раз за противоположный недостаток – за излишнее доверие к его реалиям. Я склонен больше доверять этой критике, чем критике Н. Вулих: исторический подход к поэзии плодотворнее, чем поэтический подход к истории. Отчего такое недоразумение? Оттого, что Н. Вулих не любит в Овидии ритора, во всем ищущего общих понятий, а хочет видеть поэта современного образца, сосредоточенного на живых, конкретных и неповторимых частностях. Между тем риторика – и, в частности, риторическая поэзия – это тоже искусство, и даже высокое.
В-третьих, об интерпретации овидиевского текста. Н. Вулих подробно и интересно разбирает элегию С. I, 2 – о буре на море по пути Овидия в ссылку; она пишет, что «Овидий ставит… себя самого в положение эпического героя, и реальная буря… приобретает в элегии гомеровскую и вергилианскую грандиозность»; «выражается надежда на то, что боги помогут Овидию, как помогли когда-то прославленным героям легенды», и «эти надежды неожиданно сбываются», «происходит чудо», а показано все это «сквозь призму восприятия взволнованного и потрясенного разгулом стихии поэта». Получается величественная картина: человек противостоит богам, но убеждает богов в своей правде, и боги уступают. А теперь посмотрим, что написано у Овидия. Оказывается: ни боги не противостоят человеку единой страшной силой, ни правда, которой защищается человек, не принадлежит ему. Начинается стихотворение именно расчетом на то, что боги сами между собой не в ладах: «если преследует бог, может вступиться другой!» – и блестящим перечнем прецедентов: Трою губили Паллада и Вулкан, а спасали Венера и Аполлон, Энея губила Юнона и выручала Венера, Улисса губил Нептун, а помогала ему Минерва. А кончается стихотворение таким доводом в собственную защиту: «ведь Август приговорил меня не к смерти, а к изгнанию, хотя мог бы приговорить и к смерти, – что ж вы вмешиваетесь в Августово дело и мешаете исполнению его приговора?» Похоже ли это на «гомеровскую и вергилианскую грандиозность» и на «восприятие взволнованного и потрясенного разгулом стихии поэта»? Вряд ли. Овидий остается таков, каков он есть, – тонок, умен и изящен; и это ничуть не мешает ему быть великим в своем собственном роде, совсем не нуждаясь в гримировке под Гомера и Вергилия.
Наконец, в-четвертых, об обращении с текстом критикуемой статьи. Н. Вулих пишет, что по моему мнению Овидий – «это прежде всего поэт-ритор, легковесный выразитель идеалов светского общества». Что именно эти «идеалы светского общества» и составляли важную часть понятия humanitas, столь существенного для Н. Вулих, об этом уже было сказано, а что «ритор» – слово порицательное и означает легковесность, – это мысль не моя, а Н. Вулих, я же, наоборот, в согласии именно с «учеными последнего времени», смотрю на риторику с гораздо большим уважением. Н. Вулих пишет, что я толкую «Метаморфозы» как поэму, «отталкивающую читателей в Новое время своим беспроблемным оптимизмом». У меня сказано: «почувствовать всерьез его мир… всепринимающей и всеобъединяющей любви человеку нашего времени трудно, если не невозможно»; значит ли это, что идеал Овидия нас отталкивает? Н. Вулих пишет, что повторяемость мотивов у Овидия – это «сознательный прием синтезирования, а не беспомощность воображения»; подозрение насчет беспомощности воображения принадлежит только ей, а не мне. Здесь же сказано: «нельзя забывать, что античная лирика – это тончайшее искусство детали и нюансировки, формально мотив может повторяться, фактически же он каждый раз детализируется по-своему…» Именно это доказывается и показывается в критикуемой статье десятками примеров буквально на каждой странице. Приписывать таким образом критикуемому автору собственные утверждения, а себе его утверждения – это, мне кажется, тоже нехорошо.
«ТРЕВОЖИТ ПРИВЫЧКА К ПОПЯТНОМУ ДВИЖЕНИЮ…» 26
С выдающимся ученым-литературоведом Михаилом Леоновичем Гаспаровым беседует театральный критик Андрей Караулов
– Мне очень давно хотелось, Михаил Леонович, встретиться с вами, но многие ваши друзья не раз говорили мне, что вы на интервью ни за что в жизни не согласитесь.
– Я и сейчас прошу не быть ко мне в претензии, если у нас ничего не получится. Для меня это первый опыт, я привык больше писать, чем говорить. И с журналом вашим я почти незнаком.
– Тогда я извинюсь за то, что отнял у вас время.
Раз уж вы согласились на эту встречу, мне бы хотелось, чтобы наш разговор касался сегодня не только проблем культуры. От разговора о культуре нам, конечно, не уйти. Но в ученом сегодня интересен не только ученый. При Брежневе мне было неинтересно, что вы, Михаил Леонович, думаете о Брежневе, но сейчас мне интересно, что вы думаете о сегодняшней ситуации. Так что не удивляйтесь моим вопросам. Но начнем мы, наверное, вот с чего: по телефону вы говорили мне, что сами придумали вопрос, который хотите себе задать, но не нашли на него ответа.
– Вопрос я придумал такой: как мы должны осваивать культуру прошлого, для того чтобы строить культуру будущего.
– Ну вот. Если бы я знал, то опустил бы весь предыдущий пассаж. Но то, что вы сейчас сказали, очень интересно.
– Думать о культуре будущего я не перестаю: как, в конечном счете, и каждый из нас не перестает об этом думать. Тот путь построения социализма, по которому мы шли семь десятилетий, привел нас к катастрофе, и первая общественная реакция на этот страшный результат – осадить назад. Но осаживать назад бесконечно – нельзя, поиски путей вперед стали нашей задачей, поэтому не думать о культуре будущего мы сегодня уже просто не можем. Эта ситуация внешне напоминает ситуацию, которая много раз повторялась в истории культуры. Спор древних и новых. Одни говорят, что старые мастера были идеалом и мы можем только мечтать о том, чтобы стать их достойными эпигонами. Другие соглашаются, что Гомер и Вергилий были, конечно, гениями, но упрямо доказывают, что писатели нашего времени Расин и Вольтер все-таки имеют кое-что, чего у Гомера и Вергилия не было. Лет десять назад я написал маленькую заметку в малотиражный сборник, где рискнул поставить Михаила Михайловича Бахтина в контекст двадцатых годов с их попыткой прорваться в культуру будущего – «мы наш, мы новый мир построим». И связал с этим всю неприязнь Бахтина к устоявшимся формам словесности, его горячий интерес к тем становящимся, еще не утвердившим себя формам, которые он называл романом, – а если бы Бахтин писал в наши дни, он назвал бы их, скорее всего, антироманом. Это было с моей стороны чем-то вроде объяснения в любви к этому ученому. Сейчас о Бахтине я говорить не буду; если бы я уже в те годы читал его работы, опубликованные позднее, то, конечно, выражался бы осторожнее, мне в Бахтина и сейчас трудно войти – я недостаточно чувствую его душевный склад. Но сам факт устремления замечательного ученого в будущее, который в двадцатые годы объединял и Бахтина, и его современников – оппонентов, мне остается близок.
– Но все-таки у вас не было и нет ответа на этот вопрос.
– Да. Чтобы ответить на вопрос, как осваивать культуру прошлого, чтобы лучше строить культуру будущего, нужно хоть сколько-нибудь отчетливо представлять себе эту культуру будущего, а я, боюсь, представляю ее себе не более отчетливо, чем любой из нас. Тем не менее что-то в ней я для себя все-таки улавливаю.
В литературоведении я прежде всего филолог-античник; оглядываться на прошлое – моя прямая специальность. Античная литература – это самое органическое явление в европейской культуре, потому что она была раньше всех других литератур; все, что рождалось, шло от нее. Это пышно растущее дерево, с которого если ты хочешь сорвать листок, то неминуемо потянешь и ветвь, потом сук, потом сам ствол. Работ, представляющих античную литературу как вот такое органическое явление, сегодня очень мало. Подавляющее большинство – это сочинения, в которых сохранившиеся памятники античной литературы разложены словно по полочкам шкафа: по эпохам, жанрам, литературным направлениям. Пользоваться такими книгами как справочниками очень удобно, но представить себе, как эти музейные препараты соединялись между собой, когда они еще не были музейными препаратами, очень трудно. Когда я занимаюсь античной литературой самой по себе, я, конечно, стараюсь изучать ее как живой организм. А с точки зрения ее пользы для будущего? Чем для нас сегодня должно быть прошлое – живым организмом или таким вот «антикварным» запасом? И я пришел к выводу, что первое, безусловно, важно, но второе – неизбежно. В работу пойдет не прошлое как целое, а по элементам: что-то нужно, что-то ненужно. Мы ведь и сейчас наслаждаемся Тютчевым, не думая, что он был монархист, и Эсхилом – не думая, что он был рабовладелец. А ощущение прошлого как живого организма тем не менее нужно потому, что без этого нам будет крайне сложно понять, что же мы видим перед собой на музейных полках, как такая-то вещь работала в культуре и как она включалась в работу всего остального. А не зная этого, мы не сможем ее использовать по назначению или используем плохо.
– Как вам кажется, может быть, мы неясно видим сегодня будущее прежде всего потому, что чувствуем: будущего может просто не быть? Я имею в виду не только космическую катастрофу, я имею в виду сегодняшнее состояние общества, в котором мы живем, и сегодняшнее состояние культуры.
– Это метафорическое выражение; все-таки если речь идет не о космической катастрофе, то что значит, что будущего не будет?
– Разве современная культура существует как культура?
– Безусловно. Мы можем быть ею очень недовольны, но она есть, мы к ней принадлежим, и если мы сомневаемся в ее существовании (я скажу так, как я понял ваш вопрос, а вы меня поправите, если я понял неправильно), то это ненастоящее сомнение. Оглядываясь на культуру прошлого, прежде всего бросается в глаза ее цельность, органичность, о которых я говорил. А когда мы обводим глазами современность, у нас в глазах рябит и пестрит. Если бы мы жили при Эсхиле или Тютчеве, у нас в глазах бы тоже рябило и пестрило – от пережитков старого и ростков нового. Так что самое неуважительное слово, которое мы можем сказать о современной культуре, – это что она очень эклектична. Правильно я понял ваш вопрос?
– Как известно, культура живет не только в домах, она прежде всего живет в народе. Но иногда жизнь становится такова, что народ в культуре перестает нуждаться. Почему мы об этом не говорим?
– Культура материальная – это то, что народ ест, носит, чем он землю вспахивает, духовная культура – это то, о чем люди между собой и наедине с собой говорят, думают… Как может быть народ без культуры?
– Нас стали страшно пугать социология и статистика: нас пугает, что книги Пикуля сегодня читаются с несоизмеримо большим читательским интересом, чем книги Битова, например. Книга мемуаров полковника в отставке Тьфу-Заволожского интересует людей (и интеллигенцию в том числе) в лучшем случае ничуть не меньше, чем работы Лихачева, Аверинцева, Мамардашвили и других замечательных умов нашего времени. А если мы вспомним, что у нас в стране живет более 280 миллионов, и с этих позиций станем изучать опрос общественного мнения, то очень быстро поймем, что – условно говоря – Лихачев, Аверинцев и Битов сегодня нужны лишь одному человеку из тысячи, а этот один человек по сравнению с тысячью уже не народ. Вот и получилось, что наш народ остался в стороне от дорог сегодняшней культуры. Люди перестали нуждаться, потому что им некогда; они озабочены куском хлеба, жильем, устройством детей, – мы слишком непросто живем, поэтому нас можно понять. Я неправ?
– Совершенно с вами согласен, но сто лет назад русский народ жил гораздо хуже, был на 80% неграмотен и не слыхал о существовании Пушкина, не говоря о Шекспире; однако мы считаем, что в XIX веке русская культура достигла замечательного расцвета и – это уже факт – культура социальных верхов не уступала европейской.
– Когда по Петербургу пронеслась весть о ранении Пушкина, толпы людей пошли на Мойку. Когда умер Пастернак, его смерть не привела к могиле толпы народа.
– Его смерть привела к могиле достаточные толпы народа, чтобы сотрудники КГБ присутствовали, старательно перебирая их глазами и фотографируя. Смерть Пастернака была достаточно значительным общественным событием. Нельзя забывать, что в XIX веке человек, которому была небезразлична литература, не имел другой возможности узнать, что с Пушкиным, как прийти на Мойку и спросить. Для меня Пастернак в высшей степени небезразличен, но я не счел своей обязанностью ехать в Переделкино. От этого моя любовь к нему не меняется.
Не могу сказать, что современная жизнь заставляет людей отворачиваться от высокой культуры, – думаю, что не в большей степени, чем церковно-приходская школа конца XIX века заставляла учеников отворачиваться от Пушкина и Достоевского. Но что жизнь, быт не помогает, не обращает глаза и умы в эту сторону – совершенно согласен. Это общая черта церковно-приходской школы и того самоощущения культуры, которое сформировалось при Сталине, а продолжилось при Хрущеве и Брежневе. Это самоощущение точнее всего, пожалуй, определить как самодовольство. Прямое ответвление от этой самодовольной сталинско-брежневской культуры – современная советская школа. Здесь ничего не изменилось до сих пор. Советская школа семьдесят лет занималась тем, что преподносила учащимся истины в последней инстанции; они менялись, но всегда оставались истинами в последней инстанции. Это в равной мере касалось физики, химии и гуманитарных наук. Разницы не было никакой. Школа изо всех сил вбивала в молодых людей представление, что культура – это не путь, не процесс, а готовый результат процесса, сумма каких-то знаний, каких-то достижений, венец которых – марксизм; ими достаточно напичкать человека, чтобы считать его культурным и образованным. Когда человек останавливается на какой-то ступеньке гуманитарной лестницы с твердым убеждением, что эта ступенька – последняя, что выше ничего нет, – это становится общественным бедствием. Такому человеку уже ничего не докажешь, он сам тебе все докажет, а точнее сказать – прикажет.
– Если бы вы пришли преподавать в школу – допустим, вести какой-нибудь факультатив, – чему бы вы стали учить детей? Ваш первый урок?
– Умению думать. Думать логически, последовательно, не бояться выводов, очень четко отличать интеллектуальную сторону обсуждаемых вопросов от эмоциональной. Заранее привыкнуть к тому, что в эмоциональной области все люди разные, а в области интеллектуальной все люди едины; дважды два для всех четыре, а кто лучше, Мандельштам или Сурков, – никто не знает, каждому свое. Учил бы умению останавливаться в споре, доведя его до каких-то аксиоматических положений. «А я говорю, что Мандельштам – лучше, а он говорит, что Сурков – лучше»; «А я говорю, что Бог есть, а он говорит, что Бога нет»; вот на этой точке обязательно и нужно останавливаться, потому что тут мысль кончается, ее под видом мысли заменяют вера или вкус. Оттого, что это смешивается в сознании, происходит много вреда; я понял это даже по тому минимальному общению со студентами, какое у меня есть.
– Что в современной жизни вас особенно тревожит? Как ученого?
– Сейчас попробую подумать. (Пауза.) Тревожит половинчатость, наша вечная привычка к попятному движению. Наша перестройка, мне кажется, делает шаг вперед и полшага назад; а это значит, что при небольшом усилии можно добиться того, что мы опять будем делать полшага вперед и шаг назад. Тогда придет такой общественный развал, из которого мы уже не выберемся.
Есть такое греческое слово – «геронтократия», власть стариков. Они знали: век уж их измерен, а после них – хоть потоп. Это кончилось. Теперь у власти люди такого возраста, которые понимают: если будет потоп, то погибнут и они. Отсюда и перестройка.
– Как бы вы определили для себя, что такое перестройка?
– Я вижу: то, что происходит сейчас, непохоже на то, что происходило еще четыре года назад, и вот то, что изменилось, я привык называть перестройкой. После столь долгого отучения советского человека от всякой привычки к общественной деятельности находятся, к моему радостному изумлению, люди, которые вносят какие-то предложения, пишут письма, что-то начинают делать, возрождают в стране политическую жизнь, которая, по сути, кончилась с разгромом левых эсеров, – это все, конечно, очень хорошо. Выборы, которые только что прошли, при всех странностях избирательной системы, вызвали такую волну общественной активности, какой я не ожидал, – и это тоже очень хорошо.
Но тревожит именно привычка к попятному движению. Привычка делать полшага назад. К сожалению, это есть. Так всю перестройку можно повернуть вспять. Революцию 1917 года сделали, конечно, не заговорщики. Ее сделало бездарное русское правительство, умудрившееся загнать российское существование в такие тупики, что взрыв стал неизбежен. Ленин оказался способен собрать то, что осталось от этого взрыва, и, увидев, что цель всей его жизни – мировая революция – оказалась недостигнутой, нашел в себе силы повернуть в совершенно другую сторону: на нэп, на построение социализма в отдельно взятой стране, – хотя и отчетливо, конечно, понимал, что социализм в отдельной нищей стране будет похож совсем не на то, о чем он мечтал. Сейчас нужно совсем немного для того, чтобы при скверном владении политикой загнать Россию в такой тупик, в какой она была загнана к февралю 1917 года. То, что до этого недалеко, ясно каждому, кто ходит в магазин. А вот как мы будем выбираться из кризиса – взрывно или безвзрывно, – вот это я пока себе представить не могу.
– Очень интересно, что так говорите именно вы. С такой нотой отчаяния сегодня не говорят даже те практики-экономисты, которые настроены более чем мрачно.
– В публицистике печатавшейся ноты отчаяния были – еще какие!
– У меня складывается ощущение, что вы, ученый, деятель науки, непосредственно занимающийся великой литературой, сегодня отдаете предпочтение публицистике, но не большой прозе.
– Тут все просто. Большая проза обслуживает наше эстетическое чувство, мне как филологу есть чем его обслужить, а публицистика говорит со мной о том, о чем Цицерон и Вергилий мне не скажут, сегодня это важнее.
Вообще катастрофически не хватает времени. Современную поэзию – читаю, хотя чувствую, что это уже не мое поколение, воспринимать ее мне часто бывает трудно; чувствую, что не ощущаю разницу между новыми поэтами, которые для их сверстников, наверное, различны, как небо и земля. А на большую прозу времени совсем нет.
– Михаил Леонович, вам, человеку кабинетному, как вы сами говорите, не хотелось бы быть больше… приближенным к жизни, что ли?
– Тогда скажите: что такое жизнь?..
– Спрошу иначе: вам не хотелось бы сегодня заниматься не только академической наукой, но и сочетать эту работу с литературной критикой, журналистикой, то есть с теми формами, которые имеют определенный общественный темперамент?
– Понимаю, понимаю, – нет. По-видимому, мой научный темперамент рассчитан именно на кабинетные формы работы; даже на своих лекциях – когда мне приходится этим заниматься – я чувствую себя как чужой, хотя с небольшими группами людей, которые обращаются ко мне с какими-то вопросами, я общаюсь охотно и нахожу в этом общении удовольствие. Пользуясь английской терминологией, могу твердо сказать: я был бы плохим лектором для большой аудитории, но был бы хорошим тьютором для занятий с несколькими учениками.
– Если бы вас выдвинули в народные депутаты, вы бы наверняка сделали самоотвод. Так?
– Политика – это такая же специальность, как литературоведение. Ей надо учиться теоретически или практически. По этой причине я бы и отказался.
– Но мы живем в такой стране, где профессионального парламента никогда не было, если вести летоисчисление с 1917 года. Научиться профессии политика в нашей стране просто невозможно. Однако уже сегодня… вот никому не пришло в голову выдвинуть в этот парламент Лотмана, Мелетинского, Гуревича, Мамардашвили – человека, который обладает, кстати сказать, общественным темпераментом. А пришлось бы, то засмеяли бы, пожалуй. Так ведь? Не пришло в голову выдвинуть вас. Вот вы улыбаетесь…
– Правильно, правильно…
– …а получилось, что опять огромное количество достойных людей, которым, право же, было бы что сказать с этой трибуны, ее не получат, теперь уже во многом по собственной вине. Может быть, это нескромно, но я все-таки скажу, тем более что большой разговор с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым у нас, на страницах «ТЖ», впереди: я позволил себе хоть и в кавычках, конечно, но все-таки «возмутиться» Сергеем Сергеевичем. Если уж Сергей Сергеевич Аверинцев первый раз в жизни пошел в Кремль на встречу Генерального секретаря с творческой интеллигенцией, то он просто не имел морального права сидеть и молчать. Не поднять руку и не сказать Николаю Ивановичу Рыжкову, который был там же, в президиуме, что постановление Совмина, ограничивающее деятельность кооперативов, продумано не до конца. И вообще это странный документ, ибо из него следует, что в СССР запрещены частные школы. Чего боимся? Что они испортят нашу молодежь? Не тому ее научат? А государственные школы учат тому? Да что ж говорить…
И кому, как не Аверинцеву, это бы и сказать? И кого, как не Аверинцева, там послушали бы? Ведь эта встреча и задумывалась как совет с интеллигенцией. И на ней Горбачев и руководство партии, надо отдать им должное, действительно советовались, это говорили все, кто на этой встрече был. Сергей Сергеевич соглашался, но объяснял, как и вы, что у него нет политического опыта, что он не знал, как нужно поднять руку, нужно ли записываться предварительно, – это я прекрасно понимаю, я бы тоже растерялся. Но проблема-то не решена. Поэтому вопрос такой: не кажется ли вам…
– Кажется… да, кажется. Но гласность имеет разные формы. Если я выйду на трибуну в Кремле, я буду смешон. А вот написать статью о том, что сама логика жизни требует, чтобы к кооперативам не относились бы по-дубельтовски, я могу, это в моих силах. Напомню: Дубельт – это тот начальник жандармов при Николае I – очень умный, кстати, – который говорил, что просвещение подобно лекарству, которым в одних дозах можно исцелиться, а в других отравиться; поэтому просвещение нужно принимать в той дозировке, которую прописывает правительство. Указ, который перечисляет, что кооперативам запрещается выпускать, во-первых, яды и наркотики, а в-последних, книги, – удивительно напоминает об этой логике Дубельта. Мог бы я написать и то, что позволяю себе думать: если бы Ленин был современником Карабаха, Сумгаита, Тбилиси, Риги, он тотчас распустил бы Союз Советских Республик и собрал бы его наново и по-новому. Но что делать, вы правы: ничего подобного я так и не написал. Очевидно, решил, что это лучше меня сделают другие. У нас все надеются, что другие сделают лучше, – выходит, и я не отстаю…
Сейчас все чаще раздаются голоса, призывающие обсудить вопрос о многопартийной системе. Я думаю, что ситуация в стране такова, что сегодня все партии в принципе будут выступать за одно и то же, у нас нет альтернативы. Но плюрализм мнений логически ведет к многопартийности. Только разница между партиями будет состоять лишь в том, что одна партия будет требовать от перестройки более широких шагов, другая – семимильных, а третья – ну, о худших вариантах я воображать не пробовал…
– А вы выступаете как радикал? Вы за более радикальные преобразования?
– За более решительные. Судя по тому, что я читаю в публицистике, мы так далеко зашли в тупик, что выходить на твердую дорогу нужно скорее. Это ведь тупик даже не политический, а экономический, – по марксизму, это страшнее.
– Какие беды, Михаил Леонович, нам принес метод социалистического реализма?
– Прежде всего, он категорически объявил себя вершиной, выше которой ничего нет и не может быть. Он гарантировал остановку душевного развития и духовных исканий: мешал людям думать. Во-вторых, он представлял действительность не такой, какова она есть, а такой, какой она должна быть: мешал людям видеть. Не только в литературе – везде: в живописи, в кинематографе, в театре. Формулы для этого придумывались разные, но они в равной мере не побуждали, а отучали людей от правды в искусстве.
– Как сильно, на ваш взгляд, наша идеология помешала нормальному развитию литературоведения как науки? Насколько эти пути были искорежены? Или все-таки литературоведение развивалось более-менее нормально, вода дырочку найдет?
– Вода дырочку найдет. И находила. Характерно, что, как только наступала оттепель, вдруг оказывалось, что у нас есть достаточное количество ученых, которые тут же готовы расправить свои творческие крылья, как бабочки после анабиоза. По-моему, Аверинцев где-то говорил или писал, что удивляться надо не тому, как долго и упорно у нас вколачивали в забвение Гумилева, а тому, что, как только этот кляп был вынут, вдруг оказалось, что знатоков Гумилева достаточно для того, чтобы в три года выпустить три научных издания гораздо лучшего качества, чем эмигрантские.
– Существуют науки естественные и противоестественные, как известно. Давний спор о том, можно ли считать театроведение наукой, так вроде бы ничем и не кончился. Теперь театроведы считают театроведение наукой, Академия наук – нет. Ваша точка зрения?
– Наука, даже если она основана на субъективном восприятии актера и художественного произведения, называемого спектаклем, – все равно наука, потому что из субъективных восприятий так или иначе складывается одно, уже объективное, которое само по себе есть выражение общественной реакции на культурное явление. Театроведение и изучает, в конечном счете, эту общественную реакцию. В театроведении, по-моему, надо только шире использовать точные методы анализа, хотя я ничего не имею против критика, полагающегося на собственную интуицию.
– Понятно. Михаил Леонович, что в нашем отношении к XIX веку вас особенно тревожит? В чем, на ваш взгляд, главная проблема?
– В том, что его проходят в школе. Это самая надежная гарантия получить к нему отвращение на всю жизнь. У нас очень мало работ, которые смотрели бы на XIX век свежим взглядом и с нетрадиционных сторон. Но время от времени они все-таки появляются. Одной из таких работ я, между прочим, считаю сугубо ненаучный роман Набокова «Дар». На мой взгляд, то, что там написано о Чернышевском, замечательно, и, при всем ироническом отношении Набокова к Чернышевскому, он у него получается и героичнее, и человечнее, чем, наверное, хотелось самому автору.
– Какова, на ваш взгляд, главная задача нашего общества сегодня? Накормить себя? Или все-таки нет?
– Накормить себя. Если даже с величайшими духовными достижениями мир вымрет от голода, мировой культуре пользы от этого не будет. Беда в том, что не одна, а две главные задачи есть у нашей духовной культуры и они друг другу, как часто бывает, мешают. Первая: продолжать распространение культуры вширь, в ту рабоче-крестьянскую массу, которая сто лет назад была поголовно неграмотной, и не забывать, конечно, о том, что голодное брюхо к учению глухо и бывают такие ситуации, когда сапоги действительно дороже Шекспира. Вторая задача – развивать культуру вглубь. Я представляю себе развитие культуры как чередование развития вширь и развития вглубь. Вспомним, при Петре Великом культура распространялась только вширь; масса дворянства была полуграмотной, если не безграмотной. Так начиналось. А кончалось тем, что дворянская культура так развилась и расцвела, что пошла вглубь и дала нам Жуковского, Пушкина, Лермонтова. Следующий этап движения вширь идет по буржуазии, начиная с полуграмотных разночинцев, через Чернышевского и Писарева, а кончается он Блоком, Станиславским и всем тепличным расцветом начала века. Затем – новое движение вширь, борьба с рабоче-крестьянской полуграмотностью; и хочется верить, что уже близок тот момент, когда эта стадия будет наконец пройдена и начнется новое движение вглубь. Но может быть, это иллюзия? Или просто я до этого не доживу?
– Почему вы редко ходите в театры, Михаил Леонович? Почему? Сегодня многие ученые, филологи и культурологи, совершенно не интересуются театром. Получается, что театр – это та часть культуры, которая не нужна обществу? Нет?
– За общество ничего не могу сказать, просто сам по себе я человек застенчивый, связей с театральными людьми у меня нет, поэтому очень часто отказ от посещения театра объясняется только тем, что я не могу достать билет. Но кроме того, чтобы о чем-то судить или чем-то наслаждаться, нужно до какой-то степени быть специалистом, постоянным посетителем театра, я таковым по вышеуказанной причине не являюсь, поэтому у меня возникает чувство, что я отнимаю театральное кресло у человека, который бы воспользовался им с большей пользой для себя, чем ваш покорный слуга…
Беседу записала О. Дремина
ОБРЕТЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОТРЕЧЕНИЕ 27
Из двух слов, схватывающих проблему, – «всечеловечность и национальность», – мне кажется, заслуживает обсуждения только первое. Да и оно достаточно размашисто: как русской культуре быть всечеловеческой, объяв собой и китайскую, и индийскую, и индейскую, об этом, по-моему, рано еще думать. Хорошо, если мы задумаемся о том, как русской культуре быть европейской или, культурологически выражаясь, европейско-христианской. Все-таки к европейско-христианской цивилизации (с ее двумя истоками – античным и ветхозаветным) мы принадлежим тысячу лет и два года, что недавно было даже официально признано. И вряд ли будет хорошо, если мы начнем думать о том, как русской культуре быть русской: известно, что когда кто-нибудь слишком печется о том, как сохранить свою индивидуальность, то обычно эта индивидуальность бывает такая, что ее не стоит и сохранять.
Можно ли представить себе Пушкина, который задумывается, как ему быть русским писателем, а не каким-нибудь другим? Или Льва Толстого? Или Чернышевского? Нарочно называю писателей, как можно более непохожих друг на друга. Задумывались другие – те, о которых у Щедрина мимоходом сказано (прошу прощения, что цитирую по памяти): русский человек в Европе чувствует противную неловкость – то ли будто он что-то украл, то ли будто у него что-то украли. Думаю, что это у Щедрина относится не только к героям «За рубежом», но и, например, к автору «Зимних заметок о летних впечатлениях». Когда это эмоциональное содержание перерастает в идейное, то обычно появляются выражения вроде «русская душа» или «русская идея». «Русская душа» («загадочная русская душа»), кажется, уже достаточно себя скомпрометировала: для ее определения не раз предлагались те или иные списки добродетелей, но ни в одной из этих добродетелей даже у патриотов не поворачивался язык отказать французской, китайской или какой угодно иной нации. Зато «русская идея» в последние годы опять начинает упоминаться все чаще, однако ни одного внятного определения ее я не видел (может быть, пора и ее называть «загадочной русской идеей»?). И даже если увижу, то вряд ли обрадуюсь. Всякая индивидуальность – личная ли, национальная ли – это ограниченность того или другого рода: из общечеловеческого достояния я не способен вместить того-то, а мой сосед – того-то, поэтому каждый из нас индивидуален. Такую ограниченность, наверное, лучше преодолевать по мере сил, нежели умиляться на нее.
Как преодолевать? Всякое совершенствование начинается с понимания. Индивидуальность человеческого сознания, индивидуальность народного сознания есть напластование памяти о событиях – биографических или исторических. События эти (увиденное зрелище, прочитанная книга, одоление природных условий, поражение в войне) нимало не уникальны, но сочетание и последовательность оставляемых ими следов, конечно, неповторимы. Знать собственную историю – культурную историю прежде всего – это первейшая необходимость. «Собственную» в широком смысле слова: в историю русской культуры входят не только Феодосий Печерский и Малюта Скуратов, но и Гейне и Ницше. Чтобы понимать Пушкина, важнее знать Вольтера, чем протопопа Аввакума. Опыт своей истории – это склад прецедентов, которые полезны при встрече с будущим, а сопоставление своего опыта с чужими опытами – это именно то, что помогает понять себя и стать больше себя: стать европейцем в надежде стать человеком всемирной культуры. Ни один человек, конечно, не вместит всемирную культуру в целом, а только в выборке. Но чтобы эта выборка делалась в соответствии с индивидуальным душевным складом человека, а не навязывалась ему национальными и прочими привычками отцов и дедов, к этому ведут все тенденции современного культурного развития.
Ось, на которую нанизывается историческая память, складывающаяся в национальное сознание, – это язык. Может быть, я преувеличиваю, потому что сам словесник; может быть, зрелище построек или звуки песен способны и без словесного комментария говорить потомку не меньше. Но мне трудно не вспоминать знакомую мне античную культуру, в основе которой лежал предмет, скромно называющийся у нас «развитие речи». В наших школах изучение его заканчивается в младших классах, а в античности на нем держалось и начальное, и среднее, и высшее образование. Все остальное группировалось в тот энциклопедический минимум культурного фонда, который был общим в той или иной степени для всех и объединял общество не меньше, чем религия или политическая власть. Такого канона текстов, обросших комментариями – языковыми, реальными, историческими, психологическими, эстетическими, идейными, – у нас нет. А через такой комментарий легче заглянуть в собственное прошлое, чем через любой учебник и чем через сколь угодно талантливое научно-популярное пособие. Все знают комментарий Ю. М. Лотмана к «Евгению Онегину»; мало кто знает комментарий Антиоха Кантемира к собственным и Горациевым сатирам; с виду они очень непохожи, но цель у них одна, и это та самая цель поддержания доступа к культурному наследию, о которой приходится заботиться нам всем.
Я вовсе не закрываю глаза на то, что интерес к собственному прошлому нужно прежде реанимировать, чем развивать. Я знаю, что благодаря стараниям нашей школы миллионам молодых людей невыносимо скучны уже не только Пушкин и Гоголь, но и Толстой и Горький. Я знаю, что еще немало труда придется положить на то, чтобы объяснить: «Вот этих стихов из последнего журнала ты не поймешь по-настоящему, не зная Маяковского; а Маяковского – не зная Блока; а Блока – не зная Пушкина; а Пушкина – не зная русского XVIII века. И не поймешь Вознесенского, не зная Аполлинера; Маяковского – не зная Уитмена; Пушкина – не зная Байрона; и русского XVIII века – не зная античной классики». Но это уже социальный аспект развития современной культуры, а мы здесь говорим о национальном аспекте.
Из остальных – помимо языка – «базисных ценностей», о которых нам предложено подумать, об одной я отказываюсь судить: о «жизненном пространстве». Для меня это понятие слишком срослось с нацистской идеологией. О «почве» можно говорить серьезнее (хотя и здесь трудно не вспомнить концовку «Потока-богатыря»: «Али, почвы уж новыя ради…»). Дело в том, что у интегрирующих тенденций современной культуры, конечно, есть и противовес, недаром понятие «малой родины» явилось у нас как раз в последние десятилетия. Но это именно «малая» родина. Почему считается, что ощущение «почвы» помогает почувствовать себя русским человеком? Оно помогает почувствовать себя – и это прекрасно – человеком вологодским, рязанским, сибирским; я сам при всех европейских вожделениях не перестаю себя чувствовать человеком даже не московским, а замоскворецким. Сверхмалые культурные общности и сверхбольшие дополняют друг друга. А объединяет эти сверхмалые общности язык.
Я бы вычеркнул из паспортов и анкет графу «национальность» и ввел бы вместо нее графу «родной язык» (кажется, когда-то так и было?). Если человек сможет вписать туда не один родной язык, а два или три – прекрасно. Мы страдаем из‐за культурного разобщения внутри нашего Союза и из‐за культурного отъединения от Европы и мира (болезненный след железного занавеса). Горький парадокс, что наиболее слита с Европой и Америкой оказалась русская эмиграция – или, как теперь предпочитают деликатно выражаться, «зарубежье». Оно форпост русской культуры в Европе? Я бы предпочел видеть в нем форпост Европы в русской культуре. Не все в эмигрантской культуре способно вынести эту миссию; и, конечно, по сю сторону границы тоже есть достаточно сил, способных служить культурной интеграции. Чем скорее они сольются, тем лучше.
Национализм – детская болезнь в истории народа. Малые народы бывшей Российской империи в недолгий промежуток между тем, как Ленин ослабил петлю на их шее и как Сталин вновь начал ее затягивать, успели – хотя бы некоторые – окрепнуть и экономически, и политически, и культурно. Естественно, что это вылилось в волну национального недовольства. Русский народ давно миновал эту стадию национального самосознания (или я обольщаюсь?), но болезни заразительны, и ему захотелось впасть в детство, в такое же упоение своей самостоятельностью и самобытностью. Апостол говорил: нет ни эллина, ни иудея, а Маркс говорил: пролетарии всех стран, соединяйтесь; но слова апостола были забыты официально, а слова Маркса – неофициально. До каких трагических событий довел страну этот самотек, все мы знаем и чувствуем. Кому, как не русскому народу, подать пример обратного движения – к обретению себя через «отречение» от себя?
Россия была колониальной империей, и мы знаем, кто из народов в ней был угнетателем и кто угнетенными. Не будем притворяться, что мы потомки просветителей – миссионеров, учителей, врачей – и будто мы не имеем никакого отношения к разорителям – завоевателям, чиновникам. На нас лежит историческая вина, искупить которую наш нравственный долг; если не всякий просвещенный русский человек это чувствует, то это горько и странно. Только этим чувством и может определяться взаимодействие русской культуры с культурой других республик. Здесь задача та же, что и во взаимодействии ее с Европой: интеграция. Однако решать ее труднее, потому что русскому человеку в наши дни раздобыть грамматику и словарь марийского, якутского или даже армянского языка куда трудней, чем испанского или китайского. Такую ситуацию я могу назвать лишь хорошо обдуманным преступлением. Но это уже выходит за пределы нашей дискуссии.
А «престиж и достоинство русской культуры»? Думаю, что если мы будем делать русскую культуру ради престижа и достоинства, то ничего хорошего не сделаем. Будем людьми, и нас будут уважать. И если наша русская культура чего-то стоит, то отпечаток ее будет на всем, что мы будем делать как европейцы и как жители земного шара.
СЛУЖБА – ЭТО НЕ БЛАГОДАТЬ, А ДОЛГ 28
На мое предложение сфотографироваться доктор филологических наук, профессор Михаил Леонович Гаспаров ответил вежливым, но категорическим отказом. А на просьбу использовать фотографию, промелькнувшую в одном из номеров журнала «Наше наследие», отозвался с неподражаемым юмором: «Берите. Она уже стала общественным достоянием». Подумалось: а ведь Гаспаров прав. Пришло время, когда деятели науки и культуры, известные ученые появляются на экранах телевизоров едва ли не чаще, чем эстрадные певцы и знаменитые актеры. Ученых начали узнавать в лицо в публичных местах – это ли не добрый знак того, что общество пересматривает духовные ценности и надежда на возвращение былого престижа образованию еще не до конца утрачена?
– Михаил Леонович, однажды коллега, член-корреспондент АН СССР С. Аверинцев сказал о том, что традиция поддерживает непрерывность культуры. А можете ли вы представить себе, что культура может прерваться? И впервые ли в своей истории человечество переживает ощущение забвения традиций, краха культуры, о чем свидетельствуют многочисленные высказывания отечественных и зарубежных деятелей культуры?
– Во всяких обществах есть свои культуры, даже у самых нецивилизованных дикарей, и, как свидетельствуют этнографы, в некоторых отношениях не уступающие нашим. Можно говорить о забвении и крахе не традиций и культуры вообще, а привычных традиций и форм культуры. То есть речь идет не об уничтожении культуры («одичании», как пишут пессимисты), а о ее трансформации. А эта трансформация происходит непрерывно. Ни одно культурное поколение непохоже на предыдущее. Можно говорить о том, что теперь темп этих изменений быстрее, чем в предыдущие времена: раньше пятидесятилетние не понимали двадцатилетних, теперь тридцатилетние не понимают двадцатилетних. Это значит, что нынешняя культура – более сложное и напряженное напластование и сопластование субкультур и нужно больше внимания, чтобы поддерживать их мирное сосуществование. В школе, вероятно, это всего ощутимее… Не нужно думать, что в наше время положение трагичнее, чем когда-нибудь. Для нынешней молодежи не существует Библии, Эсхила, Баха (список можно продолжить и варьировать до бесконечности), а для Пушкина не существовало русской иконописи и поэзии Франсуа Вийона. Культура прошлого – поле развалин, среди которых каждое поколение выбирает себе камни для новых построек. Хранители же традиций – историки и филологи – нужны, чтобы мысленно восстановить первоначальный вид разваленных строений и, основываясь на этом, говорить строителям: «Не стоит класть бывший камень фундамента в замок свода и наоборот – вам же неудобнее будет». Требовать же, чтобы все общество превратилось в историков и филологов – противоестественно. Мы познаем прошлое только для того, чтобы строить будущее. Я по образованию специалист по античности и знаю, через сколько «темных веков» после того, что мы называем античной культурой, наступает то, что мы называем культурой средневековья. Уверяю вас, что по сравнению с этим нынешние мерки десятилетий – пустяки.
– Преподаватели гуманитарных наук все чаще жалуются на «вымывание» их дисциплин из учебных программ, на сокращение часов. Есть ли польза от такого предмета, как литература, в наш практичный век утилитарных знаний?
– Литература отвечает человеческой потребности в прекрасном. И наука, и искусство делают одно и то же дело: упорядочивают для человеческого сознания бесконечный (то есть беспорядочный) мир действительности. Только наука при этом обращается к разуму человека, а искусство – к тому неопределимому чувству, которое называется «эстетическим». Волнообразные же колебания предпочтений то «физикам», то «лирикам», наверное, так же родственны, как попеременные шаги то правой, то левой ногой.
– Я хочу продолжить нашу беседу еще одним высказыванием: «Дети всегда больше похожи на свое время, чем на своих родителей». Это слова Юрия Трифонова. Как вы относитесь к ним?
– Совершенно согласен. С оговоркой: родители тоже принадлежат времени детей, и не в последнюю очередь. Не помню, кто сказал: родители для детей страшны тем, что в них – наследственность, в них и среда. Я бы выразился так: родители ориентируют детей на ценности прошлого, улица – на ценности настоящего, школа – на ценности будущего, в котором предстоит им жить. Пусть преподаватели согласятся, что из этих трех факторов хуже всего делает свое дело школа.
– Сейчас много ведется споров вокруг таких понятий, как образование, культура, интеллигентность. Как, на ваш взгляд, они соотносятся?
– Я боюсь слова «интеллигентность», ибо оно означает качества, свойственные интеллигенции. Когда это слово было создано (в середине XIX века его ввел в обиход литератор Боборыкин), оно означало изгоев, которые получили образование, но не получили поприща для его применения. В наши дни «интеллигенция» – это работники умственного труда, только и всего. Качества у этих интеллигенций – прежней и нынешней – весьма разные. Вот почему я бы предпочел для сравнения другие понятия: «образованность» и «культурность». «Культурность» – это то, что называлось в древности «гуманитас», в средние века – «вежество», при Евгении Онегине – «светскость». Раскрывать каждое из этих понятий я не берусь, но что имели в виду под словом «гуманитас» греки и римляне, сказать могу: две вещи, отличающие человека от животного. Во-первых, разум, а во-вторых, умение вести себя в обществе, то есть считаться со своими ближними – в самом широком смысле слова! – вероятно, и отличают культурного человека от образованного.
– Мне представляется, что спасительная особенность работ «кабинетного ученого» состоит в том, что он может позволить себе уйти из дня сегодняшнего в день минувший, погрузиться в эпоху давно ушедших лет. Мне здесь на память приходят слова Сенеки (привожу по памяти): то, что я не могу изменить, я могу презирать. Не идеал ли это для думающего человека, не желающего мириться с несовершенством и несправедливостью окружающего мира?
– Ни в коем случае! Сенека имел в виду совсем другое. Он хотел сказать то, что и сегодня любой психиатр говорит пациентам: если ты не можешь избавиться от предмета, который тебя раздражает, – перемени отношение к нему и не раздражайся. Кабинетный ученый работает для окружающей жизни так, как я говорил выше: указывая для новосоздаваемых построек примеры или предостережения в развалинах прошлого. Он несет службу связи между прошлым и будущим. А служба – это не благодать, а долг. «Благодать», если угодно, это когда тебе посчастливится соответствовать тем требованиям, которые служба предъявляет к человеку. То есть умение выбрать себе профессию по душе и по плечу – то самое, чему тоже не в последнюю очередь должна учить людей школа.
Автограф взяла Т. Гаген
РУССКАЯ КУЛЬТУРА ВО ВСЕ ВРЕМЕНА 29
1. В чем, на Ваш взгляд, состоит национальная самобытность культуры? Как ее сохранить в современных условиях глобальной стандартизации образа жизни?
Национальная самобытность – это все равно что человеческий характер: она не дается от бога раз и навсегда, а складывается в напластовании биографических случайностей, у каждого человека и народа своих и неповторимых. Она динамична: национальная самобытность московского и петербургского периодов русской культуры неодинакова. Она незамкнута: в ее наслоениях есть пласты и Византии, и Востока, и Запада. Для Петербурга – прежде всего, разумеется, Запада. Это европейский город, талантом строителей и обитателей вживленный в восточноевропейские природные и людские условия. При этом Запад выступает не только в классических шедеврах, но и в массовой безликости, и это тоже хорошо: Невский – такая же прекрасная (и, может быть, более живая) часть Ленинграда, как Адмиралтейство. Я не думаю, что нужно специально стараться сохранить национальную самобытность чего-либо: о чем приходится стараться, то, видимо, и не заслуживает сохранения. Не стесняться (как и прежде) брать новое у Европы и стараться (как и прежде) вживлять его в уже сложившуюся культурную обстановку – вот главное; последнее очень трудно, я знаю. И не бояться эклектики: архитектура – искусство долговечное и не может не быть эклектичной. Постройки начала XX века на Невском резали глаз современникам, а сейчас воспринимаются как органическая его часть. То же будет и с современными вставками в архитектурный пейзаж города – вероятно, это почувствуется (или уже почувствовалось?), когда будет в очередной раз ветшать и обновляться тот же Невский. Напоминаю: когда персы разорили афинские храмы, то афиняне при всем их благочестии не стали их восстанавливать, а стали строить на их месте новые, и только этому мы обязаны Парфеноном. Национальная самобытность сохранится сама собой!
2. Каково значение русской культуры для человечества? Как Вы определяете ее роль и место в мировой культуре? Как относитесь к взаимовлияниям в прошлом и особенно в настоящем?
Русская культура есть часть мировой культуры и европейской субкультуры. Без взаимодействия и взаимовлияния со своими соседями она просто не могла бы жить – в лучшем случае стала бы застылым вневременным реликтом, на который приятно поглядеть туристу, но в котором невозможно жить человеку. В настоящее время ей трудно, потому что приходится делать очередной скачок через ступеньку, чтобы равноправно общаться с Западом,– последствия до сих пор недоликвидированного железного занавеса. Утешает то, что русская культура уже триста лет догоняет Запад именно таким ускоренным бегом через ступеньку: одно наше поколение делает дела двух западных (причем обычно предельно непохожих: так Ломоносов осваивал сразу барокко и классицизм, а Брюсов – парнас и символизм). Об этом ускоренном, со спотыканием, темпе развития послепетровской культуры хорошо писал Ключевский. Я оптимистичен: опыт есть – скачок получится. А «роль и место» русской культуры в мировой определяются для каждого периода в конечном счете случайностью: где родится больше талантов музыкальных, где философских и т. д. В конце XIX века Россия была в первых рядах европейской прозы, а в начале XX века – живописи и театра. К каким «первым рядам» наша культура сейчас подступила всего ближе, судить не берусь. Но хочется напомнить: во-первых, рельеф европейской культуры состоит не только из Монбланов и культурные низины тоже входят в пейзаж, делая его более живым и привлекательным, а во-вторых, в культуре происходят периодические переоценки ценностей, и то, чему мы ужасаемся сегодня, послезавтра может стать предметом умиления. Презираемым ныне передвижникам кто-то уже предсказывал недурную судьбу малых голландцев.
3. Что приобрела и что потеряла русская культура за годы советской власти? Как они отразились на духовной жизни, искусстве и литературе Ленинграда?
За годы советской власти русская культура потеряла живую связь с традицией. Поэтому перенимать современные достижения мировой культуры мы можем не хуже прежнего, но акклиматизировать их умеем много хуже. Окраинные высотные кварталы строятся, кажется, неплохо, но придавать им индивидуальный облик удается редко, и всякий раз это праздник, а не норма. Из традиции никоим образом не следует делать предмет культа: смотреть нужно вперед, а не назад. Но, потеряв традицию, мы рискуем использовать обломки прошлого не по назначению и тем создавать уродства. При Сталине из культурной традиции были вырезаны несколько образцов, покрыты хрестоматийным глянцем и объявлены безоговорочным примером для подражания – хотя, если взглянуть в историческом контексте, иные из них были прямо взаимоисключающими. Это – во всех искусствах. Какова специфика этих вивисекций для духовной жизни Ленинграда, не решаюсь судить: я все-таки не ленинградец и хуже это чувствую.
4. В чем Вы видите своеобразие культурных традиций Петербурга? Существуют ли они в наше время?
Мне кажется, я уже сказал об этом, что мог, в предыдущих ответах.
5. Какими, по Вашему мнению, должны быть пути и способы культурного возрождения города на Неве?
Опять не чувствую себя вправе судить, не будучи ленинградцем. Боюсь лишь одной опасности. Ленинград – город такого богатого культурного прошлого, что оно грозит сковать поиски культурного будущего. Поэтому не мешало бы помнить, что в традиции ленинградской культуры были не только Захаров и Воронихин, но и обэриуты и октябрьские празднества 1918 года. Я филолог, мне ближе литературные примеры. Иосиф Бродский сумел соединить европейский постмодернизм с безукоризненно ленинградскими (петербургскими) культурными приметами; за москвича его принять невозможно. Насколько я знаю современную ленинградскую молодую (весьма относительно молодую) поэзию, она настойчиво и успешно ищет новое; но «особый отпечаток» Ленинграда для меня на ней не всегда заметен. Очень надеюсь, что с другими искусствами дело обстоит не хуже. Труднее всего – потому что громоздко,– конечно, с архитектурой: ей, видимо, предстоит создавать эклектически обновляемый город вокруг заветного треугольника петербургского классического центра и совсем новый город в кольце окраин. Как? Я не знаю. Но ведь это не специфически ленинградские проблемы, так же обновляются сейчас и Париж, и Рим. Поэтому, наверное, ответ на вопрос, какими должны быть пути и способы, будет: оставаться окном в Европу.
НЕСКОЛЬКО ПАРАЛЛЕЛЕЙ 30
Одна из сказок дядюшки Римуса начинается приблизительно так. Было когда-то золотое время, когда звери жили мирно, все были сыты, никто никого не обижал и кролик с волком чай пили вместе в гостях у лисы. И вот тогда-то сидели однажды Братец Кролик и Братец Черепаха на завалинке, грелись на солнышке и разговаривали о том, что ведь в старые времена-то куда лучше жилось!
Не было еще такой литературной эпохи, которая не считала бы себя кризисной. При пессимистичном настроении, как в конце XIX века, критики называли время «упадочным», а при самодовольном настроении, как в советские годы, – «переходным». Но не были довольны своим временем никогда: как ни посмотри, оно не дотягивало ни до классически законченных шедевров прошлого, ни до расплывчато сияющих вершин будущего.
Причины тому – чисто психологические. Когда мы смотрим в будущее, то видим одну смутность, на фоне которой наше воображение легко рисует идеальную гармонию по своему вкусу. Когда мы смотрим в прошлое, то вместо воображения работает память, которая всегда выборочна, и из бесконечного множества явлений она отбирает только ей угодные и располагает в законченные сочетания. Великую греческую драму делали Эсхил, Софокл и Еврипид, а великую русскую поэзию – Пушкин, Лермонтов и Тютчев; и всё. А когда мы смотрим на современность вокруг себя, то все кажется пестро и противоречиво и пережитки прошлого трудно отличить от ростков будущего. Как тут не огорчиться?
Античное время двигалось по бесконечному кругу, как звезды в небе, которое всегда было и всегда будет. Библейское время двигалось по прямой, как стрела, летящая от сотворения мира к светопреставлению. Европейская культура выросла из обоих этих корней. Но сейчас судорожный взлет религиозных настроений оживляет именно библейское мироощущение. Всем хочется думать, что мы переживаем конец света, а не смену времен года. «Юнкер Шмидт, честное слово, лето возвратится!» Коли на то пошло, неужели никто не чувствует, что мы давно уже живем после конца света? И даже после нескольких?
Когда от пестроты современной литературы кружится голова, то хочется сделать над нею сознательно то, что память бессознательно делает с прошлым: выхватить из него несколько особо примечательных явлений, а остальные насильственно забыть. Выхватывание производится по признаку «мне нравится – мне не нравится», хотя прямо об этом обычно не говорится. Мне нельзя этого делать: я филолог и по этимологии своей профессии должен любить всякое слово, а не только избранное. Тем интереснее смотреть, как это делают писатели и критики.
В этой дискуссии перебирается не очень широкий круг авторов и произведений. Почти все они – не из массового чтения. (Исключение – Солженицын, о нем – потом.) Есть даже такие, на которых ссылаются не по книгам, а по рукописям. Это писатели для писателей, а не писатели для читателей: элитарная литература, экспериментальный цех словесности, вырабатывающий те приемы, которые пойдут в серийное производство. Это работа рискованная, занимающиеся ею заслуживают и внимания, и уважения. И у них сейчас есть особенные трудности – маленькие, но тоже, вероятно, способствующие ощущению конца света.
Нашей элитарной литературе не хватает читателей. Широкой публике она неинтересна, потому что слишком сложна. Для нее нужно или иметь подготовку побольше нашей средней школы, или принимать на веру чьи-то утверждения «это хорошо» и по ним образовывать свой вкус. Это не ново. Ново то, что узкой ценительской публике она тоже неинтересна. Все новаторские приемы наших авангардистов, вплоть до самых отчаянных, давно знакомы этим ценителям по английской и французской словесности. (Новыми могут быть находки только в средствах самого русского языка; но об этом – тоже потом.) Наша элитарная литература – не для сотен и не для сотен тысяч читателей, поэтому она чувствует себя неуютно. И этот неуют выражается в жалобах на то, что литературе пришел конец.
Жалобы эти преждевременны. Между сотнями и сотнями тысяч есть еще очень толстый читательский пласт тех, кто ищет эстетического самообразования. Журнал «Иностранная литература» знает, что делает, когда печатает параллельно роман традиционный и роман авангардистский. Элитарная литература может учить читателя новому вкусу. Право, это не менее важно, чем приобщить его к новым религиозным откровениям. Но ей мешает привычное неуважение к собственным дидактическим способностям.
Впрочем, и тут не без противоречий. С одной стороны, «искусство для искусства» – это благородно, с другой стороны, учительские лавры Толстого и Достоевского тоже привлекательны. Отсюда душевное раздвоение, тоже окрашивающее современные литературные дискуссии в минорные тона. Вряд ли для этого есть причины. Ведь ни Толстой, ни Достоевский не научили русского читателя тому, чему хотели: ни крестьянской идиллии по Генри Джорджу, ни российскому призванию по Победоносцеву. Они научили его другому: видеть больше, чем видели раньше и в человеке, и в мире, и в слове, и из этого большего отбирать то, что по душе, а это и называется вкус.
Литература, однако, ощупью сама находит путь именно к этому своему просветительскому делу. Она бросается в публичную саморефлексию: эссеистику, автокомментаторство, исторические и историко-культурные фантазии. Этим она прямо обучает читателя тому, как ее надо читать. Подчас такой сдвиг смущает не только критиков, а и самих писателей: кажется, будто этим литература изменяет самой себе. Чтобы так казалось, нужно быть очень уверенным, что литература – это только то, в чем есть лирические строчки с ритмом и рифмой или эпический сюжет с завязкой и развязкой. К счастью, это не так.
Литература отличается от науки, философии, религии не предметами, о которых она пишет, а языком, которым она пишет. Первым европейским прозаиком – и очень художественным прозаиком – был историк Геродот. Платон вошел в историю литературы, а Хрисипп не вошел не потому, что Платон был меньше философом, чем Хрисипп, а потому, что он излагал свою философию приятнее для читательского вкуса, чем Хрисипп. В Европе история и философия – когда они излагались не только для историков и не только для философов – ощущались как часть художественной литературы еще сто лет назад. Для француза «Чума» и «Сизиф» Камю не размежеваны границей между философией и изящной словесностью. В нынешнем увлечении эссеистикой наша литература только возвращает себе те области, которые ей давно принадлежали. Разве это плохо?
Беллетристика стала отождествляться с литературой только во времена Белинского – до этого она ей противопоставлялась. Было время, когда литература вся была такой, какой она, на страх некоторых, становится сейчас, – эссеистической. Это был конец античности, с которым сейчас часто сопоставляют конец нового времени. Эссеистика тогда называлась парадным красноречием и антикварством. Существовала и беллетристика – любовные романы, которые читала широкая публика, но начисто не замечала образованная элита. Никакого бахтинского пафоса становления в них не было, они были заштампованы до предела. Нужно было, чтобы освящающее время сохранило из них считаные единицы, и тогда Гете станет умиляться над «Дафнисом и Хлоей». Без позднеантичной эссеистики в Европе не было бы Монтеня, без позднеантичного бульварного романа – «Жиль Блаза» и «Мертвых душ». Будем ли мы считать, какая потеря была бы больше?
Есть искусство, разъединяющее общество, – элитарное и массовое, официозное и диссидентское. И есть искусство, объединяющее общество, – таким в древних Афинах была трагедия, в средние века икона, а в предвоенной Европе кино. На икону смотрели и мужик, и книжник, книжник видел в ней впятеро больше, чем мужик, но не отвергал ничего из того, что видел мужик. Литература оказывалась великой тогда, когда в ней совпадали вкусы масс и вкусы культурной аристократии. Вергилий писал «Буколики» как жанровый эксперимент, интересный для того маленького кружка римских авангардистов, к которому он принадлежал, – но случилось так, что его стихи оказались откликом на душевные потребности самой широкой публики, и их тотчас стали петь со всех эстрад, – вероятно, к немалому удивлению поэта. От какого неповторимого стечения исторических обстоятельств это получилось, сейчас неважно; но культура умеет быть благодарной, и именно поэтому Вергилий стал для Европы поэтом на все века.
Когда в современной русской литературе явится писатель с правом называться великим, то это будет писатель, которого одновременно будет ценить знаток и расхватывать массовая публика. Сейчас такой писатель только один: это Солженицын. Я не поклонник его красной эпопеи: его представления о путях России не могут показаться серьезными ни одному историку. Для меня он остается автором «Ивана Денисовича». Но для значения Солженицына в русской литературе так же важно и то, что теперь надолго русские люди будут учиться русской истории по Солженицыну, как раньше учились по Пикулю.
Власть над русским языком – это не единственный, но обязательный критерий для отбора кандидатов в великие. Ни стихи, ни проза не могут стать событием в литературе, пока их можно принять за переводные; они станут событием, только когда окажутся непереводимыми. Кто не знает русского языка, тем трудно понять, почему Пушкин – великий поэт (а кто не знает латинского, не поймет, почему великий поэт – Гораций). В этой дискуссии было сказано, будто Пушкин придал вселенское звучание слабым западноевропейским нотам, – грустный эгоцентризм провинции, оглушенной слабым отголоском этих западноевропейских нот. Пушкин в южных поэмах ничего не добавил к Байрону в восточных поэмах. Пушкин сделал больше: он создал русский литературный язык XIX века. Он и Гоголь. XX век оказался (с удовольствием повторим это ничего не объясняющее слово) промежуточным. Кто создал или создает русский литературный язык XXI века? Может быть, Набоков, который лучше всех на свете знал, что такое непереводимость?
Русская литература развивалась ускоренно, прыжками преодолевая свое отставание от европейской. «Отзывчивость» Пушкина то на Байрона, то на Шекспира, то на славянские песни, сфабрикованные Мериме, – это как бы конспект наверстываемого пути. Сейчас русская литература опять напрягается в прыжке вслед времени; почему не видно ничьих творческих конспектов по европейской литературе XX века? Гнедич назвал Пушкина Протеем; в наш индивидуалистический век писатели как будто боятся протейства, чтобы не потерять свою дорогую творческую личность. Им виднее.
Поэзия – производное от языка в еще большей степени, чем проза. Как от языка стихийного, народного, так и от побывавшего в литературном употреблении. Те, кто старается писать так, как будто они первые поэты на голой земле, называют себя авангардистами; те, кто над каждым словом помнит, что оно захватано руками многих поколений, называют себя постмодернистами. Иногда этих терминов не хватает, и тогда для номенклатуры направлений и приемов перетряхиваются все приставки из греческого словаря. В начале века точно так же противостояли друг другу футуризм и акмеизм. Противостояние это во многом мнимое; и новые акмеисты больше всего боятся быть традиционными, и новые футуристы за каждой своей новацией числят длинный список образцов. Их расхождение – только разминка для задора в работе над языком. В работе этой и словесное сырье, и словесные полуфабрикаты одинаково необходимы.
Это – язык. А «мировоззренческие основания»? Думаю, что таких нет. Литературу пишут не от мировоззрения, а по привычке: потому что в Европе две с половиной тысячи лет принято записывать на бумаге то, чему хотелось придать побольше важности. Мировоззрение только накладывает на высказываемое те или иные ограничения: иногда они бывают благотворными, а иногда сковывающими. Между литературой с христианской идеологией и литературой с социалистической идеологией здесь нет разницы: ведь нет таких вещей, как русский православный язык и русский социалистический язык. Есть лишь возможность указывать словами на то, что в словах не может найти выражения, и это очень хорошо. Только не нужно забывать, что несказанное – это лишь частица сказанного, а не наоборот.
Современное оживление религиозных интересов заполняет душевный вакуум, образовавшийся после отмирания официальной социалистической идеологии. Это естественно. Религиозное одушевление дает новые темы и идеи для литературной разработки. Это прекрасно. Только бы не осталось это новое хорошо забытым старым. Мережковский мог говорить о «новых течениях в литературе» и думать о новом христианстве: христианством тогда ограничивался весь кругозор духовной практики европейского человека. Сейчас нельзя не помнить, что христианство – это лишь одна из пяти современных мировых религий и что свой путь к богу человек волен выбирать по собственному душевному складу, а не по завету отцов и дедов. Если держаться убеждения лесковского Левши – «как веровали праотцы, так должны веровать и потомцы» (некоторым это и сейчас по сердцу), – то лучше совсем не начинать разговор о развитии культуры, и литературы в частности.
Вообще, наверное, о делах веры в литературе целомудреннее молчать. Даже в эссеистической. И когда ты чувствуешь, что поэзия – грех, то не жалуйся на это в стихах или в прозе, а лучше просто ничего не пиши, если можешь. Иначе тебе не поверят.
История – предмет для прогнозов, история литературы – тоже. Всякий талант – случайность. Всякий отклик на талант – закономерность, но иногда очень причудливая. Если бы не явился талант Ломоносова – или если бы явился и был заглушен, – то русская поэзия сменила бы польскую силлабику на немецкую силлабо-тонику поколением позже, и тогда переняла бы не только ямб, каким писали при Готшеде, а и свободный стих, каким писали при молодом Гете, и нынешним борцам за верлибр не приходилось бы доказывать, что он не противен духу русского языка. А почему талант Ломоносова не был заглушен? Потому что первой его русской публикой были немцы из Петербургской академии, которым знакомые силлабо-тонические ритмы больше ласкали слух. А народ еще чуть ли не сто лет предпочитал хранить в рукописных песенниках не ломоносовские духовные оды, а силлабические псалмы и канты. Поэтому все, что было сказано раньше о необходимости слияния передового экспериментаторства и массового интереса, нуждается в очень и очень серьезных оговорках.
Это в фольклоре не бывает талантов замедленного действия – они появляются или тотчас, или никогда. А в литературе это обычное дело: великий первооткрыватель приходит раньше времени, остается незамечен и великим его признают только после трудов второоткрывателей – обычно посмертно. Будем же готовы не заметить великого писателя, который, может быть, рядом с нами. И будем развлекаться, воображая, как такой-то зигзаг литературного будущего может сделать великим одного нашего соседа, а такой-то – другого. Такая воображаемая история литературы будущего может быть не менее интересна, чем воображаемая история литературы прошлого («Что было бы с Пушкиным, если бы декабристы победили?» – по моим расчетам, он погиб бы когда-то около 1837 года).
Боюсь, что, воображая, будто великим писателем завтрашнего дня станет тот, кто привлечет к себе интерес не только знатоков, но и широкой публики, я лишь повторяю семидесятилетней давности прогноз формалистов: после модернистской орнаменталистики наступит возрождение традиционной сюжетной прозы. Кстати, прогноз этот оправдался, советское время возродило традиционную прозу; правда, это оказался не красный О. Генри, а красный Лев Толстой, но все равно, интересных памятников в стихах и прозе за семьдесят лет было создано больше, чем кажется, и недалеко то время, когда они станут, в свою очередь, предметами эстетического ретрокульта.
Один из инициаторов этой дискуссии сравнил наше эссеистское время с эпохой позднеантичного комментаторства. Мне как филологу комментаторство близко: я должен отделять то, как понимались старинные литературные произведения авторами и современниками, от того, как они перетолковывались на разный лад каждым поколением потомства. Опыт непонимания и взаимонепонимания у меня накопился большой – и в моем материале, и в собственной практике. Боюсь, что своих современников я понимаю не лучше, чем Софокла. Надеюсь, что это взаимно.
ГОЛОС КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 31
Часто считается, что литературоведение – это наука, изучающая художественные тексты. Это не так. Литературоведение изучает не художественные тексты, а художественность текстов. Художественность – то есть такую организацию, которая заставляет нас при подходе к тексту задаваться не только вопросами «информативно ли это», «истинно ли это», «убедительно ли это» и т. д., но и вопросом «красиво ли это». Науки различаются не по совокупностям изучаемых ими текстов, а по подходу к ним, и в зависимости от этого подхода одни тексты оказываются в центре поля зрения ученого, а другие на периферии. Для обществоведа текст кабального договора XVII века важнее, чем стихи Симеона Полоцкого, а для литературоведа наоборот. Стиховед не обязан изучать сюжетный и идейный строй исследуемых стихов так же тщательно, как их ритм и созвучия, зато он обязан с той же тщательностью изучать ритм и созвучия в прозе, хотя он и называется «стиховед», а не «прозовед». Все это – элементарные вещи, давно утвержденные формалистами 1910–1920‐х годов, и если много десятилетий о них полагалось забывать, то это не пошло на пользу науке.
Если бы признаки художественности были постоянны, то литературоведение (и всякое искусствоведение) было бы очень нетрудной наукой. Но они переменчивы. Одно и то же явление в одни эпохи ощущается как художественная ценность, а в другие нет (например, публицистика). Границы между «литературой» и «не-литературой» переменны и всегда расплывчаты. Для каждой культуры их приходится реконструировать заново. Особенно это болезненно при анализе древних культур, не позаботившихся оставить свои эстетические манифесты. Найдена каменная надпись – лидийская или енисейская; в ней есть ощутимые элементы ритма; но достаточны ли они, чтобы считать эту надпись стихом, а не прозой, и на этом основании судить о поэзии в данной словесности? Всякий занимавшийся знает, что споры такого рода длятся десятилетиями.
Все это лишний раз напоминает: исследование пограничных, промежуточных областей между литературой и не-литературой необходимо и плодотворно, оно обостряет наблюдательность литературоведа и проясняет понятия, которыми он пользуется. Недаром современное научное стиховедение началось на пороге XX века – когда явились модернистские произведения непривычных ритмов, о которых старшее поколение твердо говорило, что это не стихи, а младшее – что это стихи. Возникла потребность обосновать это новое ощущение стиха – и явился Андрей Белый; именно это было для него стимулом, хотя исследовал он преимущественно не новомодный дольник, а пушкинский ямб.
Надписи – одна из таких пограничных областей между литературой и не-литературой, между поэзией и прозой. Ей и посвящена предлагаемая статья С. Кормилова32. Здесь намечена проблематика, продемонстрирована россыпь интереснейших образцов, указаны обильные источники (для большинства читателей совершенно незнакомые) и необильные работы других исследователей предмета. Все мы слышали, что слово «эпиграмма» этимологически значит «надпись», и когда-то действительно эпиграмма была надписью; античники знают, что кроме знаменитой «Палатинской антологии» литературных эпиграмм, смакуемых любителями поэзии, изданы и большие своды греческих и латинских эпиграмм, «собранных с камней», но редко кто задумывается, что мы и сейчас живем в окружении житейской письменной словесности, которая тоже имеет скромное право притязать на внимание литературоведа.
Теперь очень много говорится и пишется об уважении к старине, о восстановлении разрушенных культурных традиций. Надписи, о которых говорится в статье С. Кормилова, – это в подавляющей части именно голос старины, голос культурной традиции. Если бы это побудило нас почувствовать не только ее так называемый дух, но и ее словесную плоть – это много послужило бы не только нашему душевному комфорту, но и нашему научному делу.
ДОРОГИ КУЛЬТУРЫ 33
– Михаил Леонович, если взглянуть на то общество, которое сформировалось у нас после октябрьской революции и просуществовало семь десятилетий, как на особый тип культуры, каким образом вы могли бы его описать?
– Прежде всего, главная и самая очевидная черта – формализованное, конституированное сверху управление всеми (по возможности) формами культуры, от экономики до моды. Что правильно и что неправильно, определяется однозначно. Все, что не разрешено, – запрещено. Все, что диктует правящее сословие, – объективно; все остальное – субъективно и подлежит цензуре. Наиболее знакомый мне аналог в истории европейской культуры – средневековый религиозный тоталитаризм. Христианская идеология точно так же стремилась определять и направлять все без исключения элементы средневековой духовной и материальной культуры. Конечно, на практике это и там не удалось до конца. Лет пятнадцать назад мне предложили в одиночку написать энциклопедию литературоведческих терминов. Я задумался: стиховедение и стилистика, например, были мне знакомы, но что мог бы я написать о таких терминах, как «партийность» или «народность»? Я подумал о такой приблизительно формулировке: «Партийность – последовательное выражение (в литературном произведении) системы идей, не самостоятельно выработанной автором, а заимствованной со стороны. Например, „коммунистическая партийность“, „христианская“, „исламская“ и проч.» Издание не состоялось.
Когда усложнение общественной жизни потребовало большей дифференциации труда, почва для религиозного тоталитаризма исчезла, наступила реформационная и ренессансная секуляризация культуры. В Россию она пришла при Петре I. Сферы религиозной и светской культуры были разделены (с ущербом для первой). А так как светской культуре в России приходилось развиваться сверхускоренно, то ведущим в ней выступило политическое, государственное начало. Марксизм унаследовал традиции религиозного тоталитаризма, а русская обстановка его применения – традиции государственного тоталитаризма. Так сложилась советская культура. Этому соответствовала реанимация рабовладельческих и крепостнических отношений в нашем режиме – насильственное упрощение общественной жизни. Когда насилие не смогло больше сдерживать исторического движения к усложнению, наступил кризис, в котором мы сейчас и живем. Он аналогичен всеевропейскому кризису на рубеже между средневековьем и Новым временем.
– Как вы полагаете, можно ли считать ту «социалистическую культуру», которая была создана в нашей стране, культурой в собственном смысле слова?
– Культура – понятие не оценочное. Не может быть культуры полной или неполной. Культура – это все, что люди делают, говорят и думают. Если смотреть на культуру с точки зрения смены классов, экономически господствующих в обществе (а такой взгляд столь же допустим, сколь и любые другие), то приходится говорить о смене культур рабовладельческой, феодальной, буржуазной и пролетарской (какие слои общества реально захватывали власть от лица буржуазии при фашизме или от лица пролетариата при социализме – дело второстепенное). Все эти понятия равноправны. Слово «социалистический» только сбивает терминологию. Кстати, так же сбита терминология в паре понятий «критический реализм – социалистический реализм». Реальна не эта пара, а две другие: «буржуазный реализм – пролетарский реализм» и «критический реализм – апологетический реализм». Последнее понятие кажется мне особенно полезным для понимания всей нашей культуры, а не только недавнего ее прошлого. Ни одна из культур не однородна, и «социалистическая» в том числе. В каждой сосуществуют те, кто читает Бальмонта, и те, кто читает «Битву русских с кабардинцами». В историю литературы, искусства, науки обычно попадают только первые, хотя их меньшинство. Это очень искажает картину, и прежде всего картину наших представлений о нас теперешних. Социологи говорят, что треть нашего населения вообще не имеет в доме книг, треть имеет считаные, случайные (главным образом учебные) и только последняя треть – более чем по сотне книг. Кто у нас, думая о культуре, думает об этом молчащем большинстве? Переводная литература составляет немалую часть (какую?) нашего чтения; литература XIX века еще читается, к счастью, не только в школе и не только из-под палки; но кто, рисуя в уме культурный облик нашего общества, не забывает в него включить и эти черты?
Культурные ценности вырабатывает применительно к потребностям своего времени творческое меньшинство (не обязательно элитарное!); они расходятся вширь, усваиваясь новыми и новыми слоями общества. Культурная периферия может жить прошлым веком, а культурный центр – будущим. Приобщение рабочих и крестьян к традиционной культуре и выработка ими новых ее форм – явление неизбежное. Но в каждой стране оно проходит по-своему. Культурных центров, по-разному откликающихся на одни и те же запросы времени, бывает много, и периферии их пересекаются: Китай лежит на периферии европейской культуры, а Европа – китайской. Элитарная культура – на периферии массовой, и наоборот. В этом переплетении находит свое место и наша культура – не повторимая вполне, но имеющая сходство со многими другими. Каков ее смысл? Об этом может сказать тот, кто знает, в чем цель эволюции человечества, если таковая есть.
– Михаил Леонович, похоже, XIX век все еще поддерживает нас нравственно. Как вы полагаете, ценности дореволюционной культуры России – прошлое или будущее?
– Смотря какие ценности. Вечных ценностей нет – есть вереница временных ценностей, из которых каждое время делает свой отбор и для отличения именует отобранные ценности «вечными». Они ценны своей полезностью для двух взаимосвязанных целей: выживания каждого отдельного человека и выживания всего рода человеческого. Бóльшую часть своей истории люди, пытаясь выжить, для одоления природы сплачивались в общество. Ценилось то, что помогало одолеть природу и встроиться в общество. Переломным был XVIII век: человек уже победил природу и еще не осознал, что стал рабом общества, – памятником этой иллюзии остался «Робинзон Крузо». Два последних века стали борьбой человека за освобождение от общества и против им же вызванного экологического кризиса. Теперь цениться стало то, что помогает сохранить природу и отстоять личность от общества. Так меняются самые фундаментальные ценности. При этом важнейшее происходит ниже уровня сознания: практическая польза, уходя в подсознание, становится нравственностью и эстетическим вкусом. Из ценностей XIX века идеал демократии, например, может выстоять до тех пор, пока натиск экологического кризиса не заставит человечество вновь сплотиться перед закатом истории так же, как на ее заре. А идеал семьи рухнет тотчас, как окажется, что школа может готовить детей лучше, чем отец и мать. Так домашнее хлебопечение кончилось, когда оказалось, что пекарни делают это лучше.
– А можно ли отчасти вернуть прошлое? Ну хотя бы с помощью тех перепечаток дореволюционной литературы, которые наводнили сейчас книжный рынок?
– Я думаю, нельзя. Филолог знает: влезть в мир Пушкина невозможно не потому, что нельзя прочитать все, что читал Пушкин (это трудно, но достижимо), а потому, что нельзя выбросить из головы все то, что Пушкин не читал. Историк знает: нет ничего более жалкого, чем исторические романы (за редким исключением), потому что вообразить психологию человека столетней или тысячелетней давности труднее, чем вообразить психологию Каштанки или Белолобого.
И зачем? Возвращенное прошлое не избавит нас от будущего. Времена подъема ищут идеал «золотого века» впереди, времена спада – позади. Обитатели села Горюхина тоже полагали, что было время, когда люди работали мало, а жили припеваючи, и пастухи стерегли стадо в сапогах. Но это лишь потому, что «люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее время цветами своего воображения».
Репринты у нас сейчас – явление культуры элитарной, а не массовой. Трудно предвидеть, что на репринты будет опираться самая массовая литература – детская. Конечно, очень скоро в репринтах вслед за Валишевским издадут и Чарскую. И это будет очень хорошо, потому что вакантное место Чарской в пореволюционной литературе осталось незанятым. Но никакую «связь времен» это не скрепит. Мне кажется, важнее подумать сейчас о том, чтобы дать детям в пересказах мировую классику. Дети читают пересказы мифов больше, чем взрослые – «Илиаду». И «Гаргантюа…» в детском пересказе Заболоцкого, я уверен, дал нашей культуре больше, чем во взрослом (и отличном) переводе Любимова. Я даже думаю, что «Кларисса» Ричардсона в хорошем пересказе сможет заменить для девочек Чарскую, а кто из взрослых смог бы читать «Клариссу»?
«Спуск» из мира лучших взрослых умов в детское чтение – обычный путь классики. Если мы хотим, чтобы наш народ знал классику (а это и есть «связь времен»), надо облегчить этот путь. Конечно, здесь нужны большие таланты, но где они не нужны?
– В XX веке мы шли в другую сторону, нежели культуры Запада. Есть ли, по-вашему, надежда, что нам удастся «восстановить», не повторяя тех же самых шагов, что делали они, и, главное, сделать это достаточно быстро?
– Я полагаю, основания для такой надежды есть. Опыт ускоренного развития переживался многими культурами много раз. Россия его переживала и после петровских, и после александровских реформ. Идеальные варианты ускоренного развития сумела продемонстрировать Япония – и после шестидесятых годов прошлого века, и после сороковых нынешнего. Разные области культуры наверстывают отставание различным темпом. Историки напоминают: после петровских реформ Россия догнала Европу по военной силе очень быстро, по литературе и искусству – сравнительно быстро, а по экономическому и политическому строю – весьма медленно. Япония в XIX веке тем и взяла, что стала не только перенимать у Европы модели пушек, но и переводить Эпиктета и Марка Аврелия.
Когда культура заходит в тупик, ей приходится сделать несколько шагов назад до той развилки, где она пошла не по тому пути. Таким тупиком была античная городская цивилизация, и чтобы перейти от нее к средневековой сельской цивилизации, понадобился попятный ход в несколько веков. Это были очень тяжелые века, оставшиеся в истории под названием темных. Видимо, и нам предстоят такие темные десятилетия – или годы, не знаю. Механизмы развития культуры всюду одинаковы, и принимать к сведению чужой опыт необходимо. Но для этого нужен рациональный подход – здравый ум и твердая память. Нынешнее же половодье иррационализма – психологически объяснимое, – может, мне кажется, этому только помешать. Но здесь я уже совсем не судья.
Беседу вела Н. Б. Злобина
ЧЕГО Я ОЖИДАЮ ОТ НОВОГО ЖУРНАЛА 34
«Хотеть» и ждать» – вещи разные. Чего я жду от нового журнала – это определяется тем, что я знаю о его авторах. Я догадываюсь, о чем будут писать и А., и Б., и Г., и И., и М., и Т., мне это интересно, сам я знаю слишком мало, и узнать больше о том, что они считают спорным и бесспорным, очень заманчиво. Но признаюсь, что, если их статьи обманут мои ожидания и окажутся написанными совсем не о том, чего я жду, – это будет еще заманчивее.
Чего я хочу? Во-первых, того, чего хочет каждый в наш век дифференциации знаний: синтеза. Мне стыдно, что я работаю на кафедре истории и теории мировой культуры, но «культура» для меня сплошь и рядом остается суммой фрагментов истории, философии, религии, литературы, искусства, науки, быта – слагающихся, но не срастающихся воедино; а если мне и кажется, что я чувствую их сросшимися, то описать это неимпрессионистическими словами мне очень трудно. Я завидую культурам, отстоявшимся в энциклопедии – то Исидора Севильского, то Дидро с Даламбером, – и хотел бы такого же отстоя и для нашего взбаламученного века.
Во-вторых, того, к чему нас обязывает звание ученых, – объективности и рациональности. Мы живем в обществе, раздираемом страстями политическими, национальными, социальными, религиозными, – мы обязаны помочь людям найти общий язык, понять друг друга, выйти из той эйфории культурного эгоцентризма, в которой сейчас каждому хочется искать самоутверждения. Нам нужны внимательность, трезвость, внятность и ясность.
В-третьих, я хочу обращенности к будущему. Несколько десятилетий нашей жизни приучили нас гнушаться суесловием о будущем и с вожделением оглядываться на прошлое. Делать из прошлого предмет культа очень соблазнительно, особенно для историка. Но жить вспять невозможно: все, что мы вынесли из прошлого, нужно нам лишь для того, чтобы жить в будущем. Неоднократный опыт показал, что строить единое светлое будущее для всех – дело безнадежное: люди различны, каждому душевному складу нужно свое, и культура обязана предоставить им выбор.
Это очень отвлеченные слова. А конкретнее, журнальнее? Я хотел бы, чтобы журналу удалось найти связь с широким читателем: говорить о сложных вещах языком понятным образованному неспециалисту; у авторов, определяющих лицо журнала, есть для этого и талант, и опыт. Я хотел бы, чтобы журналу удалось избежать пестроты: чтобы вслед за сборными номерами пришел черед тематических, где на одной проблеме будут скрещиваться разные времена и разные ученые. Я хотел бы, чтобы больше было тематических обзоров состояния современных западных наук о культуре: жизнь у нас трудная, и порознь нам нелегко следить за чем-нибудь, кроме собственной специальности. И я хотел бы, чтобы переводы культурных памятников, которых мы не знаем, а должны бы знать, являлись в журнале постоянно, в неслучайном подборе и с комментарием, связывающим их с общей тематикой журнала.
«ПИСЬМО О СУДЬБЕ» АЛЕКСАНДРА РОММА35
Предмет этого сообщения скромен. Он интересен главным образом как попытка, сделанная шестьдесят четыре года назад, подойти в точности к теме нынешней конференции36 – на совсем другом, конечно, уровне, но, во всяком случае, не дилетантски.
«Письмо о судьбе» – небольшая незаконченная рукопись, хранящаяся в РГАЛИ (ф. 1495, оп. 1, ед. 49), в архиве Александра Ильича Ромма (1898–1943). Это имя полузабытое. Брат известного в будущем режиссера, сам он был небольшой поэт, переводчик, теоретик, работал в Московском лингвистическом кружке и в ГАХН. Первым в России он переводил Ф. де Соссюра – об этом есть подробная статья М. О. Чудаковой и Е. А. Тоддеса в «Федоровских чтениях, 1978» (М., 1981. С. 229–249). (Это был замечательный эпизод. В пору, когда нэповский книжный рынок только и жил пиратской переводной литературой, Ромм и его друзья со всей интеллигентской щепетильностью обращаются за разрешением к Ш. Балли и А. Сеше, получают отказ, и тогда Кружок останавливает уже на четверть выполненную, и превосходно выполненную, работу; и Соссюр приходит к русскому читателю только через десять лет.) Как теоретик перевода, именно Ромм сформулировал положение: «перевод есть знак подлинника». Как практик, он зарабатывал переводческой поденщиной от Джона Рида и «Мадам Бовари» до Антала Гидаша, Эми Сяо и инструкций по бухгалтерскому учету. В 1927 году вышла книжечка его стихов «Ночной смотр» в издательстве «Узел» под маркой В. Фаворского (библиофилы знают эту серию), но он ее стеснялся и старался не пускать в продажу: из 700 экземпляров не меньше 50 я еще видел в оставшейся после него библиотеке.
И в том же 1927 году, 3 декабря, в неполные тридцать лет он начинает свое «Письмо о судьбе»: может быть, для доклада в узком кругу (самое большее в секции ГАХН), а может быть, просто для того, чтобы что-то уяснить самому себе: в тексте есть намеки и на то, и на это.
* * *
Прежде всего, скажу прямо, что письмо это не философское. Философскому рассуждению полагается – и справедливо полагается – быть диалектическим, я же не хочу связывать себя никаким методом. Я хочу говорить о судьбе то, что я знаю о ней, знаю же я о ней немного и очень неясно, а потому должен говорить длинно и путано, в особенности же подробно, мелочно, без сокращений изложить все, что я знаю и что могу узнать в ходе изложения – а в ходе изложения мы узнаем много, хотя и непрочно, – углубиться во всю эту груду мелких и по большей части словесных соображений: это, пожалуй, единственный для меня способ войти в забытый воздух понятия судьбы, почувствовать и дать почувствовать его мощные корни и широкие пределы. Только после этого безоглядного, с головой погружения в предмет я мог бы, если бы решился, заняться его анализом и систематизацией.
Я сказал: забытый воздух. Да, воздух судьбы прочно забыт еще не нами, а нашими отцами. Я не стану много говорить здесь о позитивизме, подменившем инобытие видоизменением, развитие – влиянием, рок – обстановкой («среда заела»), судьбу человечества и культуры – прогрессом, судьбу человека – приспособляемостью и все вместе – борьбой за существование. Все это общеизвестно, и всякому понятно, что в атмосфере этих идей понятию судьбы нет места. И действительно, судьба, участь, доля – все это уже давно выражения простонародного словаря. Интеллигент вспоминает их тогда, когда ощутит над собой дыхание большого горя, такого горя, которое выводит человека из искусственного мира начитанных вещей и насильно пригибает его к земле, так что он поневоле слышит ее телесный и немного, быть может, противный запах. В обычное же время интеллигент настолько не думает о судьбе, настолько безразличен к ней, что позволяет себе переносно обозначать ее именем всякую научную дрянь: «судьба носовых гласных в славянских языках», – или снисходительно говорить о поэтичном, но негуманном роке в греческой трагедии, которая для большей красоты слога именуется в этих случаях эллинской.
И я думаю, что нам надо тоже пригнуться головой к земле, к той самой, в которую мы упираемся ногами, и что тогда в ее телесном и сложном запахе мы услышим судьбу, если обладаем слухом. А анализировать ее, если захотим, будем потом.
Земля, из которой мы – все люди – растем, – это народ. Земля, из которой растет наша мысль, – это язык. И я думаю, что именно в языке народа мы можем найти воздух судьбы.
I. Судьба – от судить, как борьба – от «бороть», как женитьба, свадьба от «женить», «сватать». Судьба – то, что суждено. «Суженый», «суженая» – любимый (муж), любимая (жена). «Раба моя, судьба моя», – обращается жених к невесте в свадебном обряде. И я прошу заметить, что значение этого корня суд двоякое. Суд по-русски – это не то, что iudicium по-латыни. Iudicium – от ius «право» и dicere «говорить» – прямо и исключительно обращается к праву, к справедливости, к осуждению или оправданию. Другого значения в этом слове нет. Русское «судить» – иное дело. Это не только iudicare, это еще и cogitare. И не только потому, что от этого корня наше семинарское слово «суждение», но главным образом потому, что говорится: «сам посуди», т. е. подумай; «судить да рядить» – вообще разговаривать, обдумывать вместе. Напомню о словах обсуждать, рассуждать, имеющих такое же широкое хождение, как присуждать, осуждать. Я хочу сказать всем этим, что самое русское слово судьба существенно связано не только с назначенным, предуказанным, но и с обдуманным, осознанным. Тут как в слове «правда»: правда-справедливость и правда-истина. Ничего подобного мы не находим ни в немецком Schicksal, ни во французском destin, явно связанных с внешней и только внешней стороной дела. Destinare, откуда destinatio, destinatus, значит по-латыни «определять», «постанавливать» в смысле решения. Schicken в первом значении значит посылать: судьба – это посланное, то, что послано человеку извне (ср.: Gott hat es so geschickt, Gott schicke es zum besten). Только русское слово судьба имеет в себе элемент мысли, смысла, понимания, сознания.
Мне кажется, это обстоятельство очень помогает нам, русским, понять судьбу. Не то чтобы я думал, будто бы отношение русских к судьбе осмысленней отношения других народов. Языковое значение слова определяется не внутренней его формой, а употреблением; употребление же у слова «судьба» то же самое, что и у destin, Schicksal, μοῖρα, fatum, хотя, собственно говоря, слову μοῖρα (от μείρομαι) точно соответствует наше доля, участь, удел, слову fatum (от fari) – наше рок (от «реку»), слову destin – наше «назначение». Но каково бы ни было ходовое применение слова, в своей внутренней форме оно несет возможность дальнейших, сверх употребительного, смыслов. Эта смысловая потенция остается в слове, и как бы ни урезывался его охват употреблением, она вскрывается перед пристальным вниманием. Недаром же и в слове правда мы сталкиваемся с двойственностью тех же значений; недаром и наше «суждение» не отвечает чисто формальному, количественному, локальному («логика объема») смыслу греч. θέσις (от τίθημι), нем. Satz. А самая подробность, специализированность нашей лексики в пункте судьба – судьба, доля (участь), рок (назначение) – все разные вещи – позволяет и прямо думать о какой-то особенной чуткости языка и его носителей в этом пункте. Вряд ли случайно, что у нас есть и греч. μοῖρα – доля, участь, и лат. fatum – рок, и лат. pars – опять доля, участь, и франц. destin, destinée – назначение или, как мы увидим ниже, талант. Немецкому Schicksal прямого соответствия, правда, нет, но нет только во внутренней форме; по смыслу оно вполне покрывается уже перечисленными русскими словами. И понадобилось же, кроме того, особенное, только наше слово судьба с его самым глубоким из всех сказанных смыслов. Это не случайность. Но ведь и не нарочно, могут ответить мне. Да, не нарочно. Но прошу не забывать, что не для всех между преднамеренным устройством и случайностью, игрою внешних (или рассматриваемых как внешние) сил, tertium non datur. Datur tertium, и это tertium есть судьба.
II. Теперь попробуем разграничить наши почти синонимы. Думаю, что такая работа не будет излишней. Она позволит резче выставить значение того слова, которое интересует нас особенно. Итак:
1) Назначение – явно переводной термин с лат. destinatio или фр. destination, destin, destinée. Переводность его выступит перед нами еще яснее, если мы вспомним о слове предназначение – prédestination, praedestinatio. Назначение, по самой сути дела, приходит извне. Человеку назначается быть чем-то, сделать или пережить то-то. Он может это назначение понимать или не понимать, может даже выполнять или не выполнять его. В последнем случае ему будет плохо – от совести ли, от тоски ли, от внешнего ли наказания, – но не забудем, что никто не помешал ленивому рабу зарыть талант свой в землю. Талант в том первом переносном смысле, в каком это слово взято в Евангелии, это и есть назначение, даваемое человеку, по Евангелию – Богом, по другим – природой, в народном языке – судьбой. Это – внешняя сторона жизни, то, что определяется человеком вовне, а не определяет его изнутри.
«Талань моя таланиста, / Талань – участь – горе горькое», – начинается песня про женщину, чей муж оказался на ее горе разбойником. Подходя к этому от самой женщины, изнутри, мы можем видеть здесь только злую случайность, случайность внешнего. Чтобы понять эту случайность уже не как бессмысленную талань, не как исходящее от кого-то назначение в несчастные женщины, в разбойничьи жены, мы должны внести внеположный самой женщине момент: бога ли, фатум ли, социальную ли необходимость – это все равно.
Замечательно, что это внешнее самим словом «назначение», или «талан», никак не специфицируется. Мы можем понимать его как угодно, в зависимости от мировоззрения. Мы говорим: «Назначение Наполеона было в том, чтобы покончить с внутренним развитием французской революции и, сведя ее к пределам умеренно-буржуазного переворота, разнести эту умеренную буржуазность по всей Западной Европе» или вроде того – я не историк. Верно это или неверно, но такое назначение может быть дано человеку не изнутри его самого, а только из диалектики социальной, т. е. хотя бы захватывающей и его, но все же вне его обоснованной действительности. «Назначения» быть несчастным, или много радоваться в жизни, или любить такую-то женщину – быть не может. Это судьба.
Итак, назначение не только приходит извне (откуда – неизвестно), но и касается лишь внешнего, лишь активного воздействия человека на мир, его роли в мире. Ни его внутренней жизни, ни его личной характеристики оно не захватывает или захватывает лишь в той мере, в какой это было необходимо для собственных его, назначения, целей. Так, человек, назначение которого – подвиги великого полководца (например, Суворов), не может быть щепетилен и чрезмерно добросердечен, не может слишком глубоко переживать тех чувств симпатии к слабому, к обреченному, к побежденному, которые характеризуются как «perversité naturelle». Если бы он был таков, если бы чувствовал так или если бы самая линия его судьбы была подчиняющаяся или неудачливая, он не получил бы такого назначения. Но не забудем, что, кроме назначения, у человека есть и доля, и судьба, а у иных и рок. Назначение же исполняет свою специальную миссию – приходит извне и ведет нас по внешним путям.
Возвращаясь к иноязычному источнику этого слова, напомню о речении destinée – оно имеет форму participe passé. Une part destinée – назначенная доля. Даже минимальное чувство языка не позволит нам понять эту долю иначе как назначенную извне, кем-то другим.
Все это может показаться несущественным для рассматриваемого вопроса; но, во-первых, я предупреждал, что не собираюсь заниматься строгой философией, а во-вторых, позволю себе спросить: зачем тот неведомый переводчик, которому мы обязаны словом назначение, создал это слово, а не воспользовался каким-нибудь из имеющихся в народном языке? Почему он не перевел: судьба, доля, участь? А потому, думаю я, что эти слова не передают точного смысла слова destinatio: они берут вопрос в другой плоскости. Стало быть, различие это существенно. Думаю, что не ошибусь, если, не вдаваясь в научное обследование исторической стороны дела, предположу, что переводчик этот переводил (или писал) богословский текст и должен был передать сам смысл назначения, таланта как даваемого Богом. Destinatio Dei, назначение от Бога – сразу ставит нас в самое сердце смысла нашего слова.
Еще оговорка. Я обещал обратиться к языку народа, а сам ввожу в рассуждение явно не народное слово. Но, во-первых, вряд ли прав в культурном смысле «аптекарь, не то патриот» из Алексея Толстого. Слово, акцептированное культурой, есть слово полноправное, тем более что теперь без него и обойтись нельзя. Возвращаясь к народным корням культуры, нельзя и не нужно отбрасывать ее антитетические приобретения. А во-вторых, ведь пока я говорю именно не о судьбе. «Назначение» мне нужно для дистинкции, и не о нем основная речь, которая впереди, а о том, что должно быть от него отграничено. Назначение – это и есть другое.
2. Рок. Соответствует по внутренней форме латинскому fatum (сказанное, реченное). Это слово по крайней мере подозрительно в смысле славянского, а не русского происхождения. В народных песнях, сказках, пословицах я его что-то не припомню. Во всяком случае, если оно там и употребляется, то редко. К тому же в русском языке образования от «рещи» без префиксов очень редки: только существительное «речь».
По внутренней форме рок, тесно связанный с речением, со словом, мог бы указывать на бóльшую осмысленность. Однако если мы вспомним его употребление – употребление большею частью литературное, причем в возвышенном стиле, – то окажется, что основными его эпитетами будут: бессмысленный, непонятный, нежданный, загадочный, – и только во вторую голову жестокий, злобный, враждебный, беспощадный. Рок берется как нечто максимально внешнее, его образ – кирпич, сваливающийся на голову. Рок уже потому имеет характер чисто внешний, что никогда им не обозначается целая предопределенная линия жизни, цельный жизненный образ: это слово всегда относится к единичному событию. Преступление Эдипа или Ореста, смерть Олега от укуса змеи, смерть Скрябина от ничтожного прыщика – вот что мы называем роком. Рок всегда «вступает» в жизнь; человек вдруг становится отмечен роком: значит, до тех пор он не был им отмечен. Рок неожиданно «постигает» его, прежде свободного. Даже когда мы говорим «его постоянно преследует рок» – и тут, если вдуматься, это преследование представляет собою не непрерывную линию, а ряд отдельных ударов, отдельных подножек, подбивающих человека, когда он уже близок к цели. В линию эти удары рока связываются уже понятием судьбы или участи. Рок постигает человека извне. Таков он и в греческой трагедии, где его имя – с другой внутренней формой – звучит: Мойра. Я думаю, что переводя его «роком», мы совершенно правы, когда пренебрегаем внутренней формой и основываемся на употреблении. Эдипа постиг рок, постиг в особый, отдельный – «роковой» момент его жизни. Но общая линия Эдипа, его доля, его участь – не злая, а счастливая. Он был мудрый царь, счастливый отец и, умирая, был взыскан особою милостью богов. Внеположность рока относительно человека особенно подчеркивается таким словоупотреблением: человека мы можем назвать носителем своей судьбы, но не своего рока. Носителем моего рока может быть только другой человек, а не я. Носитель рока Эдипа – старик, ходивший в Дельфы, раб, свидетельствовавший о рождении царя, а не сам Эдип. Носителем рока может быть и неодушевленный предмет. Для Олега им будут конские кости и змея, также кудесник. Олег же – носитель не своего враждебного рока, а своей счастливой судьбы.
Рок, в отличие от назначения, даже участи и судьбы, не бывает благоприятным. Он всегда враждебен человеку. Это злая посторонняя сила, нарушающая линию судьбы. По судьбе, по доле, по основному образу Ваське Буслаеву свойственно безнаказанно перепрыгивать не только камни, но и города. Но рок губит его, подставляет ему ножку на дурацком черепе.
Еще одно замечание. Мы видели, что назначение исходит от кого-то. Рок не исходит ни от кого. Он сам персонифицируется как источник несчастья: «но рок судил иначе», «si fata sinant». Он «посылает» Олегу змею и Эдипу – неведомого старика, который оказывается его отцом. За ними не стоит уже никто.
Итак, три основные характеристики рока: он внешен, он единичен в своих проявлениях (постигает в особый момент, который так и называется роковым), он враждебен человеку.
3. Доля, участь, удел. Соответствует латинскому pars. Эти слова объединены мною на том основании, что они совпадают и по употреблению, и по внутренней форме, несмотря на различие формы внешней. Начну с употребления.
Слова «доля, участь», подобно словам «рок, назначение», обозначает нечто внешнее. Если рок постигает человека, то доля или участь выпадают ему. Они не вытекают из его характеристики с внутренней необходимостью. Примечательно выражение «искать свою долю»: «Доля моя, доля, где ж ты, моя доля, запропала?» В поэзии, по крайней мере, доля, как видим, может существовать и отдельно от человека, что невозможно даже для назначения.
Но зато, в отличие от рока, доля выпадает не на один какой-то момент, а ab origine, прежде всех век, и проходит – хотя бы своим отсутствием – через всю жизнь. Она образует линию. Счастливая, несчастная, скромная, тяжелая, горькая доля или участь – это характеристика всей биографии, а не «роковой минуты». Проходит через всю жизнь и назначение, но, как уже говорено выше, оно проходит через нее только по одной линии, и именно по линии внешней. Назначение проходит только вдоль всей жизни; доля охватывает ее не только во всю длину, но и во всю глубину. Только что перечисленные элементы доли имеют характер совершенно всеобъемлющий. И назначение тоже входит в долю. Вместо «Ленин имел своим назначением произвести глубокий переворот в России» мы всегда можем сказать: «Ленину выпало на долю» и т. д. Но вместо «Ленину выпало на долю (или «участью Ленина было»), доведя революцию до победы над всеми внешними врагами, сойти со сцены» мы не можем сказать, что таково было его назначение. Точно так же участью, долей, но никак не назначением Пушкина было много и страстно любить в своей жизни. Назначение – это часть доли.
Поэтому отношение между характером и долей будет совсем не то, что между характером и назначением. Конкретное назначение требует известных черт личности; доля, конкретная доля из этих черт складывается. Назначение только невозможно без соответствующих свойств: они конститутивны для него. Доля же есть отношение, в котором один термин – внешние события, другой – внутренние свойства: эти свойства для нее конструктивны, входят в ее структуру и состав. Ведь доля Катулла была не только в том, что Лесбия изменяла ему, но и в том, что сердце его было не таково, чтобы сносить эти измены. Доля Тютчева была не только в том, чтобы быть одним из величайших русских поэтов (это – только назначение), но и в том, чтобы не мочь, да и не уметь сделать себе из этого хоть какую-нибудь опору в жизни: Тютчев недаром не написал «Памятника».
Таково употребление слова «доля» или, что то же, «участь». Значение этого слова охватывает, как мы видели из анализа его употребления, всю биографию вдоль и вглубь – все факты, все личные черты, всю нить жизни. Оно охватывает, включает в себя не только назначение, но и рок, ибо мы всегда можем сказать, что невинное убийство выпало Эдипу на долю, как и Олегу выпала на долю смерть от любимого коня. Но исток доли остается внеположным ее носителю. Она выпадает ему извне. Чтобы точнее взять это «вне», нам следует обратиться теперь к внутренней форме. И анализ ее покажет нам новое значение, стремящееся от случая к смыслу.
Если слово «рок» мы признали заимствованным, а слово «назначение» переводным, то слова «доля, участь» стоят в этом смысле вне всяких подозрений. Самое их стилистическое качество, не говоря уже о том, как часто встречаются они в народных песнях, пословицах, сказках и т. д., ручается нам за их глубоко русский, оригинальный источник. Однако они вполне совпадают и по употреблению, и по внутренней форме с греч. μοῖρα, с лат. pars, с франц. part, с нем. Teil. В чем дело? Почему во всех этих языках слова, обозначающие часть, приобретают специфический смысл судьбы? За этой неизбежностью переносного значения, безусловно, должна скрываться какая-то идея. Вылущить ее не так трудно.
Понятие части есть по самому существу понятие не абсолютное, а относительное. Коррелятами своими часть имеет: целое и другие части. Без них никакая «часть» невозможна. Таким образом, судьба, вся жизнь и смерть и личность человека оказываются частью чего-то целого, частью среди других частей. Я изживаю свою долю, свой удел; ты изживаешь свою, он – свою. Каждый идет своей дорогой, но многосложная сеть этих путей и перепутий образует нечто цельное, хотя, может быть, и необъятное для нашего взгляда: жизнь, мир, действительность. Это целое должно быть цельным, внутренне соотнесенным во всех своих частях – иначе они и не назывались бы этим словом, были бы просто вещами, а не частями. Удел – доля в отцовском наследстве. Это наследство – во все ли времена сообща или даже в каждый данный момент – должно быть распределено полностью. «Не всем быть умными – кому-нибудь и в дураках жить» – эта поговорка прямо вытекает из такого взгляда. Участь, доля, удел – все это речения, за которыми стоит идея мира, идея надличного единства. Каждый человек, каждое дерево, каждый камень восполняют, осуществляют свою часть в общем деле и в общей структуре. И только эта структура оправдывает все то, что может в этой части быть тяжелым и обидным для ее носителя. Система должна быть заполнена – и раз в ней есть тяжелое и злое, оно неизбежно выпадет на чью-то долю: почему же не на твою? От сумы да от тюрьмы не отказывайся. Дело мирское.
Так проступает в избитых словах смысл – пока неличный, мирской, общный. На какую бы то ни было внутреннюю, сущностную, т. е. свободную (внутренняя необходимость) связь этой доли с лицом внутренняя форма никаких указаний не дает. Да оно и немудрено. Тяжкий ход времени и мира не считается ни со мной, ни с тобой. Доля, участь выпадает каждому извне.
Этот внешний характер особенно подчеркивается словом жребий (λάχος, sors, der Los, le sort), по употреблению аналогичным доле. (Русское слово жребий (в смысле судьбы) переводное, но моя мысль достаточно иллюстрируется иноязычными соответствиями.) Из трех мойр, о которых мы читаем у Гесиода, средняя носит имя Λάχεσις, что значит «бросающая жребий». Жребии распределяются между людьми случайностью, но ведь совокупность того, что стоит за этими жребиями (например, все останутся здесь, а кто-то один поедет туда-то), – это уже не случайность, это уже осмысленно, или целесообразно, или, во всяком случае, цельно.
На этом мне, кажется, и придется закончить интерпретацию почти-синонимов Судьбы по нескольким языкам – интерпретацию чисто научную, филологическую. Позволю себе кратко резюмировать итоги.
1. По источнику все, что скрывалось за всеми интерпретированными словами, оказалось внеположным человеку. Однако: а) источник назначения остается совершенно неопределенным; б) источник рока лежит, по-видимому, в самом роке (или, рок и есть источник событий: «но рок судил иначе»); в) источник доли (участи, удела) есть мир как совокупность участей, как целое.
2. По сфере проявления: а) рок выступает лишь в специфический момент; б) назначение и доля распространяются по всей жизненной линии, причем (аа) назначение линейно: оно касается лишь внешней роли своего носителя; (бб) доля (с синонимами) объемна: она охватывает и внешнее, и внутреннее, и самый характер.
Рассматривая получившуюся таблицу, мы убеждаемся, что все интерпретируемые понятия имеют один совершенно общий признак. Этот признак – внешний источник, внеположный человеку. В разных случаях источник этот специфируется по-разному, но всегда остается внешним. Так филологическая интерпретация подвела нас к основному понятию, лежащему в корне всех идей о доле, роке, назначении и т. д. Это понятие – случайность. В самом деле, чем, если не случайностью, может человек характеризовать то, что приходит к нему извне? Объединяясь вне пределов его зрения в целый мир, доля обращается к нему именно случайной стороной: он может, вдумываясь, усматривать за этой случайностью какой-то мировой смысл, но основное, первое впечатление всегда остается в силе. Выражаясь в терминах диалектики, случай, счастье, «везет – не везет» есть первая, непосредственная ступень осознания судьбы. И как бы далеко ни зашли мы в ее осмыслении, этот момент останется не только неустранимым, но и необходимым для наших характеристик. Носителем специально этой стороны будет слово «жребий»: λάχος, Los, sors, sort.
Из сказанного ясно, что задача наша далеко не может считаться разрешенной. Нельзя и не следует удовлетворяться совершенно внешним человеку предопределением (слово, мною не интерпретированное за полным его совпадением с долей при некоторых элементах назначения, вернее, предназначения, и за его полной бессмысленностью вне религии). Это неизбежно привело бы нас к бессмысленному фатализму, к непонятному и неинтеллегибельному «кисмет», а я обещал показать хотя бы воздух судьбы и думаю, что в этом воздухе пахнет далеко не бессмыслицей. В дальнейшем мне придется нарушить единство метода, от филологической интерпретации перейти к почти философской и, во всяком случае, умозрительной. Это потому, что из филологии я уже высосал все, что в моих силах. Ведь я с самого начала выговорил себе свободу от метода.
Но прежде чем вооружаться новым орудием, я позволю себе еще один, последний, экскурс в сторону если не филологии, то, во всяком случае, мифологии.
В сущности, я оклеветал греков, интерпретируя Мойру только как рок. Так, действительно, дело обстоит в трагедии, но и только в трагедии. В языке же слово μοῖρα (от μείρομαι) недаром имеет внутреннюю форму «доли». Она имеет и соответствующее употребление со всей его широтой и глубиной. И если трагедия греков показывает нам, как тонко и глубоко они понимали рок, то их поэзия показывает, что они умели понимать и долю.
Вот что говорит Гесиод о трех мойрах: «Клото держит прялку, Лахесис прядет, Атропос режет нить». Мне представляются здесь особо интересными две первых мойры. Ведь третья, Атропос, что значит «неотвратимая», есть только рок со всеми его признаками, перечисленными выше. Так вот, имя первой, Κλωθώ, означает «пряха». Вторая, по имени «бросающая жребий», прядет нити наших жизней. В сущности, имя второй Мойры, Λάχεσις, implicite уже включает в себя все, что говорилось выше о доле, т. е. всю максимальную ширину и глубину смысла, до какой мы можем дойти, не обращаясь к удивительному русскому слову «судьба». Но занятие этой Мойры, а также имя первой вносят новый и очень важный момент.
Этот момент, не отмеченный ни в одном из интерпретированных слов, есть связь. Пусть это связь событий, объединяющихся в единую жизненную нить, в цельный биографический облик или склад, – пусть она выпрядается той, чье имя «бросающая жребий». То, что с точки зрения единичного носителя представляется рядом случайностей, оказывается уже не только долей в жизни мира, но и внутренним единством, которое не перестает быть единством, не перестает быть нитью, даже и не будучи воткано в мировую ткань. Как ни трудно уловить это единство, как ни легко потерять его среди составляющих его случайностей, но именно оно и есть второй основной элемент судьбы: оно есть принцип единого склада, облика, т. е. того самого, чем личность, имеющая биографию, отличается от индивида, имеющего лишь смену физиологических периодов да «поток ощущений».
Цепь случайностей (жребий) – Лахесис; единство образа-склада (нить) – Клото-Лахесис; соотнесенность всему миру (доля) – Мойра: вот три момента в структуре судьбы, даваемые нам интерпретацией ее квазисинонимов. Все это мы находим в греч. μοῖρα.
_______
Рок – только бессмысленное (Скрябин, Эдип). Судьба – понятное вместе с непонятным. Многое, что казалось роком, оказывается судьбой. Уже поэтому в судьбе нет ничего мистического. Она просто констатирует, что всего не осмыслишь. Человеческое несовершенство.
Судьба осмыслена до конца; и если не в каждом случае мы можем ухватить этот смысл, тем хуже для нас. Случайность – кажущееся, но кажущееся необходимо (т. е. не может не казаться).
Поэтому судьба не ведет к пассивному фатализму: ведь мы надеемся на случайность. Что это значит? Что свою судьбу нельзя понять (Кассандра, Солон). Человек – кузнец своего счастья: судьба – соотношение внутреннего и внешнего. Каждый мой шаг делает мою судьбу, остальная половина делается извне меня, но только мной и изнутри осуществляется как судьба, а уже не как случайность. Предопределение – пустяки. Судьба, очевидно, развивается диалектически. Да, она заложена ab origine во мне – но не вся. Диалектические возможности осуществляются. Ей можно помогать художественной отгадкой, чутьем и вытекающим действием. Большее и меньшее осуществление.
Ручка может иметь назначение и участь, но не судьбу: она не может быть осмыслена изнутри. Она не может быть образом, так как она неподвижна, мысль, лежащая в ее основе, примитивна (разработать). Образ безусловно связан со смыслом особого рода. Есть ли он в «черной кошке»? Единство в ней есть, но не образное, – поскольку мы знаем <…>37
Кстати: говорить об эмпирическом без эмпирического изучения нельзя. Философия обречена либо на общность, либо на зависимость от науки. Сократ говорит: добродетель. Но эмпирически нет добродетели, а есть много их: 1) храбрость, правдивость, ум, скромность и т. д.; 2) моя, твоя, его добродетель.
Использование случайности:
Судьба – это бытие определяет сознание. Но, конечно, не в причинном порядке.
Когда бог создал небо и землю и все живое и мертвое, он не уничтожил хаоса. Воды бесформенной и тьмы над нею хватило на весь мир и еще осталось. – Богу надо было превратить хаос в природу, и он превратился, но не весь: в человеке, тем же богом оформленном, остался хаос, не-природное, противоприродное, подвижное, не покрываемое формами, хотя и покрывающееся ими начало.
[Бог – творец, но – бессловесной природы, но не творец слова. Человек и только человек —] Во-первых, в человеке осталось словесное начало, несвойственное богу-делателю, инженеру: «И образовал Господь Бог из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, а как назовет человек всякую душу живую, так и имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, соответственного ему» (Бытие 2:19–20).
Ничто в природе не соответствует человеку, потому что он словесен, и еще потому, что он свободен от природной покорности богу и эту свою свободную волю направляет не на мелочь и не на сладость, не на лакомство разрешенными плодами, не на угождение природе в себе, т. е. тому, что в нем от бога, а на познание добра и зла: на еще большее отличие от твари. Он не довольствуется словом-названием, а берет себе понимание. Это в нем действует не-тварь, не то, что сотворено богом, а то, что никем не сотворено: хаос. Взяв плод запретный, человек пошел против природы, а не угождал ей. Неизвестно, был ли сладок этот плод. Полагаю, что для него он слишком противен природе.
Хаос дает человеку свободу не кончаться своими раз установленными формами, а идти к пониманию смысла. За пользование этой волей бог обрекает его двойной природе: труду для жизни и женщине для скотского продолжения рода. Но хаос не успокаивается. Трудом человек не только питается, но и создает культуру – идет к новому пониманию смысла, не врожденному, а заработанному. Из скотского влечения к самке он создал любовь, ту самую, которой не понимает ни Ветхий, ни Новый Завет; любить женщину любовью Бог не велел, он велел только тиранить ее («и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою») [и делать ей детей] с церковного разрешения. «И Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина и сказала: приобрела я человека от Господа».
Бог опоздал: «И сказал человек: вот теперь это кость от —
Выписка на отдельном листке:
…вода, составляющая волну, не бежит, а только на месте колеблется, нам это кажется только, будто волна бежит: на самом деле бежит только форма волны. – Половое чувство, – говорил влюбленный доктор, – это вода, а сама любовь – это перебегающая форма. Как врач, я имею дело с водой любви, как личность я творец формы своей единственной в мире волны… – Сколько угодно пишите, и все будут читать (о любви, хотя вода одна, и многие писатели писали). Из волн складывается лицо океана, из ваших поэм лицо человека, и этому нет и не будет конца, пока будет жизнь на земле» (Пришвин, «Кащеева цепь», кн. II, звено VIII, «Брачный полет», § «Рождение волны»). – Очень пошло по выражению, особенно из‐за врача (мудрец по Золя), – но образ полезный.
* * *
С того места, где мы поставили знак отбивки, почерк рукописи делается все более торопливым и небрежным, а изложение, как мы видим, все более конспективным. Но общий ход мысли ясен. Судьба, как было выяснено, – это ощутимая носителем связь событий его жизни. Ощутимая не понятийно: структура мирового целого заведомо не охватывается сколько-нибудь адекватно разумом человека. Стало быть, ощутимая образно: «художественной отгадкой», чутьем и вытекающим действием. «Судьба – образ, складывающийся в событиях, как характер-образ, складывающийся в свойствах». Начинаясь художественной отгадкой, судьба кончается осознанным действием. Судьба есть творчество, и к этому творчеству способен только человек. Такое понимание можно вписать уже в библейский рассказ об Адаме (Ромм был неверующий). Соскользнув таким образом на тему творческой воли, Ромм соскальзывает далее на тему любви, и на этом рукопись обрывается.
Остается коротко досказать, как в свете всего сказанного делал свою судьбу сам Ромм. Это грустная судьба. Вспомним: «Интеллигент вспоминает о судьбе, когда большое горе пригибает его к земле… Земля, из которой мы растем, есть народ… Если в системе есть тяжелое и злое, оно неизбежно выпадет на чью-то долю: почему же не на твою? От сумы и тюрьмы не отказывайся». Он становится кузнецом собственного несчастья, хотя ни до сумы, ни до тюрьмы ему не пришлось дойти. После «Ночного смотра» он пишет еще полтора десятка стихотворений, все – лучше, все – не изданы. Последнее из них – на нашу тему:
(Всякий представит, каково, сидя в архиве, открыть папку и увидеть в ней слова к тебе: «кто найдет – прочтет».)
Это написано через полгода после «Письма о судьбе», и здесь Ромм переламывает свою жизнь и песню, хороших стихов больше не пишет, а только ужасающе плохие – такие, каких, по его ощущению, требовала эпоха, система, народ: требовало «целое» от «доли». Он пишет по всем красным прописям, о Ленине, о Сталине, о стройках, об армии и флоте, газетные агитки и большие поэмы, но в печать пробивается нечасто: у системы было чуткое ухо, и она слышала, что голос его недостаточно чист. Объявлена дружба народов, он специализируется на Башкирии, издает в Уфе книгу «Дорога в Бикзян» (1939), много ездит, завязывает переводческие связи с башкирскими поэтами. Судя по его блокнотам, связи эти неминуемо требовали сильных выпивок, вспомним: «запах земли телесный и немного противный». У него опускаются руки, его предвоенный дневник – сплошные укоры себе за интеллигентскую мягкотелость. Тут, как рок, ударяет война. С первых дней он – в военных газетчиках, приписан к Черноморскому флоту, сочиняет очерки, агитстихи, проходит все отступление от границы до Новороссийска и Туапсе, пишет с фронта ободряющие письма, доживает до перелома войны, – но в октябре 1943 года, во время керченской катастрофы, душевные силы его кончились, и он застрелился на фронте: сам поставил точку в своей судьбе. Всякий знает, что для 1943 года это – не совсем обычная смерть.
ЛЮБОВЬ КО ВСЯКОМУ СЛОВУ 38
«Я ВЕРЮ В ПРОГРЕСС, ТОЛЬКО НЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ, А КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ»
– Михаил Леонович, как вы воспринимаете современную культурную ситуацию в целом и литературную в частности? Что вас тревожит в них больше всего?
– Видимо, предполагается, что современная ситуация может только тревожить? А когда я иду по улице и вижу столы, полные книг на продажу, то радуюсь: значит, их покупают и читают. Сам я не умею читать ни детективов, ни триллеров, ни дамских романов, но это уже мой вкус, который никому не указ. У нас любят жаловаться на засилье низкопробной словесности. Но старый Сытин, на которого теперь принято умиляться, на одну хорошую книгу продавал сто лубочных и отлично делал свое просветительное дело. Никто никогда не учился азбуке по «Войне и миру» – учились по букварю. А если у нас не учат азбуке чтения и многие так и остаются при детективах, не умея взойти к Пушкину и Толстому, то это вина не ситуации, а наша, филологов: плохо делаем то самое просветительное дело.
Конечно, работать трудно. Нам, филологам, оттого, что библиотеки бедствуют, не хватает новых книг, трудно следить за иностранной (да и нашей) научной литературой. Но так ведь было и двадцать, и тридцать, и сто лет назад. Однажды я был в Переделкине, там весьма уважаемые писатели собирали подписи под прошением Ельцину: писатели трудно живут, проявите о них, пожалуйста, особую заботу. Я не подписал, я попробовал представить такое прошение от писателей XIX века (начиная Достоевским и кончая Николаем Успенским, которым тоже трудно жилось) и не смог. Конечно, все, кто сейчас на черте и за чертой бедности – кажется, четверть населения, – вправе требовать заботы от правительства. Но «особой» заботы для литераторов – это слишком.
Я даже могу разглядеть прогресс. Несколько лет назад на прилавках совсем не было, например, книжек для детей – теперь они есть. Сейчас Пушкин и Толстой стоят в продаже только наспех сделанными «Избранными», авось через несколько лет можно будет купить и больше. А ведь мы помним, что в течение многих десятилетий пойти в магазин и купить Пушкина было нереально.
– Вы говорите о просветительном деле филологов. В чем он состоит для вас самого? Какова, по-вашему, польза античной литературы для современности и будущего?
– Для большинства из нас просветительное дело – это преподавание. Я преподавать не умею: необщителен. Вместо этого я переводил античных писателей и писал к ним подробные комментарии и научно-популярные предисловия. Я хорошо помню, как я рос, какие книги читал, чего мне не хватало, и я старался дать новым читателям именно то, чего мне не хватало. Например, такой комментарий, который вводил бы в античную культуру как в связное целое, а не рассыпался бы на объяснения имен и слов. Потому что античная культура нам чужая и мы ей чужие; понимать ее – значит отвыкать от вредной мысли, будто мы с нашей культурой – самое главное в мировой истории, и все остальные по сути такие же, как мы, только не дотягивают до нас. Так же важно учиться понимать и другие культуры: и арабскую, и китайскую, и пушкинскую, и блоковскую, потому что они тоже нам чужие. Мне жалко, что я умру, так и не узнав многие из них, потому что не нашел хорошего общедоступного комментария. Античная же культура интереснее для нас потому, что наша собственная (и вся европейская) культура восходит к двум корням: к античной и библейской культурам. Когда меня спрашивают, зачем читать древних греков, я отвечаю: «Их читали Шекспир и Вольтер, а Шекспира и Вольтера читал Пушкин, если не читать Гомера, мы будем хуже понимать Пушкина». Другое дело, что многим Пушкин нужен совсем не затем, чтобы его понимать.
– Но существует и достаточно серьезно обосновывается точка зрения, которую можно свести к высказываниям: «литература не требует для себя филологии», «филология убивает удовольствие от чтения». Каково ваше отношение к такой точке зрения?
– Я ее хорошо понимаю: романтическая точка зрения, представление, будто «обликов много, а искусство едино» и, стало быть, чужих культур нет, и каждый может постичь любую одной своею интуицией. На самом деле он постигнет только то, что близко лично ему, и не заметит того, что было гораздо важнее самому Пушкину и самому Софоклу. Он будет как бы окружен зеркалами – разными, но отражающими только его собственное лицо. Это будет его «удовольствие от чтения». Мне кажется, что это скучно: интереснее узнать новое, непохожее, чужое. А для этого нужна филология. Когда мы хотим читать по-английски, то берем учебник английского языка, когда мы хотим читать по-шекспировски, мы должны взять учебник шекспировской культуры, а такие учебники пишут филологи; к сожалению, хороших учебников мало. Но, конечно, те, кто хочет не сам приблизиться к автору, а приблизить автора к себе, вправе не читать никакую филологию. Он тоже будет делать постоянное культурное дело: сочинять «образ античности» для своей культуры. Античность Шекспира, античность Пушкина, античность XX века – все они сочиненные, «ненастоящие», художественные. Однако чтобы это оценить, почувствовать эту художественность, нужно ее соотнести с тем, какова была античность «на самом деле». А этого без филологии не сделаешь.
– Выполняла ли хотя бы отчасти ваша углубленность в античность роль заслона от советской действительности?
– Конечно. Когда я кончал школу (еще при Сталине), я был вполне советским подростком, нимало не критически мыслящим. Но я видел: во всех учебниках история выглядит чем древнее, тем интереснее и ярче, а чем ближе к современности, тем скучнее, однообразнее и суше. И я выбрал себе специальность, куда можно было бы спрятаться, как в щель. Потом оказалось, что есть и другие щели для меня, чтобы прятаться от маразма действительности – не только советской, а и постсоветской, – например стиховедение. Там и сижу, а на поверхность выползаю с научно-популярными предисловиями.
– Сейчас у нас в очередной раз актуальным стал спор о том, что есть искусство, а что им не является. У вас есть критерий искусства?
– Когда говорят такие фразы, то обычно имеют в виду не «что есть искусство», а «что есть хорошее искусство». Всякое произведение содержит элементы традиции и элементы новаторства. Если оно состоит сплошь из привычного, мы говорим: «Это плохое искусство, скучное». Если сплошь из непривычного (что-нибудь ультраавангардистское), мы говорим: «Это вообще не искусство, а пустой набор слов или звуков». Хорошим нам кажется то, что лежит в золотой середине между этими крайностями. Если читатель начинающий, то ему хороши детектив и эстрадная песня. Если читатель начитанный, то ему интереснее Толстой, Бродский и Лев Рубинштейн. Когда мои дети зачитывались детективами, я говорил: «Смотри, какими постоянными приемами сделаны эти рассказы, ты и сам мог бы так сочинить». И помогало: они взбирались на следующую ступеньку читательского опыта.
– Но я не имел в виду «хорошее искусство». Скажем, когда появился Марсель Дюшан со своим «Писсуаром», большинство заявило: это не искусство. По прошествии времени он занял свое место в пусть авангардном, но искусстве. Каков ваш критерий искусства как такового?
– Дюшановский: то, что вставлено в рамку и предлагается как искусство, то и есть искусство.
– Странно от вас это слышать, вы производите впечатление человека строгого и педантичного.
– Я очень сухой и педантичный, именно поэтому внутреннего непосредственного чувства искусства у меня нет, и я вынужден критерием искусства считать общественный консенсус.
– Существуют ли, по-вашему, в искусстве табу?
– Конечно. Например, для авангардиста табу – четырехстопный пушкинский ямб; он возможен только как издевательство. «Ямбом писать» для Маяковского было ругательством. Искусства со вседозволенностью, без табу, без ограничения материала не бывает; тогда оно бесформенно расплывается. В каждом жанре свои ограничения: в одном матерные слова обязательны, в другом запретны. Смешивать можно, но с осторожностью. Кто-то сказал: «Американцы сделали все непечатные слова печатными, и что же? Им стало нечем ругаться. Вот ужас-то!»
– Недавняя публикация приложения к «Диалектике мифа» Алексея Лосева вызвала споры, напомнившие полемику о том, имеет ли Ницше отношение к идеологии нацизма. С одной стороны, говорили, что лосевский антисемитизм и высказывание о русском народе как о стаде баранов выводит за рамки культуры и подрывает доверие ко всему, что он написал, а с другой – что это относится к сфере чистой мысли и не умаляет значения Лосева. Существует ли, по-вашему, ответственность за мысль?
– Существует ответственность за систему своих мыслей. Конечно, из каждой системы можно выломать отдельную мысль и использовать ее совсем непредусмотренным образом. Точно так же как Пушкина можно разложить на буквы и составить из них матерное слово. Каждый говорящий должен помнить, как могут поступить с его мыслями, и вести себя соответственно. Лучше всего – не бравировать отдельными высказываниями, а стараться донести до читателя свою систему. Это трудно.
Лосев – философ, я – филолог. Философия – дело творческое, филология – исследовательское. Творческий человек не может быть всеприемлющим, он должен руководствоваться своими пристрастиями, иначе он ничего не создаст. Исследовательский человек не имеет на это права, иначе он ничего не поймет. Филолог – этимологически – это тот, кто любит всякое слово. Я стараюсь.
– Ваши «Записи и выписки», опубликованные в «Новом литературном обозрении», некоторые восприняли почти как постмодернистский жест. Как возникла эта вещь?
– Это вправду отрывки из моих записных книжек. Мне приходилось цитировать их в разговорах – собеседникам было интересно. Я решил, что можно кое-что процитировать и в печати. Когда пишешь, то стараешься, чтобы читатель понял и запомнил написанное тобой. Когда читаешь, то обращаешь внимание на то, с чего можешь брать пример. И если память у тебя плоха, то записываешь это в книжечку, чтобы потом использовать для украшения собственных мыслей. К собственным мыслям у меня уважения нет, поэтому предложить читателям эти украшения отдельно мне было нетрудно.
– И последнее. Каково ваше представление о культуре будущего?
– Хорошее. Я верю в прогресс, только не качественный, а количественный. Нельзя построить пирамиду лучше египетской или Парфенон лучше афинского. Но можно предложить человеку на выбор и античную систему ценностей, и египетскую, и еврейскую, и китайскую – чем больше, тем лучше, и все с одинаковой подробностью и ясностью. И пусть человек сам выбирает то, что ближе его душевному складу. Сейчас никто не думает, как в средние века, что сын сапожника непременно должен быть сапожником, но все еще думают, что сын православного непременно должен быть православным, и от этого бывает много душевных неудобств. Но пока филологи не написали нам плюралистических учебников, а психологи не соотнесли культуру обществ с душевным складом личностей, к сожалению, до этого еще далеко.
Беседу вел Сергей Шувалов
ПОЧВЫ ДЛЯ ТЕРПИМОСТИ БУДЕТ БОЛЬШЕ39
– Когда-то мы с вами в редакции говорили о вкусах, и вы поразили нас именно тем, что теперь принято называть толерантностью 40 . Это ваше природное свойство или оно воспитано родителями, учителями, жизненными обстоятельствами? Может ли человек сам в себе воспитать это качество?
– В детстве я был как все дети, считал: что мне нравится, то и правильно. Но скоро обнаружил, что доказать свою правоту не могу: всякое выяснение вкусов упиралось в убежденность, которой не переспоришь. Настаивать на своем – значило постепенно порвать отношения и остаться совсем одному. В школьном возрасте все выяснения отношений грозят дракой, а я был слаб. Поэтому бессознательно я стал стараться понять собеседника и уловить ту границу, дальше которой лучше не настаивать, понять и извлечь какой-то прок для себя: «вот какие убеждения на свете бывают, вот как с ними надо быть осторожным». Старания были долгими, научился я чему-то, лишь став взрослым, а чему-то не научился до сих пор.
В детстве кто сильней, тот и прав. Большой мир был сильней меня, стало быть, он был прав, а я неправ. Если он не во всем соответствовал моим представлениям о красоте и правде – представлениям, этим самым миром и внушенным, – значит, в этом была какая-то тонкость, которую он не успел мне внушить, значит, я должен был додуматься до нее самостоятельно. А пока не додумался – не настаивать на своих суждениях. Потом я прочитал в Евангелии: «Не судите, да не судимы будете». Из Евангелия каждый вычитывает то, что ему ближе, я для себя вычитал именно это. Потом я заметил, что большинство тех, кто читал Евангелие гораздо усерднее, чем я, именно эти слова оставляли без практического применения. Значит, у них был другой склад характера и другой жизненный опыт.
Большой мир – это прежде всего мир взрослых, на детей он давит очень тяжело. В некоторых от этого развивается ребяческая нетерпимость: мой сын кричал «Не хочу взрослеть!» в тринадцать лет, а внучка – в шесть лет. Я не мог так кричать – я был необщителен, за мною не было подростковой субкультуры. Вместо этого я старался понять мир взрослых как своего врага, чтобы лучше научиться выживать в нем. На этом старании я научился приобретать знания (чтобы хоть что-то ценимое ими знать лучше, чем они) и, вероятно, научился тому поведению, которое вы называете толерантным.
– Считаете ли вы, что человек образованный, много видевший, например путешествовавший, естественно и незаметно обретает терпимость к чужой культуре, а проживший всю жизнь на одном месте, в горах, в деревне, обречен быть менее толерантным?
–Я предпочитаю знакомиться с миром по книгам, из вторых рук; те, у кого мысль смелее, действительно предпочитали все увидеть своими глазами и во всем разобраться самостоятельно. Книги, которые я читал, сплошь и рядом противоречили друг другу: было ясно, что Овидий не понял бы Пушкина, а Пушкин Достоевского. Они могли позволить себе такое непонимание, а я не могу, мне они все предписаны как классики. Поэтому я должен понять связь мыслей и чувств каждого, выделить то, что приемлемо для меня, связать это в своем сознании (в такой-то ситуации мне будет ближе Овидий, а в такой-то – Достоевский) и сказать спасибо каждому за то, чем он мне помог. Наверное, это меня тоже чему-то научило: говорят ведь, что самый нетерпимый человек тот, который в жизни прочитал только одну книгу. Это все равно как изучение языков: кто к этому непривычен (а советская школа очень старалась, чтобы оно было непривычным), тому свой кажется правильным, а остальные неправильными; а кто к этому привычен, тому не только язык чужих слов, а и язык чужих мыслей не будет казаться неправильным.
Я много переводил и старался выбирать писателей, по душевному складу непохожих на меня, чтобы ближе познакомиться с чужими чувствами, стерпеться и слюбиться. Ни на величавого Пиндара, ни на изящного Овидия я непохож, поэтому они были мне интересны. Моя немецкая знакомая, филолог и журналист, врасплох спросила меня: «И вы могли бы переводить любую книгу?» Я, врасплох же, ответил: «Нет, не мог бы расистскую, не мог бы садистскую. Может быть, мог бы эвфемистическую эротику, но не мог бы сквернословящую».
– Не кажется ли вам, что экономический прогресс, поощряя страсть потребления, развивает эгоизм и бессердечие, равнодушие к страданиям других людей? И как этого избежать?
– Нетерпимость рождается из зависти. Когда мир беден и в нем каждый кусок на счету, то обездоленные нетерпимы к обеспеченным, а обеспеченные отвечают им тем же. В XIX веке обездоленными были пролетарии, и борьба была классовой. В наше время обездоленность сдвинулась на страны третьего мира, и борьба стала расовой и религиозной. Цивилизованному миру хватило бы излишков, чтобы хоть сколько-то уменьшить их обездоленность, но вместо этого унаследованный от бедных времен инстинкт держаться зубами за каждый кусок заставляет изобретать себе новые потребности. Когда эта привычка иссякнет, то почвы для терпимости станет не меньше, а больше. История обнадеживает, что как капиталисты научились прикармливать рабочих, так они научатся прикармливать и третий мир. Но хорошо, если для этого не понадобится новая мировая война.
– А в искусстве перед нами вечный бой: элитарное искусство презирает массовое, массовое издевается над элитарным, художественные школы борются друг с другом. Как же с толерантностью у властителей дум?
– Искусство – это передовой край культуры, открывание и изобретение нового, область, где нет авторитетов, к которым нужно применяться своею терпимостью, эти авторитеты позади. Только по пятам людей искусства в эту область приходит наука, все систематизирует и иерархизирует, а первооткрывателей гонит на новые рубежи. Творчество – дело одиночек авангарда, исследование – дело массы культуроосвоителей. Кто занят творчеством, для того нет авторитета чужой мысли, он сам авторитет для себя и по инерции хочет быть авторитетом для других. Если угодно, у него психология самоутверждающегося подростка – такая, с какой мы начали этот разговор, пассионарная, как еще модно выражаться. (А у ученого, если он настоящий ученый, – психология самоотрицания, растворение в научной истине, которая, он знает, существует и помимо него.) Каждая область привлекает людей с подходящим психологическим уклоном: один идет в армию, другой в педагогику, а гордец в искусство. Конечно, там он не терпит никого с собой рядом. Если перечитывать биографии великих писателей и художников, то обычно чувствуешь, что при всем преклонении перед таким человеком ты все-таки не хотел бы быть соседом с ним в коммунальной квартире. Ничего не поделаешь, такова экология культуры: если мы пользуемся продукцией завода, то должны терпеть, что он дымит и лязгает.
– Что вы скажете о слове «толерантность» – чем оно лучше (если лучше) русского слова терпимость?
– Я не уверен, что лучше, просто оно входит в моду. Почему вместо «подросток» стали говорить «тинэйджер»? Потому что и сами подростки, и пишущие о них хотят подчеркнуть: нынешний подросток совсем не таков, как подросток прежних времен, о котором писал Достоевский. Почему вместо «терпимость» стали говорить «толерантность»? Потому что мы привыкли пользоваться словом «терпимость» для бытовых человеческих отношений, а для идейных и государственных нам хочется завести более красивое слово. Об оттенках его использования недавно напомнил в «Новой газете» А. Г. Асмолов: по английскому словарю первое значение слова «толерантность» – это способность услышать и понять другого человека; второе значение – устойчивость к стрессам и конфликтам; и только третье – наша терпимость по отношению к ближнему. Со своей стороны, я мог бы сказать, что по латинскому словарю первое, этимологическое значение слова «толерантность» – выносливость, способность переносить жар и холод, труды и битвы, боль и горе. К этому ряду можно добавить и «чужое мнение рядом со своим» – это бывает столь же неприятно, но без этого не проживешь.
– И последнее: ваши пожелания нашим читателям – учителям мировой художественной культуры, которые станут участниками проекта «Урок толерантности».
– Я не педагог, перед педагогами я преклоняюсь. Я мог только рассказать, как во мне самом сложилось что-то похожее на терпимость. Если учитель сможет так же понять, как складывались в нем самом приметы терпимости и нетерпимости, если сможет угадать, как они складывались в его учениках, и показать это им, чтобы их подростковая нетерпимость не казалась им непреложной и саморазумеющейся, – тогда наши дети, может быть, будут жить немного лучше, чем мы.
Беседу вела Нинель Исмаилова
К ОБМЕНУ МНЕНИЙ О ПЕРСПЕКТИВАХ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 41
Я оптимистически надеюсь, что главным событием в нашей науке будет размежевание науки и критики (или, если угодно, публицистики): науки, которая описывает и систематизирует явления и процессы, и критики, которая делит их на хорошие и нехорошие. Науке, как обычно, предоставят те области, которыми критике заниматься неинтересно или утомительно: древность, средневековье, востоковедение, фольклор, стихосложение, сюжетосложение. С этих плацдармов она будет постепенно прибирать к рукам и те области, которые числятся под критикой, например русский XVIII век (если он не станет вдруг предметом эстетской моды) или массовую литературу XIX–XX веков (откуда потом сможет завладеть и штучной литературой – так называемыми классиками), а по части теории – стилистику. Привычными темпами освоение этого материала – полным охватом, точными методами, с трудоемкими подсчетами и т. д. – могло бы растянуться на все наступившее столетие, но при нынешней технике, позволяющей заложить в компьютер целую литературу, эти темпы могут сократиться и втрое, и вчетверо. А потом начнется борьба за раздел власти над командными высотами: в истории литературы – за классиков, в теории литературы – за характеристики идейного содержания произведений. Так как круг читателей у науки и у критики разный, то после нескольких столкновений они договорятся и будут мирно сосуществовать, высокомерно не замечая друг друга. Это будет все же лучше, чем при советской власти, когда критика называла себя наукой, а настоящая наука существовала лишь в порядке попустительства. Когда советская власть кончилась, то реакция на такое положение пошла сразу по двум направлениям: одни ученые радостно бросились в чистую науку, открывать и упорядочивать голые факты, а другие остались публицистами и только сменили флаг, стали ратовать не за исторический материализм, а за русскую духовность. В результате сейчас у нас, например, две параллельные пушкинистики: одна считает себя наследницей академической науки, а другая – наследницей философской критики. Во второй работать легче, поэтому, кажется, сейчас вторая разъедает первую больше, чем первая вторую; но, может быть, я ошибаюсь. Вот по этому образцу, наверное, и пойдет размежевание науки и не-науки во всем литературоведении. В не-науке социологический подход вряд ли скоро возродится, он слишком долго себя компрометировал; а религиозный, мифопоэтический, психоаналитический будут по-прежнему процветать. Может быть, изобретут и какой-нибудь новый: это область не исследовательская, а творческая, творчество же трудно прогнозировать. Точно так же трудно прогнозировать развитие просветительных, популяризирующих жанров при науке и не-науке: здесь слишком много зависит от того, где случайно родится талант, а где нет. Жалко, потому что мне очень небезразлична общедоступная наука: она часто оказывает обратное воздействие и на цеховую науку, и не только к худшему.
НЕСКОЛЬКО «ТРИВИАЛЬНОСТЕЙ» 42
Мне всегда хотелось перевести одно и то же произведение двумя способами – для знатоков и для простых читателей; и посмотреть, какая получится разница. Например, чтобы один перевод Марка Аврелия был так ювелирно точен, как в «современной японской новелле», цитируемой Е. Маевским, а другой так волен – с пропуском малоизвестных имен, реалий и проч., – чтобы Лев Толстой мог включить его в «Круг чтения». Если бы оба оказались удачны, то я уверен, что для русской культуры более полезен был бы второй. Нельзя объять необъятного.
Нельзя с одинаковой профессиональной точностью знать все участки мировой культуры, как нельзя в одинаковом масштабе – скажем, 50 километров в сантиметре – знать карту Подмосковья и карту Южной Америки. С. Н. Ромашко лучше меня знает, какой был на самом деле (т. е. по такому-то и такому-то последнему научному слову) немецкий романтизм – с Новалисом в центре. Но, наверное, некоторые другие области – ему виднее какие – он знает так же несовершенно, как и я: как лубочные картинки, нарисованные не по последнему, а по предпоследнему научному слову. (Вместо «лубочные» сейчас чаще говорят «мифологические».) Так живем все мы, и ничего страшного в этом нет: лишь бы помнить, какой перед тобою масштаб и как перейти при необходимости от мелкого масштаба к крупному.
Нет двух людей, у которых состав представлений о мире был бы одинаков: у каждого он складывается в неповторимых напластованиях впечатлений его индивидуальной биографии. Точно так же нет двух одинаковых картин мировой культуры для двух национальных культур. Для Англии Байрон второстепенный поэт, а для Европы первостепенный, потому что Англия и Европа воспринимали его в разных обстоятельствах и на разном фоне. Россия знает немецкий романтизм по Уланду и Гофману, а не по Новалису, но так ли это безнадежно плохо? Если бы я был преподавателем русской литературы, я попробовал бы объяснить, что такое романтизм, по Полежаеву; что такое реализм – по Помяловскому; что такое символизм – по С. Соловьеву; а потом показывал бы, насколько выходят за эти пределы Пушкин, Толстой и Блок. Ф. Ф. Зелинский когда-то даже в энциклопедической статье об Ин. Анненском умудрился пожалеть, что покойный любил Гейне, как это свойственно всем, кто не понимает, что такое настоящая немецкая поэзия. Но, наверное, если бы Анненский не любил Гейне, русская поэзия стала бы немного бедней, а составлять представление о Гейне по Анненскому все равно никто не будет. Как и о Геттингене по Ленскому и т. д. Мы не спорим, когда нам напоминают, что никто из нас не в состоянии «понять» исчерпывающе и адекватно даже самого близкого человека, – почему мы раздражаемся при мысли, что точно так же и никакой культуре невозможно понять до конца другую?
Плач по горемычной участи немецкого романтизма в русском понимании – дело психологически понятное. Я бы тоже мог поплакаться о том, как непохожа античность Пушкина или Гете на ту античность, которая кажется мне «настоящей». Но это был бы плач по недоразумению. Ни русская, ни немецкая культура не задавались целью построить достоверный образ античности. Они строили только самих себя, а из античности выхватывали только то, что им в каждый данный момент лучше годилось для этой стройки. (Только так и бывает в истории. Рим обиделся бы, если бы узнал из наших учебников, что его историческая роль была в том, чтобы донести до нас греческую культуру, и что сделал он это недостаточно старательно: Рим тоже был занят не Грецией и не нами, а самим собой.) Сменялись моменты, сменялись и образы. Был Цицерон «настоящий», который интересен только для спорящих о нем историков, и были средневековый Цицерон – философ, ренессансный Цицерон – стилист, вольтерьянский Цицерон – публицист, моммзеновский Цицерон – недотепа, и нынешний Цицерон – интеллигент; все они одинаково важны для истории культуры, которая исследует, как же все они получились, – только не нужно ни смешивать их, ни уничтожать всех во имя одного, даже «настоящего».
Язык – такой же продукт истории национальной культуры, как и картина мира. Хороших и плохих языков нет, хотя каждой культуре в зависимости от исторического настроения кажется, что ее язык то лучше всех, то хуже всех. Лучше всего об этом сказано у Набокова в предисловии к русской «Лолите»: оказалось, что английский язык лучше приспособлен к таким-то элементам содержания, а русский язык – к таким-то. Читателю предоставляется по двум авторским текстам Набокова стереоскопически представить себе единую авторскую мысль. Точно так же набор обычных переводов должен бы давать читателю стереоскопическую картину если не мысли, то текста оригинала. «Гамлета» с параллельным текстом английского оригинала и очередного русского перевода мы видели хоть и редко, но все же не один раз. Когда «Гамлета» должны были издавать в «Литературных памятниках», я предложил напечатать параллельно два перевода, слева Лозинского, справа Пастернака: по тенденциям они противоположны, стереоскопичность получилась бы интересная. Может быть, такой публикации заслуживал бы и Новалис Иванова и Микушевича: что сказал бы об этом читатель? А в Италии издавалась серия тройных переводов: слева «Буколики» Вергилия, справа перевод П. Валери, понизу итальянский подстрочник (Вергилия); слева «Humpty Dumpty» Л. Кэрролла, справа перевод Антонена Арто, понизу итальянский подстрочник. Мандельштам, мечтавший, чтобы переводы толкали пролетарскую молодежь к чужим языкам, был бы этим доволен.
Набоков говорил о разнице семантических запасов русского и английского языка, а есть еще разница грамматических запасов. Латинский поэтический язык – со свободным, инвертированным порядком слов; как из‐за этого полувыцветают латинские стихи в русском переводе и совершенно выцветают во французском или английском, знает каждый сравнивавший; чем это компенсировать, каждый переводчик решает сам. А. Каравашкин цитирует тонкое замечание С. С. Аверинцева о том, как церковнославянский язык выработал систему словообразования, позволявшую копировать греческие «грозди слов, сцепляющихся в единое слово», – наверное, было бы интересно перевести греческие акафисты на палеоазиатские языки, где в единое слово сцепляются целые предложения. Может быть, получилось бы гораздо бледнее – в этих языках такие «грозди» выглядели бы не праздниками, а буднями языка. Я пробовал дать себе отчет, чем меня не удовлетворяет русский перевод макферсоновского «Оссиана», и попробовал в уме отредактировать его так, чтобы все русские фразы и части фраз завершались твердыми мужскими окончаниями, как в английском, – текст зазвучал по-иному, мне понравилось. Стоило бы ради этого жертвовать другими элементами оригинала? Вряд ли; но приложить такой перевод к основному для стереоскопического оттенения, может быть, и стоило бы.
И, пожалуй, самое главное. Еще раз: не нужно забывать, что настоящий Новалис и настоящий Цицерон – «настоящие» только в кавычках. Они – настоящие только с точки зрения последнего слова современной науки (или псевдонауки): пройдет поколение, наука скажет следующее слово, и наши Новалис и Цицерон отодвинутся в ту же галерею лубочных мифов, где толпятся «геттингенские придурки» и бородатые мудрецы. Я согласен с вопросом В. Мильчиной: «из чего следует, что в немецком романтизме главное – мистический эротизм Новалиса, а все остальное второстепенно и нехарактерно?» Только из того, что сейчас (по таким-то и таким-то причинам) в моде метафорика телесности и эротическое «тело» стало чем-то вроде мировой субстанции, как «вода» и «воздух» ионийских философов? Будем помнить, что при всем нашем стремлении к истине наши интерпретации исторических памятников столько же проясняют их, сколько затемняют, и попросим за это прощения у потомков. Они простят нас, потому что их интерпретации будут таковы же.
СТОЛЕТИЕ КАК МЕРА, ИЛИ КЛАССИКА НА ФОНЕ СОВРЕМЕННОСТИ 43
Понятие «современность» существует только в противопоставлении понятию «несовременность». А «несовременность» бывает двух родов: навязываемая и ненавязываемая. Ненавязываемая несовременность особого имени не имеет, и конфликтов с ней не бывает: она мирно устаревает и забывается. А навязываемая несовременность имеет имя: она называется «классика» и она насаждается в школах для поддержания культурной традиции и культурного единства. Общество знает, что для его сплочения единство вкуса бывает не менее важно, чем, например, единство веры, и заботится о школьной классике культуры не жалея сил. А дальше все зависит от того, заботится ли оно умело или неуклюже. Иногда результаты бывают обратные: мы знаем, что такую высокоценную часть культуры, как древние языки, у нас в XIX веке насаждали так, что они стали предметом неискоренимой ненависти.
Таким образом, одно из определений современности таково: современность – это то, чего не проходят в школе, что не задано в отпрепарированном виде, о чем мы знаем непосредственно, чему учит улица. Разумеется, «знаем непосредственно» – это слишком сильное слово: на самом деле нечитающие знают о современности с подачи своих знакомых, а читающие – с подачи литературной и художественной критики. Но существенно то, что в школе для классиков все оценки предписаны и обсуждению не подлежат, а за стенами школы для современности допускаются споры и выяснения. Ведь даже в советской журнальной критике допускались дискуссии об оттенках социалистического реализма в очередной новинке. Поэтому суждения о современности дают судящим больше средств для приятного агрессивного самоутверждения, и носители культуры этим дорожат.
По сравнению с этой главной разницей между необсуждаемой классикой и обсуждаемой современностью становится второстепенной разница хронологическая. Когда в Древнем Риме осваивали греческую культуру, то в школе читали Гомера, это был классик, и его принимали к сведению. А вне школы читали Каллимаха, спорили о нем и подражали ему, это была современность, хотя Каллимах уже двести лет как умер. Точно так же и на нашей недавней памяти частью современности были тексты эмигрантских и репрессированных писателей, напечатанные или перепечатанные через несколько десятилетий после того, как они были сочинены.
Если же сосредоточиться на хронологии, то можно вспомнить: мера ее – столетие. Студентам-историкам на первом курсе говорят: историю мерят столетиями не только от удобства десятичной системы. Сто лет – это три поколения, от деда до внука, то есть время живой памяти: о том, что было сто лет назад, человек еще может услышать от живых свидетелей. Вот в Риме ровно сто лет продолжались непрерывные Пунические и Македонские войны, три поколения отвыкли пахать землю, и начался социальный кризис. Это как Эйдельман мерил время по рукопожатиям поколений или как Витженс начинал книгу о Вяземском словами: «Вяземский родился в последние годы жизни Екатерины II и умер в первые годы жизни В. И. Ленина». За пределами ста лет – абсолютные ценности классики, в пределах ста лет – спорные ценности современности. Конечно, ход времени все больше ускоряется, сто лет могут сжаться до пятидесяти, но вряд ли меньше. В гимназических программах 1890‐х годов классика кончалась вскоре после Гоголя, а Тургенева и Достоевского можно было читать или не читать по усмотрению. И, конечно, время от времени школа нервничала оттого, что не могла командовать современностью, и пыталась включить ее в свои программы, но обычно безуспешно. При мне по советской литературе рекомендовалось проходить В. Ажаева и Г. Николаеву, и я помню хрестоматии, где концом и венцом был Д. Бедный. Однако опытные учителя предпочитали обсуждать современные новинки не на общих уроках, а в литературных кружках.
Я позволю себе сказать, что для меня и моих сверстников живое ощущение прошлого начинается с серебряного века – то есть с дистанции как раз в сто лет. А тогда, в 1900 году, оно так же естественно начиналось с Карамзина и Жуковского – тоже с дистанции в сто лет. Пушкин тогда был достаточно живым явлением, чтобы футуристы именно его, а не Ломоносова сбрасывали с парохода современности. Точно так же, как нынешним поэтам хочется бросить за борт не Пушкина, а Блока. А более долгие сроки? В 1911 году отмечался 200-летний юбилей Ломоносова, никто этого не заметил, кроме профессиональных филологов: Ломоносов был уже только музейной ценностью. Совсем недавно мы отмечали 200-летний юбилей Пушкина: не была ли его истерическая пышность бессознательной попыткой скрыть, что Пушкин для нас тоже отодвигается в музейные ценности? Кто из здесь присутствующих доживет до 2028 года, присмотритесь, пожалуйста, как тогда будет ощущаться и праздноваться Лев Толстой.
Когда классику мы уже непосредственно не ощущаем, а прощаться с ней жалко, то мы стараемся подновить ее средствами современности – так, как, например, В. Непомнящий подновляет Пушкина. Эту заботу стараются взвалить на школу: постоянно появляются призывы, чтобы школьные учебники литературы писали не какие-то литературоведы, а писатели и критики. То есть чтобы они рассказывали не о Пушкине, а о своих как можно более современных впечатлениях от Пушкина. Школа от этого уклоняется, и хорошо делает. Но главное впереди: предстоит признаться, что художественный язык Пушкина для нас уже чужой, и изучать его с учениками как иностранный язык: «Сейчас он тебе не нужен, но ты не знаешь, когда и с кем тебе на нем придется говорить». Такое обучение классической литературе становится этическим воспитанием, борьбой с эгоцентризмом: «Тебе не нравится? А вот двести лет назад всем нравилось: считайся с этим». Борьба, к сожалению, безнадежная: школьник поймет такой урок только тогда, когда сам станет взрослым.
КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ 44
– Для старшего поколения искусство было первейшей ценностью – будем ли мы услышаны в современном обществе, знающем только прагматический интерес?
– «Только» – преувеличение. В старшем поколении тоже бóльшая часть нашего общества жила прагматическим интересом: хоть как-нибудь выжить. Кому удавалось, те хватались душой за искусство, чтобы передохнуть от этой прагматической заботы. Разве сейчас что-нибудь переменилось? А хвататься душой за искусство можно по-разному. Аристотель, как кажется, считал (не в «Поэтике», а в «Политике»), что низшее искусство служит развлечению, среднее – очищению чувств, а высшее – развитию ума, и все это одинаково важно. Я думаю, что пропорции тех, кто ищет первого, второго и третьего, и сейчас такие же, как пятьдесят лет назад. Только тогда было меньше развлекающего искусства, и те, кто сейчас читают триллеры и дамские романы, тогда вообще ничего не читали. Наша педагогическая забота – развивать в людях не только низшую, но и среднюю и высшую потребность в искусстве. Вероятно, делается это постепенно. Никто не учится азбуке сразу по «Войне и миру», чтобы начать читать Гоголя, нужно сперва начитаться «Английского милорда». Наверное, в начальных и средних классах нужно приохочивать школьников к нынешним «милордам», чтобы после этого в старших стали потребностью Пушкин и Гоголь. Хорошо ли это делает нынешняя школьная программа?
Другое дело: искусство делится не только на развлекательное, проясняющее и развивающее, а еще и на словесное и внесловесное – зрительное. В эпоху радио в выигрышном положении находилось словесное, в эпоху телевидения в выигрыше оказалось зрительное. Думаю, однако, что и здесь пропорции между теми, у кого более восприимчиво левое (анализирующее), и у кого правое (синтезирующее) мозговое полушарие, остались без изменений. Нужно лишь заботиться о тех, кому труднее. Мы это плохо умеем: раньше не заботились о наглядности, теперь не заботимся о логичности. Но как это делать лучше, я не знаю: я сам слишком односторонне-словесный и логичный.
– Визуальные искусства в постиндустриальную эпоху вышли на первые роли. Субкультура в кино, на ТВ и в шоу-бизнесе достигла такого размаха, что так называемая элитарная культура вытеснена за пределы реальности. Когда-то мы с вами говорили о том, что искусство, литература необходимы людям, потому что расширяют перспективу человеческого мироощущения, создают контекст, необходимый для восприятия настоящего. Но ведь масскультура не решает этих задач, не ставит их – она, можно сказать, освободила себя от ответственности за последствия. Постмодернизм вообще отменил иерархию ценностей. И вот уже театральные режиссеры по отношению к текстам Чехова и Тургенева позволяют себе такое, что приходится говорить о разрушении классики, искоренении этического смысла классических произведений.
– Что позволяют себе театральные режиссеры по отношению к текстам Чехова и Тургенева, об этом действительно стоило бы поговорить для сравнения. И озаглавить вопрос так: есть искусство актуальное и есть музейное. В актуальном – актеры в робах, в музейном – во фраках; в музейном хвалят Татьяну за то, что она верна мужу, в актуальном это совершенно непонятно. Спрашивается совершенно как при ЛЕФе: а на черта нам музейное искусство? Кто задумывался над этим и экспериментировал с этим серьезно, а не только для эпатажа, так это Брехт, но я нигде не читал убедительных анализов его перелицовок Софокла и Марло. Мне стыдно, но я не готов ответить, зачем нам музейное искусство. Мне хотелось бы сказать: пока оно демонстрирует нам отдельно парики и кафтаны, а отдельно философию Декарта, оно и впрямь ни к чему: поглазеешь и бросишь. А вот если оно представит их как проявление единой структуры, где все логически выводится из того, как люди хотят есть или хотят верить в Бога, то это будет очень интересно, и переодевать героев Мольера в робы уже не захочется. Но как фантастически трудно всю эту структуру полно охватить и наглядно представить, я хорошо знаю. Даже в «Занимательную Грецию» у меня поместилось не все, а кто заметит, что именно не поместилось?
– Так зачем читать классику?
– Зачем читать классику? Внимание – кажется, это самое главное. Классика – это не совокупность текстов, которые можно только повторить, это язык, на котором можно сказать свое собственное и нужное. Не разговорник с готовыми фразами, а учебник языка. Своим детям я говорил: «Сейчас твой круг общения – дворовые ребята, здесь для взаимопонимания хватает слов из модного жаргона и образов из последнего кино. Но будешь взрослеть (хоть тебе этого и не хочется) – круг этот будет расширяться, и взаимопонимание станет труднее. Тебе нужно будет написать письмо о том, что ты прав, а другой виноват, – на дворовом языке ты этого убедительно не сделаешь. А если ты присмотришься, как писал Пушкин (не о чем, а как он писал), то сможешь. Есть один человеческий тип, знакомый в жизни каждому, ты будешь его описывать и только запутаешься, а кто читал Гончарова, скажет „Обломов“ – и всем читавшим станет ясно». Может быть, это и ответ на вопрос: способно ли искусство преодолевать различия поколений? Мы с Аверинцевым однажды разговаривали о том же, о чем пишет Надежда Сетюкова: какие произведения следует проходить из Пушкина? Он сказал: «Только не „Онегина“». Я ответил: «Нет, нужно, как в науке, оглядываться на индекс цитируемости, а об „Онегине“ школьнику приходится читать и слышать чаще, чем о других произведениях». Он не возражал. Хороший или плохой человек Печорин? По-моему, судя по всем его поступкам, порядочный мерзавец. Но Лермонтов пишет о нем и от его лица так, что мы ему сочувствуем. Как он этого добивается? Давайте посмотрим. Хороший ли человек Онегин? Поверхностный, с позерством; всякий скажет, что Татьяна лучше. Однако в ответ на письмо Татьяны он вдруг ведет себя не как профессиональный сердцеед, а как просто хороший, порядочный человек (эпиграф «Нравственность – в природе вещей» – ирония это или нет?), но читатель этого не замечает, а лишь сочувствует Татьяне. Как Пушкин добивается этого смещения интереса и зачем? – давайте посмотрим. Вот такого подхода к классике – не как к тексту, а как к языку – я не встречал в знакомой мне педагогике. Это всегда была совокупность готовых текстов, которые раньше должны были учить «идейности», а теперь – «духовности». Учили говорить готовое, а не помогали говорить свое.
Только в этом смысле я и сказал, что Пушкин – это для нас чужой язык. Мы все его когда-то выучили, но не все помним, как мы его учили. Поэтому нам иногда кажется, что это язык естественный и родной; что достаточно, скажем, проникновенно прочитать стихотворение Пушкина – и до каждого дойдет, как оно прекрасно и содержанием, и формой, и каждый захочет познавать Пушкина еще и еще. А это не так. Конечно, талантливый педагог сумеет прочитать (с парой нужных комментирующих слов) именно так, и талантливый ученик сумеет его воспринять именно так. Но искусство педагогики существует не для талантливых, а для средних. Это техника: как заинтересовать? Избави боже, я не призываю отбрасывать Пушкина, потому что он стал труден; наоборот, призываю к очередным педагогическим подвигам на преодоление этой трудности. Но на уроках родного языка учитель старается заинтересовать ребят одними средствами, а на уроках иностранного языка – другими. Так и здесь. Хорошо ли у нас разработана эта техника заинтересовывания? Не знаю. В «Занимательной Греции» мне пришлось учиться ей самоучкой. Но педагогика стоит на убеждении, что любознательность есть врожденный инстинкт человека, такой же, как еда и размножение. Любознательность и сделала человека человеком: все животные чувствуют по отношению к огню смесь любопытства и страха, и только в первобытном человеке любопытство пересилило страх, он стал хозяином огня и этим отделился от животных. Точно такую же смесь любопытства и страха чувствовала Россия по отношению к Европе, и только в Петре I любопытство пересилило страх – и Россия стала такой, какая есть, со всем хорошим и плохим. Я тоже оптимист, считаю любознательность врожденным инстинктом и верю, что ее можно развить. Только как?
– Что именно спрессовывает сто лет в пятьдесят?
– Меня учили, что бытие определяет сознание, так мне и хочется ответить: технический прогресс. Мой знакомый культуролог (наши читатели его хорошо знают – это Георгий Кнабе) говорил: современные мужчины сами не замечают, что в их быту за одну человеческую жизнь сменились три культурные эпохи: опасная бритва, безопасная бритва и электрическая бритва; раньше на каждую понадобились бы столетия. А от технического прогресса меняется уровень жизни; когда я учился в школе, земля кормила два миллиарда населения, сейчас кормит шесть. А от уровня жизни меняется и система потребностей, в том числе и в искусстве: для той массы, для которой искусство не существовало, оно потребовалось – хотя бы в виде бульварной словесности. И так далее.
– Можно ли говорить об искусстве современности, избегая оценок?
– Думаю, что нет. Профессиональный искусствовед (и только он) обязан уметь говорить и о современности без оценок, но лишь в порядке исключения. И то это почти никому не удается.
А в том, как преодолевать отвращение ко всему, что проходится в школе, я совершенно согласен с коллегой Карапетян. Знаю по себе: мне посчастливилось еще в дошкольном возрасте читать не только Пушкина, а и учебники истории и географии, и поэтому интерес к этим наукам у меня состоялся, а к другим нет. В эвакуации на бескнижье соседская девочка спросила, нет ли у меня книг почитать. Я протянул географию Баркова и Половинкина. Она разочарованно сказала: разве это книга? Это учебник!
Беседу вела Нинель Исмаилова
ПОНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО ОБЩЕЕ ДЕЛО 45
– Ваша книга «Занимательная Греция», написанная для детей, стала бестселлером для всех возрастов. Насколько классическое образование, изучающее Грецию и Рим, приблизило бы нас к основам западной цивилизации?
– «Классическое образование» – не очень удачный термин. Я бы сказал, что необходимо «культурно-историческое образование»: такое, которое не только сообщало бы нам последние истины науки и вкусы искусства, а и рассказывало, как люди к ним шли и куда открываются пути дальше. Это помогло бы нам уберечься от эгоцентрического самодовольства – будто мы венец истории.
Конечно, при такой оглядке одним из корней нашей культуры окажется греко-римская античность, но другим будет иудейско-христианская традиция, а вокруг них лягут азиатские, о которых мы обычно знаем лишь понаслышке, а жаль. Дореволюционное российское «классическое образование» – совсем не идеал: сосредоточившись на греческой и латинской грамматике, оно душило несколько поколений и сумело расширить кругозор лишь накануне революции.
– Но тогда хоть столь актуальное для нас слово «олигарх» лучше понимали, ведь оно встречается в текстах Платона и Аристотеля.
– Ну, олигархи в наших газетах – это совсем не то, что олигархи в греческой древности. Там это были хозяева политической жизни, а у нас – хозяева экономической жизни: просто капиталисты. Как раз последние наши события показывают, что от экономической власти до политической им очень далеко. Так что ни Платон, ни Аристотель за наших олигархов не в ответе.
– Выражение «аристократы духа» тоже не сегодняшнего происхождения. Есть еще понятие «властители дум», очень популярное лет пятнадцать назад. Насколько близки вам эти определения?
– «Аристократы» – выражение метафорическое и обычно значит: особая порода хороших людей, обычно наследственная. Мне не хочется верить, что такие люди существуют как порода, но, конечно, это только потому, что я не чувствую этой аристократичности в себе самом. «Властители дум» – тоже понятие мне не близкое: оно как бы предполагает твою некритическую подвластность их власти, а меня учили, что это нехорошо. Однако если представлять их себе не породой, а поштучно, то, конечно, у каждого из нас есть круг людей, которые для него авторитетны как умные люди и как хорошие люди. К счастью, эти два качества часто совпадают. Но ведь это явно не то, о чем вы спрашиваете?
– Уточним: кто для вас был и есть такой авторитет в вашей работе? Кого вы считаете своим учителем, кто оказал на вас влияние?
– Один коллега меня спросил: «У кого учились?» Я сказал: «У книг». Он радостно воскликнул: «А, подкидыш!» Заочными учителями я ощущаю двоих, которых не застал в живых: это Борис Исаакович Ярхо, паладин точных методов в литературоведении, и Борис Викторович Томашевский, пушкинист и стиховед. Когда я работаю, я помню о них и стараюсь их не скомпрометировать.
– У вас две специальности, непохожие друг на друга: античная литература и русское стиховедение и поэтика. Как это получилось и как они у вас совмещаются?
– Вероятно, в детстве я любил экзотически звучащие слова: что имена Перикла и Вергилия, что термины «ямб и хорей» одинаково привлекали узнать, что это такое. Я учился на классическом отделении и бóльшую часть жизни работал по классической филологии. Тогда это была не такая престижная область науки, как сейчас, и я чувствовал себя как бы временно исполняющим обязанности филолога-классика – в промежутке между настоящими учеными, теми, которые были до нас, и теми, кто пришел чуть-чуть позже, как С. С. Аверинцев: я счастлив быть его современником. Стиховедением и поэтикой я все это время продолжал заниматься для своего удовольствия, и когда хороших античников стало много, то уступил им место и ушел в стиховедение и поэтику почти целиком – это у нас еще менее престижная область науки.
Как эти два интереса у меня совмещаются? Дома у меня висит на стенке детская картинка: берег речки, мишка с восторгом удит рыбу из речки и бросает в ведерко, а за его спиной зайчик с таким же восторгом удит рыбу из этого мишкиного ведерка. Античностью я занимаюсь как это заяц: с материалом, уже исследованным многими предшественниками. А стиховедением – как мишка: с материалом нетронутым, где во всем нужно самому разбираться с самого начала. Интересно и то, и другое.
– Тогда самый очевидный и простой вопрос: над чем сейчас работаете?
– У меня две большие многолетние работы, обе совместные с коллегами. Одна называется «Лингвистика стиха», которую я пишу вместе с моей ученицей и многолетней сотрудницей Татьяной Владимировной Скулачевой. Когда-то, рекомендуя ее Сергею Сергеевичу Аверинцеву, я сказал: «Пожалуй, это единственный человек, которого я вправе назвать своим учеником». Он невесело ответил: «А у меня и единственного нет». Другая называется «Академический комментарий к избранным стихам О. Мандельштама». Комментарий к Мандельштаму я пишу вместе с литературоведом из Мичиганского университета Омри Роненом, лучшим из современных мандельштамоведов. Других работ, отвлекающих от главных, слишком много, и перечислять их не хочется.
– Скажите, а если бы пятьдесят лет назад вы поступили бы не на филфак, то куда?
– Если не на филологический факультет, то на исторический; лишь бы это давало возможность смотреть на свое время и на себя издали и со стороны.
– От многих молодых людей часто слышишь вопрос: как вам нравится сегодняшнее время, лучше оно или хуже того, что было? Как бы вы на это ответили?
– То есть вы хотите спросить, есть ли на свете прогресс? Я на это привык отвечать: если бы его не было, то мы бы здесь не разговаривали с вами, потому что сто-двести лет назад по статистической вероятности один из нас умер бы в младенчестве. А мы вот живем, и молодые люди живут. Конечно, они вправе спрашивать: а стоит ли жить, если жизнь вокруг такая скверная? Но так как они все-таки не спешат умереть, то, наверное, стоит. Мою коллегу, с любовью изучавшую средневековую культуру, спросили: «В каком веке вы хотели бы жить?» – «В двенадцатом». – «На барщине?» – «Нет, нет, в келье!»
Наверное, нужно спрашивать не только «когда бы вы хотели жить», но и «кем бы вы хотели быть». Тогда можно ответить, как Микеланджело: «Камнем».
– Сразу видно знатока древности и средневековья. Но обычно молодые люди имеют в виду: лучше ли постсоветская жизнь – советской? Как вы относитесь к той и другой?
– Как к плохой погоде: радоваться нечему, но тратить силы на переживания не стоит. Сказать то, что ты хочешь сказать в науке, можно всегда: на то мы и учимся риторике. Но при советской власти на поиск нужных выражений уходила треть моих сил, а теперь уходит меньше, так что я полагаю, что теперь жизнь все-таки пока лучше. Во всяком случае, для меня, старого и безопасного. Лучше ли для молодых, которые должны пользоваться понятиями модного французского философа Жака Деррида и Флоренского так же принудительно, как мы когда-то понятиями Маркса, – в этом я не так уверен.
В России после советского марксизма наступил такой идеологический вакуум, в который сразу хлынули и сегодняшние, и вчерашние западные моды вперемешку с позавчерашней русской религиозной философией. И это сливается в такую противоестественную смесь, описывать которую я не берусь.
– Кажется, у вас я прочитал, что миссия филолога – понимание человека через его высказывания. Что же вы поняли в человеке? Конечно, если можно говорить о человеке вообще. Филолог, наверное, скажет, что можно говорить только о человеке той или иной эпохи.
– «Понимание человека» – это никак не миссия филолога: это общая миссия каждого из нас. Миссия филолога – это понимание человеческих высказываний, то есть тех средств, через которые можно понимать человека. А эти средства целиком принадлежат языку, культуре и эпохе. Понять сквозь них человека другого времени очень трудно. Поэтому обычно мы наивно представляем его по образцу нас самих, эгоцентрически считая наши собственные качества вечными.
– А попадались ли вам романы об античности, адекватные своему предмету?
– Именно потому, о чем я сказал, ни одного «адекватного» романа об античности я не знаю: все они говорят больше об авторах, чем об их героях.
– Говорить после этого о современности не хочется. Лучше скажите, что бы делал стоик Эпиктет, будь он «не древним пластическим греком», выражаясь словом Козьмы Пруткова, а нашим современником-шахтером?
– Вопрос прекрасный, но ответ – очевидный. Если бы Эпиктет был шахтером, он бы исправно работал в шахте, вел бы с товарищами точно те же беседы о внутренней свободе человека, не зависящей от жизненных обстоятельств, а они бы, будь на то возможность, точно так же их записывали. Не забывайте, Эпиктет был рабом, а рабам в древности жилось не лучше, чем шахтерам в наше время.
– Ваши «Записи и выписки» – книга не научная, но очень интересная. Она ведь построена по компьютерному принципу: парадоксальная рубрика, краткая неожиданная мысль и свободное место для обсуждения и комментариев. Вы это делали сознательно?
– Знаете, «Записи и выписки» – это ведь просто отрывки из записных книжек, накопившиеся лет за тридцать, по записи в день. Я очень рад, если они оказались интересными не для одного меня. Значит, каждый может, например, в Интернете при желании развивать, уточнять или опровергать их по своему вкусу – и это, вероятно, будет интереснее, чем если бы это делал я.
– По этим «Записям и выпискам» очевидно, что вы не только ученый, но и писатель. Не лежит ли у вас в архиве что-то помимо научных трудов?
– Я совсем не писатель: стихов я не писал с четырнадцатилетнего возраста, а прозы – никогда. Я делал только научные работы и переводы. Конечно, и научная работа может быть предметом эстетического удовольствия (как и поэма может быть источником социально-исторических сведений), но это уже зависит от взгляда читателя. «Записи и выписки» – это отходы производства, какие есть, вероятно, у каждого; я только постарался сделать их интересными хотя бы для других филологов и историков. Хорошо, если это удалось.
– Как стиховед вы анализировали весь корпус русского стиха, даже самых мелких поэтов. Так же ли вы сейчас следите за современным состоянием литературы?
– Нет, некогда. Быть читателем (и зрителем) – это тоже профессия. Современные сборники стихов я вижу лишь случайно, а современную прозу не вижу совсем.
– А как оцениваете нынешнюю массовую культуру? Стала ли она более управляемой? Прошел ли период первоначального хаоса?
– Мне казалось, наоборот: массовая, серийная культура всегда менее хаотична и более единообразна, чем экспериментальная. Глядя на книжные прилавки, в этом можно только убедиться: даже по обложкам не спутаешь дамский роман с историческим или с детективным. Значит ли это, что она более управляема, не знаю. Что значит «управляема»? Кем?
– Рынком, спросом и предложением. Скажите: если бы филология в университетах кончилась (а иногда кажется, что мы близки к этому), то могли бы вы найти место в каком-либо секторе гуманитарного рынка?
– Я пошел бы преподавать словесность в среднюю школу, хотя это гораздо тяжелее и хотя педагогических способностей у меня нет.
– Многие из ваших коллег сегодня работают в зарубежных университетах, а вы остались здесь – почему?
– Так сложилось. Я недостаточно знаю зарубежную словесность и недостаточно умею преподавать.
– А если бы преподавали, то считали бы классическое образование обязательным для формирования интеллигенции? А то ведь считается, что в современных условиях российская интеллигенция погибает.
– Наверное, напрасно. Слово «интеллигенция» употребляется в нескольких значениях. Во-первых, «просто хорошие люди» – порядочные и совестливые. Такие никуда не исчезли и не исчезнут. Во-вторых, «просто работники умственного труда» – это те, которых обзывают интеллектуалами, а еще образованцами; они тоже никуда не исчезнут. В-третьих, «и то, и другое сразу»: полагаю, что и они не исчезли. Есть еще и четвертое значение, самое точное, оно употребительно на западе: «те, кто получили образование, дающее доступ к власти, но за отсутствием вакансий не получили власти и поэтому дуются»; но у нас оно не в ходу.
Беседу вел Игорь Шевелев
ИСТОРИЗМ, МАССОВАЯ КУЛЬТУРА И НАШ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ 46
В заглавии этого альманаха стоят слова: «История, литература, искусство». Это напоминает общеизвестную истину: литература и искусство (и наука, и религия) живут и развиваются в неразрывной связи с общественной, политической, экономической жизнью, частью которой они являются. Для их понимания необходима согласованная работа целого комплекса гуманитарных наук с историей во главе.
Мы привыкли считать это чем-то саморазумеющимся. Однако это не так. Историзм – изобретение XIX века, а до этого три тысячи лет мировая культура обходилась без него. Сами историки знают это лучше, чем кто-либо: они помнят, как греческая и римская древность на протяжении многих веков, от Плутарха до Робеспьера, была не процессом, а статической картиной моральных доблестей и пороков, в которой между Фабрицием и Катоном Утическим не было никакого хронологического разрыва. Это было складочное место поучительных примеров на будущие времена. И не только поучительных: когда мы читаем Элиана или даже Павсания, мы на каждом шагу видим, что любая занимательность для античного человека имела очень мало соприкосновений с историчностью.
Мало того. Когда романтики изобрели историзм, это не отменило прежнего отношения к прошлому – это лишь усложнило его. Просто это значило, что общество расслаивается и его духовные потребности дифференцируются. Элита романтизма и позитивизма наслаждалась все освещающим и все выравнивающим историческим подходом, а массовая культура по-прежнему искала в прошлом не истоки, а образцы. Теперь эти образцы чаще бывали не моральными, а художественными, не поступками, а позами «древних пластических греков». («Потому что меньше стали читать древних и больше ездить по древним местам», – говорил С. С. Аверинцев.) Эти осколочные расхожие представления о древности складывались в конечном счете в мозаику банальностей, знакомую каждому. Никакого историзма в них, конечно, не было и нет.
Но эта массовая культура не заслуживает высокомерного презрения. Массовая – она и есть настоящая и представительная, а элитарная, авангардная культура состоит при этом серийном производстве духовных ценностей лишь как экспериментальная лаборатория. Греческие вазы, перед которыми мы благоговеем в музеях, были массовой культурой, глиняным ширпотребом, и драмы Шекспира в «Глобусе» были массовым зрелищем, на которое ученые-гуманисты смотрели сверху вниз. Канонизация – дело позднее и часто случайное (то есть тоже объяснимое лишь стечением исторических обстоятельств). Более того: массовая культура гораздо меньше противопоставляет себя высокой, чем высокая – массовой. Когда по библиотечным отчетам оказывалось, что Вербицкую читают больше, чем Льва Толстого, то это совсем не значило, что Вербицкая и ее читатели противопоставляли себя Толстому. Это было (и есть) не противоположение, а продолжение одного и того же культурного массива. И если на верхнем его конце торжествовал историзм, а на нижнем – голливудский исторический лубок, то они связаны друг с другом крепкими нитями, а как эти нити переплетаются, должна самоотчитываться сама наша культура. Очень жаль, что мы это плохо себе представляем.
Когда мы противопоставляем высокую культуру и массовую культуру, мы рисуем картину мира, похожую на религиозную или платоновскую. На одном конце существует мир истинный, на другом – мир ложный, и чтобы причаститься мира истинного, нужно отрясти с себя мир ложный. Если мы не платоники, то не будем притворяться небожителями: признаемся, что окружающий нас мир – не совсем уж такой ложный. И будем, опираясь на него, осмыслять для себя и строить для других лестницы в мир высокой культуры – пересекающиеся, сбегающиеся и разбегающиеся.
В энциклопедии на слово «вода» говорится: «соединение двух атомов водорода с одним кислорода». В словаре русского языка написано: «прозрачная жидкость без цвета и запаха». В энциклопедии сообщается, как земля вращается вокруг солнца. В песне поется: «Солнце всходит и заходит». Для разных областей нашей жизни и работы мы обходимся разной степенью точности наших представлений о предметах. Так и картина мировой культуры по-разному выглядит для специалиста и для рядового носителя культуры. Важно лишь одно: чтобы эта картина была по возможности связной. Это не всегда получается: попробуем представить, как образ античности в сознании среднего человека складывается из полузабытого школьного учебника, мифов Куна, голливудского кино и набора случайных знаменитых имен! Я написал научно-популярную книжку «Занимательная Греция» нарочно для того, чтобы привести эти осколочные представления читателей в какую-то связь.
И я очень хотел бы, чтобы кто-нибудь помог мне привести в связь мои собственные представления о других областях мировой культуры, например написал бы книгу «Занимательный ислам» или «Занимательный Китай». Или даже о моей собственной европейской культуре написал бы так, чтобы политические и экономические теории нашли в ней осмысленное место рядом с литературой и искусством, а военное дело – рядом с модой. Потому что при нынешней специализации всех наук даже специалист вынужден довольствоваться за пределами своей узкой профессии представлениями на уровне «солнце всходит и заходит». И очень важно для единства общества, чтобы такие представления у всех нас были приблизительно одинаковыми. Академическая гуманитарная наука может этому помочь – лишь бы она снизошла вниманием до пренебрегаемой ею массовой культуры.
Мы, часто считающие себя высокими интеллектуалами, тоже носители массовой культуры – разве что не в тех областях, что наши соседи. Тот же Аверинцев говорил: «Мы не сможем отстаивать культуру, пока не научимся видеть врагов этой культуры в себе». Право, собственная наша культура тоже неполна и эклектична, если мы не знаем эстрадных хитов и модных фильмов. А если мы их знаем, то даем ли мы себе отчет, как они в нас уживаются? В 1860‐х годах тот, кто ценил Пушкина, должен был отвергать Некрасова, и наоборот, это было понятно и объяснимо. В наше время стихи Пушкина и Некрасова – и Блока, и многих других – лежат перед нами в одном и том же школьном учебнике и требуют к себе равного уважения; это гораздо менее представимо и объяснимо. Какой филолог скажет: где критерий, сводящий к соизмеримости хотя бы этих трех поэтов (и еще какого-нибудь четвертого, сегодняшнего)?
Конечно, общекультурная обязанность «уважать» и личная потребность «любить» – вещи разные. Здесь, как никогда, нам не хватает одного забытого понятия: вкус. При Вольтере понятие вкуса было, так сказать, прикладным при теории словесности, с него начиналась всякая критика; современная же критика замечательным образом умеет даже не вспоминать об этом понятии. Вкусов стало много, и понимать вкусы друг друга – необходимое требование единства культуры. А чтобы понимать их, нужно знать, как они сложились и как разошлись, – нужен историзм. Вольтеровский разум еще мог обходиться здесь без историзма, наш уже не может.
Зеркалом этой эклектичности и мозаичности нашей культуры может служить школа. Это одно из самых болезненных мест сегодняшней культурной жизни. Почему? Потому что объем культуры бесконечен, а сознание отдельного человека конечно, стало быть, мы можем предложить ему лишь ее фрагменты. Отбор этих фрагментов – важнейший элемент единства культуры. Сейчас в России (да и не только в России) происходит пересмотр критериев этого отбора – отсюда и болезненность. Но в самом деле: почему из биологии, химии и физики нам предлагают в школе именно такие-то разделы, а не иные? Потому что их сделала актуальными история развития этих наук. Сказано ли об этом хотя бы двумя словами в каком-нибудь школьном учебнике? Насколько я знаю, нет. Вот где важно вспомнить об историзме.
Монолитность всякой культуры – иллюзия. Восемнадцатый век кажется нам очень законченной, выразительной и монолитной культурой. Только специалисты помнят, что в этом веке для одного читателя существовало только рококо, а для другого – новомодный Руссо, а третий еще не шел дальше Вергилия и Корнеля, а четвертый упивался лубочной «синей библиотекой» – а многие совмещали и одно, и другое, и третье. Такая же живучая иллюзия, что в русском серебряном веке все только и читали что Блока: ничего подобного, все читали стихи из журнала «Нива». Наверное, лучше сказать, что мозаичность – дело дистанции: изблизи она режет глаз безобразными контрастами, а издали сливается в ровный колорит, как у пуантилистов. Высоких классиков мы видим издали, а среди современников мучимся изблизи. Исторический подход к разнослойности прошлых культур может дать нам тот опыт, который немного облегчит эти наши мучения.
Всякая культура строит свое будущее из обломков своего прошлого. Совершается это строительство стихийно: обычно академическая наука его не планирует. Но она присутствует при этом строительстве как бы в качестве ОТК: проверяет, насколько годятся эти обломки для тех мест в новой постройке, для которых они предназначаются. (Память об афинской демократии – может ли она быть полезна для выработки демократий XXI века?) Поэтому гуманитарная наука не может быть только хранилищем культурной памяти, она должна представлять себе те запросы ближнего будущего, на которые эта память откликается. Это бывает трудно. Например, какая проблема важнее для человечества сейчас – при начале XXI века? Может быть, это продолжающаяся борьба человека с природой, то есть проблема экологического равновесия? А может быть, это борьба в обществе, организующемся для этих новых отношений с природой, – тогда это проблема обнищания третьего мира, глобальный социальный раскол и агрессия религиозного фундаментализма и экстремизма. Наука история могла бы многое с пользой припомнить для решения этих проблем, но не всегда умеет это делать.
Но есть одна проблема ближайшего будущего человечества, которая важнее и бесспорнее всех. Это проблема взаимопонимания и взаимоуважения человеческих обществ и культур. Без ее решения впереди может быть только катастрофа. И здесь роль гуманитарной науки, вооруженной историзмом, особенно велика. Было замечено: культуры знакомятся и сближаются друг с другом, как люди, в два приема. Сперва они должны заметить друг в друге общее – иначе знакомство невозможно. А потом они должны заметить друг в друге несхожее – иначе знакомство скучно. Мы знаем, что на практике это оборачивается крайностями: если одна культура видит в другой сходное, то она воображает, что это не сходство, а тождество, вплоть до мелочей, и обижается, что это не так; если же она видит в другой культуре несхожее, то свысока отвергает ее как варварскую.
Мусульмане считали дикарями христиан, а христиане – мусульман. Объяснить и оправдать эти культурные различия, чтобы они не мешали, а помогали единению человечества в противостоянии природным силам, – для этого нужна оглядка в прошлое, для этого нужен историзм. А его носитель – академическая гуманитарная наука. Поэтому ее ответственность перед человечеством в современной ситуации велика как никогда.
НАУКА И ИДЕОЛОГИЯ
ПОЭТ И ТИРАН 47
ВЫЧЕРКНУТО ПЕРЕСТРОЙКОЙ
От истории не отрекаются. А у этих стихотворений потрясающая судьба: сначала их издавали и переиздавали, потом перестали. Когда была оттепель – вспомнили и посмеялись над ними, а сейчас их опять не печатают и вообще хотят забыть.
Эти стихи, стихи великих поэтов, воспевающих тирана Сталина, – вот. Прочтем их еще раз, чтобы, помимо прочего, еще раз задуматься о злой силе тирании, заставляющей даже великих поэтов искренне писать такие стихи.
ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ
[Фрагмент]
1
2
1937
БОРИС ПАСТЕРНАК
1936
Стихотворение Осипа Мандельштама написано в начале 1937 года в воронежской ссылке. Перед воронежской ссылкой была чердынская ссылка за эпиграмму на Сталина: «…Как подкову, кует за указом указ – кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что ни казнь у него – то малина, и широкая грудь осетина». После воронежской ссылки был год неприкаянной передышки и потом новый арест, тюрьма, Сибирь и смерть.
«Ода Сталину» (так ее условно называют) была давно известна в списках, но за границей ее напечатали только в 1975 году, а у нас – в 1989-м. Понять эту медлительность нетрудно: она портила законченный образ поэта-первомученика, без страха и упрека противостоящего сталинскому тоталитаризму. Писавшие о ней всячески старались приискать для автора смягчающие обстоятельства. Вдова поэта подробно пишет, с каким трудом и усилием он работал над одой, а литературоведы подчеркивают первые слова «Когда б я уголь взял…» – как будто на самом деле Мандельштам не брал в руки ни угля, ни пера.
Все это – лишнее. Всякому непредубежденному взгляду ясно, что никаких задних мыслей за монументальным славословием оды нет. Мы вчитываем их сами. Это действительно хвала Сталину. Из прорвы стихов в честь Сталина, писанных в его годы, лучшее было написано замученным Мандельштамом, а следующее за ним – полузамученным Заболоцким (оно называлось «Горийская симфония», и его тоже перепечатывают очень неохотно). Об этом можно мрачно размышлять, но отрицать это невозможно.
Почему Мандельштам склонился перед Сталиным? От русского интеллигентского убеждения, что не может один поручик идти в ногу, а вся рота не в ногу. От общечеловеческого желания думать, что над злыми сатрапами есть справедливый царь (а над злыми царями – справедливый Бог).
Мы привыкли иметь дело не с Мандельштамом, а с мифом о Мандельштаме, не со Сталиным, а с мифом и потом антимифом – о Сталине. В этом стихотворении два мифа сталкиваются друг с другом и уничтожают друг друга. Это всегда на пользу трезвому взгляду на вещи.
КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ И ЦЕНЗУРА НРАВОВ 48
Старейшина нашей классической филологии, 95-летний Сергей Иванович Соболевский, вспомнил однажды на заседании античного сектора Института мировой литературы: «Когда я защищал докторскую диссертацию о синтаксисе Аристофана, то академик Корш потом подошел и сказал: „Мне понравилось, как спокойно вы цитировали непристойные места“». Молодая 70-летняя Мария Евгеньевна Грабарь-Пассек с незабываемой живостью откликнулась: «Знаете, Сергей Иванович, я, как говорится, не пасторская дочка, но ваш Аристофан и мне бывает невмоготу». – «Вы, Мария Евгеньевна, не застали того времени, когда в университетских профессорских сидели одни мужчины, – сказал Соболевский. – Там бы вы и не такого наслушались».
Аристофан, пожалуй, действительно рекордсмен по части античной (вспомним щедринское слово) митирогнозии. Мой коллега Г. Ч. Гусейнов, написавший об Аристофане книгу, говорил, что этот автор доводит текст до такого градуса, что и простое слово «большой» ощущается как жуткая непристойность. Переводчикам Аристофана было с ним очень трудно – начиная с дореволюционного анонима, который, переводя Аристофана прозой с французского, при всей своей стыдливости не мог обойтись без трогательного эвфемизма «ч…», и кончая Адрианом Пиотровским, который пытался возместить прямоту выражений эмоциональным накалом и вводил читателя в крайнее недоумение, громоздя бурные тирады, дымовой завесою прикрывавшие неведомо что.
У Катулла есть стихотворение, которое в последнем русском издании (1986) начинается:
Не подумайте дурного: в тексте, представленном в издательство «Наука», было написано всего лишь: «Вот ужо я вас спереди и сзади!..» Эту строчку для перевода С. В. Шервинского придумал я, когда редактировал его перевод, и очень ею гордился: она была точнее, чем в прежнем переводе того же А. Пиотровского, написавшего: «Растяну вас и двину, негодяи…». Шервинский принял ее, но охладил мое самодовольство, заметив, что для совсем уж точной передачи катулловских слов нужно было бы написать: «Vot užo zaebu vas v rot i v žopu…» (очень прошу наборщика так и набрать это латиницей: будет интереснее). Но, как видит читатель, через бдительную издательскую редактуру не прошел даже мой смягченный вариант.
Есть два вида непристойной поэзии: один, пользующийся непечатными словами, другой – заменяющий их иносказательными перифразами. Примером первого могут быть юнкерские поэмы Лермонтова, примером второго – «Царь Никита» Пушкина (эту противоположность наметил еще Б. Эйхенбаум). В первом художественный эффект достигается на языковом уровне: читателю интересно, в какой еще контекст можно будет вдвинуть такое-то и такое-то запретное слово? Во втором – на стилистическом уровне: какими еще способами можно будет обойти прямое называние запретного слова? Первый интерес иссякает быстро – как только станет ясно, что пригоден всякий контекст, без исключения. Второй интерес держится дольше – пока обходные маневры не начнут повторяться.
Литература нового времени культивировала преимущественно поэтику второго рода, а фольклор и литература новейшая – поэтику первого рода. Происходят любопытные переклички: из того же Катулла стихи непристойно-бранные (а таких в его книге едва ли не половина) в XIX веке обходились или сглаживались переводчиками, а теперь в одной Англии и Америке переведены уже несколько раз на несколько жаргонных ладов. В Англии и Америке, но не у нас. Приблизительно в катулловское же время был составлен сборник безымянных стихов «Приапеи», выдержанный в таком же прямолинейном стиле. Лет тридцать назад один наш античник-переводчик (теперь он уже давно за рубежом) перевел эти стихи, тщательно передавая непристойные латинские слова непристойными же русскими. В послесловии ему пришлось, однако, написать приблизительно так: «Мы хотели попробовать, возможен ли художественный русский перевод „Приапей“ с точным соблюдением поэтики подлинника; и опыт показал, что, по-видимому, нет, невозможен». Известно, что инокультурный комизм воспринимается гораздо труднее, чем инокультурный элегизм или трагизм; видимо, то же можно сказать и об инокультурном эротизме.
В русских и советских условиях такая ситуация усугублялась мощной работой цензуры нравов. Будущие социологи смогут извлечь интереснейший культурно-исторический материал из наблюдений над тем, что считали цензоры приличным и что неприличным. Не последнее место в этом материале займут любопытные изъятия, сделанные редактором и цензорами 1960‐х годов в лучшем русском переводе еще одного классика античной непристойности – Марциала.
Полный Марциал издавался по-русски дважды. В первый раз (1891) это был перевод А. А. Фета с параллельным латинским текстом; пропущенных стихотворений было много, но сколько-нибудь образованный читатель мог угадывать их содержание по латинскому тексту. Было бы интересно проверить, не остались ли переводы пропущенных стихотворений в архиве Фета, и если да, то каковы были его в них переводческие приемы. Во второй раз (1968) это был перевод Ф. А. Петровского – он вышел в серии «Библиотека античной литературы» с замечательными рисунками Ф. Збарского. Здесь о латинском тексте не было и речи, и читатель мог догадываться о пропусках только по перерывам в нумерации стихотворений. Конечно, перевод был сделан полностью, и пропуски в нем явились не по вине переводчика. Пропущенные стихотворения сохранились в машинописи; будем надеяться, что при переиздании они займут свое должное место.
Федор Александрович Петровский (1890–1978) был классиком перевода античных классиков; все, кто в советское время переводил или переводит латинскую поэзию, прямо или косвенно учились у него. Он переводил Лукреция, Кампанеллу, Витрувия, но Марциал остался одной из лучших его переводческих удач. Жизнелюбивый, с отличным чувством юмора, сочетавший в своем характере равно необходимые переводчику педантизм и артистизм, он идеально подходил для работы над римским эпиграмматистом. В старости он сделался ленивее и небрежнее, но Марциала он переводил в расцвете сил. Перевод этот ждал издания лет тридцать. Только на моей памяти он вычеркивался из планов раза два. «Похороны по первому разряду», – привычно говорил Петровский.
Когда книга наконец вышла, в ней было пропущено 88 стихотворений. Это около 8% всего основного марциаловского корпуса. (В фетовском Марциале было пропущено 109 стихотворений: да, в старое время нравы блюли строже. Любопытно, что состав пропусков порой не совпадал: часто одно и то же стихотворение в тяжеловесном переводе Фета притуплялось настолько, что проходило в печать, а в заостренном переводе Петровского не проходило.) Пропуски были отнюдь не из‐за непристойных слов. Петровский и не пытался передавать непечатное непечатным: он заменял запретные слова перифразами, сознательно переводя Марциала не только с языка на язык, но и со стиля на стиль. В его переводах меньше грубости, чем в подлиннике: у Марциала в эпиграмме на Лириду было прямо сказано: «fellat», – а в эпиграмме на Зоила: «futues». Цензура боролась не против слов, а против тем.
Запрету подвергались две темы – обе относившиеся с официальной советской точки зрения к области «извращений»: педерастия и оральный секс. Любопытно, что этим подводились под одну скобку два очень разных культурно-исторических явления. Педерастия в античном обществе была социально институированной формой молодого добрачного приволья (признанного для юношей, но, конечно, не для девушек), а в зрелом возрасте считалась признаком или запоздалой изнеженности, или казармы, или философской школы: Диоген Лаэртский поминает, как один почтенный платоник, превозмогая отвращение, демонстрировал свою любовь к мальчикам, чтобы считаться настоящим философом. Оральный же секс осуждался почти так же категорически, как и в XIX веке, и обычным обозначением для него были слова «неудобосказуемое соединение». Поэтому расхождение представления об античной «свободе нравов» или «языческом разврате» не вполне корректны. Эпиграммы Марциала о тех, кто любит мальчиков, и о тех, кто «поганит рот», были рассчитаны на очень разное читательское отношение, и передать это в интонациях перевода было бы интересной задачей.
Впрочем, пожалуй, повальное вычеркивание – еще не худший способ борьбы с этими темами. Переводчиков-античников по крайней мере не заставляли прибегать к фальсификациям. Между тем тот же С. В. Шервинский говорил мне, что, переводя арабских поэтов, ему приходилось (и не только ему) любовные стихи к мальчикам систематически переадресовывать девушкам. На античном материале я вспоминаю только один такой случай. У Георгия Шенгели есть стихотворение «Айсигена» с эпиграфом из Палатинской антологии: «Общая матерь Земля, будь легка над моей Айсигеной, Ибо ступала она так же легко по тебе». Стихотворение неплохое, а эпиграф даже очень хороший, однако в греческом подлиннике упоминается не Айсигена, а Айсиген.
Когда у страха глаза велики, то сами собой возникают любопытные недоразумения. Наряду с предосудительными эпиграммами изгнаны были некоторые совершенно невинные, истолкованные цензурою в меру собственной испорченности. Эпиграмма XII, 12 в переводе Петровского читалась:
Эпиграмма написана с обычной марциаловской точки зрения бедного прихлебателя, ожидающего подачки от хозяина. Цензор предпочел понять ее по-иному. Другая эпиграмма, VI, 46, выглядела так:
Речь идет о цирковом вознице из команды «голубых» (состязавшихся с «зелеными» и «белыми»), который получил взятку за то, чтобы пропустить соперника к финишу. Насколько я понимаю, цензора смутило современное переносное значение слова «голубой» (впрочем, было ли оно в ходу в 1960‐е годы?). Однако как рисовал он себе изображаемую садистическую картину, я не берусь вообразить. Нечего и добавлять, что в старый фетовский том Марциала обе эти эпиграммы благополучно вошли.
Мы предлагаем читателю малую часть эпиграмм Марциала в переводе Ф. А. Петровского, оставшихся за бортом однотомника 1968 года. Комментариев они, я полагаю, не требуют. «Колифии» в эпиграмме о Филениде – это неизвестное мясное блюдо, а «киаф» там же – около четверти стакана. В мифологическом многолюдстве стихотворения к жене упоминаются Мегара – жена Геркулеса, Гил(ас) – мальчик, сопровождавший его в плавании аргонавтов, Эбалий – Гиацинт, любимец Аполлона; «внук Эака» – это Ахилл, а его «друг безбородый» – Патрокл (для Гомера они – друзья, для марциаловского времени – любовники). Элефантида – гетера, автор несохранившейся книжки (с картинками) о способах любовных соединений; кто такой Дидим, можно лишь догадываться.
Разумеется, такая подборка дает весьма односторонний образ Марциала. Но это случается с латинским поэтом не впервые. Байроновский Дон Жуан учился латыни по изданию Марциала, подготовитель которого сперва изъял из него все непристойные эпиграммы, а потом смутился и поместил их приложением в конце, «так что и указателя не нужно». В примечании Байрон клянется, что это факт. В этом можно не сомневаться. Это был том из знаменитой учебной серии «in usum Delphini» для наследника французского престола: в ней были изданы все латинские классики, поверху каждой страницы шел текст автора, посередине курсивом – его латинский же парафраз с упрощенным порядком слов и синонимическими заменами, а внизу петитом – латинские же примечания для начинающих, подробные и умелые. А непристойные тексты действительно помещались лишь в приложении и, конечно, без всяких комментариев – в расчете на то, чтобы учащийся заинтересованно проверял свои успехи в языке на нескучном материале. С точки зрения педагогической это было гениально.
Ну а сам Марциал об этой стороне своего творчества выражался однозначно: «пока ты, читатель, будешь такое читать, я, писатель, буду такое писать» (III, 68; XI, 16 и др.).
Ю. М. ЛОТМАН: НАУКА И ИДЕОЛОГИЯ 49
Этот том избранных работ Ю. М. Лотмана начинается перепечаткой книги «Анализ поэтического текста. Структура стиха», вышедшей в 1972 году в «Учпедгизе». Материалом к ней послужили «Лекции по структуральной поэтике. Введение. Теория стиха» 1964 года, составившие первый выпуск тартуской «Семиотики», а потом переработанные в монографию «Структура художественного текста» («Искусство», 1970). Как один и тот же материал был по-разному разработан для специалистов и для учпедгизовских читателей – это отдельная сторона таланта Юрия Михайловича. Книга состояла из подробного вступления о принципах анализа и из двенадцати разборов конкретных стихотворений от Батюшкова до Заболоцкого. Кроме того, некоторые разборы такого же рода были рассеяны в отдельных статьях и главах его работ. Их достаточно, чтобы говорить об индивидуальной манере Лотмана-аналитика. А манера эта особенно отчетливо вырисовывается на фоне других подходов того времени и нашего времени к анализу поэтического текста.
Практика таких анализов вошла у нас в обычай в 1960‐е годы. В основе ее лежали упражнения вузовских лекторов, для наглядности предлагавшиеся студентам; прежде они замыкались в стенах семинаров, а во времена хрущевской оттепели выплеснулись в печать. До этого, в эпоху догматического литературоведения, единственной отдушиной в царстве идейного содержания были книги под заглавием «Мастерство…» (Пушкина, или Островского, или Маяковского), где показывалось, какими художественными средствами писатель доносит до читателя это свое идейное содержание. («Мастерствоведение» – иронически называл этот жанр Н. К. Пиксанов.) Появление анализов отдельных стихотворений, конечно, было прогрессом: на маленьком поле одного стихотворения идейное содержание отступало назад, а его средства-носители выдвигались вперед и даже – у хороших аналитиков – складывались в структуру. Лотман здесь сделал последний шаг: понятие структуры, в которую складываются все элементы стихотворения, от идейных деклараций до дифференциальных признаков фонем, стало у него основным.
Официозным советским литературоведением книга была принята неприязненно. Разговор о подборе фонем, перекличках ритмов, антитезах глагольных времен, мельчайших смысловых оттенках слов, пересекающихся семантических полях – все это было слишком непривычно, особенно в применении к классическим стихам Пушкина, Тютчева, Некрасова, в которых издавна полагалось рассуждать только о высоких мыслях и чувствах. В то же время законных поводов придраться к методологии Лотмана как бы и не было. Это и раздражало критиков больше всего.
Советское литературоведение строилось на марксизме. В марксизме сосуществовали метод и идеология. Методом марксизма был диалектический и исторический материализм. Материализм – это была аксиома: «бытие определяет сознание», в том числе и носителя культуры – поэта и читателя. Историзм – это значило, что культура есть следствие социально-экономических явлений своего времени. Диалектика – это значило, что развитие культуры, как и всего на свете, совершается в результате борьбы ее внутренних противоречий. А идеология учила иному. История уже кончилась, и начинается вечность идеального бесклассового общества, к которому все прошлое было лишь подступом. Все внутренние противоречия уже отыграли свою роль, и остались только внешние, между явлениями хорошими и плохими; нужно делить культурные явления на хорошие и плохие и стараться, чтобы хорошие были всесторонне хорошими, и наоборот. Абсолютная истина достигнута, и владеющее ею сознание теперь само творит новое бытие. Идеология победившего марксизма решительно не совпадала с методом борющегося марксизма, но это тщательно скрывалось. Лотман относился к марксистскому методу серьезно, к идеологии же – так, как она того заслуживала. А известно, для догмы опаснее всего тот, кто относится к ней всерьез. Официозы это и чувствовали.
Когда Лотман начинал анализ стихотворения с росписи его лексики, ритмики и фоники, он строго держался правила материализма «бытие определяет сознание»: в начале существуют слова писателя, написанные на бумаге, из восприятия их (сознательного, когда речь идет об их словарном смысле, подсознательного, когда о стилистических оттенках или звуковых ассоциациях) складывается наше понимание стихотворения. Никакое самое высокое содержание вольнолюбивого или любовного стихотворения Пушкина не может быть постигнуто в обход его словесного выражения. (Поэтому методологически неверно начинать анализ с идейного содержания, а потом спускаться к «мастерству».) Мысль поэта подлежит реконструкции, а путь от мысли к тексту – формализации. Дело было даже не в том, что это расхолаживало «живое непосредственное восприятие» стихов. Дело было в том, что это требовало доказывать то, что казалось очевидным. Метод марксизма и вправду требовал от исследователя доказательств (альбомный девиз Маркса был: «подвергай все сомнению»). Но идеология предпочитала работать с очевидностями: иначе она встала бы перед необходимостью доказывать свое право на существование.
Формализацией пути поэта от мысли к тексту Лотман занимался в статье «Стихотворения раннего Пастернака и некоторые вопросы структурного изучения текста» (1969). Из анализа следовало: принципы отбора пригодного и непригодного для стихов (на всех уровнях, от идей до языка и метрики) могут быть различны, причем никогда не совпадают полностью с критериями обыденного сознания и естественного языка. Это значило, что поэтические системы Пушкина и Пастернака одинаково основаны на противопоставлении логики «поэта» и логики «толпы» и имеют равное право на существование, завися лишь от исторически изменчивого вкуса. Для идеологии, считавшей свой вкус абсолютным, такое уравнивание было неприятно. Формализацией пути читателя от текста к мысли поэта Лотман занимается во всех своих работах по анализу текста, а для демонстрации в качестве выигрышного примера выбирает пушкинскую строчку из «Вольности» «Восстаньте, падшие рабы!». Семантически слово «восстаньте» значит «взбунтуйтесь», стилистически оно значит просто «встаньте» (со знаком высокого слога); нашему слуху ближе первое значение, но в логику стихотворения непротиворечиво вписывается лишь второе. Это значило, что для понимания стихов недостаточно полагаться на свое чувство языка – нужно изучать язык поэта как чужой язык, в котором связь слов по стилю (или даже по звуку) может значить больше, чем связь по словарному смыслу. Для идеологии, считавшей, что у мировой культуры есть лишь один язык и она, идеология, – его хозяйка, это тоже было неприятно.
Между тем Лотман и здесь строго держался установок марксизма – установок на диалектику. Диалектическое положение о всеобщей взаимосвязи явлений означало, что в стихе и аллитерации, и ритмы, и метафорика, и образы, и идеи сосуществуют, тесно переплетаясь друг с другом, ощутимы только контрастами на фоне друг друга, фонические и стилистические контрасты сцепляются со смысловыми, и в результате оппозиция, например, взрывных и не-взрывных согласных оказывается переплетена с оппозицией «я» и «ты» или «свобода» и «рабство». Притом, что важно, эта взаимосвязь никогда не бывает полной и однозначной: вывести ямбический размер или метафорический стиль стихотворения прямо из его идейного содержания невозможно, они сохраняют семантические ассоциации всех своих прежних употреблений, и одни из них совпадают с семантикой нового контекста, а другие ей противоречат. Это и есть структура текста, причем структура диалектическая – такая, в которой все складывается в напряженные противоположности.
Главная же диалектическая противоположность, делающая текст стихотворения живым, в том, что этот текст представляет собой поле напряжения между нормой и ее нарушениями. При чтении стихотворения (а тем более многих стихотворений одной поэтической культуры) у читателя складывается система ожиданий: если стихотворение начато пушкинским ямбом, то ударения в нем будут ожидаться на каждом втором слоге, а лексика будет возвышенная и (для нас) слегка архаическая, а образы в основном из романтического набора и т. д. Эти ожидания на каждом шагу то подтверждаются, то не подтверждаются: в ямбе ударения то и дело пропускаются, про смерть Ленского после романтического «Потух огонь на алтаре!» вдруг говорится: «…как в доме опустелом… окна мелом забелены…» и т. п. Именно подтверждение или неподтверждение этих читательских ожиданий реальным текстом ощущается как эстетическое переживание. Если подтверждение стопроцентно («никакой новой информации»), то стихи ощущаются как плохая, скучная поэзия; если стопроцентно неподтверждение («новая информация не опирается на имеющуюся»), то стихи ощущаются как вообще не поэзия. Критерием оценки стихов становится мера информации. Маркс считал, «что наука только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой», – это малопопулярное свидетельство Лафарга Лотман напоминает в своей программной статье «Литературоведение должно быть наукой»50.
Что читательские ожидания ориентированы на норму и эстетическим переживанием является подтверждение или неподтверждение этой нормы, виднее всего на самом простом уровне строения текста – на стиховом. (Оттого-то книга Лотмана по поэтике имела подзаголовок «Структура стиха», а не, скажем, «Структура стихотворения».) В стиховедении норма строения стиха называется метром; метр 4-стопного ямба – ударения на четных слогах, «Мой дядя самых честных правил»; отсюда у читателя возникает ритмическое ожидание. Но ударения могут и пропускаться – «Когда не в шутку занемог»; поэтому читательское ожидание то подтверждается, то не подтверждается. На некоторых позициях ударения сохраняются чаще, на других реже; соответственно ритмическое ожидание бывает там сильнее, тут слабее; соответственно эстетическое ощущение появления или пропуска ударения тоже бывает то сильнее, то слабее, складываясь в сложный рисунок. Вот по аналогии с этим ритмическим ожиданием Лотман и представляет себе у читателя стилистическое ожидание, образное ожидание и т. д., подтверждаемые или не подтверждаемые реальным текстом стихотворения и этим вызывающие эстетическое переживание.
Но что такое та норма, на которую ориентируется это читательское ожидание? На уровне ритма она задана правилами стихосложения, обычно довольно четкими и осознанными. На уровне стиля и образного строя таких правил нет, здесь действует не закон, а обычай. Если читатель привык встречать розу в стихах только как символ, то появление в них розы только как ботанического объекта (например, «парниковая роза») он воспримет как эстетический факт. При этом, разумеется, нормы разных эпох неодинаковы: роза у Батюшкова и роза у Маяковского по-разному часты и очень по-разному воспринимаются. Если мы не будем держать в сознании этот нормативный фон, то выразительный эффект этого образа ускользнет от нас.
Казалось бы, здесь противоречие. С одной стороны, структурный анализ – это анализ не изолированных элементов художественной системы, а отношений между ними. С другой стороны, оказывается, что для правильного понимания отношения необходим предварительный учет именно изолированных элементов, например слова «роза» в допушкинской поэзии. С одной стороны, заявляется, что анализ поэтического текста замкнут рамками одного стихотворения и не отвлекается ни на биографический, ни на историко-литературный материал. С другой стороны, язык стихотворения оказывается понятен только на фоне языка эпохи: лотмановский анализ пушкинского стихотворения «Ф. Н. Глинке» весь держится на разных оттенках «античного стиля», бытовавших в 1820‐х годах. Но это противоречие – объяснимое. Эстетическое ощущение художественного текста зависит от того, находится ли читатель внутри или вне данной поэтической культуры. Если внутри, то читатель раньше улавливает поэтическую систему в целом, а уже потом – в частностях: читателю пушкинской эпохи не нужно было подсчитывать розы в стихах, он мог положиться на опыт и интуицию. Если извне, то, наоборот, читатель вынужден сперва улавливать частности, а потом конструировать из них свое представление о целом. А находимся ли мы еще внутри или уже вне пушкинской поэтической культуры? Это смотря какие «мы». Каждый из нас воспринимает Пушкина на фоне других прочитанных им книг: соответственно, у ребенка, у школьника, у образованного взрослого человека и, наконец, у специалиста-филолога восприятие это будет различно. (Это существенно, в частности, для такого научного жанра, как комментарий: комментарий, обращенный к квалифицированному читателю, может ограничиваться уточнением частностей, комментарий для начинающих должен прежде всего рисовать структуру целого, вплоть до указаний: «красивым считалось то-то и то-то». Как блестяще совмещены эти требования в комментарии Ю. М. Лотмана к «Евгению Онегину», мы знаем.)
На языке структуральной поэтики сказанное формулируется так: «прием в искусстве проецируется, как правило, не на один, а на несколько фонов» читательского опыта. Можно ли говорить, что какая-то из этих проекций более истинная, чем другая? Научная точка зрения на это может быть только одна – историческая. Филолог старается встать на точку зрения читателей пушкинского времени только потому, что именно для этих читателей писал Пушкин. Нас он не предугадывал и предугадывать не мог. Но психологически естественный читательский эгоцентризм побуждает нас считать, что Пушкин писал именно для нас, и рассматривать пушкинские стихи через призму идейного и художественного опыта, немыслимого для Пушкина. Это тоже законный подход, но не исследовательский, а творческий: каждый читатель создает себе «моего Пушкина», это его индивидуальное творчество на фоне общего творчества человечества – писательского и читательского. Но когда такой подход идеологизируется, когда объявляется, что главное в Пушкине – только то, чем он близок и дорог именно нам (для вчерашней эпохи это, скажем, ода «Вольность», а для сегодняшней – «Отцы пустынники и жены непорочны…»), – это уже становится препятствием для науки. И Лотман как историк борется с такой идеологией.
Как материализм и как диалектику, точно так же унаследовал Лотман от марксизма и его историзм, – и точно так же этот историзм метода сталкивался с антиисторизмом идеологии. Идеологическая схема навязывает всем эпохам одну и ту же систему ценностей – нашу. Что не укладывается в систему, объявляется досадными противоречиями, следствием исторической незрелости. Для марксистского метода противоречия были двигателем истории, для марксистской идеологии они, наоборот, препятствия истории. Именно от этого статического эгоцентризма отказывается Лотман во имя историзма. Для каждой культуры он реконструирует ее собственную систему ценностей, и то, что со стороны видится мозаической эклектикой, изнутри оказывается стройно и непротиворечиво, – даже такие вопиющие случаи, как когда Радищев в начале сочинения отрицает бессмертие души, а в конце утверждает. Конечно, непротиворечивость эта – временная: с течением времени незамечаемые противоречия начинают ощущаться, а ощущаемые – терять значимость, происходит слом системы, и, например, на смену дворянской культуре приходит разночинская. Наличие потенциальных противоречий внутри культурной системы оказывается двигателем ее развития – совершенно так, как этого требовала марксистская диалектика. А демонстративно непротиворечивая идеология, которую всегда старалась сочинять себе и другим каждая культура, оказывается фикцией, мистификацией реального жизненного поведения. Для насквозь идеологизированной советской официальной культуры этот взгляд на идеологии прошлых культур был очень неприятен.
Движимая то смягчениями, то обострениями внутренних противоречий, история развивается толчками: то плавный ход, то взрыв, то эволюция, то революция. Это тоже общее место марксизма, и оно тоже воспринято Лотманом. Но он помнит и еще одно положение из азбуки марксизма – такое элементарное, что над ним редко задумывались: «истина всегда конкретна». Это значит: будучи историком, он думает не столько о том, какими эти эпохи кажутся нам, сколько о том, как они видят сами себя. Или, говоря его выражениями, он представляет их не в нарицательных, а в собственных именах. Глядеть на культурную систему эпохи изнутри – это значит встать на ее точку зрения, забыть о том, что будет после. Есть анекдотическая фраза, приписывавшаяся Л. Сабанееву: «Берлиоз был убежденнейшим предшественником Вагнера». Так вот, историзм требует понимать, что каждое поколение думает не о том, кому бы предшествовать, и старается не о том, чтобы нам понравиться и угадать наши ответы на все вопросы: нет, оно решает собственные задачи. Оно не знает заранее будущего пути истории – перед ним много равновозможных путей. Научность, историзм велят нам видеть историческую реальность не целенаправленной, а обусловленной. Не целенаправленной – то есть не рвущейся стать нашим пьедесталом и более ничем. Лотман настаивал, что история закономерна, но не фатальна, что в ней всегда есть неиспользованные возможности, что несбывшегося за нами гораздо больше, чем сбывшегося. Именно потерянные возможности культуры и привлекали Лотмана в незаметных писателях и незамеченных произведениях – с тех самых пор, когда он писал об Андрее Тургеневе, М. Дмитриеве-Мамонове и А. Кайсарове, и до последних лет, когда он читал лекции о неосуществленных замыслах Пушкина. Но, конечно, не только это: уважение к малым именам всегда было благородной традицией филологии – в противоположность критике; науки – в противоположность идеологии; исследования – в противоположность оценочничеству. Особенно когда это были безвременные кончины и несбывшиеся надежды. А в официозном литературоведении, экспроприировавшем классику, как мы знаем, все больше чувствовалась тенденция подменять историю процесса медальонной галереей литературных генералов. Представить себе эту ситуацию выбора пути без ретроспективно подсказанного ответа, выбора пути с отказом от одних возможностей ради других – это задача уже не столько научная, сколько художественная, как у Тынянова, который начинает «Смерть Вазир-Мухтара» словами «Еще ничего не было решено». Выбор делает не безликая эпоха, выбор делает каждый отдельный человек: именно у него в сознании осколки противоречивых идей складываются в структуру, и структура эта прежде всего этическая, с ключевыми понятиями: стыд и честь. О своем любимом времени, о 1800–1810‐х годах, он говорит: «Основное культурное творчество этой эпохи проявилось в создании человеческого типа», оно не дало вершинных созданий ума, но дало резкий подъем «среднего уровня духовной жизни». Это внимание к среднему уровню и к тем незнаменитым людям, которые его поднимали, – тоже демократическая традиция филологии. Я решился бы сказать, что так понимал свое место в нашей современности сам Лотман. Он не бросал вызовов и не писал манифестов – он поднимал средний уровень духовной жизни. И теперь мы этим подъемом пользуемся.
Таким образом, Лотман перемещает передний край науки туда, где обычно распоряжалось искусство, – в мир человеческих характеров и судеб, в мир собственных имен. Он любуется непредсказуемостью исторической конкретности. Но Лотман не подменяет науки искусством: наука остается наукой. Когда вспоминаешь человеческие портреты, появляющиеся в историко-культурных работах Лотмана, – от декабриста Д. Завалишина до Натальи Долгорукой, – то сперва сами собой напрашиваются два сравнения: так же артистичны были В. Ключевский и М. Гершензон. А потом они уточняются: скорее Ключевский, чем Гершензон. Потому что есть слово, которое в портретах Лотмана невозможно, – слово «душа». Человеческая личность для Лотмана не субстанция, а отношение, точка пересечения социальных кодов. Марксист сказал бы: «точка пересечения социальных отношений», – разница опять-таки только в языке. Именно благодаря этому оказывается, что Пушкин был одновременно и просветителем-рационалистом, и аристократом, и романтиком, и трезвым зрителем своего века, знал цену условностям и дал убить себя на дуэли. Каждую из этих скрестившихся линий можно проследить отдельно, и тогда получится та «история культуры без имен» или та «типология культуры без имен», которой порадовались бы Вёльфлин и Варрон. Лотман отлично умел делать такой анализ безличных механизмов культуры, но ему это было не очень интересно – не потому, что это схема, а потому, что это слишком грубая схема.
Конечно, для Лотмана анализ бинарных оппозиций в стихотворении и картина эпохи вокруг поэта дополняли друг друга как наука и искусство. Но такая дополнительность тоже может осуществляться по-разному. А. Н. Веселовский всю жизнь работал над безличной историей словесности, а в старости написал замечательный психологический портрет Жуковского – без всякой связи с прежним, просто чтобы отвести душу. Тынянов стал писать роман о Пушкине, когда увидел, что тот образ Пушкина, который сложился в его сознании, не может быть обоснован научно-доказательно, а только художественно-убедительно: образ – главное, аргумент – вспомогательное. У Лотмана (как и у Ключевского) – наоборот, каждый его портрет есть иллюстрация в собственном смысле слова, материал для упражнения по историко-культурному анализу, человек у него, как фонема, складывается из дифференциальных признаков, в нем можно выделить все пересекающиеся культурные коды, и автор этого не делает только затем, чтобы вдумчивый читатель сам прикинул их в уме. Здесь концепция – главное, а образ – вспомогательное.
Умение встать на чужую, исторически далекую точку зрения – это и есть гуманистическое обогащение культуры, в этом нравственный смысл гуманитарных наук. Взглянуть не на историю из современности, а на современность из истории – это значит считать себя и свое окружение не конечной целью истории, а лишь одним из множества ее потенциальных вариантов. Мысль о несбывшихся возможностях истории была для Лотмана не только игрой диалектического ума. Это был еще и опыт двух поколений нашего века: тех, кто в 1930‐е годы расставался с неиспользованными возможностями 1920‐х и в послевоенные годы – с несбывшимися надеждами военных лет. Молодых коллег, склонных в русской культуре прошлого замечать намеки на неприятности настоящего, Лотман никогда не поощрял. Но свою последнюю книгу «Культура и взрыв» он кончил именно соображениями о перестроенном настоящем – о возможности перехода от бинарного строя русской культуры к тернарному – европейской: «Пропустить эту возможность было бы исторической катастрофой».
Лотман никогда не объявлял себя ни марксистом, ни антимарксистом – он был ученым. Чтобы противопоставить «истинного Пушкина» «моему Пушкину» любой эпохи, нужно верить в то, что истина существует и нужна людям. «Единственное, чем наука, по своей природе, может служить человеку, – это удовлетворять его потребности в истине», – писал Лотман в той же статье «Литературоведение должно стать наукой». Это не банальность: в XX веке, который начался творческим самовозвеличением декаданса и кончается творческой игривостью деструктивизма, вера в истину и науку – не аксиома, а жизненная позиция. Лотман проработал в литературоведении более сорока лет. Он начинал работать в эпоху догматического литературоведения – сейчас, наоборот, торжествует антидогматическое литературоведение. Советская идеология требовала от ученого описывать картину мира, единообразно заданную для всех, – деструктивистская идеология требует от него описывать картину мира, индивидуально созданную им самим, чем прихотливее, тем лучше. Крайности сходятся: и то, и другое для Лотмана – не исследование, а навязывание истины, казенной ли, своей ли. Поэтому новой, нарциссической филологии он остался чужд. «Восприятие художественного текста – всегда борьба между слушателем и автором», – писал он; и в этой борьбе он однозначно становился на сторону автора – историческая истина была ему дороже, чем творческое самоутверждение. Это – позиция науки в противоположность позиции искусства. В истории нашей культуры 1960–1990‐х годов структурализм Ю. М. Лотмана стоит между эпохой догматизма и эпохой антидогматизма, противопоставляясь им как научность двум антинаучностям.
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА VII ЛОТМАНОВСКИХ ЧТЕНИЯХ 51
Мы знаем, как представлял нам Ю. М. Лотман культурную память, – как творческую. Культурный опыт кристаллизуется в культурных кодах, от приложения новых кодов к старым текстам рождаются новые смыслы, и в результате Гамлет XIX века сохраняет мало общего с Гамлетом 1600 года. Сейчас время течет быстро и коды обновляются быстро. «Уже потомство настает» (или, как не менее красиво говорил Козьма Прутков, «наступает история»): сам Лотман становится объектом культурной памяти, то есть объектом переосмысления. Уже при его жизни является следующее поколение со своим новым культурным кодом: постструктурализмом. И торопится выяснять свои отношения с Лотманом, структурализмом и семиотикой, потому что чувствует, что его собственный век тоже будет недолог. Об этой попытке первого переосмысления Лотмана потомством главным образом и будет речь.
Постструктурализм вырос из структурализма. Как когда-то реализм вырос из романтизма – как ветка, взбунтовавшаяся против своего ствола. Расцвел он во Франции после 1968 года и, кажется, уже заканчивает свой путь. Его отталкивание от структурализма можно свести к четырем пунктам: главными для него оказываются 1) не дискретность, а непрерывность, не синхронические застывшие срезы действительности, а текучие промежутки между ними; 2) не функционирование готового, а творчество нового; 3) не системное, объективное, а индивидуальное, субъективное; 4) не рациональное, а эмоциональное, в конечном счете – бессознательное. Социальная почва этого протеста понятна: западное общество уже достаточно структурно и устойчиво, чтобы питать даже тех, кто бунтует против этой структурности. Лотман писал, что патриархальная устойчивость ценится главным образом в пору общественных катаклизмов; вот так и наоборот, творческий хаос на Западе ценится в пору социальной устойчивости. В России, как всегда, наоборот. Структурализм в 1960‐х годах у нас развился из стремления противопоставить неразумным структурам, жестко управлявшим нами, разумные структуры, управлявшие всем миром и нашими неразумными структурами в том числе. (Западные критики этого понять не могли и упрекали наших структуралистов в недостаточной революционности.) А нынешняя мода на постструктурализм у нас развилась из стремления противопоставить неприятному хаосу, в котором мы сейчас живем, приятный хаос, который мы создаем воображением. По-видимому, мы слишком привыкли вышибать только подобное подобным.
С этой точки зрения постстуктуралисты оглядываются на структурализм и смотрят, что можно принять и отвергнуть в Лотмане. И приходят к выводу: есть ранний Лотман, который им чужд, и поздний Лотман, который им близок, – Лотман «Культуры и взрыва» и «Внутри мыслящих миров». Между этими двумя образами – как бы пропасть: как будто, говоря понятиями самого Лотмана, посреди его творчества произошел взрыв и сменилась парадигма. Поздний Лотман переносит внимание на текучесть культуры, творчество нового, взрыв при смене старого новым; даже метафоры у него из механистических становятся органистическими (не «структура», а «семиосфера», то есть что-то близкое «биосфере»). Только апологии индивидуальности и иррациональности у него никак не удается найти. Во всяком случае, такой Лотман оказывается почти постструктуралистом или хотя бы хорошим пьедесталом для постструктурализма.
Перед нами обычный случай эгоцентрического ретроспективного мышления, многократно описанный самим Лотманом: когда какая-то культура считает себя достигнутым совершенством, а все предшествующие – лишь своими предшественниками и подготовителями, и мерит их своим аршином, то есть своим кодом. Лотман, как мы знаем, противопоставлял этому телеологизму проспективное мышление: реконструкцию исторических ситуаций, которые еще сами не знают, что из них разовьется, и на каждом шагу истории отсекают множество не совершившихся возможностей. Постструктуралисты смотрят на историю взглядом из будущего. Лотман побуждает историка смотреть на нее взглядом из прошлого. Такого же взгляда заслуживает и он сам с его эволюцией; и при таком взгляде становится видно, что никакой пропасти между ранним и поздним Лотманом нет, поздний естественно продолжает тенденции раннего и даже самого раннего.
Откуда эти сквозные тенденции у Лотмана, ясно всякому непредубежденному историку: от марксизма, через который он прошел на школьной и студенческой скамье. «Гегелевско-раннемарксистским» называет Б. Ф. Егоров ранний, кончая докторской диссертацией, период работы Лотмана52. (Я знаю, что Егоров считает, что Лотман вообще был скорее гегельянец, а М. Ю. Лотман – что скорее кантианец, но об этом сейчас спорить нет времени.) Мне уже приходилось на наших чтениях говорить, что Лотман нигде не противоречил реальному смыслу положений марксистского метода – исторического и диалектического материализма. Материализм – значит, наше исследующее сознание опирается на бытие реального текста, иных путей и обходов нет. Диалектика – значит, все изучаемые нами явления связаны в структуру, и эта структура живет напряжением между ожиданиями и реализациями, кодами и текстами. Историзм – значит, именно эти противоречия движут сменой систем, каждая из которых конкретна и должна мериться собственными кодами. И вот здесь важно вспомнить: в этом школьном марксизме был следующий пункт – переход количества в качество, скачкообразное развитие, чередование эволюций и революций. Отсюда и идет лотмановская тема развития культур через взрывы. Лотман предпочитает упоминать не Маркса, а Пригожина, но и Пригожин, и – раньше того – Кун в восприятии любого советского ученого непротиворечиво ложились на почву, распаханную марксизмом. Все мы по понятным причинам не любим оглядываться на Маркса, но даже французский критик Лотмана отмечает, что «динамическая простота, описываемая Пригожиным» – это совсем не то, что лотмановское противоборство системного и несистемного, порождающее взрыв: здесь у Лотмана «присутствует та диалектика, которая почти ритуально сопровождала всякую теоретическую мысль в бывшем Советском Союзе»53.
Конечно, сдвиг интереса между работами раннего и позднего Лотмана есть: ранний Лотман больше сосредоточивался на синхронных, замкнутых срезах культуры, поздний Лотман – на диахронических переходах от среза к срезу. Но это лишь естественное расширение поля зрения исследователя. Пока перед нами «анализ поэтического текста», его поле зрения ограничено рамками стихотворения, и лишь попутно говорится о тех внетекстовых культурных нормах, на фоне которых это стихотворение подтверждает или не подтверждает читательские ожидания. Когда перед нами анализ поэтической культуры в целом и вообще культуры в целом, то эти коды, перекидывающиеся от текстов к текстам и от текстов к порождающей их действительности и по мере накопления новых текстов меняющиеся на ходу, становятся главными героями исследования. Отсюда формулировка «язык – это код плюс его история», так радовавшая критиков структурализма: наконец-то язык – это не только код!
Далее, когда перед нами анализ культуры в целом, а не отдельных ее стадий, то ответ на вопрос, что же находится в динамических промежутках между ее статическими срезами, сам собой выходит на первый план – больной вопрос не только структурализма, а и всего нашего сознания: если парменидовская стрела в каждый отдельный момент неподвижна, то как она все-таки движется? Лотман подготовлен к этому вопросу своим опытом историка: он знает, что на атомарном уровне исторического процесса импульсы разного рода скрещиваются в одном человеке, равнодействующая их непредсказуема и это называется «творчество», а иногда «вдохновение». На этом стояли все его исторические работы. А явнее всего – биография Пушкина. Теперь он лишь вводит обобщающую формулировку: в промежутках между синхронными срезами – взрывы с не вполне предсказуемыми последствиями. Двое англоязычных критиков справедливо, как кажется, намекают, что инерция марксистского представления о революционном взрыве даже сковывает Лотмана: для него взрыв захватывает всю культуру, тогда как на самом деле постепенность и взрыв могут не только чередоваться, а и сосуществовать; на одном уровне культуры (даже поэтической) – взрыв, на другом – постепенность54.
Метафора взрыва подсказана марксистской теорией революции; это тоже, конечно, вызвано политизированной обстановкой рубежа 1980–1990 годов, отсюда и рассуждения о выборе пути России между традиционной бинарной и западной тернарной культурой. Но опять-таки это противопоставление не ново для Лотмана: тернарность для него – лишь результат наложения двух (и более) бинарностей, и до того, как проиллюстрировать это на примере умного, дурака и сумасшедшего, он иллюстрировал это и на примере Радищева, который мог начать трактат отрицанием бессмертия души, а кончить – утверждением, и на примере Пушкина, который мог одновременно вмещать и свободу мысли, и дуэльные предрассудки. Сложная структура всегда богаче и устойчивее простой, но разлагается она все-таки на простые, бинарные: в этом ранний и поздний Лотман остаются едины.
Наконец, еще одно важнейшее понятие определяется Лотманом по марксистскому образцу – это понятие личности. Для индивидуализма постструктуралистов оно центральное, но здесь даже у позднего Лотмана они не могут найти себе опору. Лотман пишет: «…понятие индивидуальности… не первично и самоочевидно, а зависит от способа кодирования…». Я могу это перефразировать только так: личность есть точка пересечения кодов, точь-в-точь как для марксиста личность – это точка пересечения социальных отношений. Пушкин был точкой пересечения классицистического кода мысли, романтического кода чувства, дворянского кода поведения и т. д. – марксист описал бы все это в понятиях социальных отношений, только и всего.
Об этом важно помнить, потому что главный антипод Лотмана на нашей почве – это Бахтин, постстуктуралист ante litteram55, для которого вся культура есть совокупность межличностных диалогов: код мертв и не может рождать творчество, творческим является только живой контакт, живой контекст. Время от времени появляются утверждения, что поздний Лотман сближается с Бахтиным, потому что начинает пользоваться понятиями «общение с текстом»; текст перестает быть мертвым источником информации и становится живым собеседником. (Имеются в виду прежде всего статьи Лотмана «Семиотика культуры и понятие текста» и «Текст в тексте».) Это не так: издержки «трудолюбивой метафоричности» (В. Шмид) слова «диалог». На самом деле диалог – это когда после общения оба собеседника расходятся, изменившись. А после моего диалога с текстом я ухожу, изменившись, а текст остается неизменным, даже если я его переосмыслил и перетолковал для моих ближних. Ведь если меня кто-нибудь переосмыслит и перетолкует – например, распустит злословие обо мне, – то ведь я от этого не переменюсь, переменится лишь мой образ. Точно так же не изменится и текст, а изменится только его образ. Может быть, если мы введем это понятие – «образ текста», нам будет легче работать с историей литературы: Гамлет 1600, 1800 и 1999 годов будут разными образами одного и того же текста.
Я не знаю, критикую ли я эту опасную метафоричность диалога в Бахтине или в Лотмане, но думаю, что критикую ее с точки зрения самого Лотмана. Потому что в системе позиций Лотмана есть одна, которой нет в эгоцентрической системе понятий постструктуралистов или Бахтина: это позиции исследователя (для Лотмана прежде всего – историка). Профессия историка – именно в том, чтобы освобождать текст из-под наросших на него образов, не переводить Гамлета на язык кодов 1999 года, а реконструировать те коды 1600 года, на которые этот текст в культуре ориентировался. Вся работа Лотмана-историка – это именно такая реконструкция кодов русской культуры XVIII века и пушкинского времени: отречение от своего языка (точнее, взгляд на него со стороны) ради понимания чужого. Отречение от своего законного права на творчество (при соприкосновении чужой и своей культуры) ради интереса к познанию отошедшей в прошлое истины. Вот этой позиции и нет в эгоцентрическом мире постструктуралистов и Бахтина. Их отношение к прошлому – не исследовательское, а творческое: они не берегут свой объект, а деструктивистски преобразуют его, они во всеоружии своего права носителей новой культуры навязывают Платону, Руссо или американской конституции такие проблемы, которые для тех не существовали. Объективной истины, к которой стремится исследователь, для них не существует – даже для Бахтина с его религиозной подкладкой; вместо нее – игра субъективными истинами. Их наука – это переодетое искусство. Лотман противопоставлял непредсказуемую науку предсказуемой технике (неожиданный отголосок шпенглеровского противопоставления культуры и цивилизации) – не столь декларативно, но столь же явно он противопоставлял и науку с ее дисциплиной искусству с его произволом. В получившейся тернарности он без колебаний выбирает себе место в науке, а не в технике и не в искусстве.
Такого же отношения он требует и к себе: научного, исследовательского. Тема нашей конференции – механизмы культурной памяти; я попробовал проследить их на самом коротком отрезке времени, на протяжении одной жизни: показать непрерывность памяти позднего Лотмана о раннем Лотмане и разрыв ее между ним и – даже не очень младшими – его современниками-постструктуралистами.
РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ КАК ОТВОДОК ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 56
СОДОКЛАД К ДОКЛАДУ Б. А. УСПЕНСКОГО НА V ЛОТМАНОВСКИХ ЧТЕНИЯХ
К работе Б. А. Успенского хочется поставить эпиграф из первых строк «Повести об одной благополучной деревне» Б. Вахтина (цитирую по памяти): «Когда государыня Елизавета Петровна отменила на Руси смертную казнь и тем положила начало русской интеллигенции…». То есть когда оппозиция государственной власти перестала физически уничтожаться и стала, худо ли, хорошо ли, скапливаться и искать себе в обществе бассейн поудобнее для такого скопления. Таким бассейном и оказался тот просвещенный и полупросвещенный слой общества, из которого потом сложилось то, что Б. А. Успенский называет интеллигенцией как специфическим русским явлением. Оно могло бы и не стать таким специфическим, если бы в русской социальной мелиорации была надежная система дренажа, оберегающая бассейн от переполнения, а его окрестности – от революционного потопа. Но об этом ни Елизавета Петровна, ни ее преемники по разным причинам не позаботились.
Б. А. Успенский формулирует: русскую интеллигенцию отличают два признака, независимые друг от друга, но скрестившиеся: во-первых, это носительница и хранительница духовных ценностей; во-вторых, оппозиция, противостоящая как власти, так и народу. По первому признаку она тождественна западным интеллектуалам, по второму – противоположна им. Б. А. Успенский уделяет преимущественное внимание второму признаку – разнице, мы попробуем присмотреться к первому.
Было два определения интеллигенции: европейское – «слой общества, воспитанный в расчете на участие в управлении обществом, но за отсутствием вакансий оставшийся со своим образованием не у дел», и советское – «прослойка общества, обслуживающая господствующий класс». Первое, западное, перекликается как раз с русским ощущением, что интеллигенция прежде всего оппозиционна: когда тебе не дают места, на которое ты рассчитывал, ты, естественно, начинаешь дуться. Второе, наоборот, перекликается с европейским ощущением, что интеллигенция (интеллектуалы) – это прежде всего носительница духовных ценностей: так как власть для управления нуждается не только в полицейском, но и в духовном насилии над массами (проповедь, школа, печать), то она с готовностью пользуется пригодными для этого духовными ценностями из арсенала интеллигенции. «Ценность» – не абсолютная величина, это всегда ценность «для кого-то», в том числе и для власти. Разумеется, не всякая ценность, а с выбором.
В зависимости от того, насколько духовный арсенал интеллигенции отвечает этому выбору, интеллигенция (даже русская) оказывается неоднородна, многослойна, нуждается в уточнении словоупотребления. Можем ли мы назвать интеллигентом Льва Толстого? Чехова? Бердяева? гимназического учителя? инженера? сочинителя бульварных романов? С точки зрения «интеллигенция – носительница духовных ценностей» – безусловно: даже автор «Битвы русских с кабардинцами» делает свое культурное дело, приохочивая полуграмотных к чтению. А с точки зрения «интеллигенция – носитель оппозиционности»? Сразу ясно, что далеко не все работники умственного труда были носителями оппозиционности: вычисляя, кто из них имеет право на звание интеллигенции, нам, видимо, пришлось бы сортировать их, вполне по-советски, на «консервативных», обслуживающих власть, и «прогрессивных», подрывающих ее в меру сил. Интересно, где окажется Чехов?
«Свет и свобода прежде всего», – формулировал Некрасов народное благо; «свет и свобода» были программой первых народников. Видимо, эту формулу приходится расчленить: свет обществу могут нести одни, свободу – другие, а скрещение и сращение этих задач – действительно специфика русской социально-культурной ситуации, порожденной ускоренным развитием русского общества в последние триста лет.
При этом заметим: «свет» – он всегда привносится со стороны. Пограничной специфики России в этом нет. Да, все три раза «свет» вносился к нам болезненно, с кровью: и при Владимире, когда «Путята крестил мечом, а Добрыня огнем», и при Петре, и при Ленине. «Внедрять просвещение с умеренностью, по возможности избегая кровопролития» – эта мрачная щедринская шутка действительно специфична именно для России. Но – пусть менее кроваво – культура привносилась со стороны, и привносилась именно сверху: не только в России, но и везде. Сам Б. А. Успенский замечает, что если Россия чувствовала себя культурной колонией Германии, то Германия чувствовала себя такой же культурной колонией Франции; продолжим: а двумя веками раньше Франция чувствовала себя колонией ренессансной Италии, а ренессансная Италия – античного Рима, а античный Рим – завоеванной им Греции. Это – обычные «контакты цивилизаций в пространстве и во времени» (по Тойнби). Даже когда реального контакта нет, он выдумывается: греки представляли свои политические новации как возрождение забытой древности, а римляне противопоставляли греческому влиянию возрождение столь же мифологизированных «нравов предков». Как потом это нововоспринятое просвещение проникало сверху вниз, это уже было делом тактики кнута или пряника: Петр I загонял недорослей в навигацкие школы силой и штрафами, а Александр II загонял мужиков в церковно-приходские школы, суля грамотным укороченный срок солдатской службы.
Главное – что просвещение всегда движется сверху вниз, всякое общество расслоено, двухкультурно. Культура низов обеспечивает его стабильность, прочность, замкнутость, культура верхов – динамичность, устремление к заданному извне идеалу, интернациональность. Конечно, такое разделение происходит просто в силу того, что высшие сословия состоятельнее и имеют больше возможностей общаться с соседями или читать старинные книги. Россия – не исключительный и даже не крайний случай такого двухкультурья, во всяком случае, в ней никогда не доходило до того, чтобы полтораста лет правящее сословие говорило на одном языке, а управляемое – на другом, как в Англии после нормандского завоевания, на материке – после германских поселений. В России передача заемной культуры от верхов к низам в средние века осуществлялась духовным сословием, в XVIII веке – дворянским сословием, но мы не называем интеллигенцией ни духовенство, ни дворянство, потому что оба сословия занимались этим неизбежным просветительством лишь между делом, между службой Богу и государю. Понятие «интеллигенция» появляется с буржуазной эпохой – с приходом в культуру разночинцев (не обязательно поповичей), т. е. выходцев из тех сословий, которые им самим предстоит просвещать. Психологические корни «долга интеллигенции перед народом» именно здесь: если Чехов, сын таганрогского лавочника, смог окончить гимназию и университет, он чувствует себя обязанным постараться, чтобы следующее поколение лавочниковых сыновей могло быстрее и легче почувствовать себя полноценными людьми, нежели он. Если и они будут вести себя как он, то постепенно просвещение и чувство человеческого достоинства распространятся на весь народ – по трезвой чеховской прикидке, лет через двести. Оппозиция здесь ни при чем, и Чехов спокойно сотрудничает в «Новом времени». А если чеховские двухсотлетние сроки оказались нереальными, то это потому, что России приходилось торопиться, нагоняя Запад, – приходилось двигаться прыжками через ступеньку, на каждом прыжке рискуя сорваться в революцию.
Но двухкультурье всякого общества – не только разница между динамичной верхушкой и медлительной массой. Есть двухкультурье и другого рода: между духовной культурой и мирской. В Европе оно начинается тогда, когда греческие философы различили два образа жизни: созерцательный, для просветленного меньшинства (βίος θεωρητικός), и деятельный, для большинства (βίος πρακτικός). В средние века продолжением первого стала христианская система ценностей, продолжением второго – светская (рыцарская, потом буржуазная) система ценностей. Между собой они были непримиримы: рыцарская этика требовала убивать, бюргерская – лихоимствовать, христианская запрещала и то, и другое. Как они устраивали компромисс (духовное сословие отмаливает грехи светских сословий), на этом сейчас останавливаться некогда. Когда за средними веками наступила секуляризация культуры, то роль духовного сословия, напоминающего людям о вечном, взяла на себя интеллигенция – сперва в лице ренессансных гуманистов, потом в лице салонных философов Просвещения. Их прямыми наследниками и стали западное интеллектуальство и русская интеллигенция – как хранители духовных ценностей, «βίος θεωρητικός». Напоминаем, ни о какой оппозиционности здесь речи не было. И философы, и клирики, и гуманисты, и энциклопедисты, вполне по советской формулировке, обслуживали властвующий или идущий к власти класс: довольных своим положением оправдывали, а недовольных отвлекали. Греческие философы состояли советниками при царях и вельможах (или стремились к этому, или – если не удавалось – делали вид, что выше этого), средневековое духовенство образовывало самостоятельное сословие, имущее и допущенное в Генеральные штаты, гуманисты и энциклопедисты состояли при меценатствующих князьях и вельможах. Материально они были зависимы от своих покровителей, духовно смотрели на них свысока – ситуация достаточно обычная.
Эту преемственность интеллигентской «βίος θεωρητικός», традиционализма духовной культуры хорошо почувствовал в 1921 году О. Мандельштам. В статье «Слово и культура» он писал: «Государство ныне проявляет к культуре то своеобразное отношение, которое лучше всего передает термин терпимость… Намечается органический тип новых взаимоотношений, связывающих государство с культурой наподобие того, как удельные князья были связаны с монастырями. Князья держали монастыри для совета. Этим все сказано. Внеположность государства по отношению к культурным ценностям ставит его в полную зависимость от культуры…» и т. д. Мы видим: Мандельштам (в юности близкий к эсерам) не гордится, а тяготится интеллигентской оппозиционностью и считает естественной для интеллигенции только роль хранителя и распорядителя культуры при покровительственной власти – он надеется, что оппозиционная обязанность интеллигенции наконец-то ушла в прошлое вместе с царским режимом. Разочарование наступило уже через год, но сейчас это нас не касается.
Русская интеллигенция была, как сказал Б. А. Успенский, трансплантацией: западным интеллектуальством, пересаженным на русскую казарменную почву. Специфику русской интеллигенции породила специфика русской государственной власти. В Европе с XVII века действовала гибкая государственная машина, двухпартийный парламент с узаконенной оппозицией, пользовавшейся интеллектуалами как спецами, по мере надобности. В отсталой же России власть была нерасчлененной и аморфной, она требовала не специалистов, а универсалов: при Петре – таких людей, как Татищев или Нартов; при большевиках – таких комиссаров, которых легко перебрасывали из ЧК в НКПС; в промежутках – николаевских и александровских генералов, которых назначали командовать финансами, и никто не удивлялся. Впрочем, как должны соотноситься у власти политики и профессионалы, это и сейчас неизвестно – не только у нас, но и в передовых странах.
Зеркалом такой русской власти оказалась русская оппозиция на все руки, роль которой пришлось взять на себя интеллигенции. Соответственно, и формы этой оппозиции были нерасчлененными и аморфными: литература, публицистика и философия сплывались в какой-то первоначальный синкретизм. Впрочем, в предромантической и романтической Европе тоже можно найти тому множество примеров. Б. А. Успенский блестяще описывает учительную традицию русской классической литературы, но так ли уж она специфична? Можно ли сказать, что борьба Добра и Зла ярче продемонстрирована в Евгении Онегине, чем в Жюльене Сореле? Можно ли сказать, что «проблемы социальные для нее (для русской литературы. – М. Г.) менее характерны» и «обсуждаются, как правило, в контексте более общей (философской. – М. Г.) проблематики»? – это в русской литературе XIX века, с которой каждый критик спрашивал в первую очередь ответы на социальные вопросы. Если был роман, по которому прямо учились жить, то это «Что делать?» Чернышевского. А кто из мировых писателей был безоговорочным идеалом Чернышевского? Лессинг – самый законченный, самый беспримесный деятель европейского Просвещения. Как русская интеллигенция была западным интеллектуальством, так русский реализм был западным просветительством, пришедшим в Россию с опозданием на сто лет и реализованным в отдельно взятой нищей стране.
Сейчас критика любит горевать, что русская литература перестает быть учителем и вождем, а становится, как на Западе, беллетристикой, чисто художественным явлением. Между тем это естественный результат развития, дифференциации культуры: публицистика публицистике, эстетика эстетике. Точно так же, вероятно, кончается и эпоха русской интеллигенции образца XIX века, которая одна работала и за искусство, и за философию, и за политику. Эту конференцию следовало бы начать с вопроса: считаем ли мы, собравшиеся, себя интеллигентами? За себя я бы ответил: нет, я – работник умственного труда на государственной зарплате.
P.S. С. И. Гиндин заметил: да, сказать о себе «я – интеллигент» – это все равно что сказать «я – хороший человек». Это значит, что в понятии «интеллигенция» сменилось три значения: «люди с умом» (этимологически), «люди с совестью» (их-то мы обычно и подразумеваем в дискуссиях) и «просто хорошие люди». Это не так уж мало: интеллигентность (культурность) сейчас – это то, что двести лет назад называлось светскостью, восемьсот лет назад – куртуазностью, а две с лишним тысячи лет назад – humanitas. Философы говорили: две черты отличают людей от животных – разум и humanitas, умение вести себя в обществе. Разум – в отношениях человека с природой и humanitas, интеллигентность – в отношениях с обществом: вполне равноценная пара.
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ: ОТ ЭТИМОЛОГИИ К МОРАЛИ 57
У слова «интеллигенция» и смежных с ним есть своя история. Очень упрощенно говоря, его значение прошло три этапа. Сперва оно означало «люди с умом» (этимологически), потом «люди с совестью» (их-то мы обычно и подразумеваем в дискуссиях), потом просто «очень хорошие люди».
Слово intelligentia принадлежит еще классической, цицероновской латыни; оно значило в ней «понимание», «способность к пониманию». В. Тредиаковский, создавая русскую философскую терминологию, предлагал для него термин «разумность»; у масонов оно означало высшее, бессмертное состояние человека как умного существа; у А. Галича – «разумный дух»; у Огарева иронически упоминается «какой-то субъект с гигантской интеллигенцией», а у Тургенева (1871) даже «собака стала… интеллигентнее, впечатлительнее и сообразительнее, ее кругозор расширился». Когда это слово начинает означать не качество, а его носителей, то Даль (1881) дает новому значению определение: «Интеллигенция – разумная, образованная, умственно развитая часть жителей». Вместе со словом «интеллигенция» в этом смысле, как мы видим, появляется производное слово «интеллигентный», еще позже слово «интеллигент», еще позже производное от него слово «интеллигентский». Последним приходит (из английского и французского) слово «интеллектуал»: его еще нет в словаре Ушакова 1935 года, оно уже есть в Малом академическом словаре 1961 года.
Наступает советское время, культура распространяется не вглубь, а вширь, образованность мельчает. По иным причинам, но то же самое происходит и в эмиграции: вспомним горькую реплику Ходасевича, что скоро придется организовывать «общество людей, читавших „Анну Каренину“». Г. П. Федотов вполне серьезно предлагал подобные меры для искусственного создания «новой русской элиты», которая затем распространила бы свое культурное влияние на все общество, и т. д. Казалось бы, тут-то и время, чтобы интеллектуальный элемент понятия «интеллигенция» повысился в цене. Случилось обратное: чем дальше, тем больше подчеркивается, что образованность и интеллигентность вещи разные, что можно много знать и не быть интеллигентом, и наоборот. Окончательный удар по этому интеллектуалистическому понятию интеллигенции нанес А. И. Солженицын, придумав слово без промаха – «образованщина». Конечно, для порядка образованщина противопоставлялась истинной образованности. Но было ясно, что главный критерий здесь уже не умственный, а нравственный: коллаборационист, который несет свои умственные способности на службу советской власти, – он не настоящий интеллигент.
Как «интеллигенция», так и «интеллигент» – слова, с самого начала не лишенные отрицательных оттенков значения: «интеллигенция» (в отличие от «людей образованных») охотно понималась как «сборище недоучек», примеры тому (в том числе из Щедрина) подобраны в «Истории слов» В. В. Виноградова; издевательское выражение «а еще интеллигент!» было ходячим уже при Саше Черном. Но на производные прилагательные эти отрицательные оттенки переходят в разной степени. Слово «интеллигентский» и Ушаков, и академический словарь определяют: «свойственный интеллигенту» с отрицательным оттенком – «о свойствах старой, буржуазной интеллигенции» с ее «безволием, колебаниями, сомнениями». Слово «интеллигентный» и Ушаков, и академический словарь определяют: «присущий интеллигенту, интеллигенции» с положительным оттенком – «образованный, культурный». «Культурный», в свою очередь, здесь явно означает не только носителя «просвещенности, образованности, начитанности» (определение слова «культура» в академическом словаре), но и «обладающий определенными навыками поведения в обществе, воспитанный» (одно из определений слова «культурный» в том же словаре). Антитезой к слову «интеллигентный» в современном языковом сознании будет не столько «невежда», сколько «невежа» (а к слову «интеллигент» – не «мещанин», а «хам»). Каждый из нас ощущает разницу, например, между «интеллигентная внешность», «интеллигентное поведение» и «интеллигентская внешность», «интеллигентское поведение». При втором прилагательном как бы присутствует подозрение, что на самом-то деле эта внешность и это поведение напускные, а при первом прилагательном – подлинные. Мне запомнился характерный случай. Лет десять назад критик Андрей Левкин напечатал в журнале «Родник» статью под заглавием, которое должно было быть вызывающим: «Почему я не интеллигент». В. П. Григорьев, лингвист, сказал по этому поводу: «А вот написать „Почему я не интеллигентен“ у него не хватило смелости».
Проверим содержание этих понятий по мелькнувшим перед нами синонимам: «просвещенность, образованность, воспитанность, культурность». Какие из них более положительно и менее положительно окрашены? «Воспитанность» – это то, что впитано человеком с младенческого возраста, «с молоком матери», оно усвоено внутрь прочнее и глубже всего, однако по содержанию оно наиболее просто, наиболее доступно малому ребенку: «не сморкаться в руку» заведомо входит в понятие «воспитанность», а «знать, что дважды два четыре» – заведомо не входит. «Образованность» относится к человеку уже сформировавшемуся, форма его совершенствуется, корректируется внешней обработкой, приобретает требуемый образ («ображать камень», «выделывать вещь из сырья», – пишет Даль) – образ подчас довольно сложный, но всегда благоприобретенный трудом. «Просвещенность» – тоже не врожденное, а благоприобретенное качество, свет, пришедший со стороны, просквозивший и преобразовавший существо человека; здесь речь идет не о внешних, а о внутренних проявлениях образа человека, поэтому слово «просвещенный» ощущается как более возвышенное, духовное, чем «образованный». (Слово «просвещенцы» звучит менее обидно, чем «образованцы».) Наконец, «культурность», слово самое широкое, явным образом покрывает все три предыдущие и лишь в зависимости от контекста усиливает то или другое из их значений. Самым молодым и активным в этой группе слов является «культурность», самым старым и постепенно выходящим из употребления – «просвещенность»; уже Даль сводит его к образованности: «просвещенный человек – современный образованьем, книжный». Понятие о просвещенности как свойстве более внутреннем, чем образованность, и более высоком, чем простая воспитанность, исчезает из языка. Освободившуюся нишу и занимает новое значение слова «интеллигентность»: человек интеллигентный несет в себе больше хороших качеств, чем только воспитанный, и несет их глубже, чем только образованный.
Таким образом, понятие «интеллигенции» в русском языке, в русском сознании любопытным образом эволюционирует: сперва это «служба ума», потом «служба совести» и, наконец, если можно так сказать, «служба воспитанности». Это может показаться вырождением, но это не так. Службу воспитанности тоже не нужно недооценивать: у нее благородные предки. Для того, что мы называем «интеллигентностью», «культурностью», в древности синонимом была humanitas, причем определялась эта humanitas на первый взгляд наивно, а по сути очень глубоко: во-первых, это разум, а во-вторых, умение держать себя в обществе. Особенность человека – разумность в отношении к природе и humanitas в отношении к обществу, т. е. осознанная готовность заботиться не только о себе, но и о других. На такой humanitas держится все общество. Не случайно потом на основе этого – в конечном счете бытового – понятия развилось такое возвышенное понятие, как гуманизм. И, заметим, именно эта черта общительности все больше выступает на первый план в развитии русского понятия «интеллигенция, интеллигентный». «Интеллигенция» в первоначальном, этимологическом смысле слова, как «служба ума», была обращена ко всему миру, живому и неживому, – ко всему, что могло в нем потребовать вмешательства разума. «Интеллигенция» в теперешнем, заключительном смысле слова, как интеллигентность, «служба воспитанности», «служба общительности», проявляется только в отношениях между людьми, причем между людьми, сознающими себя равными, «ближними», говоря по-старинному. Когда я говорю: «Мой начальник – человек интеллигентный», это понимается однозначно: мой начальник умеет видеть во мне не только подчиненного, но и такого же человека, как он сам.
А «интеллигенция» в промежуточном смысле слова, «служба совести»? Она проявляет себя не в отношениях с природой и не в отношениях с равными, а в отношениях с высшими и низшими – с «властью» и «народом». Причем оба эти понятия – и власть, и народ – достаточно расплывчаты и неопределенны. Именно в этом смысле интеллигенция является специфическим явлением русской жизни второй половины XIX – начала XX века – настолько специфическим, что западные языки не имеют для него названия и в случае нужды транслитерируют русское: intelligentsia. Для интеллигенции как службы ума там есть устоявшиеся слова: intellectuals, les intellectuels. Для интеллигентности как уважительности в общении там существуют синонимы столь многочисленные, что они даже не стали терминами. Для «службы совести» – нет. Более того, когда европейские «les intellectuels» вошли недавно в русский язык как «интеллектуалы», то слово это сразу приобрело отчетливо отрицательный оттенок «рафинированный интеллектуал» (словосочетание из Малого академического словаря), «высоколобые интеллектуалы». Почему? Потому что в этом значении есть только ум и нет совести, западный «интеллектуал» – это специалист умственного труда и только, а русский «интеллигент» традиционного образца – нечто большее. И наоборот, когда западные историки (привыкшие, что их les intellectuels исправно служат обществу и государству, каждый в своей области) стараются понять, в чем особенность русской intelligentsia, то они определяют ее приблизительно так: «это – слой общества, воспитанный в расчете на участие в управлении обществом, но за отсутствием вакансий оставшийся со своим образованием не у дел». Отсюда его русская оппозиционность: когда тебе не дают места, на которое ты рассчитывал, ты, естественно, начинаешь дуться.
В чем те особенности русской действительности, которые породили это явление, удивляющее иностранцев? Как всегда, в том, что России за три века пришлось пройти ускоренный курс европейского развития. Все мы помним блестящую картинку Ключевского, как в русском обществе XVIII века при дворе сменялись навигацкие ученики, вертопрахи, вольтерьянцы и то ли масоны, то ли служаки, причем каждое очередное воспитание сходило со сцены, не успев быть востребованным. Западная государственная машина, двухпартийный парламент с узаконенной оппозицией, дошла до России только в 1905 году. До этого всякое участие образованного слоя общества в общественной жизни обречено было быть не интеллектуальским, практическим, а интеллигентским, критическим, взглядом из‐за ограды. А такой взгляд – ситуация развращающая: критическое отношение к действительности грозит стать самоцелью. Анекдот о гимназисте, который по привычке смотрит столь же критически на карту звездного неба и возвращает ее с поправками, – естественное порождение русских исторических условий. Парламентская государственная машина на Западе удобна тем, что роль оппозиции поочередно примеряет на себя каждая партия. В России, где монопольная власть до последнего момента не желала идти ни на какие уступки, оппозиционность поневоле стала постоянной ролью одного и того же общественного слоя – чем-то вроде искусства для искусства. Даже если открывалась возможность сотрудничества с властью, то казалось, что практической пользы в этом меньше, чем идейного греха – поступательства своими принципами. При чем, однако, здесь совесть? Вот при чем. Русская интеллигенция ведет свою историю с 1860‐х годов. Просвещение распространялось в России и раньше – как всюду, сверху вниз, от узкого образованного слоя к народу. Разносчиками этого просвещения были сперва духовенство, потом дворянство, но они занимались этим между делом, между службой богу или государю. Понятие интеллигенции появляется с буржуазной эпохой – с приходом в культуру разночинцев, т. е. выходцев из тех сословий, которые им самим и предстоит просвещать. Психологические корни «долга интеллигенции перед народом» именно здесь: если Чехов, сын таганрогского лавочника, смог окончить гимназию и университет, он чувствует себя обязанным постараться, чтобы следующее поколение лавочниковых сыновей могло быстрее и легче почувствовать себя полноценными людьми, нежели он. Если и они будут вести себя как он, то постепенно просвещение и чувство человеческого достоинства распространятся на весь народ – по трезвой чеховской прикидке, лет через двести. Оппозиция здесь ни при чем, и Чехов спокойно сотрудничает в «Новом времени». А если чеховские двухсотлетние сроки оказались нереальны, то это потому, что Россия, нагоняя Запад, должна была спешить прыжками через ступеньку, на каждом прыжке рискуя сорваться в революцию.
Но у «долга интеллигенции перед народом» есть обратная сторона – ненависть интеллигенции к мещанству. Говоря по-современному, цель жизни и цель всякой морали в том, чтобы каждый человек выжил как существо и все человечество выжило как вид. Интеллигенция ощущает себя теми, кто профессионально заботится, чтобы человечество выжило как вид. Противопоставляет она себя всем остальным людям – тем, кто заботится о том, чтобы выжить самому. Этих последних в XIX веке обычно называли «мещане» и относились к ним с высочайшим презрением, особенно поэты. Такое отношение несправедливо: собственно, именно эти мещане являются теми людьми, заботу о благе которых берет на себя интеллигенция. Профессиональный эгоцентризм – черта всеобщая: пожарники тоже делят мир на себя, спасающих человечество от огня, и всех прочих, которые без них давно бы сгорели. Но пожарники стесняются выражать свои чувства публично, потому что знают: их осмеют; а презрение интеллигенции к мещанству, унаследованное от романтических героев, кажется естественным и простительным. Когда в басне Менения Агриппы живот, руки и ноги относятся с презрением к голове, это высмеивается; когда голова относится с презрением к животу, рукам и ногам, это тоже достойно осмеяния, однако об этом (характерным образом) еще никто не написал басню. Так рождается опасное самоумиление. На русской почве, где общеевропейские культурные явления так часто перекашиваются в не лучшую сторону, оно особенно опасно и смешно.
Есть надежда, что очередная ступенька в беге России за Западом преодолена, что кончается эпоха русской оппозиционной поневоле интеллигенции образца XIX века, которая одна работала и за искусство, и за философию, и за политику – и тем гордилась. Русское общество медленно и с трудом, но все же демократизируется. Отношения к вышестоящим и нижестоящим, к власти и народу отступают на второй план перед отношениями к равным. Не нужно бороться за правду, достаточно говорить правду. Не нужно убеждать хорошо работать, а нужно показывать пример хорошей работы на своем месте. Это уже не интеллигентское, это интеллектуальное поведение. Мы видели, как в языке критерий классической эпохи – совесть – уступает место двум другим, старому и новому: с одной стороны, это просвещенность, с другой стороны, это интеллигентность как умение чувствовать в ближнем равного и относиться к нему с уважением. Однако всему этому противостоит полуторастолетняя привычка интеллигенции ощущать свое место в обществе привилегированным: она – хранитель духовных идеалов и профессионально оппозиционна всему несовершенству их земных воплощений. Интеллигенция борется за человеческое равенство, но себя в этой борьбе ощущает «более равной, чем другие» и смотрит на других свысока.
Больше того, изнаночная сторона интеллигентской идеологии, ненависть к мещанству, становится более заметной, чем лицевая – чувство долга перед народом. Впервые это было высказано в сборнике «Вехи», а при советской власти у остатков старой интеллигенции это отношение только усилилось. В самом деле, что такое для нее народ? Тупая масса, по темноте своей поддерживающая советскую власть, которая ее же и угнетает. Прежний интеллигент-разночинец гордился тем, что вышел из мещанства или мелкого духовенства; интеллигент советского времени, наоборот, гордится, если он «потомственный интеллигент», как будто интеллигенция – эта каста.
Это самоощущение прорывается и в научных статьях (С. Волков – в нашем альманахе58), и в публицистических (А. Тарасов – в журнале «Свободная мысль» № 7, 1999). Ключевое понятие в первой из них – «элита», во второй – «творческая гениальность». Первая, говоря об интеллигенции, забывает о ее традиционной оппозиционности, сливает ее с «руководящим» сословием (и для смягчения этой неожиданной картины говорит не об «интеллигенции», а об «интеллектуальном слое» общества, как будто он един). Вторая, наоборот, абсолютизирует эту оппозиционность, делает из нее единственный признак интеллигенции, а все, что не отвечает ему, клеймит как мещанство («филистерство», это еще обиднее). Но у обеих в щель между этими двумя крайностями проваливается «долг интеллигенции перед народом» – то, что было службой ее совести. Этот долг – просвещение народа; но у С. Волкова речь идет не о просвещении, а об отвратительном псевдопросвещении, осуществляемом даже не интеллигенцией, а лично государством; у А. Тарасова же с первых строк просветитель отождествляется с освободителем (в романтическом понятии «гения»), и далее речь идет уже только об освободительстве.
Долг исчезает – остается самоутверждение и самоумиление. Слово «элита» – термин зоотехнический, «хороший производитель»; в словаре Ушакова это значение было еще главным, и при нем лишь с пометой «книжн., редко» шло значение «избранное общество». Сейчас слово «элита, элитарный» в переносном значении стало расхожим, но для С. Волкова сохраняет зерно своего биологического смысла: его идеал – интеллигенция как самовоспроизводящееся сословие потомственных интеллектуалов, почти как каста, как титулованное дворянство. В других странах и дореволюционной России образованный слой складывался «естественно-историческим путем» (как в животноводстве), а в СССР искусственно, «причем в огромной степени из негодного к тому материала». (Попробуйте представить эти слова под пером Чехова.) И этот образованный слой был един с властью, противопоставления «чиновник – интеллигент» до революции будто бы не было, оно явилось только при советской власти.
Главное – отдельность, «ореол избранности», чтобы верхние 2–3% общества резко отличались от остальных. Когда-то этот рубеж проводила простая грамотность. Интеллигенция времен «службы совести» старалась о распространении просвещения, чтобы стереть этот рубеж. С. Волков, наоборот, с отвращением говорит о советской «полуграмотности», потому что она грозит растворить в себе элиту. А когда к концу советского времени явно складывается новая потомственная интеллигенция, третье поколение от первых рабфаковцев, и ее верхние «2–3%» так же сливаются с самовоспроизводящейся властной номенклатурой, как и до революции, он явно не знает, как к этому относиться: с одной стороны, «ореол избранности» у выпускников МГИМО налицо, с другой стороны, он их как-то ничуть не красит. Между тем история показывает: всякое «самовоспроизводящееся» сословие нуждается в обновлении новыми силами из низов, иначе наступает деградация. В средние века это требовалось реже, в новое время – чаще, а в России, как всегда, сверхускоренно. Когда Петр I натаскивал дворянских юнцов в навигацких науках, гуманитарного вежества у них оказывалось не больше, чем у рабфаковцев нашего века; но проходило одно-два поколения, и оно появлялось. Для С. Волкова советский «инженер» – герой анекдотов; а я помню, как старый филолог-античник М. Е. Грабарь-Пассек (1893 год рождения, безукоризненно дворянское происхождение, учила когда-то на рабфаках отцов этих инженеров) говорила: «Мы работаем для детей вот этих нынешних инженеров». Кто слишком заботится о пьедестале для себя и своего круга, тот вряд ли заслуживает этого пьедестала, – и наоборот.
Если для С. Волкова интеллектуальная элита – это отгороженные 2–3% общества, то для А. Тарасова еще меньше – наверное, десятые доли процента. Для него «настоящий интеллигент» – «это творец, творческая личность, гений, человек, занимающийся поиском истины, познанием и освоением мира», просветитель и освободитель. Он создает шедевры, взгляд на которые просвещает и освобождает от оков привычного уклада, «Системы». А в 1990‐х интеллигенция «не захотела творить, не захотела создавать шедевры», производит безопасную массовую культуру и заслуживает лишь презрения и обличения. Собственно говоря, шедевры становятся достоянием просвещаемых масс только путем тиражирования в массовой культуре, так что роль ее скорее заслуживает уважения, – но романтическая привычка творить для людей и презирать этих самых людей слишком сильна в авторе. Особенно это видно, когда он перечисляет галерею образцовых гениев исключительно по признаку гонимости: видит бог, Рылеев, Рэли и Хара дали человечеству меньше шедевров духа, чем благополучные Леонардо, Ньютон и Гете. Вспоминать о «службе совести» здесь становится даже неловко: когда является сверхчеловек, мораль должна умолкнуть. Но укладывается ли этот образ в ту историю понятия интеллигенции и интеллигентности, которая обнаруживается из русского языка?
(Что такое совесть и что такое честь? И то, и другое определяет выбор поступка, но честь – с мыслью «что подумали бы обо мне отцы», совесть – с мыслью «что подумали бы обо мне дети». Здесь, в удививших нас статьях, нет мысли ни о прошлом, ни о будущем, только о настоящем: «что думают обо мне современники, так ли они уважают меня, как мне того хочется?»)
В авральном режиме развития русской культуры за последние триста лет интеллигенции приходилось работать за троих: за науку и искусство, и за философию, и за публицистику. Теперь, кажется, наступает разделение труда, и можно было бы радоваться, что писатель, художник и философ могут заняться своей основной работой, а не отвлекаться на «функции руководства» (выражение С. Волкова). Но радости не чувствуется. Это заставляет с грустью вспомнить уже поминавшееся нелицеприятное (потому что стороннее) определение иностранцами русской интеллиджентсии: «слой общества, воспитанный в расчете на участие в управлении обществом, но за отсутствием вакансий оставшийся со своим образованием не у дел».
И в заключение еще раз об укоренившемся мнении, что русскую интеллигенцию отличают два признака, независимые друг от друга, но скрестившиеся: во-первых, это носительница и хранительница духовных ценностей, во-вторых – оппозиция, противостоящая как власти, так и народу. По первому признаку она тождественна западным интеллектуалам, по второму – противоположна им. Прежде всего, русская интеллигенция – носительница духовных ценностей. Но так как власть для управления нуждается не только в полицейском, но и в духовном насилии над массами (проповедь, школа, печать), то она с готовностью пользуется пригодными для этого духовными ценностями из арсенала интеллигенции. «Ценность» – не абсолютная величина, это всегда ценность «для кого-то», в том числе и для власти. Разумеется, не всякая ценность, а с выбором.
В зависимости от того, насколько духовный арсенал интеллигенции отвечает этому выбору, интеллигенция оказывается неоднородна, многослойна, нуждается в уточнении словоупотребления. Можем ли мы назвать интеллигентом Льва Толстого? Чехова? Бердяева? гимназического учителя? инженера? сочинителя бульварных романов? С точки зрения «интеллигенция – носительница духовных ценностей» – безусловно: даже автор «Битвы русских с кабардинцами» делает свое культурное дело, приохочивая полуграмотных к чтению. А с точки зрения «интеллигенция – носитель оппозиционности»? Сразу ясно, что далеко не все работники умственного труда были носителями оппозиционности: вычисляя, кто из них имеет право на звание интеллигенции, нам, видимо, пришлось бы сортировать их, вполне по-советски, на «консервативных», обслуживающих власть, и «прогрессивных», подрывающих ее в меру сил. Интересно, где окажется Чехов?
«Свет и свобода прежде всего», – формулировал Некрасов народное благо; «свет и свобода» были программой первых народников. Видимо, эту формулу приходится расчленить: свет обществу могут нести одни, свободу – другие, а скрещение и сращение этих задач – действительно специфика русской социально-культурной ситуации, порожденной ускоренным развитием русского общества в последние триста лет.
При этом заметим: «свет» – он всегда привносится со стороны. Пограничной специфики России в этом нет. Да, все три раза «свет» вносился к нам болезненно, с кровью: и при Владимире, когда «Путята крестил мечом, а Добрыня огнем», и при Петре, и при Ленине. «Внедрять просвещение с умеренностью, по возможности избегая кровопролития» – эта мрачная щедринская шутка действительно специфична именно для России. Но – пусть менее кроваво – культура привносилась со стороны и привносилась именно сверху не только в России, но и везде. Как именно в России просвещение проникало сверху вниз, это уже было делом тактики кнута или пряника: Петр I загонял недорослей в навигацкие школы силой и штрафами, а Александр II загонял мужиков в церковно-приходские школы, суля грамотным укороченный срок солдатской службы.
Главное – что просвещение всегда движется сверху вниз, всякое общество расслоено, двухкультурно. Культура низов обеспечивает его стабильность, прочность, замкнутость; культура верхов – динамичность, устремление к заданному извне идеалу, интернациональность.
…На V Лотмановских чтениях С. И. Гиндин заметил: сказать о себе «я – интеллигент» – это все равно что сказать «я – хороший человек». И это еще раз подтверждает, что в понятии «интеллигенция» сменилось три значения: «люди с умом» (этимологически), «люди с совестью» (их-то мы обычно и подразумеваем в дискуссиях) и «просто хорошие люди». Это не так уж мало: «интеллигентность» («культурность») сейчас – это то, что двести лет назад называлось светскостью, восемьсот лет назад – куртуазностью, а две с лишним тысячи лет назад – humanitas.
ЯКОБСОН, СЛАВИСТИКА И ЕВРАЗИЙСТВО59
ДВЕ КОНЪЮНКТУРЫ, 1929–1953
Речь пойдет о статье Р. Якобсона «Über die heutigen Voraussetzungen der russischen Slavistik» (1929), которую автор не вспоминал и не перепечатывал60. Ее републиковал Э. Холенштейн в сборнике: Jakobson R. Semiotik: Ausgewahlte Texte 1919–1982. Stuttgart, 1984 – с кратким, но очень содержательным предисловием.
Напомним ее содержание. Статья программная: для 1‐го тома «Slavische Rundschau», журнала, в котором славянская наука и культура должны были говорить с Западом от собственного лица. В ней пять пунктов, не совсем ожиданных:
1. Традиционная русистика, Russlandskunde, была хорошей комплексной наукой, объединявшей географию, этнографию, язык, историю, литературоведение и искусствоведение. Такой она остается и после революции, «понимая Россию как структурное целое» и со вниманием к ее невеликорусским окраинам («евразийскому культурному кругу»).
2. Этот подход – наследие русской научной традиции, которой свойственны антипозитивизм, антикаузальность, телеологизм и структурализм (первое употребление этого термина у Якобсона): от Данилевского, Достоевского, Леонтьева, Н. Федорова и В. Соловьева до марксизма (он ведь тоже антипозитивистичен) и формализма (он ведь тоже антикаузален: литература не выводится из жизни, а лишь коррелирует с ней).
3. Но в русской славистике этих хороших тенденций нет: советская власть ее не ценит, подозревая за ней царский официозный славизм61. А как полезно было бы изучение Польши и особенно Чехословакии, где так любят русскую культуру! Нужно думать о «планомерно организованном культурном экспорте», «изучать рынок культурного сбыта», как романо-германцы, экспортировавшие свои языки во весь мир.
4. Главное же: славистика должна перейти от исторического подхода к функциональному, структурному. Славянская общность – не наследие прошлого, а rein willensmassige Zwecksbegriff; внимания требуют не «славянские древности», а современность. Исследовать нужно конвергентные процессы в славянских культурах, а родство языков – только стимул к этим процессам. Отбросим традиции «романо-германской науки», и мы даже в старом увидим много нового.
5. Это общая задача эмигрантской и советской славистики: противоположность «структурализм – генетизм» важнее, чем «марксизм – немарксизм». Не только литература, но и наука невыводима из общественного строя: так, революция в химии совершалась параллельно французской революции, но настолько независимо от нее, что Лавуазье попал на эшафот.
Статья интересна тем, что в ней сошлись тенденции идеологические, научные и политические.
Научные тенденции были, конечно, для Якобсона главными. Нужно было воспользоваться новым журналом, чтобы донести до западного читателя идеи рождающегося структурализма. Для непривычной Европы Якобсон объясняет ради простоты, что это, во-первых, синхронизм в противоположность историзму, во-вторых, телеологическое целостничество в противоположность позитивистической дробности, а в-третьих, славянская научность в противоположность романо-германской. Здесь начинаются нарастающие передержки: 1) Синкретизм недодифференцировавшейся русской фольклористики, т. е. энциклопедическая этнография Зеленина, вчерашний день, выдается за образец синтетизма, который объединит передифференцировавшуюся западную фольклористику, т. е. завтрашний день. (Так Герцен и народники выдавали старую русскую общину за идеал европейского социализма.) 2) Вместо функционализма говорится о телеологизме, а это позволяет зачислять в предшественники структурализма и Достоевского, и Н. Федорова. В чем разница? Телеологизм – образ опять-таки из прошлого, из хорошо разработанной традиции объяснять все на свете неисповедимым божьим промыслом. Функционализм же – образ из настоящего: само понятие структуры было подсказано культуре современным крупным капиталистическим производством: техническая метафорика ХX века сменила органическую метафорику XIX века62. Якобсон пришел в лингвистику из авангардной поэтики: Эйхенбауму было интересно знать, как сделана «Шинель», а Якобсону – как сделан язык. Достоевский ужаснулся бы такому вопросу. 3) Общеславянский же дух новой науки можно было обосновывать только тем, что поэтологический формализм развился в Петрограде, а лингвистический структурализм развился в Праге, причем признанность опоязовского и пражского направления тоже приходилось сильно преувеличивать. Выпад же против «романо-германской науки», погруженной в «славянские древности», был явно направлен не против романца или германца, а против З. Неедлы.
Научная тема в статье Якобсона была адресована Западу; политическая же тема, весьма неожиданная, – советской России, в предположении, что в Наркоминделе тоже будут читать «Slavische Rundschau». Чтобы объявить Достоевского и Федорова предтечами структурализма, нужна была демагогическая смелость, этого у Якобсона хватало. Но политика не была его талантом; и когда он побуждает советскую власть укреплять свои международные позиции в Восточной Европе (а не в Китае, например), то забывает универсальное правило: дружить не с соседом, а через соседа. А именно в силу этого правила чехи и поляки оказывались союзниками не России, а Франции, российским же союзником оказывалась Германия. Что и подтвердилось печально через десять лет.
Наконец, идеологическая сторона статьи – это симпатии к евразийству: протест против «романо-германской науки», упоминание «евразийского культурного круга», где культурное единство подкрепляется даже языковым симбиозом (это будет темой статьи следующего, 1930 года, «К характеристике евразийского языкового союза»). В статье по славистике это было совсем не обязательно. Но статья была сперва заказана Трубецкому, и Якобсон почел долгом коснуться этой темы и сделать деликатные поправки к евразийской концепции Трубецкого63. А именно, Трубецкой опускал железный занавес между Евразией и Западом по конфессиональной границе между Россией и Польшей, отрицая культурное единство славянства; Якобсон же как бы заступался за славянство и втаскивал его в антизападный мир целиком. Неприязнь к Западу у Трубецкого и Якобсона была общей, но первому он был неприятен как причина революции, а второму как помеха революции, и обоим как не приемлющая их, эмигрантов, среда. За первым стоял аристократический православный национализм, за вторым – революционный, авангардистский и еврейский космополитизм; для первого Восток – его главная неиндоевропейская научная специальность, для второго – разве что скифский резерв мировой революции; для первого отмежевание от католичества важней, чем от ислама (оттенки важнее цветов), для второго конфессии безразличны.
Хочется сказать, что за статьей Якобсона стоит печальная тень Трубецкого. То, что для Трубецкого было трагедией, для Якобсона стало тактикой и стратегией. Трубецкой был романтический рационалист во имя Господне (как романтик, он любил одновременно православного бога и экзотичного Чингисхана и мучился от непримиримости этих идеалов), он пришел к лингвистике от этнософии – из желания понять культуру; а Якобсон пришел к лингвистике от футуризма, от желания творить культуру. На лингвистическом рационализме они сошлись и создали самую стройную и трезвую научную концепцию ХX века. Но для Трубецкого язык оставался средством самовыражения культуры, а для Якобсона – средством взаимообщения культур64. И стоило идее евразийского союза попасть от Трубецкого к Якобсону, как основой его стала не степная простота нравов, а палатализация согласных, а движущей силой не провиденциальная конвергенция, а реальное влияние более престижных языков на менее престижные. Якобсон как бы невольно обнажал то, что Трубецкой и другие старались от себя скрыть, – что евразийские идеи есть порождение российской колониальной экспансии, после Цусимы и Мукдена обернувшейся вместо Тихого океана на Монголию и Иран65.
Якобсон старался не вспоминать об этой статье как о конъюнктурной и пропагандистски-упрощенческой. Однако она, забытая, неожиданно перекликается с одной из самых знаменитых статей Якобсона начала 1950‐х годов. В статье 1929‐го он писал: «Сущность (das Kern) не в patrimonium commune, не в общем фонде праславянского наследия, а в степени конвергентного развития». А статью 1953 года он называет «Сущность (The Kernel) сравнительного славянского литературоведения» и говорит в ней именно о patrimonium commune праславянского наследия и не о конвергенции, а о дивергенции путей его наследников. В ней, как мы помним, последовательно рассматриваются три общих наследия – в области языка, народного стиха и церковнославянской письменности – и варианты их освоения в разных языках и разных культурных ситуациях. При этом отношение Якобсона к разным славянским культурам здесь явно не одинаково. Окончательно он проясняет это в смежной статье 1954 года «Славизм как предмет сравнительного изучения», напечатанной (это важно) в «The Review of Politics» (vol. 16): о четвертом наследии, в области идеологии «славизма», славянского единства. Здесь он напоминает: этот славизм начался с моравской миссии Кирилла и Мефодия, которую благословил римский папа Адриан II; потом его центром стала Чехия XIII–XV веков, сперва католическая, затем антикатолическая; потом Польша XVI века, тоже с мощной религиозной окраской; лишь потом через Украину он с трудом проникает в Россию; и лишь в XIX веке, утратив опору на традиционную веру, раздвоившись на мирское государственничество и мистический мессианизм, он становится официозной российской идеологией. В ходе дивергенции общеславянской культуры Россия оказывается, так сказать, предельным дивергентом.
Таким образом, в новой своей концепции славистики Якобсон подчеркивает, во-первых, не синхронизм и конвергентность, а, наоборот, историзм, восходящий до Кирилла и Мефодия и дальше; во-вторых, роль не столько России, сколько западного славянства66; и, в-третьих, религиозный дух, оплодотворяющий славянское единство: не только communication, но и communion. Все это диаметрально противоположно тем задачам, которые он ставил перед славистикой в 1929 году.
Этот поворот фронта – следствие новой культурно-политической ситуации, в которой приходится работать Якобсону. Цель его прежняя: утвердить на Западе науку славистику нового, структуралистического типа. Но Запад 1929 года – это европейская интеллигенция, преимущественно левая, полная внимания к России, как к ее духоносности, так и к революционному эксперименту: для этих читателей он и выражает уважение одновременно к Достоевскому и к советской власти. А Запад 1950 года – это американский университетский истеблишмент, консервативный, аполитичный, в самый разгар холодной войны против России67.
В этой обстановке Якобсон борется за выделение кафедр славистики из расплывчатой науки компаративистики. В этой борьбе он должен показать, что 1) эти кафедры не станут агентурой сталинской России, а, наоборот, будут идеологически отбивать у сталинской России западное славянство; 2) славистика эта при всем своем структурализме соблюдает академические добродетели XIX века – историзм и уважение к фактам; 3) наука эта никоим образом не покушается на такие традиционные ценности, как западоцентризм (простите за неуклюжее слово) и христианская религия. Отсюда его новая тактика и стратегия, совсем не похожая на прежнюю. Мы знаем, что она увенчалась успехом: Гарвардская кафедра стала на долгое время центром структуралистической славистики. «The Kernel…» 195З года был опубликован в первом, программном томе «Harvard Slavic Studies», а страховочный «Slavism as a Topic…», как сказано, в «The Review of Politics». Мы в России очень хорошо можем понять эти приемы Якобсона. Если ему приходилось бороться в Америке за славистику, стилизуя ее под идеологическое оружие, то у нас в те же годы, наоборот, романо-германистика должна была маскироваться под борьбу с идеологией и культурой буржуазного Запада – только, к сожалению, с гораздо худшими саморазрушительными последствиями.
Чтобы в заключение вернуться к началу – к евразийству Трубецкого и славистике Якобсона, – скажем, что и здесь зигзаги идейных конъюнктур были печальным отражением зигзагов политических конъюнктур. Сталин к 1929 году с безукоризненной точностью реализовал евразийскую программу Трубецкого в виде СССР; и Сталин к 1949 году точно так же реализовал славистические поправки к ней Якобсона в виде системы стран народной демократии. И обе эти реализации очень сильно компрометировали исходные идеи. Оттого-то Трубецкой ушел от евразийства, а Якобсон стал перестраивать свой славизм под совсем другим углом. Можно добавить, что Сталин даже перехватил у Якобсона (не знаю, с чьей помощью) идею языкового союза: мы помним, что в «Марксизме и вопросах языкознания» шла речь о том, что нынешние языки будут сливаться в зональные, а те потом во всемирный68. Вряд ли именно поэтому, однако мы знаем, что Якобсон в американские годы к проблематике языковых союзов предпочитал не возвращаться.
О «РОЖДЕНИИ ТРАГЕДИИ» НИЦШЕ В ИЗДАНИИ «AD MARGINEM» 69
Издание, конечно, изумительное и по составу, и по любовной тщательности перевода, и по заботливости аппарата. Было бы замечательно, если бы такие выборочные сопоставления нового перевода с оригиналом и старыми переводами, какие А. А. Россиус дает на с. 415–431, стали обязательной частью всякого научного издания, – но боюсь, что именно этот почин очень долго не будет подхвачен: не для всякого переводчика это выгодно. Неожиданно резкий художественный эффект произвела подборка сопровождающих статей Виламовица и Роде: этот филологический маньеризм с греческими сентенциями в придаточных предложениях (чем неведомей, тем лучше) по-немецки выглядел привычно, а на неподготовленном русском языке зазвучал почти непристойно.
Хорошо, когда торжествующий иррационализм вспоминает о таких своих предках, как Ницше, – это не всегда ему свойственно. Ницше – автор, которого, кажется, всегда предпочитали не изучать, а или утверждать, или ниспровергать. Недавний двухтомник К. А. Свасьяна, тоже подготовленный с замечательной любовью, даже в примечаниях славил Ницше с таким накалом, с каким двадцать лет назад у нас славили Маркса и Энгельса. Я по своему душевному складу чувствую себя унтерменшем, к духу музыки намертво глух и могу читать Ницше только как утомительно-патетический смертный приговор себе. Поэтому судить о нем объективно я неспособен. Прочитав Слотердайка и Гройса, я лучше понял, почему я не люблю модный иррационализм: потому что рационализм объединяет, а иррационализм обманывает иллюзией взаимочувствия, а потом убивает – хотя бы таких, как я. Теперь я знаю, что есть по крайней мере один автор, который мне еще неприятнее, чем Ницше: это Слотердайк.
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ О СТИХЕ
ЦЕЛЬ И ПУТЬ СОВЕТСКОГО СТИХОВЕДЕНИЯ 70
Пожалуй, из всех отраслей советского литературоведения меньше всего разрабатывается наука о стихосложении. Ее судьба сложилась несчастливо. Сначала изучение стиха было монополией формалистов, потом, после краха формального метода, стиховедение осталось выморочным уделом и вскоре было почти вовсе заброшено. Работы стиховедов-специалистов перестали появляться, а высказывания стиховедов-дилетантов (например, из числа изучающих Маяковского) чаще всего не имели научной ценности. Ненормальность такого положения становится все очевиднее.
Поэтому можно только радоваться появлению книги Л. Тимофеева «Очерки теории и истории русского стиха». Хотелось бы, чтобы эта работа отметила собой перелом в развитии советского стиховедения. Она достойна такой роли.
Книга подводит итог более чем тридцатилетним разысканиям автора в области русского стихосложения. Материал ранних работ Л. Тимофеева о силлабике и басенном стихе вошел во вторую часть «Очерков», его «Теория стиха» (1939) в переработанном виде составила их первую часть. Написаны «Очерки» обстоятельно и общедоступно.
Стих, по Л. Тимофееву, представляет собой неразрывное единство многообразных художественных средств: интонационных, ритмических, аллитерационных. Все элементы стиха существуют в самом языке («в стихе нет ничего, кроме того, что есть в языке самой жизни»). Однако в стихе они выделены, подчеркнуты, усилены («типизированы», по не совсем удачному выражению автора). Это выделение происходит благодаря эмоционально-экспрессивной интонации, которая лежит в основе всякого стиха. Действительно, особенности всякого стиха являются особенностями экспрессивной речи в целом (общий замедленный темп речи, повторения, обилие пауз, выделенность и эмоциональная насыщенность слова). Таким образом, ритм не является главным стихообразующим элементом, как это обычно считается. Только соединение ритма и эмоциональной интонации дает стих. Поэтому в стихе нужно различать ритмические единицы (строки) и интонационные единицы (по-видимому, нечто вроде прозаических колонов). Например, двустишие Фета «Никто мне не скажет: Куда ты // Поехал? куда загадал?» состоит из двух ритмических и трех интонационных единиц. Бесконечным разнообразием соотношений интонации и ритма определяется индивидуальный облик каждого стиха. Однако значение интонации в стихе этим не ограничивается. Именно наличие эмоциональной интонации позволяет определить место стиха в системе литературы. Задача литературы – изображение действительности через человеческие характеры. В эпосе характер представлен объективно, в действии, через сюжет; в лирике характер раскрыт субъективно, в переживании, через язык. Передача «типизированных эмоций» требует обращения к «типизированной эмоциональной речи», то есть к стиху. Таким образом, стихотворная форма характерна для лирики, а прозаическая – для эпоса. Так складывается иерархия элементов, связывающая содержание и форму стихотворного произведения: понимание действительности – характер – переживание – эмоциональная речь – интонация – ритм – звукопись – строфика и проч. Только в том случае, если мы будем исходить из принципа «содержательности формы», мы сможем правильно осмыслить каждый элемент стиха, сможем понять историю стиха как часть истории литературного процесса, наконец, сможем дать эстетическую оценку стиха.
Таково содержание первой, теоретической части «Очерков» Л. Тимофеева. Вторая часть книги показывает историческую связь между содержанием, интонацией и ритмом на материале эволюции русского стиха. На первой стадии своего развития поэзия еще не изображает характеров, а выражает общие, неиндивидуализированные эмоции, – этой стадии соответствует господство музыкально-речевого, напевного стиха. Рост самосознания личности ведет ко все большей индивидуализации эмоций, это проявляется в переходе к чисто речевому стиху. Ритмические формулы древних грамот были зачатком ритма, пафос риторической прозы был источником эмоциональной интонации, из слияния этих двух элементов рождается эмбриональная форма русского стиха – рифмованная проза художественной публицистики XVII века. Далее, господство «религиозно-дидактической» интонации в допетровскую эпоху проявляется в обращении к монотонному силлабическому стиху; новая светская тематика и новая обличительная интонация Кантемира вызывают усложнение стихотворного синтаксиса и постепенный переход от слогового стихосложения к ударному; потребность в одическом пафосе привела к стихотворной реформе Тредиаковского – Ломоносова (Тредиаковский положил начало новой ритмике, Ломоносов – новому стиху в единстве всех его элементов); новый характер обличительной интонации находит выражение в вольном стихе басен XVIII века. Наконец, Пушкин доводит до совершенства выразительность всех форм стиха: лирического, лиро-эпического, драматического. На этом заканчивается книга Л. Тимофеева – дальнейшая эволюция русского стиха будет предметом особых исследований.
Два положения являются исходными и главными в этой стройной концепции. Во-первых, неразрывное единство всех элементов стиха: «Только… если мы будем анализировать стих как выразительное целое, во взаимосвязи всех его элементов, мы сможем подойти к пониманию его выразительного смысла, его художественной мотивированности, его эстетической значимости» (с. 118–119). Во-вторых, неразрывное единство стихотворной формы и содержания стихотворения: «Только осмыслив идейную устремленность поэмы и обусловленный ею характер повествователя, определив интонационные темы… и изучив те выразительные средства, которые этими темами продиктованы, мы сможем понять стих… в его идейной содержательности, в его эстетической значимости» (с. 408). Эти два основные положения определяют и отбор, и разработку проблем стихосложения в «Очерках».
Все элементы стиха неразрывно связаны между собой, поэтому автор отстраняет ритм на второй план и уделяет главное внимание другим, менее изученным формантам стиха; поэтому он анализирует (в основном) не те общие признаки, которые, например, заставляют нас объединять «Графа Нулина» и оды Ломоносова в понятии 4-стопного ямба, а те конкретные частности, из которых складывается индивидуальный облик каждого стиха. Стихотворная форма неразрывно связана с содержанием произведения, поэтому автор стремится доказать, что стихотворная форма порождается самим языком (в котором реализуются мысли и чувства, составляющие содержание стихотворения), и ничем, кроме языка.
В своей общей форме оба эти основные положения бесспорны. Но в той разработке, какую они получают в книге Л. Тимофеева, не со всем можно согласиться.
Действительно, стих может быть правильно понят только в единстве всех своих элементов. Ошибка формалистов была в том, что они пренебрегали этим единством. Однако в борьбе против пороков формализма Л. Тимофеев, несомненно, впадает в известную крайность. Синтез не может существовать без анализа; изучение стиха в его единстве не может обойтись без изучения отдельных элементов стиха в их внутреннем своеобразии. В противном случае «синтетическое» изучение стиха не пойдет дальше отдельных, разрозненных наблюдений. Таких наблюдений (главным образом над стихами Пушкина) много в книге Л. Тимофеева, и они всегда тонки и интересны. Но от единичных примеров не всегда можно подняться к каким бы то ни было обобщениям. На странице 115 автор справедливо утверждает, что стих «Полтавы» – «Его луга необозримы» – звучит на своем месте лучше, чем звучал бы вариант «Луга его необозримы». Это так, но почему это так? На странице 156 автор справедливо утверждает, что всякая «группа слов, образовавшая определенное единство, может стать основой ритма». Это так, но почему, например, в ритме слов «Мой дядя самых честных правил» написана половина всех русских стихов, а в ритме слов «Будем жить и любить, моя подруга» – только немногочисленные переводные стихотворения? В обоих случаях анализ обрывается там, где он должен бы начаться.
Действительно, стих может быть правильно понят только в его связи с содержанием произведения. Но Л. Тимофеев исходит из того, что все без исключения особенности стихотворной формы обусловлены содержанием данного стихотворения и ничем иным. Поэтому он считает возможным отказаться от «последовательно проведенной исторической точки зрения» (с. 11) и ограничиться изучением стиха «в его высших, совершенных формах развития» (с. 13); оговорки не влияют на ход исследования. Это неправомерно. Если бы ямб «Руслана и Людмилы» был изобретен Пушкиным специально для этой поэмы, тогда мы могли бы выводить особенности этого ямба из особенностей содержания поэмы. Но ямб, с которым имел дело Пушкин, сложился задолго до того, на другом материале и с другими установками; многие его особенности были для «Руслана…» безразличны, многие другие были важны именно в силу связанных с ними историко-литературных ассоциаций, – ни в том, ни в другом случае эти особенности не могут быть выведены из содержания поэмы. (Сам автор, анализируя стих «Медного всадника», не может не ссылаться, например, на традицию одической строфики – с. 394.) Мало того, если мы, читая «Руслана…», не будем учитывать эти историко-литературные ассоциации, связанные со стиховой формой, наше представление о содержании поэмы уже будет в какой-то степени неполным и неверным. А это неминуемо скажется на ходе дальнейшего исследования по плану, намеченному Л. Тимофеевым: от идейно-тематического содержания к характеру и т. д., вплоть до звукописи и строфики.
Исходя из своих основных принципов, автор в некоторых частных вопросах также приходит к выводам, которые представляются в значительной мере спорными.
Прежде всего это относится к вопросу о взаимоотношении интонации и ритма в стихе. Здесь, как кажется, Л. Тимофеев вступает в противоречие с самим собой. На странице 40 и дальше он признает ритм и эмоциональную интонацию равноправными элементами, соединение которых рождает стих. Но если эмоциональная интонация стиха в зачаточной форме содержится в самом языке (точнее, в экспрессивной речи), то ритм стиха даже в зачаточной форме не содержится в языке (экспрессивная речь ничуть не ритмичнее всякой иной, и сам Л. Тимофеев это признает, полемизируя с Гюйо на странице 19). Это противоречит исходной предпосылке автора: «В стихе нет ничего, кроме того, что есть в языке самой жизни». Чтобы смягчить это противоречие, он пытается также и ритм вывести из эмоциональной интонации (с. 67 и дальше). Но это не удается: ритм стиха (по крайней мере классического русского стиха, которым оперирует Л. Тимофеев) создается двумя моментами: во-первых, речь должна распадаться на краткие отрезки, выделенные паузами (строки), и, во-вторых, эти отрезки должны быть соизмеримы по тому или иному принципу (равенство слогов, соотношение ударений и т. п.). Первый из этих моментов действительно заложен в особенностях экспрессивной речи (с. 70), но принцип соизмеримости отрезков никак не может быть выведен из какой бы то ни было интонации. Эксперимент, производимый на странице 65, также не доказывает первичности интонации и вторичности ритма; правда, если мы прочтем предлагаемую автором фразу с искусственной эмоциональной интонацией, мы почувствуем в ней ритмичность, но если мы прочтем ее с искусственной ритмичностью, мы почувствуем в ней эмоциональную интонацию. Исторический обзор явлений (вся вторая часть) показывает, что определенные ритмы были связаны с определенными интонациями, но не может показать, что они вытекают из этих интонаций. Непонятно, например, почему «религиозно-дидактическая интонация» XVII века требовала для своей реализации именно силлабики («отрыв от реального языка» (с. 240) – объяснение слишком общее и потому недостаточное), а одический пафос – четырехстопного ямба? В первом случае автор допускает польское влияние (с. 235), во втором необходимо допустить немецкое. Таким образом, опять-таки приходится признать, что ритм стиха не содержится в языке и привносится в стихотворную речь извне (например, из музыки).
Другой пример противоречия между схемой и фактами – это проблема отношения стиха к литературным жанрам. Утверждая, что для лирики характерен стих, а для эпоса – проза, Л. Тимофеев тем самым как бы ставит под сомнение существование стихотворного эпоса, определяемого им как «лиро-эпический жанр». Правда, для русских былин и гомеровских поэм он делает исключение, так как стих этих произведений не ограничивается речевыми средствами, а прибегает к музыкальным (об античном эпосе этого сказать нельзя: соотношения долгот и краткостей существовали здесь в самом языке, а не привносились из музыки), но «Песнь о Нибелунгах», «Потерянный рай», «Шах-наме» решительно причисляются к лиро-эпическому жанру, то есть к жанру, где «изображение характеров и событий дается… через переживания повествующего» (с. 94). Натянутость такого утверждения очевидна для всякого непредубежденного читателя.
Наконец, сомнительным представляется важнейшее требование, которое ставит автор перед стиховедением, именно эстетическая оценка стиха. Критерий такой оценки – соответствие стиха выражаемому характеру (с. 178 и дальше; другие критерии играют подчиненную роль, и на них можно не останавливаться). Действительно, если форма данного произведения обусловлена только его содержанием (а мы видели, что автор думает именно так), то должна существовать какая-то единственная форма, полностью отвечающая этому содержанию (с. 134, 180); степень близости к этому идеалу и определяет эстетические достоинства стиха. Однако такое рассуждение означает не что иное, как разрыв между формой и содержанием. В самом деле, мы не можем подойти к содержанию данного произведения иначе, как через его форму, и если мы допускаем, что форма сочинения может не соответствовать его содержанию, то этим самым мы заранее лишаем себя возможности судить об этом содержании. Даже в самом слабом стихотворении форма и содержание едины; если нам кажется, что в произведениях Бенедиктова стих не соответствует характеру лирического героя (с. 137), это только означает, что наше представление о лирическом герое Бенедиктова было неправильным, слишком упрощенным. Самому автору то и дело приходится отступать от принятого им критерия. Так, он признает, что форма стихов Сумарокова вполне соответствует их содержанию, и в то же время утверждает, что стихи Сумарокова плохи (с. 390). Такое резкое суждение тоже представляется несколько странным. Но это уже результат внеисторического подхода к предмету.
Одно из важнейших достоинств книги Л. Тимофеева – в глубоком понимании задач стиховедения. Изучение элементов стиха в их единстве и самого стиха в его связи с содержанием произведения – действительно, именно такова цель, к которой должна стремиться советская наука о стихе. Но трудно прийти к этой цели, пытаясь сразу сделать последний шаг, не сделав первого. И причиной такого положения является общее состояние современного русского стиховедения.
На первой странице «Очерков» Л. Тимофеев говорит: «Мы располагаем весьма полезными и детальными исследованиями, дающими нам описание характерных для стиха особенностей: ритмики, строфики, рифмы…». Это не совсем так. Для русского стиха мы такими работами не располагаем. Совершенно не изучено строфическое строение стиха, его звуковое строение; существуют ценные обобщающие работы о рифме, но нет простого словаря рифм. Лучше разработаны явления ритма: обилие материала по ямбам и хореям, собранного К. Тарановским, открывает новую страницу в изучении этих размеров, но трехсложники изучены мало, дольники – еще меньше, а достижения советской поэзии до сих пор не привлекли внимания стиховедов.
«В науке о русском стихосложении еще не пройден первый шаг к познанию, заключающийся в регистрации и описании подлежащего изучению материала», – писал Б. Томашевский тридцать лет назад («О стихе». Л., 1929. С. 9). За эти тридцать лет положение изменилось мало. Как и прежде, нужен тщательный анализ как можно более широкого круга поэтических произведений с точки зрения ритмики, фоники, строфики, мелодики и их единства. Работа в этом направлении началась еще в 1920‐х годах, но скоро заглохла; ее необходимо продолжить и развить. Особенно важно, чтобы результаты этой работы публиковались. Тогда стиховедам-специалистам не придется каждый раз заново производить давно сделанные подсчеты, а стиховеды-дилетанты будут лучше обдумывать свои порою слишком фантастические теории.
Это не значит, что теоретические обобщения должны быть отложены до неопределенного будущего. Напротив, каждое новое явление, попадающее в поле зрения исследователя, – а таких явлений будет много, потому что до сих пор стиховедению сплошь и рядом приходилось ограничиваться только фактами, лежавшими на поверхности, – будет новым толчком для научной мысли, новым шагом к раскрытию закономерностей художественной формы. Только это единство анализа и синтеза, единство истории и теории поможет нам решить задачи советского стиховедения.
«СТИХОВЕДЕНИЕ НУЖНО…» 71
У этой книги неудачное заглавие. Она называется «Стихи нужны…». Ей следовало бы называться «Стиховедение нужно…», потому что именно такова мысль автора, объединяющая все составившие эту книгу статьи. Что стихи нужны – это вряд ли кому-нибудь надо доказывать. А вот что стиховедение нужно – это и сейчас кое у кого может вызвать сомнение. Не такое откровенное, конечно, как лет пятнадцать назад, когда «стиховедение» и «формализм» воспринимались почти как синонимы; более сдержанное, но все-таки вызывает…
Впрочем, об этом хорошо сказал сам автор этой книжки: «забытой наукой» назвал как-то стиховедение один из наших теоретиков. Сейчас, пожалуй, уже не назовешь. Но каждый, кого интересуют вопросы переводческой практики, знает, что между выступлениями критиков и «академической стихологией» пока все еще пропасть. Свою долю вины за это, видимо, несут обе стороны. Для некоторых представителей газетно-журнальной критики теоретики – просто схоласты, а для последних рецензент, идущий по следам только что вышедшей книжки, – всего лишь дилетант. Что же касается переводчиков, то они, как кажется, скорее склонны быть внимательными к критическому отзыву, чем к абстрактным рассуждениям о проблеме, рассуждениям, «их прямо не касающимся» (с. 84).
Перекинуть мост через ту пропасть, которая разделяет теоретическое стиховедение и его практическое применение в критике и педагогике, – вот задача этой книги, задача самая своевременная. И автор ее как нельзя лучше подготовлен для выполнения такой задачи. А. Жовтис не только стиховед-теоретик, автор интересных статей в академических журналах. Он и журналист, и критик с большим опытом; он – педагог, преподаватель Казахского университета; он, наконец, – и это очень важно – сам поэт-переводчик, на практике знакомый с языком и стихом не только русским, славянским и западноевропейским, но и с тюркским, отличающимся от них очень сильно; а как много значит такая широта знаний, ясно каждому стиховеду.
В книге девять статей. Только две из них не имеют прямого отношения к стиховедению. Чтобы не возвращаться к ним, назовем их сразу: это «Из тетради прапорщика Пятковского 2-го» и «Романтическая поэма Некрасова». Первая из них интересна двумя публикациями. Во-первых, нового списка ноэля Пушкина «Сказки», списка очень небрежного, но дающего новое интересное чтение строки 26-й: «От радости в постеле распрыгалось дитя» (чтение, к которому могут восходить оба варианта остальных списков: «Расплакалось дитя» и «Запрыгало дитя»); во-вторых, романтической поэмы А. П. Крюкова «Каратай» (1824), отдаленной вариации модной темы пушкинского «Кавказского пленника» на экзотическом казахском материале. (А. Жовтис решительно называет это произведение поэмой, хотя, на наш взгляд, и общий план вещи, и ее хореический метр скорее сближают ее с жанром баллады, в частности с «Ахиллом» Жуковского.) Вторая статья посвящена доказательству тезиса, что «Несчастные» Некрасова – поэма не реалистическая, а романтическая; доказательства автора представляются нам весьма убедительными, хотя, конечно, при нынешней неопределенности понятий «романтический стиль» и «реалистический стиль» трудно думать, чтобы они оказались одинаково приемлемыми для всех.
Остальные семь статей все, прямо или косвенно, посвящены вопросам стиховедения, и преимущественно тем вопросам, которые менее всего разработаны в современной теории. Самая большая (открывающая книгу) – «От чего не свободен свободный стих?» – разбирает законы строения так называемого верлибра, стиха без ритма и рифмы, столь распространенного в современной зарубежной поэзии, а в последние годы постепенно проникающего и в нашу. Вторая (не по порядку, но по важности) – «В боевом порядке…» – говорит о графической форме стиха («лесенка», «столбик», отступы разного рода), воздействие которой на читательское восприятие каждый знает по собственному опыту, но никто еще не пытался проанализировать и систематизировать. Статья «Переживание и строй стиха», одна из лучших в сборнике, касается самого главного и самого трудноуловимого в поэтическом произведении – связи содержания и формы; это разбор небольшого стихотворения В. Казина «Гармонист», в котором исследователь тщательно, стих за стихом показывает, как чутко ритм откликается на малейшие оттенки смысла стиха. Две статьи посвящены вопросам взаимодействия разноязычных систем стихосложения: «Пульс перевода» (о проблеме «перевода размером подлинника») и «И рубай, и редифная рифма» (о двух формах классической поэзии, неожиданно обнаруживающихся у русских поэтов самых последних десятилетий). Наконец, две статьи на историко-литературные темы тоже рассматривают исследуемых поэтов в основном как новаторов стиха; герои этих статей – Александр Одоевский, один из самых смелых экспериментаторов среди русских поэтов-романтиков («В поисках возможного разнообразия» называется статья о нем), и Тарас Шевченко («Мастер раскрепощенного стиха»).
Самые удачные страницы книги А. Жовтиса – это конкретные разборы конкретных стихотворений и стихотворных отрывков в единстве формы и содержания. Кроме уже упомянутого образцового разбора «Гармониста» Казина, можно указать анализ нескольких стихотворений, писанных верлибром (с. 26, 29, 32), сопоставление метрики двух переводов стихотворения Лонгфелло (с. 60–61), отлично выбранный образец вольной строфики из стихов Д. Самойлова (с. 102), разбор сложного ритмического и графического построения текста А. Вознесенского (с. 153). Читая разборы такого рода, не только радуешься метким наблюдениям автора, но и испытываешь удовольствие, следя за самым ходом его мысли. Для критиков, разбирающих стихи современных поэтов, для педагогов, объясняющих школьникам и студентам единство формы и содержания литературного произведения на стихотворных примерах, эти страницы поучительнее всего. Хотелось бы пожелать, чтобы опыты его разборов вызвали как можно больше откликов и подражаний.
Это не значит, что книга «Стихи нужны…» свободна от недостатков. Нельзя согласиться, что «применение безрифменных метров не обусловлено у Одоевского тематически» (с. 240), – как и у большинства современников, они связывались у него или с народной (часто исторической) темой, или с элегией типа «Теона и Эсхина». Неверно, что стихотворение Одоевского «Что за кочевья чернеются…» написано акцентным стихом (с. 241–242), – это логаэд, в котором из строфы в строфу повторяется последовательность строк трехстопного дактиля, двух четырехстопных хореев и трехстопного хорея (не надо забывать, что стих «Идут под затворы молодцы» мог иметь ударение на первом слоге). На странице 251 цезурованный 6-стопный ямб назван бесцезурным, на странице 124 автор насчитывает в четверостишии две четырехстопные строки, между тем как их три (и композиционно это очень важно), на странице 235 из‐за опечатки в цитате («светел» вместо «светл») разрушается логаэдический ритм строфы, на странице 148 из‐за другой опечатки получается, что в XIX веке употребительным был разностопный хорей, а не разностопный ямб, тогда как на деле как раз наоборот. При рассмотрении истории рубай (четверостишия с рифмовкой ааха) в русской поэзии автор непропорционально много внимания уделяет восточному влиянию и непропорционально мало – традиции русской частушки; не поэтому ли он совсем забывает о том жанре, где «рубаическую» рифмовку можно сейчас встретить чаще всего, – о жанре детских стихов («Человек сидит в седле, ноги тащит по земле – это едет дядя Степа по бульвару на осле»)?
Но, конечно, не этим подсчетом частных удач или оплошностей определяется ценность книги А. Жовтиса. Главное в другом: удалось или не удалось автору перекинуть мост через ту пропасть между теорией стиховедения и практикой ее применения, о которой он сам говорил в приведенной нами цитате?
Продолжая метафору А. Жовтиса, ответим: да, навести мост удалось, но только до середины пропасти.
Что это значит?
Наводить мост можно от любого из двух берегов – от «академической» теории или от критико-педагогической практики. Автор решительно предпочитает второй вариант – точку зрения практика, «дилетанта», который видит в разбираемом стихотворении прежде всего его содержание, то есть «то, о чем говорится», и лишь потом, напрягши внимание, начинает высматривать особенности стиха, как бы аккомпанирующие развертыванию этого содержания. При достаточной зоркости такие особенности всегда можно найти; но это будут, как правило, самые мелкие ритмические признаки: пропуски ударений, сдвиги словоразделов, аллитерации, расположение слов в предложении и проч. Этот материал и подвергает своему микроанализу А. Жовтис; более заметные – метрические, а не ритмические – признаки стиха он оставляет без внимания: они слишком грубы для передачи тонких оттенков содержания. Это – принцип. В статье «Переживание и строй стиха» он пишет: «Метр, конечно, не может быть прямо связан со смысловым наполнением стихотворения. Единство формы и содержания, взаимозависимость их следует искать в конкретном ритме строк…» (с. 117). В статье о свободном стихе он предлагает строить классификацию этого размера как раз на основе наличия или отсутствия таких перекликающихся («корреспондирующих») ритмических мелочей. В статье о графике стиха он определяет органичность или неорганичность разбивки стиха на «ступеньки» соответствием этой разбивки «интонации» стиха и соответствием «интонации» «переживанию» поэта (с. 143, 162).
А так ли это? Точно ли читатель прежде всего видит в стихотворении «то, о чем говорится», а уже потом – форму, аккомпанирующую этому содержанию? (Конечно, читатель читателю рознь; но об этом сейчас говорить не будем.)
Вот перед нами стихотворение; еще не начав его читать, мы видим, что оно написано трехстишиями; прочитав пять-шесть строк, мы видим, что оно прорифмовано терцинами; мы еще не успели разобраться в «том, о чем говорится» в стихотворении, но для нас уже распахнулась за ним перспектива большой литературной традиции, у истоков которой – «Божественная комедия» Данте; и на этом фоне мы уже по-новому предчувствуем и по-иному воспринимаем то, что ждет нас в следующих строках нашего стихотворения. Вот перед вами рядом два стихотворения, одно напечатано аккуратными «кубиками», другое размашистой «лесенкой»; разве мы уже не ожидаем, что первое скорее всего окажется камерно-лирическим, а второе – пафосно-публицистическим? Эти наши ожидания будут или подтверждены, или обмануты, и в зависимости от этого сложится все наше восприятие каждого стихотворения.
Возьмем пример самого А. Жовтиса: стихотворение В. Казина «Гармонист». Не будем выписывать текста: нам хочется, чтобы читатель этой рецензии сам раскрыл книгу А. Жовтиса и сам прочитал в ней на страницах 120–127 и это стихотворение, и его отличный разбор. Выпишем только последовательность, в которой чередуются в пяти строфах этого стихотворения строки 5- и 4-стопного хорея: 5554, 5545, 5444, 5545, 5554. Курсивом выделены редкие малоударные (то есть особенно выразительные) ритмические формы четырехстопного хорея («Ягодами земляничными…»), полужирным шрифтом – единственная в стихотворении полноударная его форма («…Стала сладко бредить грязь»). Достаточно беглого взгляда на эту схему, чтобы увидеть, как симметричен метрический рисунок этого стихотворения. В первой и последней строфе 4-стопная, укороченная строка спокойно замыкает собой четверостишие; во второй и в предпоследней строфе она уже беспокойно вторгается внутрь его; наконец, центральная строфа почти вся состоит из таких укороченных строк и притом с самым резким, напряженным ритмом. От спокойствия к напряжению и опять к спокойствию – такова основная метрическая композиция стихотворения. Взглянем в текст: она полностью совпадает со смысловой композицией. Вот этого основного соответствия – как это ни странно – и не заметил А. Жовтис. Он сосредоточился на мелочах, и «слон» остался непримеченным.
Почему это случилось? Потому что автор сознательно ограничил здесь круг своих аналитических средств теми, которые доступны не специалисту, а просто внимательному читателю: сознательно отказался от использования данных «академического» стиховедения. А оно, вооруженное результатами давних и кропотливых подсчетов, могло сказать, например, что укороченный стих в конце строфы обычно встречается чаще и потому звучит менее заметно, а в середине строфы – реже и потому более заметно; или что такие-то ритмические формы хорея привычны и потому неощутимы, а такие-то редки и потому сразу врезаются в слух. Отказавшись от средств «академического» – скажем проще, научного – стиховедения, автор сам лишил себя возможности достроить мост дальше середины той пропасти между теорией и практикой, о которой он так хорошо сказал. Чтобы мост перекинулся, необходимо строить его сразу с двух концов – не только от импрессионистических наблюдений над выразительностью, но и от научных констатаций употребительности тех или иных стиховых форм и приемов.
Да, стиховедение уже нельзя назвать «забытой наукой». Но и популярной наукой его назвать нельзя. В академических планах оно не находит места, все работы по нему ведутся исследователями, так сказать, в порядке личного энтузиазма, и результаты этих работ попадают в печать с немалым трудом. На ненормальность такого положения не так давно указали на страницах «Вопросов литературы» Л. Тимофеев и М. Гиршман72. К сказанному ими можно только присоединиться. Научное стиховедение требует такого же серьезного внимания, как и любая другая отрасль научного литературоведения.
Стиховедение – нужно!
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 73
ТАРАНОВСКИЙ Кирилл Федорович (р. 19.III.1911, Юрьев (Тарту), Эстония) – югославский филолог-славист, стиховед. По национальности русский. Окончил Белградский университетт. С 1958 года работает в США. Главный труд – «Русские двудольные ритмы» (Руски дводелни ритмови. Београд, 1953), статистическое исследование огромного материала по русскому ямбу и хорею XVIII–XIX веков, позволившее уточнить важнейшие понятия и законы русского силлабо-тонического стихосложения и наполнившее конкретным содержанием общую концепцию фонологической основы русской метрики, разработанную Н. С. Трубецким (т. 9) и Р. О. Якобсоном. Другие работы Тарановского посвящены русской метрике XX века, сравнительной славянской метрике, фонике и семантике стиха, интерпретации текста (в том числе стихов О. Мандельштама).
СОЧИНЕНИЯ. Из истории русского стиха XVIII в.: одическая строфа AbAb+CCdEEd в поэзии Ломоносова // XVIII век. Сборник 7: Роль и значение литературы XVIII в. в истории русской культуры. К 70-летию члена-корреспондента АН СССР П. Н. Беркова. М.; Л., 1966. С. 106–117; Основные задачи статистического изучения славянского стиха // Poetics – Poetyka – Поэтика / Ed. R. Jakobson. Vol. 2. Warszawa, 1966. P. 197–205; О ритмической структуре русских двусложных размеров // Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти академика В. В. Виноградова / Отв. ред. М. П. Алексеев. Л.: Наука, 1971. С. 420–429; Essays on Mandel’stam. Cambridge (Mass.), 1976.
ЛИТЕРАТУРА. Slavic Poetics: Essays in Honor of Kiril Taranovsky. The Hague, 1973.
ТАРАНОВСКИЙ – СТИХОВЕД 74
Кирилл Федорович Тарановский родился в 1911 году и умер в 1993-м. Ему было девять лет, когда он покинул Россию вместе с родителями; тридцать лет – когда он защитил диссертацию в Белграде; сорок два года – когда он ее напечатал отдельной книгой, потому что в промежутке была война. Это были «Русские двусложные размеры» (1953) – фундаментальный труд, который подвел итоги «героической» эпохе становления современного научного стиховедения и стал настольной книгой для всякого занимающегося русским стихом. Ему было сорок семь лет, когда он переехал работать в США – сперва в Лос-Анджелес, потом в Гарвард; пятьдесят шесть лет – когда он напечатал первую статью о поэтике Мандельштама (в юбилейном сборнике в честь своего старшего товарища Р. Якобсона); шестьдесят пять лет – когда его «Очерки о Мандельштаме» вышли отдельной книгой (1976), а ученики его, официальные и неофициальные, в Америке и в России, уже разрабатывали предложенные в ней понятия интертекстуальной поэтики – «контекст» и «подтекст»; с тех пор это направление стало одним из самых видных в современной филологии. Только в шестьдесят два года ему было позволено вновь увидеть Россию, для первого раза – туристом; только в шестьдесят шесть лет он смог провести в Москве полгода, работая с А. Н. Колмогоровым и его учениками над усовершенствованием методов изучения стиха. Его публикации в советских изданиях стали появляться с 1966 года, но лишь редкие и небольшие. Его мечтой было, чтобы сделанные им работы вернулись на родину, стали доступны всякому российскому филологу. Надежда на это появилась лишь в последние годы его жизни.
Тогда и был составлен этот том избранных его работ, при его участии и с его одобрения. Из-за издательских трудностей выход книги затянулся на семь лет; автор так и не смог ее увидеть. Главную часть его составляют «Очерки о поэзии Мандельштама» – специально для настоящего издания Кирилл Федорович написал их русский вариант, значительно расширенный и дополненный по сравнению с английской книгой. Другая его монография, «Русские двусложные размеры», представлена здесь образцово сжатым авторским конспектом – статьей «О ритмической структуре русских двусложных размеров». Остальные статьи посвящены отдельным вопросам стихосложения, привлекавшим внимание автора уже после «Русских двусложных размеров», вопросам лингвистического анализа звукописи, образному и символическому строю поэзии – это был круг его интересов последних лет. Особое положение занимают статьи «Четырехстопный ямб Андрея Белого» и «О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики»: первая – о семантике ритма, вторая – о семантике метра; эти темы, прорывающие традиционные рамки стиховедения и новым, неожиданным образом ставящие вечный вопрос о связи художественной формы и содержания, тоже дали толчок многочисленным исследованиям по семантике стиха в последние десятилетия: Кирилл Федорович Тарановский оказался первопроходцем и в этой области.
Составитель и издатель приносят глубокую благодарность Виде Тарановской-Джонсон и Федору Тарановскому за поддержку при подготовке этого издания.
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ ПЕРЕПИСКИ К. Ф. ТАРАНОВСКОГО С В. Е. ХОЛШЕВНИКОВЫМ 75
Письма К. Ф. Тарановского к В. Е. Холшевникову интереснее всего, конечно, замечаниями по поводу стиховедческих проблем, на которых скрещивались интересы обоих исследователей. Упоминаются они по ходу переписки вразнобой, без подробных разъяснений, потому что суть их была ясна обоим корреспондентам с полуслова. Цель этого послесловия – дать представление о месте этих проблем в общей системе стиховедческих знаний и поисков 1960–1990‐х годов. Главных таких проблем – четыре: моделирование стихотворного ритма; эволюция ритмики ямба; интонация в стихе; и силлабическое стихосложение в славянских языках.
Основоположная книга Тарановского «Руски дводелни ритмови, I–II» (Српска Академиjа наука, посебна издања, кн. 217. Београд, 1953; сокращенно РДР), изданная на сербском языке, была известна лишь в нешироком кругу славистов, а в России оставалась малоизвестна и малодоступна («Книги моей Западов, конечно, не читал…» – письмо I). Между тем Тарановский справедливо считал, что его потенциальные читатели прежде всего в России, и часто упоминал о ней в письмах – чтобы не пришлось повторно открывать уже им открытое.
Все особенности ритма русских ямбов и хореев в этой книге убедительно сводятся к двум законам: «закону регрессивной акцентной диссимиляции» (сильноударные и слабоударные стопы в стихе чередуются через одну, сильнее всего – в конце стиха или полустишия, слабее – к началу) и «закону восходящего начала», или «усиления первого междубезударного икта» (первой стопы в ямбе, второй в хорее). Статью о том, как эти два закона выводятся из общей ритмической структуры русского языка (обещанную в письме I), Тарановский так и не написал. Вероятно, первый закон должен был в ней выводиться из того, что отношение ударных и безударных слогов в русском языке не 1 : 1, а 1 : 1,8, т. е. пропуски ударений на сильных позициях в ямбе и хорее неизбежны; а второй закон – из того, что ударение в русском языке тяготеет не к началу, а к середине слова, т. е. пропуски ударений на начальном слоге хореических и дактилических размеров тоже неизбежны.
Важнейшее средство для выявления специфических особенностей художественного, стихового ритма на фоне естественного, языкового ритма – это сравнение ритма реальных стихов с ритмом теоретических моделей их стихотворных размеров. Есть два вида таких моделей. Первый – «языковая модель»: она вычисляется перемножением языковых вероятностей ритмических слов, входящих в состав каждого словосочетания, возможного в данном стихотворном размере. Этот метод открыл Б. В. Томашевский и усовершенствовал А. Н. Колмогоров. Второй – «речевая модель»: из прозы извлекаются синтагмы, укладывающиеся в данный стихотворный размер («случайные ямбы», «самородные ямбы»), и по ним высчитывается «естественный» ритм этого размера. Этот метод стал применяться лишь в последние десятилетия; В. Е. Холшевников один из первых опубликовал результаты его применения в статье «Случайные 4-стопные ямбы в русской прозе». Его данные несколько разошлись с данными других исследователей: они были ближе к реальному ритму русского 4-стопного ямба. К. Ф. Тарановский сам никогда не занимался построением моделей стиха; поэтому он был живо заинтересован интерпретацией этих результатов. Этому обсуждению посвящены письма Х, XIV–XVII. На первый план выступает вопрос о правомерности выведения средних показателей из не очень большого и явно разнородного материала. Для Тарановского это было важно, потому что он и сам около этого времени столкнулся с похожей проблемой76. Более всего выбивающимися из строя оказались «случайные ямбы» Тимирязева: было предположено, что это из‐за того, что в научной прозе слова в среднем длиннее, чем в художественной. Это и вправду так77.
Ритмика силлабо-тонического ямба была одной из главных тем в монографии Тарановского; он продолжал делать подсчеты по ямбу и после ее издания, некоторые из них он приводит в письмах (например, очень интересный подсчет ритма «Хорева» Сумарокова по пяти актам). У других исследователей тоже накапливались подсчеты по новым материалам или более детальные пересчеты старых. В связи с этим вставал вопрос об уточнении этапов перехода от ритмов XVIII века к ритмам XIX века в двух ведущих размерах того времени – в 6-стопном и 4-стопном ямбе. В 6-стопном ямбе различаются два основных ритма: симметричный (мужская цезура, для одинаково звучащих полустиший: «Унылая пора, очей очарованье…») и асимметричный (дактилическая цезура, одна ритмическая волна с тремя подъемами на строку: «И пробуждается поэзия во мне…»). В XVIII веке, в эпоху классицизма господствовал симметричный ритм, в эпоху романтизма все более учащается асимметричный. Напрашивалось предположение, что эта перемена ритма – следствие перемены содержания поэзии: что асимметричный ритм нарастает в более эмоциональных жанрах (элегия, идиллия) и в более эмоциональных отрывках таких жанров, как трагедия и проч. Это пытался доказать В. А. Западов в своей диссертации78. Точно так же и в 4-стопном ямбе происходил переход от «рамочного» ритма XVIII века («Изволила Елисавет») к волнообразному ритму XIX века («Адмиралтейская игла»); публикация собрания стихов М. Н. Муравьева показала, что этот волнообразный ритм зарождается в 4-стопном ямбе раньше, чем казалось, и В. А. Западов не замедлил и его определить как «лирический»; Тарановский (в письме I) категорически считал такие определения упрощением; он настаивал, что эволюция ритма ямба – явление самостоятельное, не связанное непосредственно с эволюцией содержания стиха. Как кажется, последующие разыскания этого не опровергли79.
Вопрос об интонации, поднятый в письме IV, характерен для ситуации, сложившейся именно в советском стиховедении. Этим расплывчатым понятием воспользовался в 1930–1950‐е годы Л. И. Тимофеев, чтобы создать картину сквозной зависимости формы от содержания стихов: «характер» порождает «интонацию» (например, «церковно-дидактическую» в XVII веке, «ораторскую» в XVIII), а интонация – метрику (силлабическую в XVII веке, силлабо-тоническую в XVIII). В. Е. Холшевников сохранил это понятие в стиховедении, но сделал его более научным: опираясь на «Мелодику стиха» Б. Эйхенбаума, он выделяет интонации напевную (и в ней две основные полярные формы – песенную и романсную) и говорную (ее полярные формы – ораторская и разговорная); между этими формами помещается много промежуточных, переходных80. К. Ф. Тарановский предлагает еще более строгий подход к понятию интонации – фонетический (повышение и понижение голоса, означающие незавершенность и завершенность фразы). Исследование стиха в таком плане ведется современными фонетистами (например, Л. В. Златоустовой); в частности, оказалось возможным говорить, что в произношении стихотворных строк преобладает интонация не завершающая, а перечислительная.
Силлабический стих, подробно обсуждаемый в письмах I и V, был в пренебрежении у русских стиховедов; В. Е. Холшевников единственный относился к нему с интересом и сравнивал особенности русской и польской силлабики. Это было близко Тарановскому, для которого смолоду был жив и привычен сербохорватский силлабический стих и для которого русистика существовала только в рамках сравнительной славистики. Со своим широким кругозором он настойчиво возражает против двух очень живучих предрассудков: о том, будто силлабический стих (1) свойствен языкам с фиксированным ударением и (2) в нем всегда есть тоническая константа. Что касается первого, то Тарановский напоминает о славянских языках с нефиксированным, смысло-различительным ударением, в которых тем не менее развита силлабика; можно добавить, что и в русском песенном фольклоре сохранились изосиллабические размеры, в которых слова подвергаются «ритмической переакцентуации» так часто, что их проще рассматривать как силлабические (обширный материал о «переакцентуациях» – в работах Дж. Бейли, ученика Тарановского). Можно добавить также, что и французский поэтический язык не имеет фиксированного ударения – в нем специально для стихов сохраняется разница в произношении между словами мужского рода и женского рода (с -е на конце). Тем более нет фиксированного ударения в итальянском и испанском языках. Что касается второго предрассудка, то Тарановский напоминает прежде всего о сербохорватском стихе – без тонической константы, с разноударными рифмами. Разноударные рифмы – главная примета силлабического стиха: если в силлабо-тонике рифмы делятся на мужские, женские и дактилические по положению ударения, то в силлабике рифмы делятся на 1-сложные и 2-сложные независимо от положения ударения. Русскому слуху, воспитанному на силлабо-тонике, это непривычно – отсюда долгие споры о произношении разноударных рифм, упоминаемые Тарановским. Теоретически важным напоминанием было также и то, что константа может быть не только ударная, но и безударная, как в первом полустишии кантемировского 13-сложника81.
О русском силлабическом стихе наиболее авторитетной работой в 1969 году еще считалась: Л. И. Тимофеев. «Силлабический стих»82; критические замечания С. М. Бонди83 остались незамеченными. Тарановский в своей критике опирался отчасти на наши подсчеты, впервые опубликованные в 1971 году84. Здесь же была построена языковая модель 13-сложника; языковая модель 8-сложника построена лишь позднее85. Речевая модель из «самородных» силлабических строк, извлеченных из прозы, не построена до сих пор.
Реплика «Польский силлабический стих еще как следует не изучен, гораздо хуже, чем сербохорватский» (письмо I) выражает стойкое, но не совсем справедливое недоверие Тарановского к работам М. Длуской и других стиховедов польской школы. Сербохорватский стих хорошо изучен был разве что самим К. Ф. – удовлетворительных общих очерков о нем до сих пор нет. Описание польского стиха с 1969 года сильно продвинулось86, но некоторые задачи, намеченные Тарановским, остаются открытыми. Главная из них: если заполнение силлабической строки фонетическими словами следует, по-видимому, естественной вероятности, то поэтической индивидуальности следует искать в заполнении строки синтаксическими фразами («распределение синтагматических, фразовых ударений в стихе»), и это позволит наконец отличать стих Мицкевича от стиха Словацкого и т. д.
Книга Тарановского о стихосложении Шевченко (обещанная в письмах I и III), к сожалению, осталась ненаписанной: известна только статья «Четверостопни jамб Т. Шевченка»87. Не успел Тарановский вернуться и к белорусскому стиху, как собирался в письме II. Его пожелания о совместной работе стиховедов разных стран над сравнительным славянским стиховедением отчасти осуществились: с 1978 года при польской Академии наук выходят тематические сборники серии «Słowiańska metryka porównawcza».
Книга статей Тарановского о Мандельштаме вышла по-английски в 1976 году («Essays on Mandel’stam». Cambridge, Mass.), по-сербохорватски в 1982 году («Knjiga o Mandeljštamu». Beograd), по-русски в 2000 году (в составе сборника «О поэзии и поэтике», Москва), каждый раз в новой переработке. Однако не все темы, перечисленные в письме I, были доработаны и вошли в нее.
ТЫНЯНОВ И ПРОБЛЕМА СЕМАНТИКИ МЕТРА 88
Проблема семантики метра, проблема «метр и смысл» сравнительно недавно выдвинулась в нашем стиховедении на первый план. Это вопрос о семантических ассоциациях, связанных с метрической формой стихотворения: выражаясь модной метафорой, о «памяти метра». Каждый стихотворный размер, а иногда каждая разновидность стихотворного размера обладает семантическим ореолом, складывающимся из семантических окрасок (как общее значение слова складывается из частных значений слова). Эти семантические окраски представляют собой комплексы ассоциаций с прежними употреблениями данного размера в таких-то жанрах, или таких-то темах, или таких-то стилях. Для читателя метр стихотворения играет роль подзаголовка: делает предсказуемым круг образов, мотивов, эмоций и мыслей стихотворения. Семантические ореолы и семантические окраски – явление не органическое, а историческое: нельзя сказать «хорей по самому своему звучанию предрасположен к темам веселым и бодрым», нужно сказать «хорей предрасположен к темам веселым и бодрым потому, что хореем писалось когда-то много песен в народном и анакреонтическом стиле». Вот эту разницу между органическим и историческим представлением о семантике метра запомним: важность ее показал в свое время Тынянов.
За последние два десятилетия были обследованы с различной степенью подробности несколько размеров русской силлабо-тоники: 5-стопный хорей типа «Выхожу один я на дорогу», 3-стопный хорей типа «Горные вершины спят во тьме ночной», 4–3-стопный хорей типа «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю», 4-стопный хорей типа «Ах, почто за меч воинственный», 3-стопный ямб самых разных разновидностей, 3-стопный амфибрахий самых разных разновидностей. Заметим, что в этом перечне для напоминания приходилось называть преимущественно стихотворения Лермонтова: об этой особой роли Лермонтова в семантической эволюции русского стиха еще придется говорить далее.
Сейчас уже можно формулировать некоторые самые общие закономерности функционирования семантических ореолов. Во-первых, они тем отчетливее, чем менее употребителен размер: 4-стопный ямб фактически нейтрален и приложим к любой тематике, а гексаметр почти однозначен, античная семантика подавляет в нем все другие.
Во-вторых, совокупность всех окрасок семантического ореола обычно довольно широка, но не всеохватна: это заметнее, если обратить внимание не на те темы, которые в том или ином размере предпочитаются, а на те, которые в нем избегаются. Так, для 3-стопного хорея «Горные вершины…» характерны темы «пейзаж – быт – смерть», и может показаться, что это покрывает почти всю поэтическую тематику XIX века; но если вспомнить, что зато в этом размере почти нет темы любовной и темы гражданской, то станет ясно, что это не так.
В-третьих, среди разнородных окрасок, составляющих семантический ореол, часто выделяются две-три максимально несхожие, и на их взаимодействии держится бытование размера: так, для 4-стопного хорея с дактилическими и мужскими окончаниями это элегически-грустная традиция «Ах, почто за меч воинственный» и народно-оптимистическая «Эх, полным-полна коробушка», а для 3-стопного амфибрахия – традиции «заздравная», «балладная» и «романсная». Можно предполагать, что чем больше несхожесть таких ведущих окрасок, тем жизнеспособнее размер.
В-четвертых, сами эти семантические окраски могут быть простыми и более сложными: например, в семантической традиции 4–3-стопного хорея «колыбельная» («Спи, младенец мой прекрасный») тема деятельного будущего подается через тему сонного настоящего, а в семантической традиции «серенада» («Песнь моя летит с мольбою») главным содержанием служит картина пейзажа, но эмоциональную окраску ей придает любовь; можно предполагать, что чем больше такой внутренней двойственности в семантической окраске, тем жизнеспособнее окраска.
В-пятых, конечно, нельзя все стихотворения такого-то размера строго расписать по семантическим окраскам – большинство (и притом часто лучших) окажутся в промежутках между ними; но разница ореолов скажется в том, что одна и та же тема, например несчастная любовь, в 3-стопном ямбе будет звучать с анакреонтической легкостью, в 3-стопном амфибрахии с романсным лиризмом, а в 3-стопном хорее со смертной обреченностью. Так сказать, высота этой темы над уровнем семантического моря будет одна и та же, но расположение окрестных высот в каждом размере будет иное, и это создаст всюду разный семантический ландшафт.
В-шестых, в исторической семантике русских размеров, по-видимому, можно различить три стадии: в XVIII и начале XIX века размеры ассоциируются прежде всего с жанрами, мы говорим: «семантическая окраска элегии, послания, песни»; в середине и второй половине XIX века – прежде всего с темами, мы говорим: «семантическая окраска: смерть, пейзаж, быт»; в XX веке – прежде всего с интонациями, мы говорим: «семантическая окраска патетическая» или «смутно-романтическая», хотя и понимаем, что для точного определения этих интонаций остается еще многого желать.
И, наконец, в-седьмых, перелом от первой из этих трех стадий ко второй очень выпукло заметен, он приходится на 1840‐е годы, и здесь самые знаменательные имена – Лермонтов, с одной стороны, и Некрасов – с другой. Вот здесь и приходится нам вспомнить исторические и теоретические работы Ю. Н. Тынянова.
Накопление материала по семантике русских стихотворных размеров началось давно – задолго до той статьи К. Тарановского о 5-стопном хорее89, которая дала толчок научному оживлению последних лет в данной области. Замечания о метрических перекличках отдельных стихотворений многочисленны уже у такого ученого-эмпирика, как И. Н. Розанов; их много в комментариях К. И. Чуковского к Некрасову; они систематичны в статьях и комментариях Б. М. Эйхенбаума; они свелись в образцовое исследование «Строфика Пушкина»90 у Б. В. Томашевского. Тынянов участвовал в этой работе одной из самых первых своих статей, «Стиховые формы Некрасова»91, где указал, как некрасовский «Секрет» воспроизводит размер «Воздушного корабля», «Псовая охота» – «Суда божия над епископом», а «Извозчик» – «Рыцаря Тогенбурга». Но эти наблюдения у него сразу связались с одновременной работой по Достоевскому и Гоголю и включились в ту концепцию пародии в широком смысле слова, связное изложение которой мы смогли прочесть лишь несколько лет назад92. Теоретики вспоминают о ней чаще, стиховеды – реже; а оттуда хотелось бы напомнить одно место, имеющее более общее значение, чем кажется на первый взгляд, – и в частности, для стиховедения.
Тынянов пишет93 о «процессе пародического оперирования вещью. В этом процессе происходит не только изъятие произведения из литературной системы (его подмена), но и разъятие самого произведения как системы. А при этом процессе выясняются отдельные стороны, ранее бывшие только членами системы. Таким образом, в „Певце“, этом новом „лироэпическом“ жанре, был нащупан, равно в вариациях и пародиях, сюжет, который, будучи вышелушен из стилевой ткани, оказался емким и пригодным не только в своем системном виде: в произведении вскрылись отчетливые формулы, пригодные для разных тематических измерений. Это объяснит нам своеобразное явление „пародического отбора“: одни произведения и одни авторы подвергаются пародическому использованию чаще и интенсивнее других».
Речь идет о «Певце во стане русских воинов», который оказался благодарным материалом для перепевов, потому что – редкий случай – предлагал схему циклизации стихов-обращений как панегирического, так и эпиграмматического содержания: давал возможность развить эпиграмму в большой жанр. Здесь это названо сюжетом. Но думается, что можно сказать: точно так же, лишь в результате «разъятия самого произведения как системы», входит в литературное сознание стих. И это несмотря на то, что стих издавна описывался учебниками как нечто внешнее, априорно оторванное от всякого содержания: как такие-то и такие-то стопы. Учебники учебниками, а живое ощущение стиха было иным, более нечленораздельным и временами неожиданно врывалось и в область теории. Тому есть два интересных примера – из раннего и из недавнего этапа развития русского стиха.
Ранний пример – это спор Ломоносова, Тредиаковского и Сумарокова о семантике ямба и хорея, выразившийся в их коллективной брошюре «Три оды парафрастические» (1744): Тредиаковский считал, что метр абсолютно безразличен к содержанию стихов; Ломоносов и Сумароков считали, что ямб более приспособлен к высокому содержанию, а хорей – к низкому. Мотивировка Ломоносова была от «органической» семантики метра: «стопа… иамб… возносится снизу вверх, от чего всякому чувствительно слышна высокость ее», «а хорей… сверху вниз упадает, чем больше показывает нежную умильность, нежели высоту»94. Совершенно ясно, что это – искусственная рационализация: в действительности, конечно, Ломоносов связывал ямб с высокостью только потому, что высокие жанры писались в немецкой силлабо-тонике ямбом, а во французской силлабике – четносложниками, условными аналогами ямба. И это – Ломоносов, отлично умевший мыслить абстрактными стопами! Из трех дискутантов единственным, кто нашел в себе силы абстрагировать метр от жанра и стиля, был Тредиаковский, профессиональный филолог, который потом так вызывающе излагал разными размерами то одно и то же содержание (как в двухвариантных стихотворениях «Аргениды»), то близко сходное (как в эпистолах «Феоптии» и «Эзоповых басенках»); современниками и потомками это воспринималось явным образом как педантство и входило в мифический образ того Тредиаковского, который сам себе пародия. Наука XX века реабилитировала Тредиаковского; но любопытно, что даже после этого в таком почтенном месте, как комментарии Г. П. Блока к академическому изданию Ломоносова95, прорвалось замечание, что хорей и в самом деле свойствен фривольной песенке, а не обличительной оде.
Недавний пример – это понятие «стих Маяковского», которое до сих пор держится и в научном языке, и в учебных программах. Комплекс поэтических средств, разработанных Маяковским, оказался настолько целен и прочен, что критика, а за нею наука даже не пытались абстрагировать метр стихов Маяковского, даже найти для него имя, соизмеримое с другими метрами русского стиха: сказать «Пушкин писал пушкинским стихом» казалось смешной тавтологией, а сказать «Маяковский писал стихом Маяковского» – отнюдь. Конечно, тут были смягчающие обстоятельства: и то, что Маяковский пользовался такими размерами, которые еще не получили даже общепринятых названий, и то, что он часто сочетал и чередовал их небольшими кусками. Однако даже тот очевидный факт, что целые стихотворения у Маяковского написаны самым классическим ямбом и хореем, «В сто сорок солнц закат пылал» или «Жили-были Сима с Петей», натыкался на категорическое непризнание: да, эти размеры звучат ямбом и хореем, но в «стихе Маяковского» они приобретают новое качество – какое, никогда не уточнялось. Теперь о таких размерах возражения, кажется, уже смолкают; но, например, о вольном хорее типа «Я недаром вздрогнул. Не загробный вздор. В порт, горящий, как расплавленное лето…» оппоненты твердо говорят: да, здесь все ударения падают на нечетные слоги, как в хорее, и все-таки это нипочем не хорей, потому что таких хореев не бывает. Мы воочию видим: нерасчлененное ощущение «хорей – это что-то вроде „Буря мглою небо кроет“» оказывается сильней, чем аналитическое понимание «хорей – это метр, в котором ударения падают на нечетные слоги». Нежелание отделять форму от содержания в стихе Маяковского и в оде Ломоносова оказывается очень похожим: культ целостности одинаково характерен и для классицизма XVIII века, и для современного вкуса, а между ними лежит полоса аналитичности, характерная для реализма XIX века.
Здесь, в XIX веке, опять-таки ощущение размера характерным образом отставало от практического и теоретического освоения его. Нововводителем трехсложных размеров в русской поэзии был Жуковский, но это прошло почти незамеченным, критика на это не откликалась. Зато когда Жуковский употребил в «Шильонском узнике» 4-стопный ямб со сплошными мужскими окончаниями, это сразу произвело фурор. Почему? Потому, что трехсложные размеры были введением нового, а мужские окончания в ямбе – видоизменением старого: утверждение новой традиции на пустом месте было не столь ощутимо, сколь деформация старой, уже пустившей корни. Если бы тогда был в ходу тыняновский лексикон, критики сказали бы, что «Шильонский» ямб – пародия настоящего. «Поэтом трехсложных размеров» прослыл в русской поэзии не Жуковский, а Некрасов, хотя у него трехсложниками написано, конечно, много, но не подавляюще много: около четверти всех строк. Почему такая слава? Потому, что он сделал с трехсложниками то, что Жуковский сделал с 4-стопным ямбом: деформировал уже существовавшую традицию, и это оказалось гораздо ощутимее. Деформация заключалась в том, что он порвал привычные связи формы и содержания, стал писать трехсложными размерами не о том, о чем писали до него, а обо всем без разбору, и прежде всего – на новые, бытовые и народные темы: только после этого амфибрахий и стал ощущаться как амфибрахий, а не, условно говоря, как «стих Жуковского».
Разница между эпохой Жуковского и эпохой Некрасова была вот в чем. Обе были временем обновления стиховых средств – это процесс непрекращающийся. Но при Жуковском, в эпоху романтизма, это обновление шло за счет освоения нового, нетрадиционного: трехсложников, разностопников, имитаций античного и народного стиха. А при Некрасове эта экспансия была приостановлена, начался отбор среди приобретенного и перераспределение имеющихся средств применительно к новым целям. Это и создало ту атмосферу аналитического, разымающего отношения к произведениям прошлого, которое (отношение) Тынянов называл пародическим в широком смысле слова. Смена таких эпох характерна и для развития языка в целом: обновление языка идет постоянно, но в одни эпохи – больше за счет словозаимствования и словопроизводства, а в другие – за счет обрастания старых слов новыми значениями. (Насколько совпадают или не совпадают эти периоды различного обновления языковых средств и литературных средств – вопрос отдельный и любопытный.) После Некрасова следующая эпоха, модернистская, опять выдвинула на первый план освоение новых, нетрадиционных стихотворных форм (прежде всего чистой тоники), а переосмысление старых отодвинулось на второй план (например, брюсовское возрождение старых ораторских интонаций в 4-стопном ямбе). А после модернистской эпохи следующая, советская, позволяла ожидать чего-то аналогичного некрасовской эпохе: тоже приостановки экспансии, тоже отбора и переосмысления приобретенного, тоже разымающей пародичности. Отсюда и интерес Тынянова к Некрасову и к пародии. Ожидания оказались обманутыми: приостановка стихового новотворчества произошла, но сознательное переосмысление старого, по-видимому, не наступило. Что наступило вместо этого – трудно коротко сказать: специфика формирования нынешних семантических ореолов метра пока плохо поддается обобщениям, она жива и текуча, для нее еще не наступила история (как выражался когда-то Козьма Прутков).
Когда XIX век приступал к переосмыслению романтического стихового наследства, то мы видели: в истории почти каждого размера совершенно исключительную роль играл Лермонтов. «Выхожу один я на дорогу…», «Горные вершины…», «В минуту жизни трудную…», «Уж за горой дремучею…», «По синим волнам океана…», «Спи, младенец мой прекрасный…», «Тучки небесные, вечные странники…» – за каждым из этих стихотворений тянется длинный шлейф метрико-семантической традиции вплоть до наших дней. Пушкин прошел в семантической истории лирических метров почти бесследно, Лермонтов оказался определяющим. Любопытно, что пародии в узком смысле слова, перепевы писались на конкретные стихи Пушкина и Лермонтова в одинаковом обилии, на «Делибаша» их было не меньше, чем на «Спи, младенец мой прекрасный…»; но пародии в широком смысле слова, не-комическом, шли только за лермонтовскими стихотворениями. За «Выхожу один я на дорогу…» шли «Вот иду я вдоль большой дороги…», «Выхожу я в путь, открытый взорам…» и «Гул затих. Я вышел на подмостки» – ни за одним пушкинским лирическим стихотворением таких отголосков нет. (Приходится подчеркнуть: «лирическим стихотворением» – потому что в эпосе картина другая, здесь именно пушкинские поэмы своим 4-стопным ямбом задали такой тон, что все последующие поэмы, написанные этим размером, до П. Васильева и В. Саянова включительно, могут восприниматься как пародии на них.) Отчего такая разница в судьбе между лирикой Пушкина и Лермонтова? Оттого, что Пушкин здесь был не зачинателем, а завершителем эпохи, – аспект, который был раскрыт в свое время опять-таки в первую очередь Ю. Н. Тыняновым. В эпоху романтического новооткрывательства Пушкин один (с небольшой группой сверстников) предпочитал работать не броскими красками нового, а тонкими оттенками старого. Прошло одно поколение, и они выцвели, их семантические ассоциации забылись для сверстников Некрасова. Наоборот, допушкинский Жуковский и послепушкинский Лермонтов сохранили яркость: Жуковский потому, что он создавал новые формы для нового романтического содержания, Лермонтов потому, что он создавал новые формы для старого романтического содержания. После этого оставалось прийти Некрасову, чтобы взять эти новые формы в качестве старых для нового реалистического содержания: совершить переосмысление, разъятие прежнего целого, пародический подход к семантике стиха. Пушкин дождался такого подхода лишь много позже – в «вариациях» на тему «Медного всадника» у Пастернака и Брюсова; и они прошли, к сожалению, беспоследственно.
И последнее. Тынянов, говоря о пародии, намеренно ограничивался русским материалом. Если бы он привлек иноязычный, точнее – инокультурный материал, то продемонстрировать, что пародия – не всегда насмешка над пародируемым, можно было бы еще убедительнее. Вся средневековая пародическая литература с всепьянейшей литургией во главе ювелирно воспроизводила структуру сакральных образцов и превосходно разымала их на элементы; но это не понижало, а, наоборот, пожалуй, повышало авторитет этих образцов: пародическая литургия не отменяла, а оттеняла литургию настоящую. То же самое, по-видимому, можно сказать и о назойливом обращении юмористов 1860‐х годов к перепевам из Пушкина и Лермонтова: когда в схемы их стихотворений вкладывался злободневный материал, то от такого соединения проигрывал злободневный материал (потому что оказывался мелок и жалок) и выигрывал классический образец. Именно поэтому Маяковский так боролся против попыток вложить новое советское содержание в старые классические формы: он боялся, что «или факт совсем затеряется, как блоха в брюках… или факт выпирает из поэтической одежи и делается смешным» («Как делать стихи»). Эта борьба происходила на глазах у Тынянова и тоже учила его тому, что переосмысление – это не всегда пересмеивание и что пародичность шире пародийности.
ПЕРВОЧТЕНИЕ И ПЕРЕЧТЕНИЕ96
К ТЫНЯНОВСКОМУ ПОНЯТИЮ СУКЦЕССИВНОСТИ СТИХОТВОРНОЙ РЕЧИ
Подзащитный сказал Лисию:
«Твоя защитительная речь при первом чтении показалась мне превосходной, однако чем больше я ее перечитываю, тем больше вижу в ней слабых мест». —
«Отлично, – ответил Лисий, – ведь судьи-то услышат ее только один раз».
Из греческих анекдотов
В книге «Проблема стихотворного языка» Тынянов, как известно, вводит четыре новых понятия – четыре фактора, которыми ритм влияет на семантику стихотворного текста и деформирует ее. Это «1) фактор единства стихового ряда; 2) фактор тесноты его; 3) фактор динамизации речевого материала и 4) фактор сукцессивности речевого материала в стихе»97. Эти понятия имели в последующем развитии филологической науки разную судьбу. Теснота и единство стихового ряда стали предметами общепризнанными: каждый стих имеет ритмическую выделенность, а стало быть, и интонационную цельность, а стало быть, и синтаксическую замкнутость, если не подлинную, то мнимую, примышляемую. Без этих понятий уже почти никто не обходится при анализе стихотворного текста; был даже любопытный случай обратного приложения этих понятий от семантики к ритмике – статья С. П. Боброва98. Гораздо реже упоминается и, кажется, совсем не исследуется динамизация речевого материала, т. е. утверждение, что важны не столько слова в строке, сколько их соотношения и их интеграция в единое целое. И вовсе остается без внимания четвертый упоминаемый Тыняновым фактор – сукцессивность, последовательность восприятия речевого материала в стихе, в противоположность симультанности, одномоментности восприятия.
Отчасти причиною этому сам Тынянов. Объясняя, что такое динамизация текста, он пишет: «Ощущение формы при этом есть всегда ощущение протекания (а стало быть, изменения) соотношения подчиняющего, конструктивного фактора с факторами подчиненными», – но сразу же добавляет: «В понятие этого протекания, этого „развертывания“ вовсе необязательно вносить временной оттенок. Протекание, динамика может быть взято само по себе, вне времени, как чистое движение»99. Тем не менее, несмотря на эту туманную оговорку, уводящую к Бергсону, Тынянов явно представляет себе эту динамику именно развертывающейся во времени – сукцессивно. На естественный поток речи, текущий синтаксическими сгустками, по привычности своей воспринимаемыми симультанно, налагается членение на стиховые ряды. «Слово оказывается компромиссом, результантой двух рядов… В итоге слово оказывается затрудненным, речевой процесс – сукцессивным»100.
Самый наглядный пример сукцессивного восприятия текста – анжамбман101. Он рассекает словосочетание, заставляет воспринимать отдельно первое слово, а потом отдельно второе, от этого каждое из них оживает во всей полноте своих потенциальных оттенков значения и по-новому сплетает их с такими же ожившими оттенками предшествующих слов102. Но точно так же и наоборот: достаточно подчеркнуть слово любым способом, например ритмически заметной позицией в стихе, как оно отделится от соседних и каждый словораздел при нем усилится почти до степени анжамбманного стихораздела, чтобы слова воспринимались не «симультанно», а поштучно103. Слова в стихе как бы отрываются друг от друга и дефилируют перед читателем каждое поодиночке, демонстрируя каждое свои семантические возможности.
Конечно, за таким представлением чувствуется опыт поэзии Маяковского, дробящей стих на выделенные отрезки подчас по одному слову, и поэзии Хлебникова, разрушающей привычные синтаксические связи между словами и даже морфологические связи между элементами слов. На Хлебникова Тынянов ссылается сам, а на Маяковского даже неоднократно. Еще более мы вправе вспомнить по этому поводу, например, поздние стихи А. Белого, где каждое слово, вплоть до предлогов, писалось отдельной строкой, так что стих вытягивался не по горизонтали, а по вертикали. Еще точнее сказать, в сознании Тынянова присутствует не только обычное восприятие от чтения глазами, но и восприятие со слуха, когда каждое слово подносится как новое, а следующее кажется непредсказуемым. Мы знаем, как читали свои стихи Блок и Брюсов: с паузой после каждого слова, с интонацией перечисления, спокойного у Блока, настойчивого у Брюсова104. Это и есть сукцессия в самом чистом виде.
Так вот, если задуматься над картиной восприятия стиха, которую рисует Тынянов, то мы увидим, что она предполагает предпосылку, которая очень существенна, но о которой прямо не говорится. А именно, предполагается, что данные стихи воспринимаются читателем впервые в жизни, что перед нами акт первочтения. В таком случае, действительно, читатель подступает к тексту без каких либо априорных ожиданий, каждое слово вносит в его сознание что-то новое и перестраивает то старое, что отложилось в сознании из предыдущих слов. Что впереди – неизвестно и раскрывается лишь постепенно, слово за словом, т. е. сукцессивно; только то, что позади, может быть окинуто единым взглядом, т. е. симультанно (о тождествах «прогрессивное = сукцессивное» и «регрессивное = симультантное» см. у Тынянова105). Попробуем вообразить, что перед нами акт не первочтения, а перечтения, и картина, изображенная Тыняновым, значительно поблекнет. Текст уже знакóм, т. е. предстоит сознанию симультанно – конечно, не в подробностях, а лишь в основных чертах. Каждое воспринимаемое слово воспринимается в его связях не только с прочитанным, но и с еще не прочитанным, ориентируясь на узловые моменты дальнейшего текста. Чтение движется не по словам, а по целым словесным блокам, различая опорные «сильные места» и промежуточные «слабые места» текста. Это не столько познавание, сколько узнавание. Можно сказать, что поэтика перечтения напоминает практику акмеизма с его «радостью узнаванья», а утверждаемая Тыняновым поэтика первочтения – программы футуризма с их лозунгом «Прочитав, разорви!».
Эта тыняновская установка на первочтение характерна отнюдь не для него одного. В филологической культуре XX века можно найти много аналогий такого же подхода к тексту на самых разных уровнях его строения.
На уровне метрическом тыняновскому подходу соответствует подход позднего А. Белого, наметившийся еще около 1914 года, а окончательное выражение получивший в книге 1929 года «Ритм как диалектика и „Медный всадник“». «Диалектикой» Белый называет приблизительно то же, что Тынянов – «динамикой»: важны не элементы, а соотношения, и прежде всего соотношения между совокупностью уже прочитанных стихов и каждым новым стихом, подлежащим чтению: ритм каждой новой строки воспринимается не изолированно, а на фоне ритма предшествующих строк. Именно так Тынянов представлял себе восприятие верлибра, свободного стиха106, а Белый – всякого, даже и классического, стиха. Прямое влияние здесь возможно (Белый в 1921 году жил в Петрограде и выступал с лекциями, в том числе и о стихе), но не обязательно. Случай этот интересен тем, что Белый своей теорией, как известно, восставал сам против себя: своим динамическим подходом он отменял свой прежний статический подход к сочетаниям строк в «ритмические фигуры», изложенный в «Символизме» 1910 года и уже ставший началом нового русского стиховедения (подробнее об этом – в нашей статье «Белый-стиховед и Белый-стихотворец»107).
На уровне языковом тыняновскому подходу соответствует исследование актуального членения предложения по темам и ремам, выдвинувшееся рядом с традиционным подходом к синтаксису как раз в 1920–1930‐х годах, а затем – современная проблематика связности текста, сцепления фраз в сверхфразовые единства с таким же динамическим ощущением фразоразделов, с каким Тынянов ощущал в стихе словоразделы.
На уровне стилистическом тыняновскому подходу соответствует проблематика порядкового анализа, сформулированная Б. И. Ярхо в «Методологии точного литературоведения» почти в тех же терминах: «Литературное произведение воспринимается во времени, т. е. формы его действуют на нас последовательно, сукцессивно… Анализ сукцессивности можно прямо назвать делом будущего… Речь идет о контрапунктировании, т. е. о написании всех трех областей (строения произведения: образной, словесной и звуковой. – М. Г.) в том порядке, в каком они доходят до сознания, воспринимающего произведение в первый раз», – и далее образец послоговой разметки формулы «Мир хижинам – война дворцам»: после какого слога сознание воспринимает здесь метонимию, символ, антитезу, параллелизм, двухударный ритм и т. д. Прямое влияние (на этот раз со стороны Тынянова) здесь тоже возможно, но тоже не обязательно.
Наконец, на уровне сюжетном тыняновскому подходу соответствует выделение по ходу чтения ядерных и сопутствующих мотивов в повествовании, предпринятое Бартом на французском и Четменом на английском материале, а затем оказавшееся весьма важным для реферирования текста, составления резюме. Вот отрывок разбора рассказа Дж. Джойса «Эвелина»108. «Например, во втором абзаце есть фраза „Прошел, возвращаясь к себе, человек из крайнего дома“. Это – мотив, но ни в какое резюме он не войдет по простой причине: это действие не имеет последствий. Когда мы читаем рассказ в первый раз, то не знаем, какую значимость можно приписать этой фразе; но когда в нескольких следующих предложениях об этом человеке не упоминается больше ни разу, то мы заключаем, что это не самостоятельный член сюжета, а только пример тех беглых наблюдений, которые войдут в сюжет под более общей рубрикой, например „Эвелина задумчиво смотрит из окна“». Понятно, что при перечтении мы уже сразу скользнем по этой фразе с половинным вниманием, не дожидаясь «нескольких следующих предложений».
При желании можно привлечь примеры и из области других искусств, кроме литературы. Например, ту революцию в театре, которую произвел в конце XIX века натурализм (у нас – Художественный театр), можно определить как переход от игры перечтения к игре первочтения: чтобы казалось, что каждая следующая реплика неизвестна и неожиданна и для персонажей, и для актера. В. Брюсов справедливо замечал, что поэзия ранняя, устная, импровизированная воспринималась подобно музыке (как первочтение), а современная поэзия, рассчитанная на чтение, воспринимается подобно архитектуре или изобразительному искусству (как «перечтение» законченных вещей)109. Можно было бы предложить еще более выразительное сопоставление: с одной стороны, радиорепортаж о футбольном матче, в котором каждый следующий момент – напряженная проблема, и с другой стороны, отчет об этом же матче в завтрашней газете, где мелочи опущены, частности обобщены и все подведено к двум-трем решающим голам, словно подготовленным всем ходом матча. При всей разнице материала это не так уж далеко от тыняновского сопоставления оды ломоносовской, в которой царит начало «наибольшего действия в каждое данное мгновение», и оды сумароковской, с ее началом «словесного развития, развертывания»110 (характеристика сумароковской оды здесь вряд ли справедлива, Сумароков писал оды еще более отрывисто и дробно, чем Ломоносов). Но это уже дальние аналогии, которых сейчас касаться не стоит.
Главное остается несомненным: подходы к тексту с точки зрения первочтения и с точки зрения перечтения противостоят друг другу как установка на становление и установка на бытие; на текст как процесс и на текст как результат; на меняющееся нецелое и законченное целое. Совершенно ясно, что ни один из них не лучше, не адекватнее другого, ни один не является всеобъемлющим: просто они ориентированы на литературу разного рода.
Можно сказать, что культурой перечтения была вся европейская культура традиционалистической эпохи, с древнегреческих времен до конца XVIII века; а культура первочтения началась с эпохи романтизма и достигла полного развития в XX веке. Культура перечтения – это та, которая пользуется набором традиционных, устойчивых и осознанных приемов, выделяет пантеон канонизированных перечитываемых классиков, чьи тексты в идеале постоянно присутствуют в памяти, так что ни о какой напряженной непредсказуемости не может быть и речи. Культура первочтения – это та, которая провозглашает культ оригинальности, декларирует независимость от любых заданных условностей, а вместо канонизированных классиков поднимает на щит опередивших свой век непризнанных гениев; в таких условиях свежесть первочтения – это идеал восприятия, и даже когда мы перечитываем стихотворение или роман, то невольно стараемся выбросить из головы все, что мы о нем помним, и как бы сами с собой играем в первочтение. Традиционалистическая культура, как сказано, учит чтению по опорным сильным местам, учит ритму чтения; новая культура оставляет читателю лишь недоуменное чтение по складам. Идеал постромантического чтения – детектив, который читатель отбрасывает, не дочитав, если случайно узнает, кто в конце окажется убийцей. (Роман-фельетон с продолжениями, обрывающимися на самом интересном месте, – прямое детище романтизма.) Если эти примеры кажутся грубыми, то попробуем представить себе, как воспринимали «Евгения Онегина» первые читатели, получавшие его главу за главой, и как стали они (и мы) воспринимать его после первого полного издания.
Поэт и в той, и в другой культуре чтится как творец, подобный богу; но традиционалистический поэт подобен богу средневековому, чьи законы творения доступны знанию человека, потому что человек создан по его образу и подобию; а постромантический поэт подобен богу послереформационному, чьи пути абсолютно неисповедимы. Самая точная формула этой культуры первочтения неожиданным образом дана в одном светлом стихотворении Кузмина, где говорится, что жизнь – это дорога, по которой мы идем,
Вот эту пропасть между читателем и «писцом» разверзла только постромантическая эпоха: старый автор допускал читателя к пониманию своей целостности, новый отстраняет читателя и оставляет ему только понимание по частям – динамическое, сукцессивное.
Петроградские формалисты, опоязовцы, переносили на восприятие старой литературы опыт восприятия новейшей и старались увидеть Пушкина глазами современников Пушкина. Московские формалисты вроде Б. И. Ярхо переносили на новейшую литературу опыт восприятия старой и смотрели на Маяковского усталыми глазами ученых потомков, роющихся «в сегодняшнем окаменевшем» и т. д. И тот, и другой взгляд позволил увидеть очень много нового и непривычного, но в то же время из фокуса ушло многое важное, что было видно раньше. Вот характерный пример. Тынянов настаивает на том, что «симметрия композиционных фактов» – понятие «опасное, ибо не может быть симметрии там, где имеется усиление»111, т. е. не симультанное, а последовательное восприятие. Это так для современного первочтения, но это не так для традиционалистического перечтения: там читатель заранее знает, что его ждет и на каком расстоянии, и поэтому, например, композиция античных стихотворных книг сплошь и рядом рассчитана именно на опознавание симметрии. Здесь даже в XX веке у Тынянова появляется сильный оппонент, работы которого представляют собой прямо-таки культ искусства перечтения: это Р. О. Якобсон с его исследованиями последних десятилетий по «грамматике поэзии» в коротких стихотворениях на разных языках. Понятие симметрии, столь неприемлемое для динамизма Тынянова, у Якобсона царствует в полной силе. Анализ Якобсона возможен, только если разбираемый текст перечитывается без конца с таким же усердием, как Библия верующими или Розеттская надпись Шампольоном. Как соотносятся, взаимоисключаются и взаимодополняются эти явления – здесь об этом говорить невозможно.
Не случайно филологи XX века предпочитали из прошлого изучать явления периферийные, менее канонизированные, то, что опоязовцы называли «младшими линиями», а М. М. Бахтин (очень произвольно) – «романом»: здесь легче было отрешиться от установки на перечтение. «Еще ничего не было решено», – начинается «Смерть Вазир-Мухтара»: формалисты подходили к классике как к живому незавершенному процессу, где еще действительно ничего не решено, – пойдет ли русская поэзия по пути архаистов или новаторов.
Самый яркий пример различной плодотворности двух подходов виден при выходе в абсолютно традиционалистический материал – фольклор. Мы знаем каталог сказочных мотивов Аарне и каталог сказочных функций Проппа; так вот, Аарне как последовательный романтик исходил из первочтения и записывал в свой каталог «золотые яблоки» как таковые, потому что при первой встрече с ними нельзя знать, будут они целью добывания, средством испытания или волшебным даром; а Пропп исходил из перечтения, и поэтому его каталог функций оказался более адекватным материалу и продвинул изучение сказки гораздо дальше.
Проблема первочтения – перечтения, к которой нас подвел Тынянов, позволяет заметить важное внутреннее противоречие всей современной, т. е. послеромантической, культуры – в отношении к классике. В принципе разницу между классикой и беллетристикой можно определить так: классика – это тексты, рассчитанные на перечтение, беллетристика – на однократное первочтение. Даже если классическое произведение читается лишь один раз, то этому предшествует какая-то предварительная наслышка, а за этим следует если не перечтение, то хотя бы готовность к перечтению. Так вот, культура восприятия классики, культура перечтения в новейшее время быстро исчезает: отчасти просто из‐за умножения числа книг (все больше читаем, все меньше перечитываем), отчасти же из‐за того, что навыки сукцессивного первочтения мешают надлежащим образом воспринимать и перечитываемое. Привычка к историческому подходу препятствует осознанным актам канонизации классики – отбору, иерархизации и комментированию (подчеркиваю – осознанному, потому что неосознанно и противоречиво это делается, конечно, и сейчас). Заменой этому служит, с одной стороны, представление об историческом пантеоне, где рябят памятники всех времен и народов, не сводясь ни к какому общему знаменателю, а с другой стороны – представление о том, что все времена только и делали, что приуготовляли нас и жили нашими заботами; соответственно, из классических памятников извлекаются только те элементы, которые кажутся созвучными нашему времени. И то, и другое лишь запутывает связи нынешнего с прошлым; свидетельство тому – вся картина нынешнего школьного изучения литературы, и не только в России, но и на Западе.
Я позволю себе закончить эту заметку вопросом частным, но близким мне как стиховеду. Тынянов несколько раз касается вопроса о свободном стихе, верлибре. Он определяет его как стих, в котором каждая строка имеет «динамически-сукцессивную метрическую изготовку», но не имеет «динамически-симультанного метрического завершения»112, т. е. в котором после каждой строки вновь и вновь возникает ожидание, что следующая строка будет ей ритмически подобна, и каждый раз это ожидание обманывается. Спрашивается, сколько может длиться это безнадежное ожидание? Сейчас, как известно, свободный стих – один из самых дискуссионных вопросов русского (и не только русского) стиховедения, и два противоположных ответа на этот вопрос зависят от установок на первочтение и перечтение. Один ответ (А. Л. Жовтис, О. А. Овчаренко): свободный стих – это стих со свободной сменой мер повтора (в отличие от классического с постоянной сменой мер повтора – стопой и проч.); это, по существу, повторение тыняновского определения, исходящего из неустанно напряженного ожидающего первочтения. Другой ответ (Ю. Б. Орлицкий, В. С. Баевский): свободный стих – это стих вовсе без мер повтора, отличающийся от прозы только делением на строки, т. е. чисто тонический стих без равноударности и без рифмы; это ответ с точки зрения читателя, который устал ждать, отбросил всякую метрическую изготовку и исходит из спокойно-констатирующего перечтения.
Первый подход, от первочтения, напоминает категорическое утверждение петроградских опоязовцев: между стихом и прозой – четкий рубеж, определяемый наличием или отсутствием установки на стих, совершенно ясной для всякого читателя стиха. Второй подход, от перечтения, напоминает скептическое представление московских формалистов из ГАХН: между стихом и прозой – широкая полоса переходных явлений, и сказать, стих ли перед нами, можно, лишь дочитав до конца и подсчитав, больше или меньше половины текста составляют строки, имеющие какое-либо единообразие. Я, со своей стороны, занимаю здесь двойственную позицию. Как исследователь я совершенно согласен с Орлицким и Баевским, что «смена мер» ничуть не отличает стих от прозы и что определить стих можно, только дочитав текст до конца и оглянувшись, – «симультанно». Но как практик свободного стиха (переводчик) я не могу не чувствовать, что ритм каждой строки у меня существует только во взаимодействии с предыдущими и (этого у Тынянова нет) с последующими: сочиняя предпоследнюю и предпредпоследнюю строку периода, я не могу не ориентировать их на звучание последней строки. Такой динамизм близок к тыняновскому, но отличается тем, что первочитательский динамизм детерминирован, а первописательский – телеологичен.
Не знаю, достаточно ли этого, чтобы предложить еще одно важное отождествление: сукцессивный подход к тексту, от первочтения, динамический, диалектический – это подход творческий, преображающий материал (творческий для поэта, сотворческий для читателя); симультанный подход к тексту, от перечтения, статический, констатирующий – это подход исследовательский, со стороны, строго соблюдающий грань между субъектом и объектом исследования. В самом деле, что такое диалектика? Как понять странное утверждение «каждый предмет и равен, и неравен самому себе»? Только творчески. Пушкин пишет стихотворение, сперва его замысел смутен, он примеривает к нему все новые и новые словесные варианты, изменяет его, проясняет его, уточняет его, но никогда не до конца; и когда он откладывает перо и отдает стихотворение в печать, то он знает, где воплощение адекватно замыслу, а где нет: оно для него – и «то», и «не то», что он хотел сказать. А для пушкиниста? Для пушкиниста оно – только «то», каждое слово в нем равно самому себе и что написано значит ровно то, что написано: усомниться в этом – значит открыть щель для собственных домыслов, для чтения между строк, за которым быстро исчезнут сами строки. Позитивистический подход изучает свой объект, диалектический подход его переделывает; творец обязан быть диалектичен, ученый обязан быть позитивистичен. Если наука начинает переделывать свой объект, она становится творчеством, искусством, философией, чем угодно, но перестает быть наукой. Тынянов предпочитал сукцессивный, творческий подход филолога к тексту – связано ли это с тем, что в конце концов он ушел из филологии в беллетристику?
P. S. Комментированные издания древних классиков начинаются конспективным изложением содержания. «Гораций, ода III, 30: мои стихи – мой памятник (ст. 1–5), вечный, как Рим (6–9); в них я, выросший из бедноты, ввел в Рим эллинскую поэзию (10–14); награди меня за это, Муза (14–16)». Студент, даже впервые читающий Горация, на любой строчке знает, что его ждет впереди: у него возникает то ощущение не первочтения, а перечтения, которое отличает восприятие классики от восприятия беллетристики. Я попробовал ввести такие конспекты и в комментарий к русским переводам – издательство воспротивилось: «Вы же не станете так разбирать „Погасло дневное светило…“?» В комментарии к переводам античных классиков пришлось вводить такое раскрытие содержания исподтишка, а в комментарии к русским классикам оно не проникло до сих пор. Между тем именно с него начинается отношение к классике как к классике.
«ТЕСНОТА СТИХОВОГО РЯДА»113
СЕМАНТИКА И СИНТАКСИС
«Теснота стихового ряда» – понятие, введенное Ю. Тыняновым в книге 1924 года «Проблема стихотворного языка»114. Термин этот, конечно, метафорический и едва ли не подсказан известной народной этимологией «Dichtung – от dicht» (на самом деле – от dictare). Тыняновское понятие стало широкоизвестным, но дальнейшей разработки не получило и применяется мало. Отчасти, конечно, потому, что сам Тынянов не дал ему прямого определения, а в косвенных указаниях слог его был очень темным и небрежным. Отчасти же, как представляется, оттого, что Тынянов задал ложное направление своим продолжателям. Внимание Тынянова было направлено в сторону семантики (сама книга его первоначально должна была называться «Проблема стиховой семантики»). Между тем гораздо более плодотворным оно может оказаться не в семантике, а в синтаксисе. Мы попробуем это обосновать и проиллюстрировать одним почти анекдотическим примером.
Вспомним ту логическую цепь четырех понятий, в которую входит у Тынянова «теснота стихового ряда» (с. 66–76). (Ни одно из них не имеет в книге прямого определения, поэтому предлагаемая их реконструкция может быть только гипотетической.) Главный признак стихотворного текста – деление на строки («стиховые ряды»), выраженное графически. Каждая строка воспринимается как законченная и замкнутая, подобно фразе; это называется «единство стихового ряда». Но она может и не совпадать с реальной фразой, тогда «синтактико-семантические членения и связи» в ней перегруппировываются, чтобы создать иллюзию замкнутости; это называется «теснота стихового ряда». Теснота и единство, вместе взятые, выделяют слова каждой очередной строки как бы крупным планом; это называется «динамизация речевого материала в стихе». («Динамизация» в буквальном, этимологическом смысле слова: усиление, подчеркнутость, то, что В. Шкловский предпочитал называть «ощутимостью».) Такой текст требует повышенного внимания, то есть читается он замедленно, затрудненно. (В частности, потому, что в стихе перед каждым словом читатель испытывает ритмическое ожидание, а после каждого слова – его подтверждение или неподтверждение; у Тынянова это называется «изготовка» и «разрешение».) Эта замедленность восприятия стиха заставляет читателя сосредоточиваться на процессе чтения, а не на результате; это называется «сукцессивность речевого материала в стихе».
Единство, теснота, динамизация и сукцессивность – четыре основных понятия Тынянова (с. 76). Для нас важнее всего «теснота» и «динамизация». Мы видим, что это не совсем одно и то же; однако мы увидим, что Тынянов склонен подменять одно другим. «Теснота» понятным образом имеет место между словами: это понятие, обращающее нас в сторону синтаксиса. «Динамизация» же происходит с каждым отдельным словом: это понятие, обращающее нас в сторону семантики. Семантика была для Тынянова интереснее; «Смысл стихового слова» – называется у него главный раздел, занимающий две трети книги. В начале своих рассуждений он говорил о «синтактико-семантических членениях и связях» (с. 67–68); далее «синтактико-» уже не упоминается и речь идет только о семантике.
Понятия, которыми пользуется Тынянов для семантики, более расплывчаты (с. 77–89). Значение слова состоит из «признаков» – по-видимому, это то, что сейчас называется «сема». Они бывают трех родов. «Основной признак» (с. 79) – это, видимо, словарное значение (хотя Тынянов и настаивает, что «слов вне предложения не существует», с. 78): сам Тынянов сравнивает его с фонемой (с. 187). «Второстепенный признак» – это то ли контекстуальные значения, то ли стилистическая («лексическая», по Тынянову) и интонационная окраска слова, то ли этимологические ассоциации (с. 80–86). «Колеблющийся признак» – это такое значение, которое ощущается в слове одновременно с основным, как в каламбуре или в метафоре (с. 87). Под влиянием интонации колеблющийся признак может даже вытеснить основной – как при употреблении бранных слов в качестве ласкательных (с. 88, ср. 215). Тынянову явно хотелось, чтобы стиховая интонация (но этого слова он не употребляет!) именно так деформировала значение всех стиховых слов.
(Можно сделать любопытное сопоставление. О деформации смысла слов [в частности, бранных] интонацией писал в 1930‐х годах Л. И. Тимофеев, опираясь на Ж. М. Гюйо. Но для него носителем интонации был не стих, а эмоция; стих был прямым продолжением ее, «типизированной формой эмоциональной речи». Для Тынянова – наоборот: стих противостоит всем достиховым значениям речевого материала, и предметным, и эмоциональным; именно поэтому, вероятно, Тынянов избегает слова «интонация» – оно слишком связано с «вульгарным понятием „настроения“», с. 121.)
Далее у Тынянова следует ряд примеров. Первый и самый яркий (с. 95) – известные две строки Батюшкова с анжамбманом «И гордый ум не победит | Любви, холодными словами» с замечанием Пушкина: «смысл выходит: холодными словами любви; запятая не поможет». Здесь, действительно, теснота стихового ряда перестраивает его смысл. Но это именно потому, что перед нами не столько семантика, сколько синтаксис, перераспределение синтаксических связей между словами: меняется смысл не слова, а словосочетания. Ни «любовь», ни «холод», ни «слова» по отдельности не меняют смысла. Примеры на отдельные слова начинаются лишь после этого, и чем дальше, тем они менее убедительны.
Примеры из Полонского (с. 98–101): «Кура шумит, толкаясь в темный | Обрыв скалы живой волной». Анжамбман, бесспорно, динамизирует слово «темный», оно звучит подчеркнуто, но меняется ли от этого его значение? Тынянов полагает, что да: в нем усиливаются второстепенные «эмоциональные» признаки (вероятно, мрачность), а может быть, появляется и колеблющийся – значение шума от слабого созвучия со словом «шумит». Далее у Полонского: «Гляди: еще цела за нами | Та сакля, где, тому назад | Полвека, жадными глазами | Ловил я сердцу милый взгляд». Тынянов полагает, что анжамбман подчеркивает слова «за нами» с их пространственным значением, а потом еще сильнее – слово «назад», и от этого слово «назад» приобретает не только временное, но и пространственное значение (с. 101). Каждый согласится, что это очень произвольные натяжки. Самое большее, можно сказать: динамизация слова, ощущение его повышенной важности побуждает читателя предполагать за нею необычный смысл и досочинять его сколь угодно фантастично. Сам Тынянов характерным образом проговаривается: перед нами «то изменение семантической значимости слова, которое получается в результате его значимости ритмовой» (с. 111). «Семантической значимости», а не «значения»; это динамизация, а не переосмысление; это эмфаза, усиление собственного значения слова, а не приобретение дополнительного.
Тынянов это чувствует и далее уже не предлагает домыслов насчет конкретных «колеблющихся значений». Ахматова, «На шелковом одеяле | Сухая лежала рука»: слово «шелковом» подчеркнуто паузой, от этого в нем «оживляется основной признак слова» – как будто он отсутствовал (с. 113). Пушкинская Муза «И в пеленах оставила свирель, | Которую сама заворожила»: «здесь слово „которую“ настолько динамизовано, что уж вовсе не соответствует своему скромному назначению и тусклым признакам значения, и, динамизованное, оно заполняется колеблющимися признаками, выступающими в нем» (с. 114) – какие значения могут колебаться в служебном слове, трудно представить. Но у Тынянова это не обмолвка: цитируя стихи Маяковского, где союзы «и» и «или» выделены в отдельные строки (с. 104), он пишет, что выдвигание их особенно деформирует речь, «а иногда и оживляет основной признак [значения] в этих словах». Блок, «В кабаках, в переулках, в извивах, | В электрическом сне наяву…»: здесь, по Тынянову, новые значения, может быть, и не возникают, но старые разрушаются, кабаки-переулки-извивы «несвязуемы по основным признакам» (с. 124), хотя вроде бы эта смысловая перспектива вполне ясна: это город, углубление в город; кабаки, за их стенами – переулки, и они извивами уходят вдаль. При этом заметим: в этом примере нет даже никакой стиховой специфики, в прозе («в трактирах, в переулках, в извивах») мнимое разрушение смысла было бы то же. Тынянов опять подменяет свой предмет – говорит не о «стихотворном» языке, а о «поэтическом» языке, который бывает и в прозе. (Точно так же не зависит от стихотворной формы и ощутимость метонимии Жуковского – Уланда «Там, в блаженствах безответных», «Durch die öden Seligkeiten», на которой Тынянов подробно останавливается на с. 128–132.) Именно за это книгу Тынянова педантически критиковал Б. И. Ярхо: ритмические курсивы имеют место на стиховом уровне строения текста, семантические сдвиги – на языковом уровне, а есть ли между ними корреляции, это требует долгих и трудных доказательств115.
Там, где речь идет не о появлении нового значения, а об оживлении существующего, наблюдения Тынянова более убедительны. В примере из Полонского (с. 101–103) «Гор не видать – вся даль одета | Лиловой мглой…», по Тынянову, слово «одета» выделено анжамбманом и поэтому в нем оживает буквальный смысл метафорического слова, оно ассоциируется со словом «одежда», а не, например, со словом «покрыта»; в самом деле, психологическая пауза на словоразделе позволяет читателю дольше остановиться вниманием на этом слове и лучше увидеть оба значения, которые были в нем. Справедливо и то, что аллитерации в стихе (впрочем, не только в стихе!) создают иллюзию семантической близости слов, «ложную этимологию», «звуковую метафору»: «Феррара, фурии…» или «очей очарованье» (с. 146–156). Однако все, что сверх этимологизации, остается у Тынянова сомнительными домыслами: о пушкинских строчках «И в суму его пустую | Суют грамоту другую» говорится, будто слово «суют» здесь повышенно наглядно (это «явление звукового жеста, необычайно убедительно подсказывающего действительные жесты»), а слово «суму», наоборот, выцветает (с. 150–151).
Из примеров ясно: Тынянов обнаруживает изумительную чуткость к необычному звучанию слов в стихе, но истолковывает эту необычность неубедительно и тенденциозно. Слово «…которую (сама заворожила)» действительно звучит в стихе повышенно ощутимо, но только потому, что оно (непропорционально своему скромному значению) длинное, четырехсложное, а произнести его бегло, убыстренно не позволяет стихотворный ритм. Значение его остается неизменным. Тынянов же там, где перед нами эмфаза, усиление собственного значения слова, старается видеть пересемантизацию, появление новых значений или хотя бы разрушение старых. Это, конечно, от общей бравады опоязовского авангардизма: подчеркивать, что смысл в поэзии – не главный, а лишь один из множества равноправных элементов («идет речь о „бессодержательных“ в широком смысле словах, получающих в стихе какую-то „кажущуюся семантику“» [с. 118], со ссылками на Гете, Киреевского и потом на Ходасевича). Если «Проблема стихотворного языка» Тынянова осталась без влияния на русскую филологию, то это потому, что каждый, кто мог разобраться в его доводах и проверить себя на его приемах, должен был убедиться: выводы не подтверждаются.
Поэтому лучше вернуться к началу его пути и пойти в другом направлении: не прямо в семантику, а в синтаксис и лишь через него, может быть, в семантику. Вернуться к примерам типа «любви, холодными словами», в которых переосмысляются не слова, но словосочетания, и переосмысляются действительно под влиянием тесноты стихового ряда. На этом пути уже сделана разведка и обнаружены некоторые интересные вещи, которые при Тынянове еще не были известны.
Почему теснота стихового ряда переосмысляет строку «любви, холодными словами»? Потому что в русском стихе, как правило, более слабые межсловесные синтаксические связи находятся между строк, перед «любви», а более тесные внутри строки, после «любви»: от этого слова в строке и сближаются. Это так очевидно, что Тынянову, вероятно, было просто скучно этим заниматься. Но вот что менее очевидно, однако достоверно: внутри строки тоже есть такие позиции, к которым тяготеют более слабые синтаксические связи, и такие, к которым – более тесные. Мы в сотрудничестве с Т. В. Скулачевой подсчитали это на очень большом материале и со множеством подробностей116. Обычно позиции тесных и слабых синтаксических связей в стихе чередуются. В полноударной строке 4-стопного ямба самые тесные связи – последняя и первая, а самая слабая – средняя. Строки, где серединная связь самая слабая, «Одним дыша, одно любя», встречаются у Пушкина очень часто, а строки, где серединная связь самая сильная, «Что ум, любя простор, теснит», – единичны. Настолько единичны, что нам хочется по синтаксической инерции даже эту строчку прочитать с переосмыслением: «Что ум, любя, – простор теснит» – не «любит простор», а «теснит простор». Чем это не действие тесноты стихового ряда?
Вот здесь и место для обещанного анекдотического примера, чтобы не казалось, будто такие переосмысления – надуманные.
Есть книга Андрея Шемшурина «Футуризм в стихах В. Брюсова»117, где автор, искусствовед, литератор-дилетант, специализировался на нетрудной критике модернистской поэзии с точки зрения здравого смысла. С притворным видом полной художественной бесчувственности он обнаруживает у Брюсова на каждом шагу двусмысленности, нарочито буквально понимает метафоры и метонимии и даже футуристическую заумь. Заумь он получает простейшим образом: сливает пару смежных слов и получает одно, длинное и бессмысленное. «Но, покоряясь Року, реки | Должны стремиться в свой океан»: какое футуристическое слово – «рокуреки»! Всего в его книге 400 с лишним пронумерованных придирок, в том числе 40 с лишним таких заумных сдвигов, и раздел этот озаглавлен словом «боемструй». «Боемструй» для него – предельный образец футуристической сдвигологии, об иных сдвигах он попросту говорит: «это маленький боемструй». Происхождение этого слова вот какое.
У Брюсова в стихотворении «Антоний» есть четверостишие про битву при Акции: «Когда решались судьбы мира | Среди вспененных боем струй, | Венец и пурпур триумвира | Ты променял на поцелуй» и так далее. «Среди – вспененных боем – струй» – строка такого же редкого строения, как «Что ум, любя простор, теснит». Последняя межсловесная связь в строке, «боем струй», на самом тесном месте, – непривычно слабая, и слух старается ее не замечать; предпоследняя связь, «вспененных боем», на самом слабом месте, – непривычно сильная (после определения!), и слух старается вообразить ее последней. Получается словосочетание «Среди – вспененных – боемструй», как бы род. множ. от мнимого слова «боемструи». И замечательно, что почти все сорок шемшуринских мнимых сдвигов, включая «рокуреки», срастаются именно в конце строки, где синтаксическая инерция диктует самую тесную связь. (Подробнее об этом – в нашей статье о «боемструе», печатающейся в сборнике в честь И. И. Ковтуновой118.) Разумеется, Шемшурин не приводит никаких лингвистических резонов, он только пишет: «я отмечал примеры боли своего чувства» и т. п. Но чувство его работало безукоризненно и фантазировало именно на местах тех синтаксических сгущений русского стиха, которые выявлены лишь совсем недавно.
А что получается? Теснота стихового ряда (а не что-нибудь иное) деформирует синтаксис: перераспределяет синтаксические связи внутри строки на привычный лад. А деформированный синтаксис преобразует семантику: самым наглядным образом вместо осмысленных слов возникает бессмысленное. Тынянов был бы рад. Вот это мы и имели в виду, предлагая ревизию тыняновского понимания «Проблемы стихотворного языка»: попробуем пойти от тесноты стихового ряда не прямо в семантику, а в синтаксис, и лишь через него, может быть, в семантику.
«Динамизация» слов стихотворного текста не порождает новых смыслов, она лишь подчеркивает существующие. Точно так, например, если набрать некоторый текст (все равно, стихотворный или прозаический) курсивом, он будет восприниматься на фоне окружающих текстов как повышенно важный, однако ни одно отдельное слово в нем не изменит своего значения – ни узуального, ни окказионального. Вся поэзия в системе словесной культуры воспринимается обычно именно так: как совокупность текстов повышенной важности. (Можно продолжить параллель и вообразить, что внутри прозаической фразы курсивом наудачу, произвольно выделено какое-нибудь одно слово; тогда оно на фоне смежных будет восприниматься как повышенно важное, а читатель будет фантазировать почему. Непоследовательность Тынянова в том, что в теории он утверждает реальную «динамизацию» всех слов стихотворного текста, а иллюстрировать ее пытается примерами мнимой «динамизации» единичных слов стихотворного текста.)
Напротив, «динамизация» межсловесных связей в стихотворном тексте действительно порождает новые смыслы: там, где читатель ждет слабую связь (например, на стихоразделе), для него разрушаются реальные словосочетания, а там, где он ждет тесную связь (например, перед последним словом строки), для него возникают мнимые словосочетания, каждое со своим мнимым смыслом. Сам Тынянов приводит пример из Тютчева (с. 95–96): «Тому, кто <…> | Как бедный нищий, мимо саду | Бредет по жаркой мостовой»; из‐за стихораздела слова «мимо саду» воспринимаются не как обстоятельство, «бредет мимо саду», а как несогласованное определение, «нищий мимо саду». Примеры такого рода может умножить всякий внимательный читатель стихов. Совершенно так же в строках «Весело сияет | Месяц над селом» мы воспринимаем «над селом» не как обстоятельство к «сияет», а как несогласованное определение к «месяцу». У Лермонтова («Последний сын вольности») в строках «Князь Рурик с силой боевой | Пошел недавно на врага» мы читаем «Рурик с силой боевой» (подлежащее-словосочетание), а не «с силой боевой пошел» (сказуемое с дополнением). У Огарева («Тюрьма») в строках «Один метался, как живой, | Себя упорно согревая, | Пред воротами часовой» мы читаем «пред воротами» как несогласованное определение к «часовой», тогда как при перестановке строк *«Пред воротами часовой | Один метался, как живой» мы прочли бы «пред воротами» как обстоятельство к ожидаемому глаголу «метался». Здесь действует тот же механизм, что и в перестройке фразеологизмов, когда в словах «идет один за другим» мы ощущаем связь слов «один-за-другим» гораздо сильнее, чем связи «идет один», «идет за другим». Теснота стихового ряда сращивает слова в подобия фразеологизмов.
Заметим, что и в примере из Полонского «Та сакля, где, тому назад | Полвека, жадными глазами | Ловил я сердцу милый взгляд» Тынянов, домысливая «пространственное значение» к слову «назад», не заметил гораздо более ощутимое синтаксическое переосмысление: «полвека ловил я глазами милый взгляд».
Термин «теснота стихового ряда» для Тынянова явно перекликается с (дважды им упоминаемым) термином Вундта Begriffsverdichtung durch syntaktische Assoziation («сгущение понятия», переводит Тынянов), а тот, в свою очередь, с термином Бреаля contagion («заражение» значением смежных слов). О вундтовском термине Тынянов вспоминает в связи с игрою эллипсами (с. 105, 203), при таких примерах, как «барон сверкал» (вместо «сверкал глазами») или «кубик колбасы, столь издававшей» (вместо «издававшей запах»). О бреалевском термине он, по-видимому, помнит, когда говорит об унификации слов в стихе по «колеблющимся признакам» (с. 133–145). Из осторожности он рассматривает здесь только стилистические «признаки», но естественно напрашивается вопрос и об унификации семантических признаков, так сказать, об обмене смежных слов колеблющимися признаками значения. В традиционной терминологии это означало бы игру метонимиями. Экспериментальные образцы такой игры появились уже после тыняновской книги: разрозненно – у Д. Хармса (в «Елизавете Бам»: «в полпивную – бутылку пива и горох, полбутылки пива – не в пивную, а в горох, шубу в полпивную, а на голову полгорох»; ср. «Иван Топорышкин пошел на охоту…», 1927–1928), серийно – у Г. Сапгира («Развитие метода»: «дьявол будет связан и низринут в бездну, бездна будет связана – в дьявола низринута, дьявол будет бездной…», 1991). Стихи такого рода могут считаться упражнениями именно на тесноту стихового ряда, благодаря которой все слова строки как бы становятся взаимозаменяемыми.
Это подводит нас к гораздо более широкой теоретической проблеме: что больше соответствует стихотворной форме поэзии – поэтика метонимий или поэтика метафор? Исходя из понятия тесноты стихового ряда, мы логически приходим к поэтике смежности, поэтике метонимий. По-видимому, к тому же приходит Р. Якобсон в своей знаменитой формуле: поэтический язык есть проекция оси селекции на ось комбинации, парадигмы на синтагму; синонимический ряд, из которого делается отбор, превращается в последовательность слов строки или предложения, но сохраняет свою синонимическую однородность. Однако в то же время у Якобсона есть и противоположные утверждения: для поэзии и для романтизма характерна метафоричность, для прозы и реализма – метонимичность, а вторжение метонимической поэтики в поэзию, как у Пастернака, – исключение. Может быть, разумно было бы сказать: параллелизм, взаимодействие стиховых рядов стимулирует в поэзии метафоричность, а теснота, изолированность стиховых рядов стимулирует в поэзии метонимичность; меняющееся соотношение этих двух начал определяет эволюцию поэтических стилей. Но подробное рассмотрение противоречий между Тыняновым и Якобсоном и между Якобсоном и Якобсоном заведомо выходит за пределы темы этой статьи.
«РИТМ И МЕТР» Н. В. НЕДОБРОВО В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ119
Статья Н. В. Недоброво «Ритм, метр и их взаимоотношение»120, история которой обследована К. Ю. Постоутенко, практически мало известна даже среди специалистов. Журнал, в котором она напечатана, малотиражен и труднодоступен, а популяризирующих пересказов ее (таких, какие были, например, для «Символизма» А. Белого) в стиховедческой литературе не было. Поэтому напомним ее основное содержание.
В статье три части, каждая из которых представляет особый интерес; наиболее важны первая и последняя.
Статья была откликом на «Символизм» А. Белого, изданный весной 1910 года, – на его вторую часть со статьями, впервые в русской науке разделившими понятия «метрики» и «ритмики» и выдвинувшими вторую в противоположность первой. «Метром» был, например, 4-стопный ямб, единая схема для всех языков, эпох и поэтов, которые им пользовались; «ритмом» был индивидуальный 4-стопный ямб такого-то поэта или такой-то эпохи. Разница этих индивидуальных ритмов определялась предпочтениями пропусков схемных ударений на тех или иных стопах; разницу эту Белый доказал точными подсчетами блестяще и неопровержимо. Вывод Белого был: ритм в стихах первичен, метр вторичен; ритм есть творческое начало, «дух музыки», движущий поэтом (ницшеанский термин)121, – метр есть отстоявшийся, кристаллизовавшийся ритм, застывший в жесткую схему. Стихи живут постольку, поскольку в них сквозь омертвелый метр пробивается творческий, динамический ритм. Поэтому возможны стихи вне традиционных метров, держащиеся одним только ритмом, – таковы тонические стихи символистов. Этот вывод Белый делает скороговоркой и прячет его в примечания122, но совершенно ясно, что главным толчком к его стиховедческой работе была именно потребность теоретически оправдать новаторскую стихотворную практику – свою и своих товарищей.
«Символизм» имел бесспорный успех, по крайней мере в том узком круге читателей и писателей, на который он был рассчитан. Тем не менее Недоброво начинает свою статью так, как будто Белый ничего не достиг: «Поднять вопрос о взаимоотношении ритма и метра своевременно. До последнего времени в передних рядах искусства проповедовался общий закон верховенства художнического произвола, и этот общий закон без спора покрывал собою и произвол в области стихосложения. Но за последние годы старые правила оценены по-новому, и высоко поднято знамя канона, а так как пока не выработано другого, кроме метрики, цельного канона размеренной речи, право поэта на свободную ритмику может быть взято под сомнение». Отчего такое начало, мы увидим потом.
Далее следует установление элементов ритма и метра. Это, во-первых, «звуки и паузы» (т. е. слова и словоразделы), а во-вторых, среди «звуков» – ударные и безударные слоги. На учете длины слов и позиций словоразделов основано силлабическое стихосложение, на учете ударных слогов среди безударных – тоническое. В русском стихе учитывается как то, так и другое, поэтому «как метрика, так и ритмика русские должны почитаться силлабо-тоническими». Здесь практически впервые употреблен этот термин, быстро ставший общепринятым; собственно, только по этому поводу и вспоминают обычно стиховеды статью Недоброво. В XIX веке русское стихосложение в учебниках называлось «метрико-тоническим» и т. п.; «силлабико-тоническим» его назвал лишь однажды Н. Надеждин в статье «Версификация» в «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара (1837. Т. 9), но об этом не помнили ни Недоброво, ни его современники.
И деление на слова, и выделение ударных слогов – это форма речи, звуковой же состав слогов и слов – это носитель ее содержания. Форма не безразлична к содержанию. «Содержание понятий передается главным образом качественною стороною звуков, но само волнение духа – эмоциональный аккомпанемент всей духовной жизни, – оно отпечатывается в ударениях и паузах. Чем речь живее, чем она свободнее, тем яснее ее паузы и ударения дают восчувствовать толчки и затишья внутренней жизни всего существа человека» и т. д.; «ее ударения и паузы совпадают с ударениями и паузами души». Современный русский читатель с удивлением узнает здесь будущую концепцию Л. И. Тимофеева: «стих есть типизированная эмоциональная речь». Л. И. Тимофеев ссылался при этом на М. Гюйо, а Гюйо опирался на Спенсера; любопытно, что при этом Гюйо, несомненно, воображал себе стих французского силлабического типа, а Спенсер и Тимофеев – стих силлабо-тонического типа, но никого из них эта разница, видимо, не заботила.
Если, таким образом, всякая искренняя эмоциональная речь ритмична, то, спрашивается, чем же определяется разница между стихом и прозой? Не является ли (договариваем мы за Недоброво) «свободная ритмика» символистов на самом деле ритмикой прозаической? Нет, отвечает Недоброво: разница эта определяется установкой восприятия – «простейшим способом привлечь внимание к ритму является предупреждение: речь, которую ты сейчас услышишь, будет ритмичною». Этому служит даже графика: на книжной странице «кто по одному взгляду не узнает элегического дистиха, эпода, сонета, рондо, терцин?» Термина «установка» у Недоброво, конечно, еще нет, хотя это понятие, столь важное в нынешней психологии, уже было открыто вундтовской школой. В применении к стихосложению оно касается преимущественно тех форм, которые были еще малоактуальны для русской поэзии 1910–1912 годов, но уже актуальны для поэзии европейской – для верлибра и других промежуточных форм между «правильным» стихом и прозой. Недоброво заглядывает неожиданно далеко вперед: замечание о роли графики приводит на память даже современную конкретную поэзию. Любопытно, что в собственном творчестве Недоброво держался только строгого классического стиха, а Белый, наоборот, начиная с самых первых литературных проб экспериментировал над формами, промежуточными между стихом и прозой (десятилетию выхода его «Второй симфонии» была посвящена заметочка Э. К. Метнера в «Трудах и днях» непосредственно вслед за статьями Недоброво), но в «Символизме» он о них молчал.
Стало быть, делает Недоброво следующий шаг, «метр в речи может быть отыскан формально, а ритм может быть признан лишь внутреннею восприимчивостью человека»; «метр – в области формальной отметки ударений и пауз; ритм – в естественной напевности души». Сказанное о ритме – прямое следствие из сказанного об установке восприятия; из позднейших стиховедов о важности психологии восприятия ритма настойчивее всех говорил, пожалуй, С. М. Бонди (в лекциях). Сказанное о метре, по-видимому, означает только то, что если ударения в тексте и упорядочены, но внимание на этом не заострено, то текст воспринимается как проза, поэтому «самородные ямбы» в прозе (термин С. П. Боброва) – «Германн немец, он расчетлив, вот и все, – заметил Томский» и т. п. – остаются неощутимы. Это потом продемонстрировал Б. В. Томашевский в статье о ритме прозы 1920 года123. В наши дни к проблеме метризованной и (что интереснее) частично метризованной прозы и ее восприятия вновь привлек внимание обширными нововыявленными материалами С. И. Кормилов.
Следующий вопрос: что же важнее в стихе, метр или ритм? Это предмет второй, серединной части статьи Недоброво. Ответ, как уже можно предугадать, дается по А. Белому: конечно, ритм. Для этого рассматриваются три теоретически возможных случая: метр без ритма, ритм без метра, метр с ритмом. Примеры метра без ритма (т. е. без единого нарушения схемы) автор затрудняется найти и ограничивается предположением, что он «должен оставлять впечатление правильного раскачивания и соответственно неприятно действовать на душу». Наоборот, примеры ритма без метра приводятся щедро. Силлабический элемент метра нарушается в дольниках Блока («переход от трехдольных стоп к двухдольным», выражается Недоброво), в тактовиках Вяч. Иванова («ритмика, свободная от каких-либо стоп»), в «Последней любви» Тютчева, в дактило-хореическом гексаметре. Тонический элемент метра нарушается в таких строчках, как «Все сорвать хочет ветер, все смыть хочет ливень ручьями» Фета (анапест!); «Мысль изреченная есть ложь» Тютчева («хорей, ямб, пиррихий и спондей, то есть в одном стихе полное собрание всех мыслимых двухдольных стоп»); «В заветную их цитадель» Тютчева (4-стопный ямб, звучащий 3-стопным амфибрахием) и т. п. Именно от Недоброво эти примеры стали без конца кочевать по стиховедческим работам. Наконец, о совпадении метра с ритмом сказано: «при наличности его не решить, чтó придает стиху очарование: ритм или метр. Стоит тем не менее сказать, что при этом совпадении все-таки можно выделить впечатление, оставляемое именно ритмом, так как проявление его в метре заключается в выдвигании над другими отдельных ударений и пауз, тогда как перед лицом метрики каждое ударение и каждая пауза равны всем прочим ударениям и паузам». Это уже наблюдение более тонкое и дальновидное: изучению дифференцированного ритма сильных и слабых ударений пришел черед только в 1970‐х годах, а изучению ритма сильных и слабых словоразделов (и через него – синтаксиса межсловесных связей в стихе) – только в 1980-х.
После этого обзора Недоброво переходит к третьей, заключительной, самой краткой части. Если, таким образом, все в стихе определяется ритмом, то зачем стиху метр? «Что такое метр? Метр – это инерция ритма». Во-первых, он предварительно настраивает слушателя на ритм будущих кульминационных движений, во-вторых, по миновании этих движений он подменяет ритм, и душа «под симметричные качания метра или засыпает и утихает, или, затихнув, собирает силы для нового творческого порыва». «Употребление рискованного ритма, то есть такого, перевод которого в метр не возможен в любую минуту», ограничивается лирикой и напряженными сценами драм и эпоса, «когда, по обстоятельствам, на известном пространстве строк не приходится расставаться с непосредственным ритмом внутренних движений»; а на метр опирается поэт в повествованиях и рассуждениях, «почему-либо не несомых в данное время на волнах духа». Это – самая важная новация Недоброво по сравнению с тем, что было предложено Белым: в ощущении Белого метр в стихе был досадной помехой, в ощущении Недоброво – полезной опорой. Именно это понимание инерции, возникающей не в отдельно взятой строке (как в восприятии Белого), а лишь в последовательности строк, оставляющих след в сознании и формирующих эстетическое ожидание, было воспринято Б. В. Томашевским (в более динамичной форме) и В. М. Жирмунским (в более статичной); термин Томашевского «ритмический импульс»124 явным образом восходит к «метру – инерции ритма» Недоброво.
Наконец, заключительный абзац – тот самый, который вызвал возражения у Э. К. Метнера. Если главное в стихе ритм, а ощущение ритма зависит не от его формальных признаков, а от душевного предрасположения, а «человеческий дух неустанно развивается», открывая новые и новые источники красоты, – то «перед нами беспредельное дикое поле невозделанных ритмических возможностей», «растет и будет расти область ритма, и потому, когда у нас появляется желание раздвинуть рамки стихосложения, не следует ли нам доверчиво давать руку свободному ритму, который вел бы нас; он, может быть, приводил бы и к новым метрическим схемам – чтобы снова оставить их позади». На этом кончается статья.
У статьи есть эпилог: за нею следует отчет того же Н. В. Недоброво «Общество ревнителей художественного слова в Петербурге», и мы к нему еще вернемся. Но, что интереснее, у статьи есть и пролог. В предыдущем, первом, программном номере «Трудов и дней» напечатаны в начале две статьи по докладам на заседании этого самого «Общества ревнителей художественного слова» (18 февраля 1912): «Мысли о символизме» Вяч. Иванова и «О символизме» А. Белого (и как бы приложением к ним третья, «Нечто о каноне» В. Пяста); а в конце – установочная заметка Э. К. Метнера «Мусагет» и за ней несколько других. И здесь, в статье Белого, основная мысль Недоброво уже упоминается и, так сказать, авторизуется самим зачинщиком нового стиховедения. Здесь сказано: «Главное наше требование к поэту заключается в том, чтобы он целомудренно сохранил чистоту душевных волнений, запечатленных ритмом, дабы метр его слов, по прекрасному выражению одного теоретика (сноска: «Н. В. Недоброво»), был бы лишь только „моментом инерции ритма“, обусловленной словом. Самый же путь воплощения слова, оставаясь бессознательным в глубине, измеряем брошенным в творчество „лотом“ сознания…»125 – и т. д., превосходная автохарактеристика Андрея Белого, этого мистика с физико-математическим образованием, с начала века экспериментировавшего интуитивно над стиховыми ритмами, а десять лет спустя осмыслившего эти эксперименты с цифрами в руках и над сторонним материалом. Теперь творческий опыт и его теоретическое, научно-описательное осмысление соотнеслись в его сознании, как ритм и метр в концепции Недоброво.
Этот вопрос о соотношении стихийного и сознательного вписывается в статье Белого в контекст очень широкой принципиальной проблемы – ни много ни мало проблемы сущности истинного символизма.
Белый рассуждает так. Есть две крайности: «аморфный романтизм», требующий, чтобы поэт руководился только своим «нутром», и «отчетливо расчлененный парнассизм», классицизм, требующий, чтобы поэт руководился «внешним каноном» предписываемых технических правил. Истинный путь свободного творчества – посредине между этими крайностями: от бессознательности к осознанию, и осознанию не только формальному, а и содержательному, к канону не универсальному, а единичному. «Определить смысл творчества философски или даже сказать о том в песне – значит в свободе своей ощутить „внутренний канон“: ибо свобода есть свобода в каноне, а не свобода от канона, а сказать, что искусство имеет внутренний свой канон, это значит утвердить свободу искусства как путь, – и не как беспутицу вовсе»126. «Символист – это тот, кто самое вдохновенье поэзии непроизвольно видит в музыкой порожденном видении: в этом он совпадает с романтиком. Символист – это тот, кто музыкой порожденное явленье, эту плоть его песни, заключает в крепкое слово; эта кованность слова позволяет ему и быть классиком»127. «Содержание есть напевность души; форма же – материал с его оформляющей техникой; а единство того и другого лишь увенчивает творенье, оно – творческий акт»128. Осознание этого творческого акта – наука, не являющаяся «ни метафизикой, ни теорией творчества», не предписывающая творчествам, а «описующая творчества»129, – так, как Белый описывал ритм в «Символизме». Мы видим за этими рассуждениями и ритм как «напевность души», и метр как «оформляющую технику». А опасно обхаживаемое слово «канон» мы помним в первых фразах статьи Недоброво.
Прояснению этого термина служит как бы постскриптум к статье Белого – статья В. Пяста «Нечто о каноне»130. Он возводит постановку этой проблемы к событию двухлетней давности – знаменитым выступлениям Вяч. Иванова и А. Блока по итогам символизма в том же «Обществе ревнителей художественного слова» 26 марта и 8 апреля 1910 года131, вызвавшим отклики и Брюсова, и Белого, и Мережковского, и Городецкого. Пяст пересказывает Вяч. Иванова не по «Аполлону», а по памяти об устном докладе; это у него выглядит так. Русский символизм проходит три фазы. Первая – прозрение, откровение, ощущение свободы от «старых заветов и предрассудков». Вторая – тягость от свободы без цели, от своеволия, потерявшего согласие «с единою Волею – с Мировой душою», поиск новой цели, нового «во имя». Третья, предстоящая – синтез после тезиса и антитезиса: «подвиг художественного послушания», «добровольное подчинение внутреннему канону с его существенным признаком – гармоническим равновесием». «Творческий подвиг – выполнение внутреннего канона». «Творческая душа должна укладываться во внутренние рамки каждого рода творчества, который она оживляет»: важно, что «сонет должен быть сонетен», а не то, что он должен быть написан таким-то размером с такой-то рифмовкой. Канон принципиально недостижим: «Только Бог, когда в седьмой день творенья обозрел созданное им, только Бог мог найти: „все добро есть“… И то было единственное исполнение канона»132. Запомним эту фразу о Боге и его творении.
Откуда эта сосредоточенность на «каноне» (и, соответственно, важность реабилитации «метра» на фоне «ритма»), становится ясным из скромного редакционного послесловия к номеру – заметки Э. Метнера «Мусагет». «Это имя подчеркивает аполлинизм (вовсе не отрывая его, однако, от дионисизма) и отмежевывается от эстетства, ибо означает объединение всех видов творчества в согласном служении цели создания культуры»133. Слово «канон» не упомянуто ни разу, но ясно, что аполлинизм есть именно «гармоническое равновесие», то есть самоосознанный канон, то есть метр, а не «свободная ритмика». К этой аполлинической гармонии «все виды творчества» приходят через дионисическую «бурю и натиск»: наука в лице позитивизма и «самодовлеющего успокоенного неокантианства» (шпилька А. Белому, именно неокантианством побужденному к исследованию феноменов стиха) еще не дошла до «бури и натиска», религия переживает эту стадию (экстремистски противопоставляя себя остальным формам культуры), а искусство, к счастью, уже миновало ее и должно скорее разделываться с наследием Диониса («который, расставаясь с Аполлоном, становится по необходимости „сомнительным и лживым идеалом“»). Дионисийская эмоциональность и порыв к бесконечности претят аполлинической завершенности – отсюда протест Метнера против соответствующих пассажей статьи Недоброво. Но Белый, лишь через силу приневоливавший себя к метнеровскому аполлиническому идеалу, заступился за Недоброво, а терять такую силу, как Белый, «Мусагету» было невыгодно, и Метнер не стал настаивать. Но недолговечность «мусагетского» культурного союза уже предугадывалась.
В следующем, втором номере «Трудов и дней», как сказано, за статьею Недоброво следовал его же отчет о последних заседаниях «Общества ревнителей художественного слова»134. Их было три; два из них имеют к нашей теме ближайшее отношение.
Заседание 28 января 1912 года было посвящено рассказу А. Белого о работе его московского «Ритмического кружка» и о совершенствовании его исследовательской методики после «Символизма». Недоброво с удовольствием констатирует, что установлено «более справедливое отношение к отдельным метрически правильным строкам, которые теперь уже не представляются чем-то вроде ритмических провалов, но включаются в общую структуру ритма»135. Но тотчас за этим следует невинное, с первого взгляда, сообщение: «Б. Н. Бугаев указал в частности на изобретенный членом кружка А. Барановым способ путем вычисления некоторого отношения между строками, как метрически выдержанными, так и содержащими отступления от метра, выводить числовые для каждой строфы показатели и на основании их вычерчивать кривую ритмической волны всего стихотворения». Мы знаем: это была та знаменитая формула n – ¹/n, которая увлекла Белого на совершенно новый путь исследования ритмики – не в статике «ритмических фигур», а в динамике «ритмического жеста», в безостановочном движении, чуждом всякого аполлинического покоя. Идейной опорой нового метода стала для Белого эвритмия Р. Штейнера, антропософское увлечение повлекло разрыв его с Метнером и «Мусагетом», и завершением нового направления его работы стала через пятнадцать лет незаслуженно мало оцененная книга «Ритм как диалектика» (1927, изд. 1929). В терминологии Метнера это увлечение должно было выглядеть преступным возрождением дионисийства.
Заседание 18 февраля 1912 года «было посвящено чтению и обсуждению докладов В. И. Иванова и Б. Н. Бугаева о символизме», которые легли в основание статей их в предыдущем номере «Трудов и дней». В. Пяст и В. Чудовский «говорили как, в основном, единомышленники докладчиков», но Д. В. Кузьмин-Караваев «усматривал в мыслях докладчиков призыв поэзии к достижению не соответствующих ей целей», С. Городецкий «находил, что символисты самораспинаются в своем стремлении в запредельную даль», и Н. Гумилев «также заявил о своем отрицательном отношении к символизму»136. Это значило: «фактически было провозглашено создание нового литературного направления – акмеизма»137; название его, как известно, устно было декларировано в декабре 1912 года, а печатно – в январе 1913-го. Неизвестно, читали ли выступавшие Гумилев и Городецкий еще не вышедшую статью Пяста «Нечто о каноне», но они могли бы подписаться под тем, что в ней говорилось о Боге и его творении как «единственном исполнении канона»: после этого поэзии не нужны были иные миры и достаточной становилась земная красота. В терминологии Метнера это, вероятно, выглядело преступным экстремизмом аполлинизма.
Так стремительно разошлись литературные искания, пересекшиеся было на первых порах «Трудов и дней». Статья Н. В. Недоброво о ритме и метре осталась на скрещении этих путей, и никому не хотелось на нее оборачиваться. Мы попытались показать, что этого забвения она не заслуживала: мысли ее были плодотворны для классического стиховедения 1920‐х годов и не утратили значения и теперь, через восемьдесят лет после ее появления.
«ПОЭТ – ЭТО КОНКИСТАДОР, А СТИХОВЕД – КОЛОНИСТ» 138
– Михаил Леонович, насколько премии, ставшие сейчас пособием на выживание, соответствуют действительным ценностям? Объективны ли они? Нужны ли?
– Нужны. В наше время они вправду немного помогают выживать. Кому они нужнее – молодым или ветеранам (инвалидам, как говорили при Пушкине), – я не знаю: вероятно, в каждом случае по-своему. Главное же их дело – не отражать, а создавать иерархию так называемых ценностей. Объективных ценностей нет, это дело договоренности, к тому же периодически пересматриваемой. Присуждение премии значит: на ближайшее время лучшей считается манера такого-то писателя и приближающиеся к ней («Зина, ты слышишь: вот кто, оказывается, сейчас самый главный Шекспир!» – говорил Мейерхольд). Конечно, не объективно, а только с точки зрения такого-то жюри. Чем больше будет разных жюри и разных премий, тем полнее подлинная картина. Одинаково важны и Букеровская премия, и Премия имени Андрея Белого, которую присуждали авангардисты, кажется, в виде рубля и бутылки водки.
– Вам пришлось знаться с поэтами не только на бумаге, но и в жизни. Расскажите о ваших взаимоотношениях с ними.
– Вы ошибаетесь: я не критик, а литературовед, мое дело – бумажное, и живых поэтов я боюсь. Восемь лет назад был юбилей Пастернака, мне пришлось сидеть в заднем углу президиума перед огромным залом в Доме писателей. Рядом сидел Александр Кушнер (я его немного знал: он интересовался стиховедением), и ему, по-моему, тоже было неуютно. А в середине президиума большой энергичный человек, наклоняясь в зал, напористо говорил вещи, казавшиеся мне немного странными. Я тихо спросил Кушнера: кто это? Он посмотрел на меня с некоторым удивлением и ответил: «Вознесенский». По-моему, после этого случая Кушнер стал ко мне лучше относиться.
– Шестидесятничество: каковы его границы, персональный состав, вклад в литературу?
– То, что обычно называют шестидесятничеством, – явление идейное, а не художественное. С художественной же точки зрения так, вероятно, следует называть все, что было в поэзии выходом за пределы очень узкого стандарта позднесталинских лет. Таким выходом были и Евтушенко, и Бродский, хоть шли они в противоположные стороны и друг друга терпеть не могли. Между ними весь остальной «персональный состав». А временные границы? Биологически – до тех пор, пока живы те, кто помнит сталинское время. А эстетически – это можно будет определить (и то со спорами) лишь через поколение после нас.
– Как вы относитесь к «метаметафористам» (термин изобретен К. Кедровым) – Жданову, Парщикову, Кутику и проч.?
– Спасибо, буду знать, что они называются метаметафористы. Н. Брагинская говорила мне, что М. Эпштейн допрашивал ее: какие еще есть греческие приставки для названий школ? И эти, «и др.» поэты, по-моему, очень друг на друга непохожи, иные мне нравятся, иные меньше, а какие как – это мое личное дело.
– Ирония в постмодерне. Действительно ли ирония, пародия, стилизация – необходимый элемент всякой настоящей литературы, как утверждал Набоков, или это просто скомороший глум в исполнении переодетых профессоров?
– Ирония, по словарному определению, это когда говорят одно, а думают противоположное; когда ослу говорят: «Откуда, умная, бредешь ты, голова?» Все слова нашего языка выдуманы до нас и не для нас, все они не полностью соответствуют нашим мыслям, всякий пишущий должен отдавать себе в этом отчет; Набоков имел в виду именно это. В литературе и в философии тоже чередуются эпохи, когда пишущий бравирует этим несовпадением и когда он по мере сил его преодолевает. Сам Набоков отнюдь не только иронизировал и пародировал, он умел и добиваться точности слов, и с большим успехом. Говорят, что постмодернизм уже выходит из моды, – значит, следующее поколение будет искать язык неощутимый, прозрачный, как в просветительском XVIII веке. А пока он не вышел из моды, читатель волен воспринимать иронически что угодно, хоть «Анну Каренину». Специалисты по Платону мне говорили, что серьезные толкования самых высоких мест Платона так накопились и так всем надоели, что иные считают, будто он в них лишь издевается над читателем.
– Что заставило вас, античника, обратиться к переводам, стиховедению, культурологии – сменить и временные, и отчасти профессиональные приоритеты?
– У меня на стенке висит детская картинка: берег речки, мишка с восторгом удит рыбу из речки и бросает в ведерко, а за его спиной зайчик с таким же восторгом удит рыбу из этого мишкиного ведерка. Античностью я занимаюсь, как этот заяц, – с материалом, уже исследованным предшественниками. А стиховедением – как мишка, с материалом нетронутым, где все нужно самому отыскать и обсчитывать с самого начала. Интересно и то, и другое. Переводил же я почти только античных авторов, это не измена. А культурологом себя не считаю: слишком мало для этого знаю.
– Вы переводили не только античных авторов: в малозаметных изданиях вы печатали «конспективные переводы» верлибром из Верхарна, Анри де Ренье, Кавафиса, сокращая лирические оригиналы вдвое и втрое – «отжимая воду». Всерьез это делалось или с иронией? Можно ли так же «переводить» лирику с русского на русский, например Евтушенко?
– Всерьез мы знаем сокращенные переводы романов, обычно для детей, почему не попробовать сокращенно переводить лирику, заодно проверяя, что в ней сохранило важность для современного вкуса и что нет? «С русского на русский» я переводил так Лермонтова (напечатано в «НЛО» № 6), Гнедича, Баратынского139; Евтушенко не пробовал.
– Стиховедение и стихи, алгебра и стихия – что дает «поэтическая наука» стиху? Или это просто техника медленного вчитывания, вслушивания, необходимая не столько для «порождения» стихов, сколько для их постижения?
– Именно так. Стиховедение не учит, «как делать стихи», оно объясняет, «как сделаны стихи», причем в таких тонкостях, в которых обычно сами поэты не отдают себе отчета. Если угодно красивое сравнение, то поэт – это конкистадор, а стиховед – колонист: он осваивает, осмысляет завоеванное пространство и этим побуждает поэта двигаться дальше, на новые поиски. Для некоторых алгебра убивает гармонию; что ж, никто их не неволит исследовать стихи. Для меня наоборот. В детстве мне не случилось полюбить Фета, я жалел об этом. Когда я стал взрослым, я нарочно все свои стиховедческие темы прорабатывал прежде всего на материале Фета. И от этого – поневоле внимательного – перечитывания я научился любить его стихи совершенно независимо от стиховедения. Разве плохо?
– Как соотносятся «тайная» и политическая свободы? Как вам пишется, как дышится сейчас: легче ли, чем прежде? Каков самый воздух времени: подходит ли его состав для творчества?
– Вопрос не ко мне: я не творческий человек, а исследователь. Творческий человек занимается созданием нового, усложнением мира; и обстановка, воздух, как вы красиво выразились, может ему мешать или не мешать. Исследователь занимается упрощением, схематизацией, систематизацией существующего мира, хаос которого очень больно бьет по его уму и чувствам; и здесь разница между хаосом вчерашним и хаосом сегодняшним, право, невелика. Почему я не пишу оригинальных сочинений? Вероятно, потому, что рассуждаю как старушка у Булгакова: «А зачем он написал пьесу? разве мало написано? век играй, не переиграешь».
– Что важней для будущего: main stream или маргиналии?
– Маргиналии – это явления на обочинах мейнстрима, одно без другого не существует. Для современников культура – это мейнстрим, истеблишмент – это нам теперь кажется, что в 1910‐х годах только и читали, что Блока, а на самом деле читали стихи из «Нивы», которым мы ужасаемся. Маргиналы же делают наброски для истеблишмента следующего поколения всяк на свой лад. Сезанн говорил: «Я хочу писать как Бугро». Кто сейчас помнит Бугро? Я, к счастью, помню. Есть ли в нашей нынешней литературе Сезанны – не знаю.
– Современная, в строгом смысле слова, проза, как правило, бессюжетна или сохраняет лишь видимость сюжета. Это от усталости формы, или же прихоть художника, или и впрямь отражает состояние реальности?
– В стихах спокон веку была поэзия эпическая, с сюжетом, и лирическая, без сюжета. В прозе начиная с предромантической эпохи стали сочинять лирическую прозу, «стихотворения в прозе» без сюжета. Сперва они были маленькие, теперь разрослись. Разбейте их на строчки верлибра – получатся обычные современные стихи. Запишите прозой – будет выглядеть менее обычно и оттого до поры до времени более привлекательно. Я рад, что вы так твердо знаете, какая проза «современная в строгом смысле слова», я этого не знаю. У Джойса и Пруста вы, вероятно, находите «лишь видимость сюжета», но у Кафки и Борхеса сюжеты самые полноценные. Наверное, они уже несовременны?
– Литературный журнал как форма бытования литературы, возможно, уходит в прошлое. Что будет с журналом, с книгой в новый, электронный век, придется ли им отмереть, в литературе – перейти на иные материальные носители? Или мы находимся в конце прекрасной эпохи, за которой воспоследует бессловесность, последняя тишина?
– В толстых журналах, в сборниках стихов, даже в романах каждому из нас была близка и просила перечитывания хорошо если пятая часть, остальное было балластом. Новый век позволяет выбросить балласт и каждому окружить себя литературой, отобранной только по собственному вкусу. В мозгу у нас два полушария, одно с эстетическим восприятием мира, другое с аналитическим, словесным. Пока это второе работает в нас, будет и словесность, на тех носителях, которые ближе душевному складу каждого. А мы, филологи, будем за этой игрою вкусов с интересом следить.
Беседу вел Алексей Туманский
Г. А. ШЕНГЕЛИ: ОТ ИСКУССТВА К НАУКЕ140
Г. А. Шенгели был поэтом по самоощущению, переводчиком – по житейским обстоятельствам, а ученым – по призванию, потому что славу стиховедение давало ему лишь узкую и спорную, а денег никаких, пачки ненапечатанных его стиховедческих работ в РГАЛИ такие же, если не более толстые, чем пачки ненапечатанных его стихов141. Стиховедение в 1930–1940‐х годах было наукой как бы несуществующей, работал он в одиночку и перекличек с другими основоположниками современного стиховедения не поддерживал.
Всякая наука была когда-то искусством: у одного химика опыт получался, а у другого вроде бы такой же опыт не получался. Физика стала наукой, когда в нее ввел подсчеты Галилей, а химия стала наукой, когда в нее ввели подсчеты Бойль и Лавуазье. Стиховедение же стало наукой, когда поэты стали задумываться о собственной работе, о том, почему такие-то строки им нравятся, а такие-то нет, стали искать в тексте объективные признаки, вызывающие эти ощущения, подсчитывать их и экспериментировать с ними. (Наивные читатели полагали, что, задумываясь над этим, поэты изменяют своему делу.) Первым русским поэтом, который сдвинул таким образом стиховедение с мертвой точки, был А. Белый, за ним пошли другие, тоже поэты: Брюсов, Бобров, Шенгели, Пяст, Квятковский, Шервинский. Как много подсчетов в «Трактате о русском стихе» 1923 года, знает каждый, кто раскрывал эту книгу. В «Технике стиха» 1960 года их меньше, но только потому, что они остались в ее фундаменте – в неопубликованных стиховедческих рукописях Шенгели. Сам Шенгели писал в начале своей неизданной статьи о поэтическом образе: «Я верую, что искусство, являясь одной из форм человеческой деятельности и, следовательно, представляя собой естественно-исторический процесс или, вернее, звено единого естественно-исторического процесса – как и все в мире, – абсолютно закономерно. Я верую, что его „нормы“ могут быть сведены к математически-точным формулам – не потому, что „так надо“, а потому, что „так есть“»142. Это заявление программное: буквальное «кредо».
Что привлекало в стихе научный интерес Шенгели? Биографически – он сам об этом рассказывает (71, л. 4 об.): гимназистом он начал писать ямбы по правилам учебника, они получались барабанные, он заинтересовался, почему этого не получалось у Пушкина, так самостоятельно открыл искусство пропусков ударения – и так далее. Но если смотреть шире, то причиной было то же, что и для всех других: появление в начале ХX века у модернистов множества стихов неклассической, нетрадиционной формы: «Вхожу я в темные храмы…» и т. п. Силлабо-тонических размеров в них не было, а все-таки они ощущались стихами: почему? Задумавшись об этом, поэтам пришлось оглянуться и на старую силлабо-тонику и увидеть ее по-новому.
Чем выделялся Шенгели в этом ряду молодых стихотворцев, ставших стиховедами по совместительству? Тем, что в нем сильнее всего оказалась силлабо-тоническая закваска, привычка представлять всякий стих по образцу пушкинского, силлабо-тонического. Например, он отрицал силлабическое стихосложение – хотя вырос на французской силлабике и полжизни переводил тюркскую силлабику. Он отрицал чисто-тоническое стихосложение – хотя оно половодьем лилось в стихах его современников. Для его слуха недостаточно было только счета слогов или слов, чтобы ощутить стих стихом: нужно было присутствие какого-то дополнительного организующего признака. Если система стихосложения не силлабо-тонична, то она должна быть силлабо-какой-нибудь-другой. И он искал этот «какой-нибудь другой» признак.
Каковы элементы звука, кроме силовой ударности? Высота, тембр, долгота. Высота не годится, она величина переменная, зависит от интонации фразы. Тембр, может быть, и годится, но он очень сложен для анализа, приходится аппаратом измерять частоту основного звука и обертонов в ударном слоге, в предударном, предпредударном и т. д.; Шенгели занимался этим много лет, тратил сотни метров пленки, и все-таки смерть оборвала эти опыты раньше чем на полдороге. Наконец, долгота – она годится в определяющие признаки лучше всего, устойчивые соотношения долгот, например, предударных и послеударных слогов давно были замечены русскими фонетистами. Шенгели старался продолжить их работу, сотнями кропотливых опытов вычислял долготу каждого типа слога до тысячных долей секунды (а заодно и долготу словоразделов, долготу цезур, долготу стихоразделов, ритмических и внеритмических пауз и т. д.). И он говорил: русский стих не только ударный, он еще и долготный, он стремится к изохронности, равнодлительности, как античный квантитативный стих. Это положение он объявил в самой первой своей статье по стиху, писанной в 1915 году в бытность харьковским студентом (ед. 65), – и остался в нем тверд до конца жизни.
Это значит: если по сравнению с силлабо-тоническим размером в стихе недостает слогов, то это восполняется или растяжением какого-нибудь слога («Вхожу-у я в темные храмы»), или паузой длиной в слог («Вхожу я – в темные храмы»); а если в стихе есть лишние слоги, то они произносятся скороговоркой («Под кры/шей мед/ленно-за-жи-га/лось окно»); а если в одном месте слогов слишком мало, а в другом слишком много, то это синкопа, сдвиг ударения («Странные / сказанья / услышишь» – первый амфибрахий заменен дактилем). Разумеется – и Шенгели это отлично понимает, – пользуясь такими четырьмя приемами, можно любую прозу умять в любой ритм. Но это не будут стихи, потому что расположение в таком тексте пауз, скороговорок и прочего будет случайно, не мотивировано, а в стихе – по крайней мере, в хорошем стихе – всегда мотивировано смыслом.
Как выглядит такая мотивировка? В той самой первой своей статье 1915 года Шенгели приводит пример из собственных тогдашних стихов. «Улицы лязгно бряцали. / Я шел и смотрел (на кого?) на Вас»: пауза отбивает сюжетно важное слово. «И Вы мне приветно мерцали / Шоколадным (чем?) золотом глаз»: пауза отбивает неожиданный образ. «Мне вспоминался (-?-) Рембрандт, / Его золотые тона»: можно было бы «золотые его ( – ) тона», но это было бы хуже, слово «тона» не стоило такого подчеркивания. «Ваш голос ( – ) флейтного тембра / Чарующ ( – ) был, как луна…» и т. д. А почему паузы, а не растяжения? Можно и растяжения: «Мне вспомина-ался Рембрандт» – хорошо, передана нежная задумчивость; а вот «Шокола-адным золотом глаз» – плохо, потому что компенсируемая пауза (будто бы) слишком далека от растяжения. Это писалось в 1915 году, но почти то же самое можно прочесть и в «Технике стиха» 1960‐го под заглавием «Динамизирующее значение лейм».
Точно так же разбирается и стих Маяковского (ему посвящена большая рукопись – ед. 67, резюме ее вставлено в «Технику стиха») – тут возможностей разного прочтения одного и того же стиха еще больше, и субъективных оценок «так лучше, так хуже» или ссылок «так, хорошо помню, читал сам Маяковский» тоже еще больше. Но принцип остается тот же: ценой любых усилий тонический стих Блока, Багрицкого, Суркова или Маяковского растягивается на каркасе (термин Шенгели) силлабо-тонического стиха, а если при этом его ткань где-нибудь разрывается паузой или морщинит лишними слогами, то это намеренное, мотивированное содержанием выразительное средство. Мы теперь этого уже не ощущаем, потому что привыкли и воспринимаем стих Блока и Маяковского без особых мотивировок для каждого ритмического поворота, – а для Шенгели, рыцаря силлабо-тоники, эти мотивировки были необходимы, иначе (писал он) свободный стих получится не свободный, а расхлябанный (65, л. 7).
Мы видим, как сквозь анализ у Шенгели прорывается оценочность: «так лучше, так хуже». Это сквозь Шенгели-стиховеда просвечивает Шенгели-стихотворец: это наука еще не окончательно отпочковалась от искусства. Для ученого все стихи равны: они таковы «не потому, что так надо, а потому, что так есть», говоря словами шенгелиевского же кредо. Для поэта же отнюдь не все стихи равны. И Шенгели спешит оговориться (69, л. 14): «Теория, если бы даже она была правильна, очевидно дает лишь минимум конструктивных требований, говоря о том, как надо подбирать слова, чтоб вышел стих. Но есть стих хороший и плохой. <…> Несомненно, есть конструктивные нормы высшего порядка, и, строго говоря, именно они имеют интерес и практическую ценность. Слагать стишки нетрудно; писать стихи, чей ритм был бы не помехой смыслу, а мощным орудием смысловой и эмоциональной выразительности (иначе незачем стихи и писать), очень трудно. И научная теория должна выяснить по крайней мере основоначала этих высших норм. До такой теории вообще еще очень далеко…».
Кто помнит хотя бы обложку «Трактата о русском стихе» Шенгели 1923 года, тот помнит на ней подзаголовок: «Часть I: органическая метрика». За этим должна была последовать часть II: «логоритмика». Органическая метрика – это метрика, вырастающая из языка как явления чисто-звукового: слова таких-то длин с такими-то позициями ударений сочетаются так-то. Логоритмика – это ритмика, вырастающая из языка как явления смыслового: слова с таким-то собственным весом и с таким-то положением во фразе тяготеют в стихе к таким-то позициям. Собственный смысловой вес (лексика) определяет силу звука, положение во фразе (синтаксис) определяет высоту, положение в стихе (метрика) определяет долготу: мы узнаём шенгелиевский культ изохронности. Сочетание этих трех аспектов в сменяющихся словах есть не что иное, как интонация стиха: она и должна была стать предметом второй части «Трактата». Шенгели пишет (78, л. 48): «Эта сторона стихотворного звучания, до сих пор крайне мало изученная, имеет существенное значение, ибо лишь надлежаще организованная интонация превращает правильный стих в хороший стих, т. е. такой, какой своим движением, своей „игрой“ содействует смысловой и эмоциональной выразительности». Если органическая метрика должна была поставить на научную основу технику стиха, то логоритмика должна была поставить на научную основу искусство стиха. Эго было гораздо труднее, и потому логоритмики, науки о стиховой интонации, Шенгели так и не написал. В метрике материал для статистических подсчетов и выводов из них был готов: ударения, слог, словоразделы. В интонации эти подсчитываемые атомы стиха нужно было еще выделить и расклассифицировать – и работа Шенгели над интонацией, над тем, что делает стих из правильного хорошим, рассыпается на конкретные анализы конкретных строк.
Таких анализов много в рукописях, а еще больше было, конечно, в разговорах и лекциях: я помню, с каким восхищением вспоминал об импровизированных разборках Шенгели покойный М. П. Штокмар. Вот строка Пастернака «И каменщиков гнал за флигеля» (76, л. 300) – Шенгели комментирует: «… в ней – ниспадающее первое слово, „и каменщиков“; в резком противоречии с ним стоит односложное слово „гнал“, тем выделяемое; и дальше, опять противоречием, <…> восходящее четвертое слово, „за флигеля“. Вся строка энергична, что соответствует содержанию. Но возьмем схожую ритмически строку „Неструганые стены блиндажа“; она отличается лишь тем, что среднее слово не односложно, а двухсложно, – однако она звучит менее энергично, так как второе слово дает тоже нисхождение (меньше контраст с первым); кроме того, это слово, метрически выделяясь на фоне длинного первого, по смысловой весомости не требует такого выделения – и вся строка звучит вяло, невыразительно. Но сделаем такую ее копию: „И каменные стены сокрушил“. Строка заиграла – так как слово „стены“ в этом контексте приобрело смысловую нагрузку: стены сокрушить нелегко, и если это произошло, то, естественно, слово подчеркивается: „стены сокрушил“».
Обратим внимание на характерное для Шенгели слово «копия»: он не раз вот так сочинял стихи, точно копирующие расположение ударений и словоразделов в таких-то стихах классиков, но с другими словами и синтаксисом, сравнивал и не только констатировал, что копия хуже подлинника, но и в подробностях доискивался почему. Это и был материал его работы над интонацией. Один такой пример (копия с «Горит восток зарею новой…» и т. д.) вошел даже в «Технику стиха» 1940 года (в издании 1960‐го это место сокращено); там же – попытка донести до читателя хотя бы первые достижения интонационного анализа – показать, как в стихах Пушкина «Тебе – но голос музы темной / Коснется ль уха твоего…» и т. д. налагаются друг на друга сетка смысловых повышений – понижений и стиховых усилений – ослаблений голоса, образуя узор, для изображения которого потребовались все типографские ухищрения (в издании 1960 года это тоже пропущено). Для говорящих о связи формы и содержания это очень ценный и хорошо забытый материал. Здесь, работая над логоритмикой, над интонацией, Шенгели выходит на тему «ритм и синтаксис», по которой сейчас проходит передний край современного стиховедения. Точно так же, делая следующий шаг уже не от «просто стиха» к «хорошему стиху», а от «хорошего стиха» к «хорошей поэзии», Шенгели начинает писать в 1944 году в туркменской эвакуации очерк «Поэтический образ: теория и практика». В нем понятие демонстрируется как атомное ядро слова, представления и эмоциональные оценки – как протоны и нейтроны, входящие в его состав; возможность организовать ряды слов не только по основному понятийному признаку, но и по дополнительным представлениям (которых при каждом слове несколько), и по эмоциональным окраскам и т. д.; классификация стихов на предметные (с чувственными образами) и рассудочные (с отвлеченными понятиями); подчеркивание нужных аспектов эпитетами, виды их, – на этом рукопись обрывается. Здесь Шенгели – вряд ли даже обдуманно – совпадает с Ю. Н. Тыняновым, который в книге о стихотворном языке говорил о «колеблющихся семантических признаках слова», но ни разу внятно не объяснил, что это такое. Краткий пересказ статьи Шенгели мы помещаем ниже, в приложении. Шенгели не был первопроходцем по природе. В изучении ритмики стиха он продолжал Белого, интонации – Эйхенбаума, образа – Тынянова. Но расплывчатые, неопределяемые выражения, которыми пользовались Эйхенбаум или Тынянов, он превращал в точные термины, подкреплял подсчетами и проверял экспериментами. Кто следит, тот знает, как современных стиховедов бранят за то, что они разымают музыку, как труп, тогда как в стихе все едино и нераздельно в понятии интонации: слово «интонация» (никак не раскрываемое) кажется таким критикам панацеей поэтического подхода к поэзии. Шенгели напоминает нам, что «интонация» – это не готовая отмычка ко всем дверям эстетического наслаждения, а научная проблема, над которой еще долго предстоит ломать голову. Он умер тридцать пять лет назад, но в современные научные споры включается как своевременный и умный собеседник. Сам поэт, он знает, что наука вырастает из искусства, сам положил немало трудов на такое выращивание и нимало не хочет, чтобы сухую стройность выросшей науки вновь превращали в красивый хаос поэтической критики.
ПРЕДИСЛОВИЕ К «СЛОВАРЮ РУССКИХ СОЗВУЧИЙ» С. М. ФЕДЧЕНКО 143
Словари рифм существуют едва ли не на всех европейских языках. Первые из них появились в XVI веке. Это были научные пособия по отдельным авторам: все рифмы Данте, все рифмы Петрарки. Скоро обнаружилось, что в таких словарях многие рифмы повторяются у разных, даже великих поэтов: все они черпали свои созвучия из одного и того же запасника, и запас оказался не бесконечным. Тогда стали составлять словари созвучий для всех слов языка. Конечно, не исчерпывающие. Во-первых, из‐за имен собственных: их такое великое множество (особенно если, кроме реальных, считать придуманные), что учесть все невозможно. Во-вторых, из‐за обилия словоформ у склоняемых и спрягаемых слов: каждое существительное, например, пришлось бы повторять столько раз, сколько у него есть падежных форм, и это многократно увеличило бы объем словаря. Чтобы избежать этого, обычно полностью давалась только одна характерная форма (например, глаголы с 3‐м лицом ед. числа на -а́ть), а от форм на -а́ешь, -а́ем и т. д. делались отсылки: «см. -а́ет».
Первоначальная цель словарей была чисто практическая. В лицеях, колледжах и других гуманитарных школах сочинение стихов долгое время если не входило в программу, то по крайней мере поощрялось. А рационалистическое мышление Возрождения и классицизма предполагало, что и зрелые поэты будут пользоваться такими словарями, чтобы забота о форме меньше отвлекала их от заботы о смысле. В XIX веке все изменилось. Романтизм надолго внушил европейской культуре, что стихи творятся не разумом, а вдохновением и что форма каждого творения непосредственно диктуется его содержанием (или наоборот: есть много свидетельств самих поэтов о том, как неожиданная рифма подсказывала им неожиданную мысль). На словари рифм стали смотреть свысока: казалось, что они нужны только бездарностям. Это не так. В русской поэзии о необходимости таких словарей говорили (и даже сами начинали над ними работу) такие поэты, как Валерий Брюсов и Андрей Белый. Брюсова кто-нибудь еще может обозвать педантом и рационалистом, но о Белом этого сказать невозможно.
Между тем у словарей рифм открылся интерес не только практический, но и теоретический. Оказалось, что они очень полезны для лингвистов, потому что удобны для наблюдений над морфемным составом слова. Обычный алфавитный словарь собирает в одно место все слова с одинаковыми приставками на до-, на по-, на пол- и т. д. Словарь рифм собирает в одно место все слова с одинаковыми окончаниями и суффиксами: глаголы с окончаниями -ать или -ить, существительные с суффиксами -ач или -ец; он позволяет также сопоставить морфемы с псевдоморфемами, например в таких словах, как «лекционный» и «неуклонный», где первое слово имеет суффикс -онн-, а второе – суффикс -н-, но в восприятии они смешиваются. Знать, насколько употребительны в языке те или иные окончания и суффиксы, не менее важно, чем знать, насколько употребительны приставки; поэтому филологи давно стали составлять по образцу словарей рифм «обратные словари» языка: такие, в которых слова расположены по алфавиту не первых-вторых-третьих, а последних-предпоследних-предпредпоследних букв. А такие словари послужили основой для дальнейшей грамматической систематизации языка: именно так построен ставший уже классическим «Грамматический словарь русского языка» А. А. Зализняка (1977).
Не меньше, чем для лингвистики, словари рифм необходимы для поэтики. Например, подсчитано, что в мужских рифмах на -ой Пушкин употребляет 31 трехсложное прилагательное типа «молодой, золотой» и проч., Лермонтов – 25; много это или мало? Нужно сравнить эти цифры с общим запасом таких прилагательных в общеязыковом словаре рифм или хотя бы в обратном словаре. У А. А. Зализняка таких прилагательных перечислено около 800; стало быть, Пушкин и Лермонтов используют лишь 3–4% этих слов, а все остальные («паевой, краевой, чаевой…») ощущаются ими как прозаизмы. Общий объем словаря русского языка XIX–ХX веков – около 100 000 слов, объем словаря Пушкина – около 21 000, Лермонтова – около 15 000 слов, т. е. 15–20% общеязыкового словаря. Стало быть, подобрать слово для рифмы поэту приблизительно впятеро труднее, чем для внутренней части стиха. Интересно это или неинтересно?
Другой пример. У А. К. Толстого есть сатирическое стихотворение «Ах, зачем у нас граф Пален так к присяжным параллелен…» – и далее нанизываются рифмы: вертикален, делен, повелен, печален, нахален, богаделен, застрелен, подпален, спален, молелен, Seelen, allen. Созвучия очень редкие: кажется, что они исчерпывают весь запас русского языка, так что автору даже приходится переходить на немецкий. Оказывается, нет: в словаре Зализняка мы находим около 100 существительных, прилагательных и глаголов, которые могут дать такие рифмы («миндалин, буквален, ужален…»). Что это, как не предмет для размышления о законах эстетики: какой малой выборкой может художник создать эффект полноты и почему?
В обоих случаях сравнительный материал нам приходилось с некоторым трудом извлекать из обратного словаря. Будь в нашем распоряжении специальный словарь рифм – было бы легче.
Наконец, не нужно забывать и о той чисто практической цели, для которой когда-то и были изобретены словари рифм: чтобы помогать поэтам. И не только дилетантам или педантам. Мне самому когда-то приходилось переводить средневековые стихи с длинными цепочками одинаковых рифм: это было трудно, и я рад был при этом пользоваться опять-таки обратным словарем русского языка. Думаю, что многие из моих коллег-переводчиков могли бы признаться в том же.
Тем не менее хорошего словаря русских рифм не существовало. Были словари И. Тодоровского (1800), анонима (1834–1836), Л. Шаховской (1890), Н. Абрамова (1912), но каждый из них действительно ни на что не притязал, кроме помощи начинающим дилетантам: лучший из них, абрамовский, и тот вышел на 160 страницах в приложении к серии брошюрок: «Искусство писать стихи», «Искусство разговаривать и спорить», «Искусство острить» и т. д. Кроме того, все они представляют собой большие книжные редкости: не только словарь Тодоровского, сохранившийся в единственном экземпляре, но и словарь Абрамова, изданный массовым тиражом и не так уж давно. Видимо, все эти книжки имели массовый спрос и зачитывались до дыр. Это – хорошее предзнаменование для судьбы нового словаря, предлагаемого читателю.
Словарь, составленный С. М. Федченко, отличается не только полнотой состава и тщательностью составления. Он назван не «словарь рифм», а «словарь созвучий», и на то есть свои причины.
До ХX века рифмы в русской поэзии употреблялись практически только точные. Звуки должны были совпадать полностью, буквы – почти полностью: такие отступления, как «мал – мял», «Рим – дым», «лед – бьет», «поле – воля», «много – Бога» и даже «много – Богу», легко сводились к простым дополнительным правилам. Поэтому словарь рифм мог так мало отличаться от обратного словаря: число рифм к каждому слову было в конечном счете ограничено. (Отсюда – частые насмешки над избитыми рифмами «кровь – любовь», «камень – пламень» и проч.) Когда Блок и Ахматова стали рифмовать «ветер – вечер» и «память – пламя», круг возможных рифм к каждому слову резко расширился. А когда в ход пошли рифмы «машет – марши» (Маяковский), «гробим – Богом» (Цветаева), «просьбе – прозвищ» (Пастернак), «тела – лета» (Сельвинский), «ошибка – тихо» (Эренбург), то стало возможно сказать: нет такого созвучия, которое в чьей-либо системе рифмования не оказалось бы рифмой.
Поэтому принцип построения словаря С. М. Федченко не совсем привычен. Во-первых, в нем не разделены рифмы мужские, женские и дактилические: после того как Сельвинский зарифмовал «покровительства – по крови», а Мариенгоф – «посох – босой», это уже не так существенно. Во-вторых, при каждом сочетании ударного и заударного звука здесь даются не только точные созвучия последующих звуков, но и все, какие есть в языке: не только «бобами, богами, быками…», но и «адамов, амба, аэродинамика, беспамятство, вьетнамцы, гекзаметр, дамский, замкнутый, заупрямишься…» и т. д. Разумеется, этого недостаточно, и любой поэт может пририфмовать к этому ряду и слова из других гнезд: «дальний, грамм, ангел, доярка…» и т. д.; но здесь составитель словаря, понятно, может сделать лишь первый шаг, а остальные предоставить доброй воле стихотворцев. Наконец, в-третьих, чтобы эти редкие созвучия не заслоняли собой более обычных и частых, автор не экономит на повторениях, а дает списки слов с однородными окончаниями полностью, без отсылок «см. там-то»; благодаря этому сохраняются реальные пропорции материала, которым располагает поэт.
Можно было бы пойти по противоположному пути: составить порознь и потом слить воедино словари рифм, действительно употребленных и Пушкиным (такой словарь уже издан в США), и Ахматовой, и Эренбургом, и Вознесенским, и Бродским. Но тогда уже несомненно получился бы список, в котором бы все рифмовалось со всем (по крайней мере в пределах слов с таким-то ударным гласным) и который был бы непомерно громоздок. А сейчас читатель получает некоторую норму – «рифмы с общим ударным гласным и по крайней мере одним совпадающим гласным», – с которой он может сравнивать манеры рифмования любых поэтов прошлого и настоящего, а если он и сам пишет стихи – то вырабатывать, опираясь на нее, свою собственную манеру рифмования.
Словарь С. М. Федченко не только систематизирует старое, но и приглашает к экспериментам с новым. В этом его новаторство; этим он и хорош.
ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ И. ЛИЛЛИ144
Имя Иэна Лилли давно с благодарностью называют все те немногие, кто в разных частях света занимается русским стихосложением. В Окленде (Новая Зеландия) он уже двенадцать лет издает библиографический бюллетень текущей литературы по русскому стиховедению145 – с безукоризненной тщательностью и аккуратной периодичностью, дважды в год. Этот бескорыстный подвиг трудно переоценить. Собственные его работы по русскому стиху за это время не раз появлялись в научных журналах под заглавиями скромными и конкретными и в сознании читателей вряд ли связывались друг с другом. Теперь он объединил их в книге, и между ними сразу вырисовалась четкая связь. Их сквозная тема – «Динамика русского стиха». Под динамикой автор понимает не что иное, как взаимодействие различных элементов стихотворной формы: строфики, рифмы, ритма, метрики, семантики. Для сегодняшнего состояния науки о стихе эта проблема в высшей степени актуальна, и опыт Лилли заслуживает самого пристального внимания всех, кто занимается исследованием художественной формы. И даже не только стиховой формы: методика автора может и должна быть перенесена и на стилистику, и на топику литературных произведений (хотя там, конечно, сложностей будет гораздо больше).
Четыре части книги называются: «Рифма и ритм», «Рифма и строфа», «Рифма и метр», «Строфика и семантика». Таким образом, исследование начинается с рифмы. В этой области, как известно, есть еще много терминологических несогласованностей. Иэн Лилли вводит в них два существенных уточнения. Во-первых, с фонической стороны, он различает понятия «богатая рифма» и «глубокая рифма». «Богатая» – это рифма с совпадением опорных согласных перед ударным гласным: реши́т – заши́т, красото́ю – клевето́ю, соде́тель – раде́тель; «глубокая» – это рифма с совпадением также и гласных в предыдущем слоге: реши́т – спеши́т, красото́ю – простото́ю, соде́тель – доброде́тель. Таким образом, «глубокая» – это как бы дважды богатая рифма; в материале Лилли это уточнение не очень существенно, но для исследователей рифмы ХX века обещает быть весьма полезным. Во-вторых, с грамматической стороны, он сужает само понятие грамматичности: грамматическая рифма – это не всякая рифма существительного с существительным (и т. п.), а только с полным совпадением рода, числа и падежа: «Счастливой силою мечтанья / Одушевленные созданья» – не грамматическая рифма, потому что первое слово в ней – родительный падеж единственного числа, а второе – именительный падеж множественного числа. Это важно, потому что грамматически тождественным словам обычно предшествуют синтаксически тождественные конструкции, то есть такая рифма – сигнал вероятного параллелизма: того самого синтаксического параллелизма, из которого, по-видимому, когда-то развился стих как таковой.
Итак, первая часть книги – «Рифма и ритм». Ее герой – М. Н. Муравьев, один из самых замечательных новаторов XVIII века. Известно, что от XVIII к XIX веку в русском 4-стопном ямбе развиваются две изоморфные тенденции: облегчение стиха к концу строки (все чаще пропуск ударения на III стопе: не «Ее́ душа́ славна́ войно́ю», а «Славне́й прия́тной тишино́ю») и облегчение стиха к концу строфы и полустрофия (в строфе с окончаниями ЖМЖМ или ЖЖМЖЖМ строки с мужскими (М) окончаниями все чаще пропускают ударения, чем строки с женскими (Ж) окончаниями). Первая тенденция у Муравьева уже налицо, вторая – еще нет, поэтому в женских строках у него пропуск ударения на III стопе появляется чаще («Славне́й прия́тной тишино́ю»), а в мужских строках – реже («Жале́ньем ду́х ее́ кипе́л»), и поэтому в женских строках у него чаще на конце оказывается более длинное слово («…тишино́ю»), а в мужских строках – более короткое («…кипе́л»). И вот обнаруживается, что это сказывается и на грамматичности рифм: женские рифмы в 4-стопном ямбе Муравьева чаще бывают грамматичными, чем мужские. Механизм этой связи еще неясен. (Многое бы прояснила статистика разных частей речи в рифме, но Лилли ее не дает. Может быть, дело в том, что в женских рифмах здесь, по нашим приблизительным подсчетам, вдвое чаще скапливаются глаголы с их длинными от приставок безударными зачинами, а глаголы у Муравьева вдвое чаще образуют грамматические рифмы, чем существительные.) Но сам этот факт твердо установлен подсчетами Лилли. А это влечет дальнейшие следствия: чтобы грамматические рифмы не казались слишком легкими и однообразными, Муравьев старается сделать их фонически богатыми; не борьбо́ю – тишино́ю, а войно́ю – тишино́ю, поэтому женские рифмы у Муравьева оказываются не только более грамматичными, но и более богатыми и глубокими, чем мужские: это тоже твердо установлено подсчетами Иэна Лилли. Такая разница в трактовке женских и мужских рифм – особенность Муравьева: у других поэтов ее нет. Так одна цепь взаимозависимости связывает ритм ударений в стихе, грамматические качества слов в рифме и звуковой состав рифмы: это и есть динамика стиха. А потом наступает XIX век, поэты привыкают к ритму длинных слов в конце строк, научаются избегать в них изограмматичности, и это делает ненужной заботу о фоническом обогащении рифмы: как известно, в XIX веке богатых и глубоких рифм в русском стихе заметно меньше, чем в XVIII веке.
Итак, женские рифмы у Муравьева более грамматичны, чем мужские. Но этого мало: они грамматичны в разной степени на разных позициях в строфе. Это уже тема второй части книги: «Рифма и строфа». Главная часть текстов Муравьева – это одические рифмы, десятистишия с рифмовкой АбАб || ВВгДДг (крупные буквы – это женские рифмы). В такой строфе у Муравьева рифмические пары АА менее грамматичны (и менее фонически богаты), а рифмические пары ВВ и ДД – более. Почему? Потому что строки АА несмежные, а строки ВВ и ДД смежные: в смежных строках ощутимее синтаксический параллелизм, поэт чаще его использует, от этого в них чаще появляются грамматические рифмы, а стало быть, и фонически богатые рифмы. У других поэтов XVIII века, писавших одической строфой, фоническое богатство в смежных рифмах не усиливается, но грамматичность неизменно усиливается. У поэтов XIX века, наоборот, грамматичность рифм так ослабляется, что разница ее между смежными и несмежными рифмами почти незаметна («деграмматизация рифмы» от Симеона Полоцкого к Владимиру Маяковскому – факт общеизвестный); однако след ее – фоническое богатство – по-прежнему больше в смежных рифмах и меньше в несмежных. В онегинской строфе (римфовка АбАб|ВВгг|ДееДжж) самые грамматичные женские рифмы – ВВ, потому что они – смежные. В октаве (рифмовка АбАбАб|ВВ) смежные рифмы в заключительных двустишиях богаче, чем перекрестные в предыдущем шестистишии. В четверостишиях с охватной рифмовкой аББа, АббА женские рифмы в смежном положении (ББ) богаче, чем мужские (бб). Наконец, в кризисную пору – там, где редким становится не только богатство, но и простая точность рифмы, – разница между смежными и несмежными рифмами все равно остается. У Державина неточные рифмы (царе́вна – несравне́нна) чаще появляются в несмежных стихах и реже – в смежных. У поэтов ХX века неточные рифмы (го́рло – го́ре) тоже чаще бывают в несмежных позициях, чем в смежных. Даже когда Н. Заболоцкий переводит «Витязя в тигровой шкуре» четверостишиями со сплошными рифмами АААА, то, если он добавляет к ним опорные звуки, он это делает чаще в двух смежных строках, чем в двух несмежных. И все это – следствие того незапамятного факта, что смежные строки стихов развились когда-то из синтаксического параллелизма.
Третья часть книги – «Рифма и метр». В русской поэзии есть две группы метров: двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест). В ямбе и хорее ударения часто пропускаются то на одних, то на других местах; в трехсложных размерах – почти никогда. (Это происходит оттого, что средняя длина фонетического слова в русском языке ближе к трем, чем к двум слогам.) Чаще всего в ямбе и хорее пропуск ударения происходит на предпоследней стопе, тогда как последняя остается всегда ударной, поэтому последнее ударение стиха в ямбе и хорее как бы отстраняется от предыдущего ряда ударений, противопоставляется ему, тогда как в трехсложных метрах оно сливается с этим рядом. Из этого тоже происходят неожиданные следствия. В трехсложных метрах распределение ударных гласных на последней, рифмующей стопе – такое же, как и в предыдущих стопах и как в естественной русской речи вообще: для женских окончаний – /а́/, /о́/, /е́/, /у́/, для мужских – /а́/, /о́/, /и́/, /е́/, /у́/ в убывающем порядке. (Фонема /ы́/ в русском стихе считается тождественной с фонемой /и́/.) В ямбе и (особенно) в хорее распределение ударных гласных на рифмующей стопе резко иное: в женских рифмах решительно избегается (и без того редкое) ударное /у́/, в мужских рифмах – ударное /е́/. Этот фонический отбор диктуется именно рифмой: в нерифмованных 4-стопных ямбах Карамзина такое же избегание конечных /у́/ и /е́/ не наблюдается. Отчего этот фонический отбор именно таков, мы не знаем: может быть, здесь была бы полезна статистика окончаний слов на /у́/ и /е́/ для каждой стопы (по нашим подсчетам, 45% мужских у́-рифм в четырехстопном ямбе Блока – это -у́к, -у́ть, -ю́, -ту́, -му́; а внутри строки?). Но сам факт, что метрическая выделенность последней стопы влечет особый фонический отбор заполняющих ее слов, доказан подсчетами Иэна Лилли неопровержимо.
Мы в своем пересказе намеренно подчеркиваем эту связность изменений, происходящих в структуре стиха: достаточно произойти перемене на каком-то одном уровне, и, как по цепочке, она передается на другие уровни. О механизмах этих связей многие домыслы здесь – наши: за наши предположения, что «Муравьев делает грамматические рифмы богаче, чтобы они не казались однообразны» или что «в ямбе и хорее рифмующее ударение выделено отбором гласных, потому что ритм обособляет его от других ударений», автор книги не несет ответственности. Иэн Лилли осторожен в своих догадках и гипотезах и больше сосредоточен на том, чтобы обильно и достоверно выявить факты. Каждое наблюдение, как мы видели, он проверяет на массе сопоставительного материала. Для работы, начавшейся с заметок о рифме М. Н. Муравьева, обследованы произведения 163 русских поэтов от Ломоносова до Горбаневской. В книге 32 статистические таблицы, причем (что бывает редко) автор часто предупреждает читателя, насколько значимы расхождения их цифр по критерию хи-квадрат. Нечего и говорить, что научная литература, хотя бы косвенно затрагивающая обсуждаемые вопросы, перечисляется в сносках с образцовой полнотой и щепетильностью, достойной издателя «Бюллетеня русского стиховедения».
Последняя часть книги – «Строфика и семантика». Здесь автор включается в исследование семантических ореолов стихотворных размеров, начало которому положил К. Тарановский в своей знаменитой статье 1963 года «О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики» на материале русского 5-стопного хорея. Лилли рассматривает семантику двух стихотворных форм: 4–3–4–3-стопного ямба с окончаниями аБаБ (как в переложении псалма 26 Ломоносова) и 6-стопного ямба с окончаниями аБаБ (как в «Страницу и огонь, зерно и жернова, Секиры острие и усеченный волос…» Бродского). Рассматривает он их по-разному.
Сто стихотворений, написанных 4–3–4–3-стопным ямбом аБаБ, классифицируются формально-тематически. Основная часть их – стихи хвалебные (55 стихотворений) или комические (33 стихотворения). Хвалебные – это стихи о любви (от «Мне минуло шестнадцать лет…» Дельвига в переводе из Клаудиуса), о поэзии (от Кюхельбекера до «Она сначала обожжет…» Ахматовой), о природе (например, «То было раннею весной…» А. К. Толстого) и о военной славе (от К. Аксакова до стихов Я. Смелякова о Че Геваре). Среди комических выделяются юмористические («Вот бедный Дельвиг здесь живет…» и потом многие подражания Гейне), сатирические («Вчерашний день, часу в шестом…» Некрасова), детские («Я – страусенок молодой…» Маршака). Остальные 12 стихотворений различным образом окрашены трагически (Лермонтов, «Мы пьем из чаши бытия…»; Блок, «Идем по жнивью не спеша…»; Пастернак, «С порога смотрит человек…»). Уже по этому обзору любой читатель почувствует несомненные натяжки: трудно отнести «Вчерашний день, часу в шестом…» к комическим стихам, а «То было раннею весной…» отделить от любовных стихов. Причина этого в том, что автор очень строго отбирал в свой корпус текстов только стихи, написанные графически отбитыми четверостишиями; т. е. за бортом остаются такие определяющие произведения, как «Двенадцать спящих дев» и «Певец во стане русских воинов». Автор правильно отмечает, что в западноевропейской литературе это был размер протестантских гимнов (и выводит из этого «хвалебную» тематику русских стихотворений). Но в русскую литературу он пришел, когда это уже был размер не столько протестантских гимнов, сколько романтических баллад. Эта романтическая традиция и стала общим знаменателем семантического ореола русского 4–3–4–3-стопного ямба (при этом не только с рифмовкой аБаБ, но и со сплошной мужской – абаб; было бы очень интересно рассмотреть общие и разные оттенки в этих двух ветвях традиции), поэтому классифицировать стихи этого размера следовало бы не по темам, а по эмоциям, характерным для интуитивно ощущаемой «романтичности»; это гораздо труднее, но и гораздо перспективнее.
69 стихотворений, написанных 6-стопным ямбом с рифмовкой аБаБ, рассматриваются менее формально и оттого более плодотворно – от перевода Державина из Сапфо («Счастлив, подобится в блаженстве кто богам…»), через «Вновь распахнулась дверь на влажное крыльцо…» А. К. Толстого и «Есть иволги в лесах, и гласных долгота…» О. Мандельштама, вплоть до стихов Бродского «На столетие Анны Ахматовой». Здесь выделяются не темы, а такие трудноформулируемые признаки, как любованье красотой, наглядность, торжественность, фон ранней весны или позднего лета, общая мажорная тональность. А на фоне этого выделяются некоторые интересные частные особенности, например как у Мандельштама в более коротких стихотворениях решительно преобладает мужская цезура, а в более длинных – дактилическая.
Здесь особенно отчетливо видно, как затрудняется задача стиховеда, когда он переходит от ритма и рифмы к трудноформализуемой семантике. Но «трудно» не значит «невозможно»: опыты формализованного описания содержания стихотворений через частотные тезаурусы их лексики уже предпринимались. (Особенно интересны были результаты М. Тарлинской при сопоставлении русских переводов сонетов Шекспира и английского перевода из Лермонтова146.) После такого анализа можно будет сказать точнее, в каком из 6-стопных ямбических стихотворений больше наглядности, а в каком больше торжественности и насколько. Это труд очень кропотливый, но, пожалуй, не более кропотливый, чем труд первых стиховедов, разбиравшихся в оттенках ударности и безударности русских слов на таких-то и таких-то стопах. После образцовых по доказательности разборов взаимосвязи рифмы, ритма и метра в первых трех частях книги читатель может быть разочарован анализом семантики в четвертой части. Что ж, он может переделать или продолжить эту работу сам – Лилли дает полные перечни выделенных и обследованных им стихотворений. Его книга – не подведение итогов, а приглашение к новому этапу работы над стихом; и его методологический опыт крайне важен для каждого, кто будет этим заниматься далее.
ПРЕДИСЛОВИЕ К «СЛОВАРЮ РИФМ А. А. БЛОКА»147
Словарь подготовлен на основе издания: А. А. Блок. Собрание сочинений: В 8 т. / Под общ. ред. В. Н. Орлова (и др.). М.; Л., 1960–1963. Т. I–III (стихотворения и поэмы). Переводы, шуточные стихотворения, рифмованные отрывки в драмах, а также «другие редакции и варианты» не учитывались. Учтены только концевые рифмы; случаи внутренней рифмовки не отмечались.
Словарь представляет собой алфавитный перечень всех рифмующих слов в стихах А. А. Блока. При каждом слове перечисляются (тоже в алфавитном порядке) все слова, с какими оно рифмует. Адрес рифмы (т. е. том римской цифрой и страница арабской цифрой) указывается при первом по алфавиту слове, а при втором по алфавиту слове дается отсылка. Так, для рифмы «небе – хлебе» (I, 78) при слове «небе» к рифмующему слову дается адрес «хлебе» (I, 78), а при слове «хлебе» рифмующее слово «небе» дается уже без адреса.
Образцом для составителя был «Словарь рифм М. Ю. Лермонтова» (в «Лермонтовской энциклопедии». М., 1981). Это не единственный тип словаря рифм. Иначе сделаны классические словари рифм Т. Шоу к трем русским поэтам148. Здесь каждая рифмопара дается отдельной строкой (так что учитывается разница между парами «небе – хлебе» и «хлебе – небе») и сопровождается грамматической характеристикой (очень интересной для будущего исследователя), а сгруппированы рифмопары по гнездам: сперва все мужские на -БА, -ВА, -ГА… -АБ, -АВ, АВЬ…, потом женские на -АБСКОЙ, -АБЫ, -АВА… и т. д. Алфавитный перечень рифмующих слов типа лермонтовского служит лишь вспомогательным указателем к такому словарю. Собственно, только словарь типа Шоу может служить пособием для исследования рифм: показывать, как от поэта к поэту обогащается или обедняется запас слов, чаще или реже становятся приблизительные и неточные рифмы и т. д.
Чтобы сделать «Словарь рифм А. А. Блока» ближе к такому типу, мы даем в приложении к нему «Указатель рифмических гнезд»: мужские на -БА, -ВА, -ГА…; -АБ, -АВ…; женские на -АБЫ(й), -АВА, -АВЕН…; дактилические. Гнезда следуют друг за другом в порядке ударных гласных звуков: А(Я), Е(Э), И(Ы), О(Ё), У(Ю). В каждом гнезде перечисляются по алфавиту слова, употребленные Блоком в данном созвучии. Адреса этих рифм читатель найдет, обратясь к основной части словаря. Гнездо -АГ/АК (благ, злак, иссяк…) дается по алфавиту на -АГ, а при -АК дается отсылка к -АГ; так же и в других аналогичных случаях. Приблизительные рифмы (те, в которых гласный отклоняется от гласного в названии гнезда) выделены курсивом: -АЛЕ(й): далей, печалей, сандалий, трепали. Неточные рифмы (те, в которых согласный отклоняется от названия гнезда) выделены жирным шрифтом: -ЧО: горячо, плечо, ни о чем; -ЕТЕ: встретя, свете, ветер. Так же выделены неравносложные и неравноударные рифмы: -АЛЕ: бале, бросали, Италии; -ЩЕ: еще, логовище, плаще, плече.
Редакция надеется, что опыт этого словаря будет полезен для дальнейшего исследования русских рифм.
О КНИГЕ М. ВАХТЕЛЯ 149
У этой книги подзаголовок лучше выражает ее содержание, чем заглавие. Ее предмет – семантика стихотворных размеров; именно ее «развитие» от стихотворения к стихотворению имеется в виду в заглавии. Семантические ореолы стихотворных размеров – одна из самых актуальных тем в современной поэтике. Первые подступы к ней были намечены Р. Якобсоном в 1930‐х годах; основополагающая статья К. Тарановского появилась 35 лет назад, в 1968‐м; теперь наконец выходит первая монография, целиком посвященная этой теме. Она предназначена для зарубежного читателя – это во многом определило отбор материала и характер его разработки. Автор не имел возможности слишком расширять круг текстов и обрушивать на голову англоязычного читателя десятки имен второстепенных и третьестепенных поэтов с цитатами из них, то есть обращаться к тому уровню поэзии, на котором в конечном счете складываются и закрепляются семантические окраски стихотворных размеров. Вместо этого он должен был выбрать наиболее яркие случаи «смысловой памяти» размера, продемонстрировать их на заведомо вершинных, не эпигонских произведениях русской поэзии и возместить недостаток внимания «вширь» тщательностью анализа, направленного «вглубь». Автору это превосходно удалось. Его интенсивное исследование хорошо возмещает недостатки тех экстенсивных исследований, которые велись за последние десятилетия в отечественном стиховедении, в частности пишущим эти строки.
В книге пять глав: связь стиховой формы со смыслом через метрику (белый стих), метрику и строфику («Черная шаль», «Евгений Онегин»), метрику и графику (элегический дистих), чистую графику («лесенка» Маяковского). Для русского стиховеда достаточно перечислить разбираемый материал, чтобы составить представление о книге в целом.
Первая глава – баллада в амфибрахических двустишиях: «Мщение» Жуковского (схема жанра) – «Черная шаль» Пушкина (любовный треугольник и экзотический персонал: гречанка, армянин, еврей, а герой, вероятно, молдаванин) – «Уральский казак» С. Аксакова – пародическая «Луна» Дельвига – «Баллада» («Над морем красавица дева сидит…») Лермонтова – пародический «Романс» («…В соседней палате Кричит армянин») К. Пруткова – мимоходом «Казак» Полежаева, «Чудная бандура» Ознобишина, «Чудная арфа» Кони, «Русалка» Фофанова, «Сон» Белого о кентаврах (сюжет рассыпается) – затем сдвиг в лирический дактиль (с отсылкой к «Псовой охоте» Некрасова, но не далее), «Вполоборота ты встала ко мне…» Блока и «Сероглазый король» Ахматовой (попутно – и концовка «Реквиема») – затем «Разбойник Ванька-Каин и Сонька-маникюрщица» Крученых (хоть и шаль, и амфибрахий там присутствуют весьма рудиментарно) – «Гренада» Светлова – и, наконец, Пригов, «Когда я в Калуге по случаю был…».
Вторая глава – медитативный белый стих («„Again I visited“ revisited»): «Тленность» Жуковского (земная тленность и небесная вечность) – переводы Пушкина из Саути – «Вновь я посетил…» (вечное обновление и память в поколениях) – Огарев, «Стучу – мне двери отпер ключник старый…» – Тургенев, «Один, опять один я…» – Григорьев, «Вопрос» (вызов Пушкину – не память, а забвение) – «Вольные мысли» Блока («О смерти» – не забвение, не память, а романтическое возвышение над ними) – «Эзбекие» Гумилева – стихи Ходасевича из «Путем зерна», особенно «Дом» – кишиневское «Воспоминание» Д. Кнута вводит еврейскую тему, «Из дневника» Веры Булич вводит православное воскресение в духе, Ахматова в «Есть три эпохи у воспоминаний» пессимистически перечисляет ступени забвения – и, наконец, Бродский в «Остановке в пустыне» оставляет конец открытым – не утверждением, а вопросом. Попутно упоминаются и «Конец второго тома» Кузмина, и «Белые стихи» Пастернака, и «Середина века» Луговского. Это одна из лучших частей книги: все знают пушкинскую насмешку над «Тленностью», «что, если это проза, да и дурная?», но не все дочитывают этот перевод из Гебеля до конца и замечают, что в нем заложены мотивы, которых хватило русской поэзии на полтораста лет разработки. Все эти стихи, от Блока и Гумилева до Бродского, справедливо пишет автор, воспринимаются как палимпсесты (образ Вяч. Иванова), как диалог, как чужое слово в своей мысли.
Третья глава – об онегинской строфе (подзаголовок: «от поэтического отступления к поэтической ностальгии»). Глава сама начинается с отступления о том, что образцом онегинской строфы никак не мог быть ни сонет (мысль, от Л. Гроссмана перешедшая к В. Набокову), ни случайная рифмовка у Шаликова (недавняя гипотеза В. Сперантова). Об онегинской строфе у самого Пушкина не говорится почти ничего – жаль, потому что развертывание темы внутри нее («сюжетосложение строфы») давно уже стало насущным вопросом семантического стиховедения. Из пародий на «Онегина» автор останавливается только на «Евгении Вельском» (сюжет растворяется в поэтических отступлениях), хотя упоминает и Д. Минаева, и А. Хазина, и даже К. Чуковского («Нынешний „Евгений Онегин“», роман в четырех песнях, в «Одесских новостях» за 1904–1905 годы). После лермонтовской «Казначейши» автор переходит к самой интересной для него части своего предмета – к тому, как метр и память метра сами становятся темой поэзии в стихах о памяти: в онегинской строфе ХX века у М. Волошина в «Письме» это воспоминание о совместном с подругой Париже («символистский рай, культурный синтез», «Ряд преддверий В просторы всех веков и стран»); у Соловьева – о детской поездке в Италию после второй, взрослой поездки; у В. Иванова в «Младенчестве» – воспоминания о России вдали от России, о детстве вдали от детства и – в последних строфах, 1918 год – об эпохе за переломом эпохи; у Северянина в «Рояле Леандра» – о годах своей славы; у В. Перелешина в «Поэме без предмета» – обо всех зигзагах своей биографии.
Четвертая глава – об элегическом дистихе. Если в предыдущих примерах стихи-потомки все дальше отходили от стихов-предков, то здесь, наоборот, они помнят о своем происхождении и оглядываются «через отцов на дедов»: за «античными дистихами» Кюхельбекера, Дельвига и Пушкина следуют попытки «русских дистихов» в стихах Пушкина о бабках и о свайке и в стихах Жуковского о мертвом Пушкине, но потом являются вненациональные любовные дистихи Фета, философские – Вяч. Иванова, и заканчивается этот ряд метапоэтическими «Дактилями» Ходасевича (мимоходом упоминаются также деформированные дистихи в «Стелах и надписях» Седаковой). Жаль, что автор не оглянулся дальше, «через дедов на прадедов», на греческую Антологию, в которой уже содержались все эти темы, и на обсуждение ее в русской литературе 1820‐х годов: Уваров, Батюшков и особенно цикл блестящих переводов Д. Дашкова – это была бы более удачная завязка для главы, чем стихи Кюхельбекера, оставшиеся в XIX веке почти без влияния.
Последняя глава – о «лесенке» Маяковского, которая стала в советской поэзии внешним знаком гражданской поэзии. Автор прослеживает некоторые тематические ветви этой советской гражданской поэзии (жанр оды, миф о Ленине, стихи о самом Маяковском – вплоть до Евтушенко и Рождественского). Может быть, интереснее было бы проследить, наоборот, использование «лесенки» в негражданской поэзии: какую специфику вносит этот прием, скажем, в стихи о любви (у Луконина и др.)? Стих дробился в советской поэзии не только «лесенкой», но и «столбиком» (как у раннего Маяковского); как кажется, это тоже был сигнал гражданственности, но менее яркий. Автор справедливо отмечает (с. 238), что Пастернак, например, «лесенкой» не пользовался, однако «столбиком» он разбил весь свой «Девятьсот пятый год» (чтобы больше получить построчных, как он честно признавался в письмах к родным, – попрек, которым всегда дразнили и Маяковского). Вероятно, это для него значило вписаться в гражданскую поэзию, но отвести мысль, будто он при этом подражает Маяковскому.
В эпилоге к книге автор предлагает для сравнения хороший параллельный пример разработки тематической традиции без опоры на метрическую традицию – три стихотворения о царскосельской статуе Перетты над кувшином: «Царскосельская статуя» Пушкина в элегических дистихах (с эпиграммой-маргиналией А. К. Толстого), «Расе» Анненского (александрийским стихом; можно бы добавить стихотворение В. Комаровского об обеих этих статуях) и «Царскосельская статуя» Ахматовой (4-стопным ямбом).
Любопытно, что главным героем семантической истории русского стиха, таким образом, выступает Пушкин – и в «Черной шали», и во «Вновь я посетил…», и в «Онегине» именно он остается фоном и ориентиром для позднейших поэтов (недаром фотографией царскосельской статуи Пушкина на скамье украшена суперобложка книги). Между тем при всех экстенсивных обследованиях семантических ореолов в менее броских размерах переломной фигурой оказывается Лермонтов – как автор и «Выхожу один я на дорогу…», и «По синим волнам океана…», и «Спи, младенец мой прекрасный…», и «Горные вершины…». Пушкин выступает как бы завершителем эпохи, Лермонтов – зачинателем новой; вершинные стихотворения новой эпохи оглядываются на Пушкина, рядовые движутся в направлениях, заданных Лермонтовым. Подражания онегинской строфе – все, так сказать, именованные, со ссылкой на источник; подражания «Вновь я посетил…» – полуименованные, легко угадываемые; подражания «Черной шали» помнят о своем образце при Аксакове и даже Пруткове, но затем легко забывают; именно подражания последнего типа тянутся за Лермонтовым более длинными вереницами, чем за Пушкиным. (Мы сказали «забывают»; может быть, вернее сказать «память уходит в подсознание». М. Вахтель очень осторожен в гипотезах, однако на с. 271, говоря о воспоминаниях Светлова про «шальную мысль», подсказавшую ему замысел «Гренады», он замечает: не проговорка ли это о влиянии размера «Шали»?)
Опыт показывает, что тема «метр и смысл» всегда влечет за собою тему «ритм и смысл» – ритмико-семантические подтексты, всплывающие у позднейших поэтов. Попутные наблюдения такого рода есть и в книге М. Вахтеля, особенно в разделах о Лермонтове и Вяч. Иванове. Например, пушкинское «…Но я молчу; два века ссорить не хочу» откликается у Вяч. Иванова: «Солгать и в малом не хочу; мудрей иное умолчу», а на него ссылается Перелешин: «Мудрец об этом говорил, а я чужое повторил». Лермонтовское «И Гарин вышел. Дома пули И пистолеты снарядил. Присел – и трубку закурил» Вахтель возводит к пушкинскому «Вот пистолеты уж блеснули… пули», тогда как скорее это сплав из «Пистолетов пара, две пули…» и «При свечке Шиллера открыл». Точно так же для строчки С. Соловьева «Где прежних лет моряк отважный» отмечен подтекст «Где прежде финский рыболов…», но не отмечен сплавленный с ним «…Торгаш отважный…». В цитируемых стихах Перелешина «Не у партийного витии – орденоносной мелкоты – я нахожу моей России неистребимые черты» можно было бы отметить броскую реминисценцию из «На ранних поездах» Пастернака. Не знаю, отмечалось ли до этой книги, что концовка III главы «Онегина» «Докончу после как-нибудь» была осмысленна в романе, печатавшемся с продолжениями, и становится бессмысленна в середине «Казначейши» (с. 40, «А там докончим как-нибудь») – намеренно или ненамеренно?
Автор превосходно владеет материалом и превосходно владеет языком: его переводы пушкинских цитат для английского читателя безукоризненно точны. Там, где его не стесняет рифма, он делает эти переводы стихами, и для русского читателя они тоже небезынтересны: в них белый 5-стопный ямб «Вновь я посетил…» (и следующих за ним стихотворений) как бы возвращается к диалогу со своими западными образцами, и в них порой слышится интонация по-пушкински спрессованного Вордсворта, который так и остался для русской поэзии чужим словом. М. Вахтель перевел даже знаменитую безымянную пародию «Зима! Пейзанин, экстазуя…» – «Ah, Winter!.. The paysan extatic Now nouvellizes the chaussée…» – и она, рядом с образцом, стоит эпиграфом к главе об онегинской строфе. Можно разве пожалеть, что на с. 202 он не решился в концовке ходасевичевских «Дактилей» перевести буквальнее: «Now in the January night, somewhat drunk, in a six-foot meter Using a six-fingered form (у Вахтеля: «Using a form of six lines»), son recalls father again».
О мелких недосмотрах в хорошей книге не стоит говорить. Так, трудно согласиться, что у Ходасевича в «Жив Бог!..» (с. 250) концовка намеренно складывается в деформированную строфу державинской оды «На счастье» – скорее это случайность, просто концовочное четверостишие меняет рифмовку на охватную – достаточно известный прием. Неверно, будто лимерики в русской поэзии появились только в 1994 году (с. 261), – их переводил еще Маршак. Говоря об элегическом пентаметре (с. 188), следовало бы отметить неправильность у самого Пушкина – стяжение в недозволенном месте в полустишии «поднял меткую кость». И самое страшное – обмолвка на с. 5, где сказано, будто пушкинская «Телега жизни» – это терцины (автор явно думал о «В начале жизни…»); для критиков, которые не читают дальше пятой страницы, это будет повод для придирок.
Чего в этой книге нет, так это европейских параллелей к ее русской теме (разве что о Данте сказано, что его имя так же прочно срослось с терцинами, как пушкинское – с онегинской строфой). Не упоминается даже книга М. Тарлинской «Strict Stress-Meter in English Poetry» (1993), где сделана едва ли не первая попытка проследить связь meters and meanings в английском дольнике, ямбе и хорее. Тому есть свои причины: классических стихов на Западе сейчас не перечитывают, а если перечитывают, то как прозу, без всякого внимания к метру, ритму, рифме и строфе. Вот уже сто лет, как западная поэзия перешла на верлибр и непосредственное восприятие стиха Шекспира и Шелли стало таким же трудным, как непосредственное восприятие стиха Пиндара и Горация. В заключительной главе книги автор делает на этот счет тонкие и очень важные наблюдения. Современная европейская стиховая культура – более книжная, поэты даже с эстрады читают свои самые коротенькие верлибры не на память, а по бумажке. Русская культура стиха, начиная со школы, гораздо больше держится запоминанием на память – может быть, это признак ее архаической полуустности. Запоминание на память гораздо больше сосредоточивает на ритме и рифме – собственно, сам стих с его формальными ограничениями и был, вероятно, изобретен для того, чтобы лучше запоминать подлежащие запоминанию тексты. Поэтому русская культура чтения чутче к перекличкам метрики и строфики – зато европейская культура чтения больше располагает, например, к close reading с медленным вдумыванием в текст там, где русский любитель поэзии сплошь и рядом затруднится пересказать своими словами свое самое любимое стихотворение.
Когда-то русские формалисты сделали переворот в науке, перенесши на классическую литературу впечатления от современной им литературной борьбы, – объявили, что младшие писатели не продолжают старших писателей, а отталкиваются от них. Потом понадобилось несколько десятилетий, чтобы реабилитировать понятие традиционалистической литературы и показать, что так было не всегда и не везде. Сейчас нечто подобное происходит на Западе: современность – в центре внимания, классика – лишь подготовка к сегодняшнему дню, «страх перед влиянием» (термин Х. Блума) – движущая сила литературы. Наступает время восстанавливать равновесие и вносить поправки в модные понятия. Майкл Вахтель воспользовался для этого материалом русской классической поэзии, и воспользовался очень хорошо. Хочется надеяться, что на его книгу обратят внимание не только слависты. В 1910 году, при Андрее Белом, русское стиховедение в традиционном смысле слова – «метр, ритм, рифма, строфа» – раньше других двинулось к тому, чтобы сделаться точной наукой; теперь за ним следуют, быстрее или медленнее, науки о стихе и других языках. В 1963 году, при К. Тарановском, русское стиховедение раньше других стало осваивать принципиально новую область, «метр и смысл», – будем надеяться, что и это найдет отклик в науках о стихе в других языках.
ПИСЬМА К Н. В. КОСТЕНКО150
Глубокоуважаемая Наталья Васильевна,
…То, что Вы пишете о влиянии 8+7-сложников Сковороды, мне кажется интересным и убедительным. (В русской религиозной поэзии – в более силлабо-тонизированном виде – такие длинные строчки мне попадались, я помню публикацию старообрядческого анонима в «Русской старине»: «Изложить хочу в поему повесть горестных причин, Злым коварством поедаему, кто свободен злых личин…», – но я не догадывался, что это может быть так прямо связано с силлабическими источниками.) Я бы воспользовался случаем и внес бы это в Вашу книгу, разве что оговорив «возможно…» и т. п. Но скажите, а не могло ли тут быть одновременно и совсем иного влияния – русской частушки? Она – тоже (в основе) 8+7 слогов, хореического склада, но с частыми сдвигами ударений, живо напоминающими о силлабике; внимание передовых поэтов 1920‐х гг. к частушке хорошо известно. К сожалению, в единственной хорошей работе о ритмике частушки – у Н. С. Трубецкого (уп. в моей книге, с. 484)151 – о сдвигах ударения почти ничего нет.
«Versus quadratus» – название традиционное, от латинских грамматиков, и значит, вероятно, «складный», «симметричный» и притом «тяжеловатый, коренастый стих»: такой набор значений у этого слова есть.
«Леонинский стих 8+6», оказавший влияние на восточнославянскую силлабику и песню, – это вроде примера из Конисского «Чиста птица, голубица такой нрав имеет»? Тогда я о нем знаю, хоть и не знал, что он так влиял на народный стих; где об этом можно прочитать? А избегаю я упоминать о нем только потому, что в применении к нему термин «леонинский» вторичен, условен и если не знать настоящего значения этого термина (в применении к гексаметру), то и малопонятен; поэтому я привык популяризировать слово «леонинский» в основном, гексаметрическом значении, а это, вторичное – затушевывать, чтобы не сбивать.
О 15-сложнике латинском, наверное, доступнее всего можно прочитать в:
Metryka grecka i lacińska / Pod red. M. Dłuskiej i W. Strzeleckiego. Wrocław. 1959 («Poetyka: zarys…», dz. 3, T. 8, cz.1);
D. Norberg. Introduction à l’étude de la versification latine médiévale. Stockholm, 1958;
Он же. La poésie latine rythmique du haut Moyen Age. Stockholm, 1953.
Вам всего хорошего! Надеюсь и Вас когда-нибудь побеспокоить справками по украинскому стиху.
Ваш М. Г.17.11.1981
Дорогая и глубокоуважаемая Наталья Васильевна,
Спасибо Вам за доброе письмо (и за знаки ударений в нем тоже). Конечно, когда я писал про частушки, у меня в голове было именно это 4-стишие про «троянду» (русский переводчик Ушаков или Асеев? переписал его слово в слово). А каковы настоящие укр. частушки, я совсем не знаю. Очень рад буду, если смогу и еще когда-нибудь быть Вам полезен – при всей моей неосведомленности не только в восточнослав. (Вы меня переоцениваете), но и в инославянской поэзии. Года два назад в ОЛЯ АН СССР поднимался вопрос о праздновании будущего 1000-летнего юбилея русской литературы. Его приветствовали, но с тремя оговорками: 1) почему русской, когда общеславянской? 2) почему литературы, когда словесности? 3) почему 1000-летний, когда неизвестно, с какого года?
Счастливого Вам Нового года и доброго здоровья, несмотря на холод.
Ваш М. Г.15.12.1981
Дорогая Наталья Васильевна,
Помните ли Вы, как выглядят в собрании сочинений Пушкина его замечания на полях Батюшковских «Опытов в стихах»? Выписана строфа, на поле: «Слабо»; выписала другая, на поле: «вернее – так-то»; выписана третья, на поле: «ошибка непростительная!»; в конце стихотворения: «какая прелесть». Вот таковы и мои. Я сделал на полях замечания, где были у меня сомнения или вспоминались случайные аналогии; а здесь, как в конце стихотворения, пишу: поздравляю Вас с прекрасной работой. Первая ее часть, прежде всего, вызывает преклонение объемом и тщательностью проработанного материала (я-то знаю, каково это!), а затем – благодаря ей становится интереснее и моя аналогичная работа. Вот бы найти еще подвижника, который бы сделал такое же по белорусскому стиху! В этом году должен защищать в Минске Славецкий (если не путаю фамилии), обсчитавший Я. Коласа; намекну ему; букет из трех таких работ мог бы стать откровением. Вторую же часть я читал просто как непросвещенный читатель (большинство авторов я знаю по случайным русским переводам и представление о них имел часто неправильное) и могу только сказать, что нигде не нашел ничего лишнего и пустословного, а это всегда ведь грозит таким очеркам. Думаю, что подобных мне читателей, нуждающихся в таких очерках, немало.
Замечание, которое я не успел вовремя вписать: упоминания о параллельном материале Н. Ушакова, по-моему, можно снять, он одинок, малообоснован и малоиспользован.
Стихотворение Первомайского, написанное цепными строфами, я переписал себе от начала до конца: я ведь о цепных строфах писал и, может быть, еще буду. Спасибо! А еще спасибо за бесконечно тронувшую меня разметку ударений. Смешно сказать, но я от этого не только лучше слышал стих, но и лучше понимал язык, и поэтому хорошие стихи доставляли еще больше радости.
Можно потревожить Вас просьбой (несрочною, месяца на два)? Я буду читать в Петрозаводске (а потом, может быть, писать для нашего института) очерк истории европейского стиха; главным образом, конечно, по чужим работам, но никогда или почти никогда не сводившимся воедино. Так вот, для одного из уголков его пришлите мне какую-нибудь показательную цитату из украинских дум с разметкою ударений, строк на 10–15, никак не больше (хорошо если переводившуюся на русский язык, хотя бы в 200-томнике БВЛ, но это необязательно) и скажите, можно ли где-нибудь прочитать достаточно общую (не требующую сквозного знания материала) характеристику этого стиха? По Якобсону я где-то уловил, что это потомок общеславянского речитативного стиха, но испытавший влияние говорного стиха и поэтому почти утративший внутренний ритм; такое впечатление безритменности производили на меня и те цитаты, которые изредка попадались. Так ли это?
Еще раз спасибо за удовольствие от работы; простите, что заставил ждать с ответом, было много работы. Если смогу быть полезен Вашей диссертации на любом ее этапе – буду счастлив.
Ваш М. Гаспаров7.08.1982
Дорогая Наталья Васильевна,
Конечно, присылайте Ваши главы, какие сочтете нужным: мне это очень интересно, и если не мгновенно, то во всяком случае за сентябрь – октябрь я Вам их верну и отвечу. За «Думы» и разметку в них – огромное спасибо. Но знаете, впечатление о влиянии говорного стиха у меня только подтвердилось. Вас оно смущает, вероятно, потому, что связывается с раешником, а раешник с комизмом; но есть, например, большая повесть XVII века, писанная говорным стихом со сплошными женскими рифмами (т. наз. «Роман в стихах», о нем писал Б. Ярхо), и она местами звучит очень похоже. Маячит, конечно, сходство и с молитвословным стихом, но его мы хуже знаем. А откуда термин «орационные стихи» – от «орация» = речь или = молитва? Нарождение новой (после 5‐го слога) цезуры в 5-ст. ямбе – удивительно интересно; уделите этому побольше внимания. Всего Вам наилучшего!
Ваш М. Гаспаров31.08.1982
Дорогая Наталья Васильевна,
Я получил Вашу бандероль, изо всех сил постараюсь к концу месяца прочитать. А оппонировать, разумеется, я согласен с радостью, – как Вы могли иначе думать? Будьте благополучны и ни о чем не беспокойтесь. Всем добрым людям – поклон!
Ваш М. Гаспаров12.10.1982
P.S. Я только что послал отзыв на реферат Н. М. Сулимы. Реферат мне понравился и единственный давний разговор с ним – тоже. А Вам?
Дорогая Наталья Васильевна,
Посылаю, как в прошлый раз, замечания на полях. По большей части это или мелочи (иногда просто исправления опечаток, тогда на полях – галочка), или попутные соображения («ритм такой-то цитаты напоминает еще о том-то»), или, наоборот, сомнения самого общего свойства. Тема у Вас очень интересная: мне не раз приходилось однообразно писать «в рус. поэзии ХX века господство сил.-тоники слабеет, но это отнюдь не означает возрождения досиллабо-тонич. размеров – Блок и Маяковский создавали новую тонику без всякой оглядки на народную тонику» и т. д.; а у Вас как раз получается, что было и не так, и что Тычина, создавая новый стих, опирался и на старый, народный. Боюсь, однако, что при этом иногда стиховедческие категории у Вас смешиваются с внестиховедческими; так что если я буду Вам оппонировать, то, вероятно, главным образом буду сомневаться в том, как Вы отделяете «15-сложник народного происхождения (силлабо-акцентный)» от обычного хорея и верлибр – от акцентного стиха и проч. (Так как у меня копии моих замечаний на полях не осталось, то если у Вас эти страницы сохранятся, может быть, Вы мне их потом дадите, чтобы готовиться к оппонированию?)
Будьте благополучны! Работа у Вас превосходная, так что кончайте ее, обсуждайте и защищайте; буду ждать.
Ваш М. Гаспаров23.10.1982
Дорогая и глубокоуважаемая Наталья Васильевна!
Конечно, присылайте и «классический стих» – постараюсь не задерживать, если смогу. Сейчас Вам пишу из Ленинграда проездом между конференцией в Таллине и лекциями в Петрозаводске; в Москву я вернусь около 28.XI. Насчет верлибра мы вроде бы одного взгляда: я тоже считаю, что верлибр – это белый акцентный стих. Почему же я этого не понял по тексту диссертации? А народный 15-сложник я просто плохо себе представляю. Пришлите, пожалуйста, (при главе) список нескольких образцов со ссылкой на какое-нибудь легкодоступное издание. Всего доброго! Привет коллегам.
Ваш М. Гаспаров15.11.1982Ленинград
Дорогая Наталья Васильевна,
Я сделал, как раньше, записи на полях; их не очень много. В целом мне это показалось не так интересно, как предыдущие части; может быть, это Вы Рыльского меньше любите, чем Тычину. Но главное, там (о метрич. репертуаре) были цифры, и они всё говорили, а здесь цифр нет, и в словесном описании, кто как управляется с шестью ритмическими вариациями Я4 и проч., все оказываются слишком похожи друг на друга. Жалко, что у Вас нет времени: посчитать хоть десяток выборок по 300–400 стихов и дать их в приложении ведь было нетрудно. Кроме того, меня смущали некоторые словоупотребления, напр. «нормативный» – явно не в словарном значении (но нужного Вам синонима я подобрать не смог). Простите, что не сделал раньше: на той же неделе, когда Вы оппонировали Орлицкому, я сперва «предоппонировал на предзащите» по английскому ритму и смыслу, а потом аварийным заменителем оппонировал на докторской по теории тропа, и с каждой диссертацией должен был управиться в два-три дня. Счастливого вам нового года! Н. Сулима сделал чудо (подозреваю, что не без Вашего участия) – добыл для меня у Мишанича «Украинскую поэзию 16–17 в.». Спасибо!
Остаюсь в надежде славы и добра.
Весь Ваш М. Гаспаров(1982–1983)
Дорогая Наталья Васильевна,
Что делать, будем ждать; я вчуже представляю, как извело и изведет Вас это ожидание, и сердечно желаю душевных сил. У Цветаевой в письмах к Тесковой была выписана по-французски арабская сентенция «будем иметь терпение против фортуны, потому что фортуна не имеет терпения против нас». А я рад буду быть в Киеве и в Вашем распоряжении когда угодно. Очень рад был узнать, что Вы пробуете переводить: переводы между такими родными языками, как украинский и русский, всегда особенно тонки и интересны. Будьте здоровы, и кланяйтесь всем хорошим людям!
Ваш М. Гаспаров14.09.1983
Дорогая Наталья Васильевна,
А я о системах стиха по-прежнему думаю так, как написал во введении к «Совр. рус. стиху», – у нас есть только 3 системы, сил.-тонич. (с метром) и по две стороны от нее силлабич. (без метра) и тонич. (тоже); в промежутках – переходные формы (дольник, тактовик), которые при обзоре можно причислять туда, куда удобнее – с историч. точки зрения к тонике (так как и они, и тоника менее традиционны, тут и получается оппозиция КЛ:НКЛ), с теоретической точки зрения к силлабо-тонике (так как и силлабо-тоника обладает метром, т. е. большей или меньшей предсказуемостью сильных позиций). У Вас в украинском стихе окажутся еще и переходные формы между силлабо-тоникой и силлабикой (вроде коломыйкового стиха разной степени силлабо-тонизованности), с которыми придется управляться подобным же образом. Называть тонику «чистой» я тоже не люблю, но что делать, приходится иногда. Верлибр для меня – это тонич. стих, неравноударный и без рифмы; выделять его в отдельную систему – значит непомерно щедро раздавать стих. формам ранг «системы», – я решительно против. Желаю успеха.
С приближающимся 8 марта!
Ваш М. Гаспаров(1984)
Дорогая Наталья Васильевна,
«Верлибр» я начал бы с определения вроде «стих, не имеющий предсказуемого ритма строк и рифмовки и поэтому отличающийся от прозы только графическим разбиением на стихотв. строки». Т.к. понятие «предсказуемость» до некоторой степени субъективно, то существующее определение В. колеблется… и т. д., – по возможности, конечно, сократив описание разноголосицы. «В. сначала развив. в Германии…» я бы добавил: «с установкой на имитацию Пиндара (Sturm und Drang) и Библии (Уитмен)». Простите, что так замедлил с ответом: был в отлучках и мучился с мелкими текущими делами; даже для укр. энциклопедии написал только сейчас и только по напоминанию. «Очерк истории зап.европейского стиха» я и вправду пишу и должен кончить в 1987 году; как раз сейчас читаю для них работу Ф. Колессы об укр. нар. песнях и с тоской пробую разобраться в русских. 29.1–1.2.85 у меня будут три конференции одновременно, но на стиховедческой я все-таки должен выступить сообща с ярославцем, который учит ЭВМ различать стих. размеры. Если приедете – буду очень рад Вас увидеть, а если нет – буду рад знать, что Вы можете хоть немного отдохнуть. Всего доброго!
Весь Ваш М. Г.19.01.1985
Дорогая Наталья Васильевна,
Спасибо Вам за доброе письмо и, пожалуйста, не тревожьтесь! У Ахилла было копье, которое одним концом ранило, а другим исцеляло; вот так и я: хотя говорят, что мозговой спазм у меня был, в конечном счете, от переутомления, но привел я себя в порядок, по-моему, спокойной работой больше, чем лекарствами, и только что кончил (начерно и с пробелами) первый вариант «Очерка истории европ. стиха». Говорят, что впредь надо брать поменьше работ, но Вы ведь знаете, как трудно отказывать!
Доброго Вам здоровья и сил, привет всем киевским коллегам, а отцу Вашему и маме – низкий поклон.
Весь Ваш М. Гаспаров16.07.1985
Дорогая Наталья Васильевна,
У меня к Вам нечаянный спрос: может быть, Вы случайно сможете мне помочь? Мне предстоит делать доклад, а потом, может быть, писать статью о семантическом ореоле русского 4-ст. дактиля со сплошными или почти сплошными дактилич. окончаниями, идущего от «Тучек» и «Молитвы» Лермонтова. Среди собранных мною стихотворений (около 60) есть одно, которое я переписал на обороте, – написанное строфой «Вырыта заступом яма глубокая». Оно имеет помету «с малороссийского», без каких-либо дальнейших пояснений. Не знаете ли Вы или кто-нибудь из Ваших коллег: точно ли это перевод, и из какого он может быть автора?
Это у меня вопрос попутный, не первостепенной важности, и если ответ на него требует специальных поисков, то ради бога не беспокойтесь и не утруждайте себя. А если вдруг оригинал отыщется сам собою, то скажите, каков его размер и строфа и точно ли они переданы в переводе. И есть ли вообще в украинской поэзии XIX – начала ХX века сколько-нибудь заметные стихи, написанные размером «Тучек» и «Молитвы»? Простите, что я тревожу этими вопросами именно Вас, но кого же и спрашивать о ритмическом репертуаре украинской поэзии, как не Вас? Если ничего не придет в голову – так и напишите, пожалуйста, я буду рад и такой весточке от Вас.
С самыми лучшими воспоминаниями о Вас, о Киеве и о нашем общем деле,
с низким поклоном всему Вашему доброму дому
весь Ваш М. Гаспаров5.10.1985
P.S.
О. Чюмина,
«Стихотворения», 1889, с. 177
РОДИНЕ
(с малороссийского)
1884
Дорогая Наталья Васильевна,
Спасибо Вам за заботы о стих. Чюминой, вот что значит семантический ореол, как он врезается в сознание и побуждает к припоминанию! – и за 8-стишие Грабовского: когда-нибудь наши дети напишут международную историю сем. ореолов, а мы с того света будем радоваться. Только бы наши заботы не отправили нас на тот свет преждевременно: моя мать была когда-то секретарем совета Института психологии (это все-таки легче), и я знаю, каково это. С будущей книгой поздравляю Вас от всей души… NB мне прислали из‐за границы книгу Иг. Качуровского об украинской строфике – не нужна ли она вам, чтобы иметь под рукой? – О. Федотов защитился единогласно, хотя – впервые в моем диссертационном опыте – при одобрительном внешнем отзыве от ИМЛИ Б. Гончаров прислал свое особое мнение на 6 страницах о том, что «диссертант не заслуживает…». Мне как неофициальному оппоненту пришлось изощряться, чтобы одновременно высказать собственные критические замечания (серьезные, но чтоб Совет не понял) и защитить от гончаровских нелепостей. Всем сердцем желаю Вам и Вашим сил и бодрости – еще раз спасибо!
Ваш М. Г.26.10.1985
Дорогая Наталья Васильевна,
Я через несколько дней уезжаю в двойную командировку (Тарту – Петрозаводск, с лекциями) и вернусь только 13–14 декабря; я не знаю, успею ли до отъезда, но как только смогу, отправлю Вам Качуровского, и пусть он живет у Вас: мне он скоро не понадобится.
Спасибо Вам и коллеге за внимание! А об ореолах недавно М. Ю. Лотман написал первую обобщающую работу, я читал рукопись – очень интересно.
С поклоном всему Вашему домуВаш М. Гаспаров14.11.1985
Дорогая Наталья Васильевна,
От души поздравляю Вас с избавлением от последних беспокойств. Значит, все утверждения прошли хорошо и в срок: я тоже получил диплом почти день в день через год после защиты. Теперь желаю Вам передохнуть и набраться сил для пробивания в издательстве. А для меня Киев остался самым радостным воспоминанием прошлого года.
Не откажите, сообщите мне адрес Евг. Ил. Ветровой. Я читал лекции (о европ. стихе) в Ленинграде, и там одна неизвестная диссертантка захотела прислать мне на просмотр свою работу о стихе и поэтике Уитмена. Если Ветрова не возражает, я дал бы ее адрес этой робкой даме: сам я посмотрю работу, но много ли высмотрю в ней, не знаю.
Всего Вам самого доброго – и поклон всему вашему дому!
Ваш М. Гаспаров(12.1985)
Дорогая Наталья Васильевна,
Правильно ли я помню, что у Вас находится книга «Строфика» изд. 1969, которую я когда-то Вам давал? Если да, то считайте ее своею: я неожиданно получил экземпляр от автора, и с предложением написать еще несколько страниц воспоминаний о лекциях Ярхо (о котором я в будущем году пишу статью). Будьте —всем домом! – сколь возможно благополучны и помните, что Вас помнит гораздо чаще и живее, чем можно думать в нашей круговоротной жизни
Ваш М. Гаспаров(1986)
Дорогая Наталья Васильевна,
Прежде всего, простите меня: это я хочу попросить Вас переслать в Укр. лит. энциклопедию прилагаемые несколько заметок, потому что я в последний момент потерял бланк с заказом и не знаю адреса Энциклопедии. Очень прошу извинить меня за такое обременение от моей рассеянности. Ну а в остальном – как и все в этом году, думаю об Украине каждый день, тревожусь о вас и Вашем доме и прошу судьбу, чтобы все обошлось, что еще может обойтись.
Неизменно Ваш М. Гаспаров14.09.1986
Дорогая Наталья Васильевна,
Я почти завидую, что Вы будете читать «Теорию литературы» – это так же помогает навести простоту и ясность в собственных мыслях, как и статьи для энциклопедии. Был момент (разумеется, недолгий), когда «Сов. энциклопедия» хотела поручить мне единолично сочинение словаря литературных терминов. Я в ужасе думал, что бы я написал, например, на слово «партийность», и вдруг понял: это «система взглядов, не выработанная писателем самостоятельно, а воспринятая в готовом виде». Соответственно, можно говорить, напр., о христианской партийности в литературе средних веков и т. п. Вы видите, что это хорошо, что мне не заказали такого словаря; но в плодотворности этого определения я и сейчас не сомневаюсь. А вдруг бы, подумав, я додумался бы до точного употребления других абстрактных слов! Главное – чтобы Вы были здоровы и, конечно, Ваш папа, которому от меня самые сердечные пожелания: очень надеюсь, что все образуется. Евг. Ил. Ветрова рассказывала мне про Киев – представляю, понимаю и стыжусь. А перевод у нее хороший, и мне хотелось бы, чтобы связь ее с «Прогрессом» закрепилась.
Всего Вам самого хорошего!
Ваш искренний М. Гаспаров7.10.1986
Дорогая Наталья Васильевна,
Все мы по летнему времени отвечаем друг другу с опоздательными извинениями и с пожеланиями подремонтироваться – у меня это тоже неважно, хотя я и «отдыхаю» сейчас в Малеевке. «Переписать» Бажана – именно при Вашей ситуации – Ваш долг; но я вполне понимаю, что Вам от него хочется отдохнуть, так что отложим его на потом. А Павлычко потянет ли на целую книжку? Может быть, подобрать к нему 1–2 сверстников, дополняющих друг друга? Но здесь уже я не советчик. Доброго здоровья Вам – я всегда за него в тревоге, – а Вы пожелайте мне. Всему Вашему теплому дому – низкий поклон.
М. Гаспаров(1987)
Дорогая Наталья Васильевна,
Я Вам написал панегирик через один интервал такой длины, что он едва уместился на странице отзыва, и подписываться и заверяться пришлось сбоку на поле. Но издательство требует трех экземпляров, четвертый я оставил себе на память, а пятого машинка не взяла. Так что с извинением прошу Вас примириться с тем, что Вы ее увидите только в издательстве. И с еще большим извинением – что по общим словам, наполняющим ее, видно, что я едва успел перелистать рукопись, а хотелось бы прочитать ее внимательнее: но разве успеешь! Буду ждать типографского вида. Но согласитесь, что мы с Вами уже в том возрасте, когда для того, чтобы отличить хорошее исследование от плохого, не нужно дочитывать до конца. (Помните об этом рассказ позднего Зощенко?) И самое главное – пусть это лето получше обернется для Вашего здоровья. Вашему доброму дому – самый низкий поклон.
Весь Ваш М. Г.5.07.1987
Дорогая Наталья Васильевна,
Поздравляю с книжкой! С удивлением прочитал, что был ее рецензентом, и «чуть загордился», как писал Маяковский. Будьте здоровы и благополучны со всем дорогим мне домом и со всеми хорошими людьми! Я этим летом сижу в больнице с депрессией дольше обычного, но работаю много, а зимой надеюсь даже о стихе пописать – пока все не дают античность и прочее. Будьте обязательно. Ведь есть на свете несколько человек, ради которых стоит жить и работать, – постараемся! Даже для покойников можно: так я пишу для Томашевского и Ярхо…
От души Ваш М. Гаспаров29.08.1988
Дорогая Наталья Васильевна,
Грех Вам писать: «Я надеюсь еще что-то сделать по стиховедению». Я совершенно уверен, что Вы сделаете еще много. Вы уже увязли в нашей науке так глубоко, как я, и если даже Вы отойдете от нее, она от Вас не отойдет. Лишь бы хватило сил. Поправляйтесь, о пропущенной конференции (хоть она и юбилейная) не жалейте, а мы с Вами, я уверен, еще встретимся на научных дорожках. Очень рад, что от перестройки университетская обстановка всколыхнулась – у нас в институте дальше речей ничего пока не пошло. Впрочем, с самыми молодыми я мало встречаюсь – вдруг и они изменились к лучшему?
С поклоном Вашему дому и всем хорошим людям,
Ваш М. Гаспаров(1988)
Дорогая Наталья Васильевна,
Спасибо Вам за открытку и за добрые пожелания – ничего не могу, кроме как и Вам пожелать того же. Давайте выживать, еще не все дела сделаны. Часто думаю о Ваших папе и маме, а у самого вчера положили в больницу сына с обострением депрессии (24 года) – на месяц, если не больше. Мечтаю весной взять неиспользованный отпуск и за три месяца написать книгу про семантические ореолы – увы, облегченную, для «Сов. писателя». Поздравляю вас с двумя «Строфiками» сразу – конечно, книга эта для украинских стиховедов прежде всего, Вы и ищете лишнему экземпляру достойнейшего владельца. А вот «Нарис компаративної…» заинтриговал меня (хотя моя об этом книжка вроде бы скоро уже идет в производство152) – когда встретимся (на что надеюсь), покажете мне.
Я тоже в бога не верю, но вместо этого иногда вспоминаю о (не слишком многих) хороших людях, которые ко мне хорошо относятся и я к ним – тоже, и становится легче. Низкий поклон всем добрым людям, а Вашему дому особо.
Ваш М. Г.11.11.1988
Дорогая Наталья Васильевна,
Стыжусь, что Вы получили мою книгу не от меня: я сделал большой заказ, но в медленном месте, и теперь не могу определить покупающих в магазинах. Главное – здоровья Вам! Я этим летом за месяц в больнице сделал полный план будущего года и больше и мечтаю еще раз попасть, чтобы поработать спокойно, – жаль, что не все там возможно, нельзя иметь много книг. Но Вам желаю лучше выживать дома, и родителям Вашим тоже. О предмете искусства я лучше всего читал в кн. Б. М. Энгельгардта, 1926, о формальном методе: все, что выделено рамкой из мира и, следовательно, структурно замкнуто, обозримо и оценимо. Но мне очень хотелось бы поразговаривать с Вами лично – ведь всех больших поэтов, о которых вы пишете, я знаю только по книгам (и то больше переводным), а как людей – не знаю, и кто как был сломан – не знаю. Вам писать об этом – очень важно для всех. От души желаю вам для этого сил и душевной смелости.
Ваш М. Гаспаров21.09.1989
Дорогая Наталья Васильевна,
У меня плохо с памятью: совсем не помню, в какой связи я писал Вам об Энгельгардте Б. М. Вероятно, я имел в виду его «Формальный метод в истории литературы», Л., Academia, 1927; кроме этой книги, книги «А. Н. Веселовский» (Л., 1924) и статьи о Гончарове, перепечатанной при «Фрегате „Паллада“» в «Лит. памятниках», я, к сожалению, не сохранил в уме его работ. А я в этом году сдал в институтский сборник статью о цепной строфике с последним примером Л. Первомайского и благодарностью Вам (я его нашел в Вашей диссертации). От Руднева я тоже давно не имел вестей; рад надежде получить его книгу и послать ему радостную открытку. Я думал поехать в этом году в командировку в Петрозаводск, но не смог. Еду (вероятно) на неделю в Гарвард с институтской делегацией по началу ХX века, а потом буду наверстывать долги – если бы Вы знали, как их много, Вы не говорили бы о моей работоспособности. Здоровья Вам и сил! А отцу и маме низкий поклон.
Ваш М. Г.12.11.1989
Дорогая Наталья Васильевна,
Все чаще я про себя вспоминаю бабелевского Гедали, который хотел «интернационала хороших людей». События в Грузии ужасны не только сами по себе: кто-то из собеседников обратил внимание, что они были срежиссированы в точности по той же схеме, что и разгон митинга в Минске в прошлом октябре. Когда год назад кто-то сказал по поводу Карабаха: «видимо, у Горбачева очень хорошо организованные враги», – я не придал этому значения, а теперь вспоминаю это все чаще. Я выписываю рижский «Родник» (там с перерывами идут интересные публикации начала века) – точка кипения едва ли не та же, что в Киеве. По Риге прошли уже танки под видом маневров – ощущение, как будто по мне (хотя близких знакомых у меня в этом городе и нет).
А как безгласна центральная печать! Позавчера в «Правде» была маленькая заметочка: «Сессия закончила свою работу». А в заметочке – что латвийский совет принял закон о передаче всей земли в личное пользование крестьянам, только без права продажи. То, о чем идут многомесячные дискуссии в «Огоньке» и «Литературке».
Я никогда не был общественным человеком, но недавно (по-видимому, по привычке видеть мое имя недалеко от имени Аверинцева) подвергся штурму интервьюера: статья в журнал «Наше наследие» (которого я видел только два номера) и беседа в публицистический отдел журнала «Театральная жизнь» (которого я вообще никогда не видел; но, говорят, там идет серия интервью с деятелями от самых левых до самых правых). Речь шла о культуре в нашем обществе, но спрашивающий все время сползал на политику. Я говорил то, что думал, полагая, что об остальном позаботится цензура. Между изготовлением текста и сдачей материала прошли грузинские события. Я прибежал в редакцию и вставил фразу: я уверен, что, если бы Ленин был современником Карабаха, Сумгаита, Тбилиси и Риги, он бы немедленно распустил Союз Советских Республик и собрал бы его заново на новой основе.
За ближайший месяц мне нужно сделать столько, сколько и в два не сделаешь, а за ближайшее полугодие – столько, сколько и в три не сделаешь. Институт наш близится к хозрасчету, и директор решил, что вернейший путь к этому – прибыльные академические издания новодозволенных авторов, от Булгакова и до Мандельштама включительно. Я попал в «руководители» 3-томного Мандельштама и 14-томного Пастернака. Только с моими организационными способностями этим и заниматься! А занимаюсь.
Давайте держаться, пока силы есть. Пусть болезни Вас хоть на время пожалеют. Всем хорошим людям – низкий поклон.
Весь Ваш М. Г.9.05.1990; день Победы
Дорогая Наталья Васильевна,
Спасибо за Качуровского: во-первых, у меня отлегло от сердца после первого испуга «вот, оказывается, кто-то уже написал такую же книгу, как я», но оказалось, не такую; а во-вторых, я имел удовольствие по цитатам знакомиться с кусочками украинской поэзии, которую я не знал. …Дописываю открытку через два дня, а за эти два дня начались погромы в Душанбе. Все чаще вспоминаю бабелевский «Интернационал добрых людей». Позвольте считать себя членом такового и пожелать Вам, заведомому его члену, самого доброго – и отцу, и матери, и коллегам.
Ваш М. Г.13.02.1990
Дорогая Наталья Васильевна,
…Ощущение, что корабль разваливается, крикнуто «спасайся кто может» и все бегут в разные стороны, но падают в одно и то же море. Давайте барахтаться дальше. Я перешел из ИМЛИ в Ин-т рус. языка (сектор стилистики и языка худ. лит., где В. П. Григорьев, который о Хлебникове) как раз в порядке такого барахтанья – чтобы официально заниматься не античностью, а тем, что мне ближе. Пока не жалею. Но работал я в этом году все равно плохо – как будто усталость за все 35 лет разом потребовала отдыха, а я его не даю. Однако начал интересную работу по частотному тезаурусу глаголов (мотивов) в «Стихах о Прекрасной даме», сделал по первому разу и увидел, что нужно делать по второму. Так у меня всегда. Низкий поклон Вашему отцу, сердечные благопожелания маме, и Вам крепко жму руку и надеюсь, до светопреставления еще увидимся.
Ваш М. Гаспаров13.11.1990
Дорогая Наталья Васильевна,
Спасибо за привет. Конечно, дата в нашем календаре останется: я и день Парижской коммуны каждый год поминаю. Люди начали революцию не ради принципов, а для того, чтобы людям жилось получше, и если у продолжателей ничего не получилось, это не резон бросать камни в начинателей. У Бабеля есть один старый еврей, который спрашивает: «почему никто не придумает интернационал хороших людей?» – и я все чаще ловлю себя на похожих мыслях. У меня в начале августа умерла мать (опухоль в горле, последний больничный месяц – только хрип), а на следующий день дочь родила вторую внучку: хоть символом считай. Я второй год как не в ИМЛИ, а в ИРЯЗе, обстановка очень хорошая, но античных долгов за мной накопилось столько, что я этот год занимался ими больше, чем поэтикой и стилистикой; по суммарному отчету я за 10 месяцев написал 25 листов, но интересных среди них мало, а устал сильно. В Тарту был профессор Адамс, друживший еще с Игорем Северянином, он говорил: «Я жил при восьми режимах, при всех нашему брату-ученому было плохо». Пожелаем друг другу выжить. Отцу и матери Вашей низкий поклон, всем хорошим людям – сердечный привет, а Вашему здоровью (о котором Вы ничего не пишете) – поправления.
Душевно Ваш М. Гаспаров18.11.1990
Дорогая Наталья Васильевна,
Спасибо Вам за добрую открытку. Я живо помню Вашего отца, помню его возраст и про себя тревожился о его здоровье все эти годы. Всем сердцем сочувствую и ему, и Вам с мамой. Если он помнит меня – низкий ему поклон. Я и вправду только что вернулся из 8-месячной командировки: сидел в архиве Мандельштама, который хранится в Принстоне, учился новой для меня науке текстологии. Я ведь приставлен соруководителем к академическому изданию полного Мандельштама, а ни руководить, ни соруководить совершенно не умею, поэтому ничего хорошего из этого не выйдет. Надеялся улучить время и позаниматься своими стиховедческими делами, но почти не смог. А мне через год сдавать книгу (в соавторстве с очень хорошей ученицей) «Лингвистика стиха»: несколько разделов уже начаты, но ни один не кончен. В журнале «Изв. АН ОЛЯ» за последние месяцы должна была выйти статья «Лингвистика стиха» с программой этой темы: связь ритма с синтаксисом, рифмы с фонетикой, метра и ритма с семантикой и т. п. Но если она и вышла, я ее не видел. В июне в Москве будет страшно-международная конференция по лингвистике стиха в этом смысле слова; Орлова и Гиршман на нее тоже собираются, хотя доклады у них более традиционные. А в остальном живем как все: выживаем, перебиваемся, кормим детей, растим внуков. Сил все меньше, но жаловаться грех. Одна коллега по амер. командировке153 обещала осенью пригласить меня с докладом в киевский лингвистический университет (?) – вдруг наконец мы с Вами встретимся?
Сердечно Ваш М. Г.12.05.1995
Дорогая Наталья Васильевна,
Простите за поздний ответ: жизнь у меня почти как у Вас, утомительная, трудно выкроить время даже на письмо. Говорю «почти», потому что по сравнению с Вами я человек здоровый и потому что, по мировой несправедливости, мужчине всегда полегче жить, чем женщине. А обстановка в «независимой России» похожа на украинскую: уже официально считается, что в 1995 году произошел «обвал» и без того негустого финансирования науки и культуры, и теперь уже не только студенты и младшие сотрудники, а и все поголовно заняты только выживанием. Мне полегче, у меня хороший соавтор по «Лингвистике стиха» – Т. В. Скулачева, чье имя на титульном листе прилагаемой книжки, поэтому она пишет казенные заявки, отчеты и планы за нас двоих, а я стараюсь считать и писать за нас полуторых. Книги «Лингвистика стиха» еще нет, мы должны ее закончить в следующем году, а пока написаны лишь лоскутья из разных ее разделов. И собрания сочинений Мандельштама еще нет: мандельштамоведы безнадежно перессорены, и если у кого-нибудь есть доступ к какой-нибудь рукописи, он тщательно скрывает его от всех остальных. Я надеюсь сделать мою часть работы – «объяснительный комментарий», без текстологического и биографического – независимо от них, и если сделаю, то попробую издать отдельно. И собрания сочинений Пастернака еще нет: комментаторы разбросаны по двум полушариям, и выбить из них должную работу в приемлемом виде безнадежно. Так что вместо двух стихотворных томов в лучшем случае в этом году мы с К. М. Поливановым сделаем отдельное издание «Близнеца в тучах» (правда, с образцово-подробным комментарием): это напоминает Ив. Белкина, который сочинял о Рюрике сперва поэму, потом трагедию, а в конце концов надпись к портрету Рюрика. В чем я завидую Вам, так это в том, что вы умеете преподавать и находить радость в умных студентах: мне тоже приходится понемногу читать лекции, но по моей необщительности и заикательности это мне очень трудно дается. Хотя в осеннем семестре, когда я читал в РГГУ спецкурс по разбору мандельштамовских стихов, слушателей было вдвое против предложенного, и от начала к концу они не редели. В новом семестре я должен в первый раз читать курс по семантике русских размеров; не знаю, как его будут слушать первокурсники. Поклонитесь от меня Вашей маме и отцу, а отдельно – всем хорошим людям, какие еще есть, если еще приедет Качуровский, то и ему: он когда-то прислал мне не только две свои книжки, но и свои конспекты лекций Б. Ярхо. Пусть Вам живется полегче, сколько это возможно в наше время.
Весь Ваш М. Г.10.02.1997,Пушкинский день
Дорогая Наталья Васильевна,
Вот последний том моего былого трудолюбия – я надеюсь, что первые два, полгода назад, дошли до Вас благополучно. Почта ходит плохо, от Жени Ветровой я еще ничего не получил. Жаловаться на здоровье мне рядом с Вами, конечно, стыдно, но все-таки из трехжильного я уже стал двухжильным, а спрос с меня все прежний. В предисловии к старой книжке С. Заяицкого (с ним был дружен мой античный шеф Ф. А. Петровский) есть рассуждение: есть науки неисчерпаемые, как психология, а есть исчерпаемые, как физиология. Один знакомый взялся изучать физиологию, но не рассчитал темпа и к 45 годам все выучил. Очень был недоволен: в физиологии ничего изучать не осталось, а за новую науку браться поздно. Так и кончил жизнь, занимаясь рыбной ловлей. К рыбной ловле я неспособен, поэтому изобрел новую науку, «Лингвистику стиха», и вдвоем с одной только ученицей сочиняю ее от нуля. Интересно, но утомительно. Кроме того, на мне большой комментарий к академическому Мандельштаму и неведомо сколько мелких укусов. Переводить давно перестал: времени нет. Пусть Вам будет полегче: от мысли, что мы оба в разных углах бывшей страны делаем одно и то же дело, мне становится радостнее. Низкий поклон Вашим папе и маме и всем хорошим людям.
Ваш М. Г.6.04.1998
Дорогая Наталья Васильевна,
Не пугайтесь обратного адреса на этом письме – это только от моей бесчеловечной нерадивости. Я все откладывал ответ на Ваше доброе новогоднее письмо, потом взял его с собой в американскую командировку, где надеялся иметь больше времени, и вот отвечаю почти накануне возвращения в Москву. А в Москве сейчас при смерти отец моей жены, очень старый человек, бывший военный. Так что я очень хорошо понимаю, как Вам живется и что Вы чувствуете. Мой отец умер, когда был моложе, чем теперь мы с Вами, – потянулся за книгой и умер. Чем дальше, тем больше я понимаю, какое это было счастье. Самому мне рядом с Вами грех жаловаться на здоровье, но, конечно, и у меня оно убавляется с каждым годом, а дел не убавляется. На мне три большие работы, каждой из которых хватит на остаток жизни: по античной филологии, один огромный мифологический комментарий; по новой науке, лингвистике стиха, плановая грантовая работа в моем Институте рус. языка; и по большому комментарию нового типа к стихам Мандельштама. Ради этого последнего я и поехал на два месяца в Америку – здесь, в глухом Анн-Арборе, работает лучший в мире специалист по Мандельштаму, венгерский еврей из Одессы Омри Ронен. Мы с ним очень хорошо сработались, но чем дальше, тем виднее, сколько еще впереди. Он говорит: «вот если бы сейчас опять из‐за Сербии началась мировая война и вас бы интернировали как враждебно-подданного – тогда бы мы смогли кончить наш комментарий». Кроме того, я здесь читал лекции и был на большой пушкинской конференции – из 70 докладов только два (!) касались языка – стиля – стиха, один из них мой. Что касается лингвистики стиха, то по ней я успеваю что-то делать лишь потому, что все бумаги – планы – отчеты берет на себя моя соавторша и ученица, удивительно хороший человек, – зато от этого у нее самой не остается времени на научную работу. (Когда-то ей нужна была сторонняя рекомендация, я попросил подписать Аверинцева, который ее совсем не знал, сказав: «это единственный человек, которого я могу считать своим учеником»; он подписал и невесело сказал: «а у меня и одного нет».) А об античной работе и говорить нечего, хорошо если выкраиваю на нее несколько недель в год. Конечно, мне и самому пора умирать, да нельзя – зарплаты у нас платят / не платят, вероятно, так же плохо, как и в Киеве, но мне, по высокому званию, чуть аккуратнее, чем другим, и почти только на это живут жена, двое детей и двое внуков. Вообще же действует формула, которую год назад публично высказал тогдашний правительственный начальник над наукой по фамилии Булгак: «наука – громоздкая структура, поэтому если ее даже совсем не финансировать, она по инерции не развалится еще несколько лет». Простите, что письмо получилось таким невеселым – это от усталости. Все равно, вывод у нас с Вами один: нужно жить дальше и делать что можем. Я редко пишу Вам, но помню о Вас все время, и от мысли о том, что в наше раздробленное время есть в городе Киеве человек, который думает так же и делает то же, – от этой мысли становится немного легче. Пусть и Вам будет немножко легче – хотя бы иногда.
Всегда Ваш М. Г.7.05.1999
Дорогая Наталья Васильевна,
Спасибо Вам за доброе письмо. С Вашим советом против усталости – «надо взяться и за прозу» – Вы попали в точку: журнал «Новое литературное обозрение» несколько лет печатает «Записи и выписки» из моих записных книжек (дивертисментом, в конце номеров), а в этом году стребовал их от меня отдельной книгой: со вставками нескольких старых ненаучных статей, отрывками воспоминаний и подборкой экспериментальных переводов вышло, страшно сказать, 30 листов. На окончание этой работы пошло два месяца, только отдыхом это не было: перечитывание своих записных книжек за 22 года скорее вгоняло в депрессию. Теперь через месяц нужно ехать с моей коллегой в Польшу на «Сравнительную славянскую метрику» о 8-сложном силлабическом стихе, а доклад еще не готов. Наши с Вами письма – это обмен усталостями, что и неудивительно; пусть они помогут нам держаться хотя бы для наших близких. О Вашей работе про Бажана я помню все эти годы, а о Вашей болезни узнаю, понятным образом, в первый раз и очень тревожусь. Храню надежду, что как-нибудь обойдется. Пусть Вам будет полегче!
Ваш М. Г.22.08.1999
Дорогая Наталья Васильевна,
Конечно, Ваша тема очень интересна. Собственно, она поворачивается так. Во всех восточноевропейских поэзиях, осваивавших в XIX веке силлабо-тонику, хорей и ямб противополагались как 1) народный – книжный, 2) национальный – заемный, международный, и еще 3) песенный – декламационный. (Как ощущались трехсложники – не изучено.) Об этом есть в «Очерке истории европейского стиха». Спрашивается: как использовалось это государством в официальной тематике, прежде всего в гимнах, а потом в «программных» публицистичных стихах? Если вдобавок к украинскому материалу Вы посмотрите русский – советский нач. 1950-х – и удастся что-то узнать хотя бы о гимнах других стран (в ГДР был не то ЯЗ, не то ХЗ, сочинен Бехером), это будет драгоценнейший доклад; если нет, то и приближение к этому благо. Спасибо за доброе слово о Тимофееве. Свою последнюю книгу он подарил мне с надписью из любимого им Блока: «Враждебные на всех путях (Быть может, кроме самых тайных…)». А Гончарова Вы немного переоцениваете: когда-то парторг ИМЛИ (китаист, хороший ученый) сказал мне: «а вы знаете, что Гончаров подал нам на вас донос, что вы антимарксистский формалист?..» Но он был очень больной человек, будь ему земля пухом. «Записи и выписки» в Новом году должны выйти отдельной книгой, и Вы ее, конечно, получите. Только пусть Вашему здоровью будет полегче.
Ваш М. Г.31.01.2000
Дорогая Наталья Васильевна,
Простите, что мы с Вами не увиделись в Смоленске. Зимой мне делали большую операцию, после общего наркоза я совсем потерял слух и не слышу докладчиков даже со слуховыми аппаратами на обоих ушах. Общительным я никогда не был, но, конечно, увидеться и услышаться с Вами я был бы очень рад, это все, что у меня осталось от Киева. С болью в сердце я прочитал про кончину Вашего отца, мне долго помнилась одна беседа с ним, когда он вез меня в машине. Поцелуйте за меня руку Вашей мамы, хотя она меня и не помнит, и пусть Вам обеим будет хоть немного полегче жить. О конференции мне все расскажет Тат. Влад. Скулачева – мы с нею почти постоянно работаем вместе, и в организацию конференции она вложила не меньше энергии, чем смоленские деятели. Тема наша по-прежнему называется «Лингвистика стиха», я прорабатываю 16 тыс. строк пушкинского 4-ст. ямба, и, конечно, на завершение такой темы жизни уже не хватит, от этого бывает грустно. Отвлекаюсь на комментарии к трудным стихам Мандельштама и Пастернака: может быть, успею что-нибудь. Если Б. Бунчук что-нибудь напечатал или напечатает – пусть пришлет, мне будет интересно, а я, может быть, смогу отблагодарить его каким-нибудь моим переизданием. А Ваш доклад я прочту, когда будут собираться для издания труды конференции. Самое же главное – сил Вам и работоспособности: пожелайте и мне.
Помнящий и любящий Вас М. Г.10.07.2001
Дорогая Наталья Васильевна,
Спасибо Вам за письмо. Тат. Влад. Скулачева рассказывала мне о конференции (она готовила ее не меньше, чем Баевский), она осталась ею довольна. (Сейчас она в отпуске, а как вернется, я передам ей указанную Вами книгу – спасибо!) Я рад, что Акимова показала себя как хороший стиховед – я знал ее только по замечательно подробным комментариям к публикациям из Б. Ярхо. Красноперову я высочайше ценю за гипотезу о происхождении альтернир. ритма 4-ст. ямба (которую, кажется, понимаю очень упрощенно), а более сложных ее генеративных построений не понимаю – наверное, они пригодятся нашим продолжателям, а на наш век хватит материала и для дескрипций. 16 000 строк Пушкина – это еще мало, я начал так же сортировать и Баратынского и Языкова; а сколько тысяч перебрали Вы в Вашей диссертации? Сейчас у меня была интермедия: для одной коллеги, составившей конкорданс Кузмина, я составил метрич. справочник по Кузмину: с помощью компьютера на это ушло пять дней, а без компьютера ушло бы полгода. Через два дня ложусь на маленькую операцию (выжигать недовыжженное), а в конце сентября надеюсь поехать в командировку в Америку – писать с коллегой большой комментарий к Мандельштаму. Боюсь, что в последний раз: врачи не одобряют. От души желаю Вам сил, телесных и душевных, вспоминаю Вас часто и с радостью, низко кланяюсь Вашей маме и шлю привет Ю. В. Шанину.
Любящий Вас М. Г.22.08.2001
Дорогая Наталья Васильевна,
Я попросил у Тат. Влад. Скулачевой позволения ответить Вам за нас обоих. Вы пишете: «…уповаю на лето – может быть, после отдыха здоровью станет полегче». Будем и мы на это надеяться. Поверьте, что я помню о Вас постоянно, и когда оглядываюсь на все, что сделано и не сделано, то отдельно благодарю бога за то, что работал рядом с не только хорошими учеными, но и хорошими людьми – такими, как Вы. Стиховедческая конференция прошла благополучно, совсем плохих докладов почти не было, но для меня показалась утомительна – как будто все разбредаются в лес и по дрова, а если ругаются, то из‐за каких-то личных обид. Но это впечатление – наверное, только от моей старческой брюзгливости: Тат. Влад. радуется гораздо больше. Мы с нею продолжаем вслепую двигаться в разных направлениях по неизведанным пространствам лингвистики стиха («Односложные части речи в 4-ст. ямбе» называлась моя последняя статья, ждет печати), и вот-вот, кажется, становится яснее, что нужно делать, в каких направлениях идти и какие проблемы заполнять – ан уже и некогда, срок кончается, в будущем году нужно сдавать итоговую работу. Так что душевный покой по-прежнему только снится; а о здоровье моем не беспокойтесь, кроме глухоты, ничего худого. Самого Вам хорошего!!!
Любящий Вас М. Г.2.07.2002
Дорогая Наталья Васильевна,
Спасибо Вам за рассказ. Мне отплатить нечем, и я решаюсь вместо себя послать Вам книжку рассказов моей жены – может быть, Вам понравятся. Зовут ее Алевтина Михайловна, и она помнит, что когда-то говорила с Вами по телефону.
Поздравляю Вас с окончанием книги о Бажане: это подвиг. Я его читал меньше, чем Тычину и Рыльского, но к стихам его всегда чувствовал близость, он казался мне украинским аналогом к русскому П. Антокольскому (который его переводил), а к Антокольскому я смолоду привязан, хотя издали встречал его только раз в жизни. Вы встречались с писателями вживе, я слышал от Вас редкие упоминания, не напишите ли Вы о них подробнее? Советская эпоха кончилась, молодым она непонятна, теперь наша последняя забота – записать что-то о ней с археологической точностью. У меня это могут быть только воспоминания о книгах (я 33 года служил в Ленинской библиотеке – писал аннотированные карточки на всю поэзию, выходившую в центральных издательствах тиражом свыше 20 000), а у Вас – и о людях, это важнее. У меня два года назад вышла книга «Записи и выписки», заметки из записных книжек и мелкие ненаучные статьи и воспоминания, – боюсь, что я не решился Вам ее послать. Если да, то напишите мне, и я решусь.
Мы с вами разминемся во второй раз: в Варшаву я в этом году не поеду, по нынешней сквозной теме у меня материала нет и собрать его я не успел, весь этот год у меня был очень напряженный. Наверное, и Тат. Влад. не поедет по той же причине: ей, кроме прочего, приходится прирабатывать переводами, жить научным сотрудникам по-прежнему трудно. Поэтому, пожалуйста, когда будете смотреть на коллег и на город, помните, что это Вы смотрите за двоих.
Я испугался, когда Вы написали, что Ваша мама передо мной испытывает священный трепет. Мне казалось, что я не страшный, и уж во всяком случае не мог быть ни большим, ни страшным в таком добром доме, как Ваш. Возраст сейчас такой, что приходится оглядываться на жизнь, в ней было много неуютного, но две вещи были главные: я всю жизнь занимался тем, что мне было интересно (а если не было, то умел себя заинтересовать), и мне бог посылал хотя бы на короткие встречи много хороших людей – таких, как Вы. Я не очень хороший человек, мне есть за что быть собой недовольным, но я стал ободрять себя мыслью: если хорошие люди ко мне хорошо относились, то, может быть, что-то во мне для этого было. Всякое Ваше письмо будет для меня большой, большой радостью.
Пусть Вам будет полегче. Перед Вашим мужеством и долготерпением я преклоняюсь давно и всегда. Спасибо за ободрение о том, что и Вы, и Бажан тоже плохо слышали. А я себе напоминаю, что когда-то, задолго до службы в Институте русского языка, я случайно был там и слышал разговор старого профессора Р. Аванесова – он был совершенно глух. «Ну, – думаю я, – если глух главный московский специалист по фонетике и орфоэпии…» – и становится утешительнее. А вообще, по моему замкнутому характеру, глухота чаще бывает приятна, чем неприятна, так что, пожалуйста, не думайте о ней.
Всегда Ваш М. Г.2.08.2002
Дорогая Наталья Васильевна,
Спасибо Вам за книгу, и спасибо за то, что в конце этой книги есть Ваша фотография, – я как будто повидался с Вами. Прочитал я мало: сперва – все стихотворные цитаты насквозь, потому что оказалось, что я Бажана никогда по-украински не раскрывал, довольствуясь переводами Антокольского; а потом (Вы будете смеяться) главу про Бажана – редактора энциклопедии. Потом напишу почему. Книга дважды замечательная: во-первых, это памятник писателю того времени, которое мы помним, а многие торопятся забыть, а во-вторых, потому, что в ней есть глава про стих, и, может быть, хоть некоторые из тех, кто будут писать книги о других поэтах, оглянувшись на нее, вспомнят, что стихов без стиха не бывает. Очень интересные таблицы, очень интересные параллели в развитии украинского и русского стиха советского времени (если я правильно понимаю, некоторые тенденции русского стиха усиливались в украинском, а некоторые ослаблялись); я мечтал дожить до времени, когда найдутся ученые, чтобы написать историю «советского стихового сообщества» (вещь такая же реальная, как, скажем, «балканское языковое сообщество»), но, видимо, это откладывается до следующей исторической эпохи. Если у Вас есть хорошие ученики, то, даря им эту книгу, говорите: «если будете писать о поэтах, то пусть, кроме главы о стихе, у вас будет еще такая же надежная глава о стиле (о мовостилистике, если есть такое слово?) – мы с этим не успели управиться, а вы извольте». Я завидую Вам, что Вы знаете и помните живых поэтов, мы с Вами при встречах разговаривали о стихе, а не о поэтах, но даже по единичным Вашим обмолвкам я понимаю, сколь многое не вместилось в жанр и стиль Вашей книги. Если бы нам случалось теперь видеться, я ловил бы и записывал бы ваши воспоминания, как когда-то запоминал рассказы Сергея Боброва.
Про энциклопедию я стал читать потому, что меня самого почти без спросу назначили научным начальником редакции литературы и искусства в большой Российской энциклопедии, которую торопливо готовят едва ли не как памятник Путину. Вот что значит дожить до нашего возраста: тебя ставят на любое место как украшение, а ты красней. Разумеется, я ничего не значу, а все статьи заказывает и перелицовывает само издательство, но я не представлял себе, как плохо это делается. Первым выходит том «Россия», в нем статьи о периоде русской литературы, одна другой хуже, о советской литературе – такая, что первокурсник написал бы лучше. Кто автор? такая-то профессор МГУ. Можно ли перезаказать? нельзя, поздно. Кто будет переписывать? такая-то тихая всевывозящая редакторша. Какая у вас узкая специальность? диссертация про жанр идиллии при Пушкине. Что делать, давайте я за вас напишу хоть параграфы о поэзии, а прозу не подниму. Очень благодарили, но сказали, что это первый случай, когда парадный начальник снисходит до чего-то кроме руководящих указаний. Я порадовался. Так что под именем профессора МГУ там будет и моя капля. Самая большая польза от этой энциклопедии – в том, что на нее брошены все силы и поэтому, кажется, остановлена работа над Пушкинской энциклопедией (или перенесена в другое издательство?). Потому что Пушкинская была еще хуже. Я года два писал им отзывы на статьи об отдельных стихотворениях и с тоской видел: авторы просто не знают, о чем в них писать: если нет биографического фона и нет литературоведческих прений, которые можно пересказать, то им даже в голову не приходит (не учили), что стихотворение можно и нужно описывать: содержание, композиция, стиль, стих… А писали лучшие из нынешних пушкинистов. Но мне бы лучше помалкивать, потому что месяц назад вылупилась еще одна авторская энциклопедия, Мандельштамовская, и вот для нее-то я сам должен писать по половине каждой статьи о каждом стихотворении, с этим самым описанием: что-то будет. Я надеюсь, что напишу, только сроки очень уж сжатые. Надеюсь – потому что за последние десять лет я уже стал, на свою голову, профессиональным мандельштамоведом, и самая дорогая для меня работа – это огромный комментарий к 30 (приблизительно) главным стихотворениям Мандельштама, который я делаю вдвоем с абсолютно лучшим нынешним мандельштамоведом Омри Роненом (родом из Одессы, учился в Киеве, работал в Израиле, теперь в Америке): я делаю описание каждого стихотворения, он – свод подтекстов. Он знаменит своим высокомерием и тяжелым характером на оба полушария, но к моей работе относится серьезно, так что она, может быть, чего-то стоит. Но он перфекционист: я свою часть работы давно сделал, а когда он кончит свою, одному богу известно. Образцы печатались в ленинградской «Звезде», 2002, № 2, и 2003, № 5, но оттисков, конечно, нет; если Вам интересно, я пришлю машинопись.
Это отвлечения, их (слишком, как всегда) много, а по главной нашей специальности продолжается неисповедимая тема «лингвистика стиха»: только что мы с Тат. Влад. сдали в издательство книжку «Статьи по лингвистике стиха» (15 л., авось выйдет в этом году), а через два года должны сдать большую книгу (30 л.). Это очень интересный предмет, но разрабатывать его приходится с нуля, пути прокладывать на ощупь, без уверенности, с постоянными угрызениями совести, что не привлек того-то и не заглянул туда-то, поэтому душевных сил уходит больше обычного. Не помню, пересказывал ли я Вам шутку из одного романа С. Заяицкого 1920‐х годов. Есть (говорит его персонаж) науки исчерпаемые и неисчерпаемые. Вот физиология – исчерпаемая, а психология – неисчерпаемая. Один мой знакомый стал изучать физиологию, но не рассчитал темпа и к 45 годам все изучил. Очень был недоволен: в физиологии ничего не осталось, а браться за новую науку уже не хватит времени. Так и кончил жизнь, занимаясь рыбной ловлей. А я, будучи к рыбной ловле неспособен, взялся за новую науку, на которую заведомо не хватит времени, и поэтому живу в некотором досадливом напряжении. Мне гораздо приятнее было бы описать русскую рифму ХX века – материала у меня на целую книгу, – но нечего делать, взялся за гуж.
О здоровье моем, пожалуйста, не беспокойтесь, все хорошо в меру возраста. Глухота чаще радует, чем огорчает; из внутренностей каждые год-два вырезают какой-нибудь новый нарост (вот и на следующей неделе должны), но это не больно и пока не злокачественно; усталость непрерывная, но это не болезнь. Почти физически чувствую, как сжимается объем сознания: не помню собственные старые статьи, а новые должен сочинять по кусочкам: я не привык, но с компьютером это легче, чем с машинкой. Но по сравнению с многими и многими другими я такой здоровый, что чувствую обязанность работать за себя и за всех, кому это трудно. Не помню, писал ли я, что мне пришлось стать завсектором в своем Ин-те рус. языка: старому шефу, В. П. Григорьеву, апостолу Хлебникова и одному из самых светлых людей, каких я знаю, уже под 80, а новый кандидат, как мне убедительно объяснили, развалит сектор за полгода. Но участь моя легче, чем в ИМЛИ: дописывать и переписывать работы за всех я не могу хотя бы потому, что не лингвист, казенные бумаги пишет секретарь, так что главная моя забота – следить, чтобы сотрудники не съели друг друга; Вы это хорошо представляете. За городом я не живу, только на месяц прячусь в санаторий, чтобы не отвлекали, и за этот месяц делаю треть годового плана. К сожалению, в этом году я этот месяц уже использовал. Новых книг у меня не было, только переиздали очерки истории рус. стиха и европ. стиха (с мелкими исправлениями и почти без дополнений) и два сборника статей, в одном есть новые, посылаю Вам его.
Если Ваша мама помнит меня, поклонитесь ей от меня земным поклоном. А Вам – всего самого-самого хорошего, и главное, чтобы Ваше нездоровье давало Вам передышки. Спасибо Вам, что Вы меня помните.
Любящий Вас М. Г.25.05.2003
Наталья Васильевна, родная, нет у меня в моем запасе чудодейственных слов от депрессии. Когда мне бывало плохо, я загораживался механической работой – делая стиховедческие подсчеты: называл их про себя цифротерапией; хватался за первые попавшиеся, но потом обычно любые оказывались для чего-нибудь полезными: так, в порядке сублимации, и получались мои стиховедческие сочинения. (Вот и сейчас считаю, как распределяются части речи по четырем словам строк в полноударных формах в «Онегине».) А чтобы дурные мысли не лезли в голову, когда идешь или едешь по улице, я переводил в уме стихи (перевел только так, на ходу всего «Неистового Роланда») – но сейчас это уже не получается. Мне было легче, потому что я не такой хороший человек, как Вы, равнодушнее к людям, бесчувственнее, – так же, вероятно, как и Ваши ближние, о которых Вы спрашиваете «почему они воспринимают не так трагически». Не завидуйте нам, а простите нас. А Матяш, наверное, ошиблась: если в ИМЛИ и возобновляется стиховедение (не верится!), то не под моим «водительством». Может быть, она имела в виду междунар. стиховедческую конференцию, очередную, которая будет в следующем мае в Инст. русского языка: сейчас Тат. Владимировна рассылает приглашения, и Вы получите; я знаю, что Вам не до того, но и Вы знайте, что мы Вас любим, ценим и надеемся на Вас. Я постараюсь переписать для Вас из компьютера что поудачнее из тех комментариев к Мандельштаму, которые я делал и делаю для О. Ронена, а теперь еще для Мандельштамовской энциклопедии (!) – ждите, пожалуйста. Очень желаю Вам сил – еще не последних! – а маме Вашей низко кланяюсь.
Сердечно Ваш М. Г.10.08.2003
Дорогая Наталья Васильевна,
Спасибо Вам за доброе письмо: простите, что промедлил с ответом, – я ждал возможности послать Вам эту книгу, которая, может быть, Вас развлечет. Пожалуйста, не тревожьтесь обо мне: у меня и вправду нашли метастазы, но ничего не болит, я глотаю химиотерапию, и врачи мною довольны. Единственное, что последние полгода я чувствую непривычную общую усталость и работать получается не за троих, а разве что за полуторых, – но, наверно, в нашем возрасте это бывает. У нас с Тат. Влад. сдана в печать небольшая книжка «Статьи о лингвистике стиха», а в этом году сдается вдвое бо́льшая, просто «Лингвистика стиха», я изо всех сил дописываю туда свои разделы. По сравнению с тем, как живете и что успеваете сделать Вы, – это пустяки. Я помню о Вас все время и в этих мыслях набираюсь бодрости для собственных работ. Давайте держаться!
Любящий Вас М. Г.15.03.2004
Дорогая Наталья Васильевна,
Обо мне ради бога не беспокойтесь: главное, у меня ничего не болит и я по-детски чувствую себя здоровым. Что касается объективных данных, то, по мнению врачей, улучшение замедлилось, поэтому назначили новое лекарство для вливания, о результатах будут судить примерно через месяц. Гораздо важнее, что удалось переломить некоторую душевную депрессию и в последние месяцы лучше работать. (Я ведь должен написать для Мандельштамовской энциклопедии заметки с описанием строения всех стихотворений Мандельштама – по общей схеме «тема – композиция – стиль – фоника», сухо, как медицинский диагноз! А как трудно, это Вы понимаете лучше, чем кто-нибудь.) Срок для сбора статей конференции и подачи их на грант – 30 сентября, Вы, конечно, не успеете, но я думаю, ее можно будет вставить и потом: спросите Тат. Влад., …если Вы еще не спросили. И наконец, вне всех деловых тем, позвольте Вас обнять и от всей, всей души пожелать Вам сохранения сил и духа в Вашей подвижнической жизни: я помню о Вас все время и, чтобы не было стыдно жить, стараюсь брать с Вас пример.
Простите!
Неизменно Ваш М. Г.9.09.2004
А. Н. КОЛМОГОРОВ В РУССКОМ СТИХОВЕДЕНИИ 154
В истории поэзии на всех известных языках чередуются эпохи большей свободы и большей строгости. Стих как будто колеблется между двумя стремлениями: как можно больше уподобиться естественной прозе и как можно больше ей противопоставиться. Одни словосочетания естественной прозы допускаются в стихе, другие не допускаются как недостаточно ритмические; стих как будто стремится, чтобы таких запретов было то меньше, то больше. Через такое волнообразное развитие прошел и русский стих – от очень свободного досиллабического стихосложения к более строгому силлабическому, потом к еще более строгому силлабо-тоническому, а потом опять к более свободному чисто тоническому. Сейчас в русском стихе сосуществуют две системы стихосложения: более традиционная силлабо-тоника и более новаторская тоника.
Развитие стиховедения идет параллельно развитию стиха. Особенно деятельно оно бывает на переломах – когда стихосложение переходит от большей свободы к большей строгости или наоборот. Здесь поэзия как бы задумывается о направлении и смысле собственного пути, осознает, с чем она расстается и к чему стремится. В истории русской литературы было два таких момента: в XVIII веке на переходе от силлабики к силлабо-тонике и в XX веке на переходе от силлабо-тоники к тонике. Первый момент ознаменовался программными трактатами В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. Д. Кантемира – о том, какой должна быть (или не должна быть) наступающая силлабо-тоника. Второй момент ознаменовался ретроспективными исследованиями – о том, какой была отступающая силлабо-тоника, какими средствами она располагала и все ли эти средства использованы в полной мере. Это была тема работ Андрея Белого, Б. В. Томашевского, Г. А. Шенгели, В. М. Жирмунского, К. Ф. Тарановского и А. Н. Колмогорова.
Классическая силлабо-тоника мерила стих стопами: стихотворная строка – это последовательность однородных стоп, 4-стопный ямб – это 4 одинаковых стопы ямба. Но в начале XX века стали появляться стихи, не укладывающиеся в однородные стопы, прежде всего дольники: «Вхожу я в темные храмы, Совершаю бедный обряд. Там жду я Прекрасной Дамы В мерцаньи красных лампад…». Было ясно, что это не привычная силлабо-тоника, но было ясно и то, что это все-таки стихи, и даже благозвучные. На чем же держится их благозвучие, если не на последовательности однородных стоп? Отвечая на этот вопрос, поэты и стиховеды вспомнили о двух очень старых понятиях, которые до сих пор обычно смешивались, а теперь их стало возможно и удобно различить.
Это понятия «метр» и «ритм». И в античном, и в европейском, и в русском стиховедении они означали приблизительно одно и то же: «мерность», «мерное течение» стихотворной речи. Теперь в этих терминах ощутилось различие: «метр» – это мерность более строгая, а «ритм» – более широкая и расплывчатая. В традиционных силлабо-тонических стихах был не только ритм, но и метр, – в новых есть ритм, но нет метра.
Однако если в старых стихах был не только метр, а и ритм, то как они друг с другом сосуществовали? Метр – носитель единообразия, и ритм – носитель разнообразия? Того разнообразия, художественность которого стала так ощутима на опыте новых стихов, вроде «Вхожу я в темные храмы…»? Задумываясь над этим, поэты и стиховеды впервые всмотрелись не в то, чем стихи, написанные 4-стопным ямбом, похожи друг на друга, а в то, чем они непохожи друг на друга, и увидели новое и неожиданное. Главным событием стало открытие Андрея Белого – гениального мистического поэта с естественно-научным образованием. В 1908–1909 годах, мучительно стараясь найти новое звучание для своих собственных 4-стопных ямбов, он стал присматриваться к 4-стопным ямбам русских классиков и, по естественнической памяти, подошел к их строению с подсчетами. До сих пор подсчеты в стиховедении применялись только к словесности, непосредственно не ощутимой, древней и средневековой, а к живой поэзии нового времени статистика была применена впервые.
Это стало откровением. 1910 год, когда вышла книга Белого «Символизм» с несколькими статьями о строении русского 4-стопного ямба, стал началом эпохи точных методов в истории стиховедения.
Что подсчитывал Белый? В учебниках говорилось (и часто говорится до сих пор): «Ямб – это метр, в котором четные слоги ударны, а нечетные безударны». Но достаточно взглянуть на любое ямбическое стихотворение, чтобы увидеть: сплошь и рядом ударения на четных слогах оказываются пропущенными, а на нечетных появляются неожиданные «сверхсхемные»: «Швед, русский, колет, рубит, режет, Бой барабанный, клики, скрежет…». Сверхсхемные ударения возникают сравнительно нечасто, но пропуски ударений – на каждом шагу. Вот эти пропуски ударений и стал размечать и подсчитывать Белый в строчках 4-стопного ямба. Изумленный их обилием и пестрым разнообразием их расположения, он объявил: метр – это мертвая схема строения стиха в целом, а ритм, совокупность отступлений от метра – это его живая жизнь, это реальное расположение ударностей и безударностей в каждой конкретной строке. Так, с некоторым смягчением выражений, стало понимать метр и ритм все последующее стиховедение. Однако самые интересные проблемы возникли не на этих полюсах строения стиха, а в промежутке, там, где конкретное разнообразие ритма уже складывалось в статистически устойчивые тенденции, но еще не окостеневало в нормативный метр. Проблем было две: историческая и теоретическая.
Историческую проблему поставил сам Белый. Он подсчитал ритм ударений в 4-стопном ямбе у 27 русских поэтов от Ломоносова до Городецкого, и оказалось, что ритм этот меняется: поэты XVIII века предпочитали пропускать в нем ударения на второй и третьей стопах, Изволила Елисавет («рамочный» или «провисающий» ритм), а поэты XIX века – на первой и третьей стопах, Адмиралтейская игла («альтернирующий» ритм). Между единым отвлеченным метром всего 4-стопного ямба и предельно индивидуальным ритмом каждой 4-стопной строки обнаружилось промежуточное явление: «ритм такой-то эпохи», «ритм такого-то поэта», «ритм такого-то стихотворения». Оно требовало особого названия, но так и не получило его; его называли «ритмическим импульсом» (Б. В. Томашевский), «ритмической тенденцией» (К. Ф. Тарановский) или как-нибудь иначе. А. Н. Колмогоров предпочитал называть его «звуковым образом метра»: метр один, а звуковых образов он имеет несколько. Это и есть «метр как образ» – предмет, который был конечной целью всех исследований А. Н. Колмогорова. Почему этот метр так своеобразно менялся от XVIII к XIX веку и далее – это вопрос особый и очень сложный, но им Колмогоров специально не занимался.
Теоретическую проблему, гораздо более широкую, поставил Б. В. Томашевский, замечательный пушкинист с инженерным образованием, еще в 1917 году. Почему вообще реальный стих вынужден допускать столько отклонений от метрической схемы? Потому что в метрической схеме ямба сильных и слабых слогов поровну, а в реальном русском языке безударных слогов вдвое больше, чем ударных, и, укладывая такие слова в ямбическую схему, поэт неизбежно допускает пропуски ударений на сильных местах схемы. Зная запас ритмических слов, которыми располагает поэт (1-сложные, 2-сложные с ударением на 1‐м слоге, 2-сложные с ударением на 2‐м слоге, 3-сложные с ударением на 1‐м слоге…), можно рассчитать все возможные сочетания этих слов, укладывающихся в 4-стопный ямб: их будет, в первом приближении, дважды 36. А зная сравнительную частоту каждого из этих типов слов, можно (перемножая их вероятности) рассчитать естественную, языковую вероятность каждого из этих словосочетаний в ямбе – построить вероятностную модель 4-стопного ямба: если бы поэт, сочиняя стихи, руководствовался только естественными данными языка, у него получился бы именно такой ритм. А построив такую модель, можно сравнить с ней реальный ритм 4-стопного ямба такого-то поэта или эпохи: где реальный ритм совпадает с моделью, там поэт только следует языку, где расходится – там поэт обнаруживает специфически художественные тенденции, они-то и интересны для исследования. Такие расхождения бывают иногда неожиданными. 4-ударных строк без пропусков ударений в реальном стихе гораздо больше, чем должно было бы быть по модели; это объяснимо: стих старается как можно чаще напоминать о метрической схеме. Но в 3-ударных и 2-ударных строках с пропусками ударений ритм этих пропусков неожиданно оказывается гораздо ближе к «рамочному» ритму XVIII века (Изволила Елисавет), чем к альтернирующему ритму XIX века (Адмиралтейская игла…), между тем как вся классика русской поэзии выдержана как раз в альтернирующем ритме. Это объяснить гораздо труднее. Томашевский сам построил такую вероятностную модель, сравнил ее с реальным стихом Ломоносова и Пушкина, поставил все нужные вопросы, но остался своей работой неудовлетворен и более к этой методике не возвращался. Приблизительно тогда же, но несколько иначе пробовал строить вероятностную модель ямба Г. А. Шенгели, и тоже без успеха. Только через пятьдесят лет к работе над вероятностными моделями стиха вернулся А. Н. Колмогоров, и это стало главным его вкладом в методику стиховедческого исследования.
Этим двум проблемам, исторической и теоретической, предшествовала третья, практическая, более простая, но и более важная. Подсчитывать наличие и отсутствие ударений на стопах 4-стопного ямба можно, только если твердо решить, какие слова мы считаем ударными и какие безударными: можем ли мы слово мой в строке «Мой дядя самых честных правил…» считать безударным, а в строке «Но, боже мой, какая скука…» ударным и почему. Субъективные расхождения здесь могут быть опасны: и Томашевский, и Шенгели делали подсчеты по статистике ритмических слов в «Пиковой даме», но процент односложных слов по Шенгели оказался в полтора раза выше, чем по Томашевскому, – видимо, потому, что Шенгели считал мой ударным словом даже в сочетании мой дядя. Объективные основания для акцентуации таких «двойственных» («потенциально-ударных») слов попытался изложить только В. М. Жирмунский в своей книге «Введение в метрику» (1925); отчасти благодаря этому у опытных стиховедов сложились достаточно единообразные правила разметки ударений, и подсчеты их даже сопоставимы друг с другом. Но в печати они ни разу не были изложены, и каждый начинающий ученый должен был приходить к ним самостоятельно. Когда А. Н. Колмогоров с небольшой группой учеников начал свои занятия стихом, им пришлось потратить некоторое время, чтобы согласовать свои интуитивные ощущения ритма и сформулировать твердые правила разметки ударений. Это могло показаться слишком мелочными заботами, но на эти простейшие разметки должны были опираться все дальнейшие подсчеты, и предельная точность была здесь необходима.
Практическим принципам и правилам разметки ударений и словоразделов в ямбе посвящена главным образом статья (совместная с А. В. Прохоровым) «К основам русской классической метрики»155. Здесь предлагаются правила разметки по трем степеням подробности: с 13, 9 и 6 условными знаками. Самая упрощенная совпадает с той, которой практически руководствовались и Томашевский, и Тарановский, и большинство других стиховедов. Самая же подробная отражает не только фонетику, но и графику слов: отмечает отдельно даже безударный союз «и» и пробел-словораздел после него. Это может показаться непрактичной щепетильностью, но это не так: разметка, учет и подсчет ритма ударений в стихах и прозе скоро должны стать механизированы, а механическая разметка должна опираться именно на графический, а не фонетический облик текста. Более того (как указано в статье «Статистические методы исследования ритма стихотворной речи. Опыт расчета и сравнения моделей ритма»156), наряду с этой сверхусложненной разметкой может понадобиться и сверхупрощенная – такая, которая признает только ударения на знаменательных словах и в строке «Когда не в шутку занемог…» считает слово когда безударным. И действительно, опыт последних лет показывает, что анализ такого «вторичного ритма» может быть полезен, например, для объяснения эволюции 4-стопного ямба от «рамочного» к альтернирующему ритму.
О том, что сверхподробная разметка ударений и словоразделов позволяет заметить такие подробности звучания стиха, которые обычно остаются вне поля зрения стиховедов, не приходится и говорить. Еще современников Пушкина удивлял сдвиг ударения в его строчке «Несется в гору во вéсь дух…» – теперь становится видно, что Пушкин позволил себе это оттого, что во весь было для него не только двухсложным фонетическим словом, а и двумя односложными графическими словами, а сверхсхемные ударения на односложных словах не ощущаются как сдвиг. Такая роль графических словоразделов не уникальна: она известна в старом немецком и английском стихе. Становятся возможны замечания, что стих «И милостив, и дóлготерпелив…» звучит ритмичнее, чем «Нам опыты бы́стротекущей жизни…», потому что еле слышное дополнительное ударение в сложном слове в одном случае совпадает с ямбом, а в другом – нет; или что в слове кóнногвардеец это дополнительное ударение присутствует, а в словосочетании у конногвардейца исчезает. Последним, кто занимался ритмом таких полуударений, был Г. Шенгели (он называл их «интенсами»); сберечь и дополнить мелкие, но ценные наблюдения своих предшественников всегда было заботой А. Н. Колмогорова.
Разметка ударений в таких составных «ритмических словах», когда не в шутку; мой дядя; швед, русский, стала первым шагом к усовершенствованию вероятностной модели стиха. (Это усовершенствование подробнее всего описывается в статьях «Модель ритмического строения русской речи»157 и «Опыт расчета и сравнения моделей ритма».) Исходный материал этой модели – ритмический словарь, статистика ритмических слов разного типа в русском языке; теперь эти ритмические слова были учтены гораздо более детально. Число учитываемых в 4-стопном ямбе сочетаний слов – и фонетических, и графических – возросло вдесятеро. В результате стало возможным сопоставлять вероятностную модель с реальным стихом не только по ритму пропущенных ударений на сильных местах ямба, но и по ритму сверхсхемных ударений на слабых местах ямба, особенно в начале строки; оказывается, что этот ритм тоже эволюционировал, у Пушкина понижаясь до минимума, а в начале XX века повышаясь почти до общеязыковой естественности.
Вторым шагом к усовершенствованию вероятностной модели стало доказательство независимости ритмических слов друг от друга в обычной речи. Только после этого доказательства стиховед имеет право представлять вероятность стихотворной строки как произведение вероятностей составляющих ее слов. Доказательство было признано удовлетворительным, и модель получила право на существование. Однако в стихотворной строке ритмические слова зависимы. В самое последнее время были обнаружены примеры взаимозависимости между словами в строке: слова с длинными безударными окончаниями чаще всего бывают прилагательными, а слова с длинными безударными началами – глаголами; а прилагательное и глагол в русском языке не стоят подряд. (Может быть, поэтому в реальном стихе сильно реже вероятности оказывается так называемая VII ритмическая форма – типа *Таинственными убывая.) Но сила этой взаимозависимости, как кажется, невелика.
Главным же усовершенствованием вероятностной модели стиха стал выбор материала для исходного ритмического словаря: А. Н. Колмогоров показал, что это должен быть словарь прозы, а не стихов. Б. В. Томашевский, конструируя свою модель 4-стопного ямба «Евгения Онегина», брал за основу ритмический словарь самого «Евгения Онегина» – как будто в распоряжении Пушкина не было никаких слов, кроме тех, которые в конечном счете уложились в его поэму. Это искажало картину: за основу брался запас слов, уже отсортированный ограничивающими требованиями стихотворного ритма. Томашевский это понимал, сам делал оговорки о ненадежности расчетов словосочетаний с редкими ритмическими словами и едва ли не по этой причине отказался от дальнейшего использования своей модели. На самом же деле в распоряжении Пушкина, конечно, были все слова русского языка, без тех ограничений, которые стих наложит на их отбор, и пропорции этого запаса слов следует рассчитывать по максимально свободным, прозаическим текстам. Вероятностная модель, построенная по ритмическому словарю прозы, оказалась гораздо более адекватной, наглядной и удобной для сопоставления с реальным стихом и стала употребительнейшим исследовательским орудием у современных стиховедов. На нее принято ссылаться как на модель Томашевского – Колмогорова.
Если рассчитывать модель по словарю прозы, то встает вопрос: какой именно прозы? Известно, что ритмический словарь разговорной речи, художественной прозы, научной и деловой прозы различен: чем ближе словарь к разговорному, тем слова в нем короче, а ударения ближе к концу слов. (Подбором самого разного прозаического материала для вероятностных моделей, как можно более близких к реальному стиху, увлеченно занимался ветеран русского стиховедения С. П. Бобров, работавший еще с Андреем Белым; А. Н. Колмогоров поддерживал с ним связь.) Сам Колмогоров с учениками работал главным образом с моделями, построенными по «Пиковой даме» Пушкина и по «Бэле» Лермонтова, но даже тут, в пределах художественной прозы, оказывалось, что «Пиковая дама» дальше от разговорного языка, чем «Бэла», и вдобавок сама обладает осложняющей склонностью к ямбическому ритму (тонко подмеченной когда-то Томашевским). Так новый подход дал толчок к новым наблюдениям, важным для языковой статистики.
Полученная вероятностная модель – языковая модель стиха – была проверена сопоставлением со случайными ямбическими словосочетаниями, извлеченными из прозы, – с речевой моделью стиха. Совпадение получилось очень близкое, это подтвердило надежность рассчитанной теоретической модели, а небольшие расхождения побудили задуматься об особенностях малоизученного ритма прозы. Опыт работы над построением вероятностной модели помог уточнить связь между двумя ее уровнями: суммарным («профилем ударности» – процентными показателями ударности четырех стоп ямба) и детальным (процентным составом шести ритмических вариаций, возможных в 4-стопном ямбе). Это позволило при необходимости реконструировать детальный ритмический состав стиха того или иного поэта по данным о его суммарном ритмическом профиле – такая необходимость часто встречалась в практике стиховедов, но они не владели математическим аппаратом для ее преодоления158.
Метр 4-стопного ямба одинаков для всех языков: сильные позиции – четные, слабые – нечетные, сильные и слабые позиции заполняются ударными и безударными слогами по-разному. Языковой ритм 4-стопного ямба различен в каждом языке, в зависимости от его ритмического словаря. Для русского языка он описывается вышеизображенной вероятностной моделью Томашевского – Колмогорова: это процентный профиль ударности и процентный состав ритмических и, еще детальнее, словораздельных вариаций – таков должен был бы быть ритм 4-стопного ямба русских поэтов, если бы они заботились только о языковой естественности и легкости. Наконец, художественный ритм русского 4-стопного ямба своеобразен в каждом произведении (или группе произведений), у каждого поэта (или группы поэтов), в каждый исторический период. Это потому, что в работе над стихом поэт руководствуется не только языковыми удобствами, а и художественными побуждениями: они-то и представляют интерес для стиховеда и для исследователя поэзии вообще. Чтобы отделить эти художественные тенденции от общеязыковых, исследователь и сравнивает реальный ритм стихов поэта с общеязыковым ритмом вероятностной модели: все обнаруживаемые отклонения будут достоянием уже не лингвистики, а поэтики. Эти отклонения и складываются в «звуковой образ метра» (или «ритмический образ метра») – главный предмет интереса А. Н. Колмогорова. Он описывается статистикой – процентными показателями тех параметров реального стиха, которые отклоняются от процентных показателей модели. Но он не исчерпывается этой статистикой.
Самое полное определение «метра как образа» А. Н. Колмогоров дает в статье «О дольнике современной русской поэзии»159. Он пишет: «В живом восприятии поэта и слушателя метр существует не как голая закономерность, позволяющая лишь отличать законные (совместимые с метром) варианты ритма от незаконных, но как конкретный художественный образ. В этом образе можно различать две стороны: а) звуковой образ метра, б) его смысловую интерпретацию». Звуковой образ метра описывается статистикой, это описание отвечает на вопрос «в чем здесь своеобразие?»; интерпретация отталкивается от внятно сформулированного читательского впечатления, она отвечает на вопрос «для чего это своеобразие?». Именно здесь сходятся точная математическая наука и «неточная» гуманитарная наука, помогая друг другу.
Объясним выражение «законные» и «незаконные» варианты ритма. «Незаконные» – это те, которые запрещены правилами метра; например, в ямбе запрещена переакцентуация двухсложных и многосложных слов, так что если бы Пушкин написал «Мой дядя весьма честных правил…», это была бы незаконная вариация. Но, например, пропуск ударения на второй стопе и длинный гипердактилический словораздел в получившемся междуударном интервале никакими правилами не запрещены, однако Пушкин такой формой не пользуется: у него один только раз (в «Руслане») встречается строка «Кто ж вызовется, дети, други?» и ни разу не встречается строка вроде *Отважившийся взять венец. Такое самоограничение – черта классической поэтики XVIII–XIX веков, сложных эстетических причин его А. Н. Колмогоров не касается. Зато когда у поэтов XX века это самоограничение исчезает, Колмогоров это приветствует и удовлетворенно отмечает такие (пусть редкие) строки Багрицкого и Пастернака, как Вытянувшаяся в провода или За железнодорожный мост – невозможные у классиков, однако вполне дозволенные метрическими правилами. Опираясь на вероятностную модель, он ведет строгий учет языковых возможностей стиха и ищет как можно более полного их использования в поэзии. «Все, что не запрещено, – разрешено»: это не только эстетическое, но и этическое правило, главное для мыслительной и жизненной позиции А. Н. Колмогорова.
О звуковых образах классического 4-стопного ямба, которым Колмогоров занимался внимательнее всего, он писал мало. Конечно, описывая стих «Евгения Онегина» или «Бориса Годунова», он тщательно отмечает каждую мелочь – вроде пушкинского самозапрета на гипердактилические словоразделы. Но, например, разницу между звуковым образом пушкинского 4-стопного ямба и лермонтовского он не пытается характеризовать: здесь собрано еще слишком мало материала. (Только мимоходом он подчеркивает, например, недооцененную гибкость 4-стопного ямба Жуковского, да и то не пользуясь словами «звуковой образ».) Здесь смысловая интерпретация ритма смещается с «ритмического образа» на «ритмическую композицию». Простейшим образцом может служить анализ 4-стопных ямбов Бунина (в статье «О дольнике современной русской поэзии»): если читать бунинское стихотворение внимательно, то оказывается, что строки разных ритмических вариаций расположены по тексту не случайно, а рассчитанно перекликаются из четверостишия в четверостишие. Здесь математика еще не нужна: такое описание мог бы сделать любой хороший филолог. (Но тогда филологи на такие вещи не обращали внимания.) Более сложный образец – анализ стихотворения Пушкина «Арион». Случайно или не случайно его монотонное начало? Рассчитав, видим: четырехкратное повторение одной и той же ритмической вариации может быть и случайно, его естественная вероятность – 63 раза на тысячу строк; а вот четырехкратное повторение одной и той же словораздельной вариации никак не случайно, его естественная вероятность – менее 1 раза на тысячу строк. Стало быть, забота Пушкина о монотонном ритме здесь налицо: этот монотонный ритм начала будет перекликаться с монотонным ритмом конца, а между ними вторгнется иной напряженный ритм в описании бури. Но эта забота тщательно скрыта: без подсчета кажется, что эти локальные «ритмические курсивы» случайны, и поэтому филологи не обращали на них внимания. «Имитацией случайности» назвал А. Н. Колмогоров этот очень характерный для неброской поэтики Пушкина прием.
Зато целую программу выделения звукового образа метра демонстрирует А. Н. Колмогоров на материале нового, несиллабо-тонического стиха XX века, прежде всего дольника. Эти разборы служили для него и его учеников пропедевтическими упражнениями и появились в печати первыми из его работ. Сейчас они кажутся азбучными, но для своего времени, для 1960‐х годов, значение их было огромно. Вспомним: в поэзии XX века сосуществовала традиционная силлабо-тоника и нетрадиционная чистая тоника, в сознании читателей и критиков они резко противопоставлялись друг другу. Силлабо-тоника была рассортирована на ямбы, хореи и т. д., чистая тоника сливалась в один огромный нерасчлененный массив; о стихах Маяковского невразумительно говорилось: «они написаны стихом Маяковского». Сортировка этого хаоса впервые началась именно в эти годы. Прежде всего наполнилось точным смыслом расплывчатое понятие «дольник»: так стали называть размеры, в которых объем междуударных интервалов колебался в пределах 1–2 слогов, но не больше (как в «Вхожу я в темные храмы…»). Заодно определились «логаэды» – как бы вид дольника с устойчивым расположением этих неравных интервалов; логаэдом был размер М. Цветаевой, разобранный Колмогоровым (хотя и без упоминания этого термина). Стихи Маяковского оказались написаны или классической силлабо-тоникой («В сто сорок солнц закат пылал…»), или неклассически разностопными хореями («Разворачивался и входил товарищ „Теодор/Нетте“»), или дольником (как «Стихи о советском паспорте»), или «акцентным стихом» с совсем не урегулированными интервалами (Колмогоров предпочитал говорить «ударным стихом»). А. Н. Колмогоров был одним из первых, кто сказал об этом в печати; для многих было шоком, что размер новаторской поэмы «Люблю» – всего лишь дольник, да еще близкий к классическому амфибрахию.
В привычном представлении силлабо-тоника была строгой системой, где на счету был каждый слог, а новая тоника – расшатанной, где нет «силлабо-» и остается только «тоника». Колмогоров настаивает, что это не так, что с освоением новой системы счет слогов не утрачивается, а обостряется: «Дольник – живое явление поэтической практики, которая исходит не из заданных извне законов, а приходит к различению законных и незаконных вариантов ритма путем проб и вслушивания в звучание стиха» («О дольнике современной русской поэзии»). Понятия «законный» и «незаконный» остаются главными: в силлабо-тонике к этой границе правильности стиха мы подходили изнутри, от порядка, в чистой тонике – извне, от беспорядочности. Применительно к тоническим размерам можно тоже говорить о метре: это «закономерность ритма, обладающая достаточной определенностью, чтобы вызывать: (а) ожидание ее подтверждения в следующих стихах, (б) специфическое переживание „перебоя“ при ее нарушении» («К изучению ритмики Маяковского»160).
Дело стиховеда – различить в этом стихе настоящую упорядоченность и «кажущуюся упорядоченность» («Ритмика поэм Маяковского»161), опираясь, конечно, на сверку с вероятностными подсчетами. Колмогоров подчеркивает, что ритмические вариации 4-ударного дольника систематизируются так же, как и вариации 4-стопного ямба («с пропуском ударения на 1‐й доле, на 2‐й доле…»); он подсчитывает количество возможных словораздельных вариаций в нем («до 3300») и не смущается, что большинство их практически неупотребительны: «с точки зрения ритмики русского языка» это «вполне реальный материал» («О дольнике современной русской поэзии»). «Трудные, но законные» строки дольника с длинными междуударными интервалами, удобными для многосложных русских слов, такие как «Застенчивость и головокруженье…» у Багрицкого, он цитирует с таким же удовольствием, как аналогичные силлабо-тонические: редкие, «внестатистические», они «привлекают художника».
Здесь, в этом царстве вчерашней неразборчивости, особенно выразительны оказываются портреты индивидуальных «звуковых образов» общих размеров. Два больших произведения Цветаевой написаны в точности одним и тем же четким логаэдическим размером, но звуковой образ этого размера – тенденции расположения словоразделов и пропусков ударения – оказывается в них совершенно различен («Пример изучения метра и его ритмических вариантов»162). Дольник Маяковского в «Стихах о советском паспорте» непохож на дольник его «Сказки о дезертире» (где чувствуется оглядка на ритм «кольцовских пятисложников» народного стиха) и его поэмы «Люблю» (тяготеющей к классическому амфибрахию), а все они вместе – на дольник «У самого моря» Ахматовой и тем более на дольник Багрицкого, в котором опять-таки по-разному звучат «Последняя ночь», «Трясина» и «Февраль». (Багрицкого А. Н. Колмогоров изучал особенно внимательно, потому что находил в нем то, что ему больше всего нравилось: строгое соблюдение «законных» границ метра, но внутри них – исчерпывающее использование языкового запаса стихотворных форм.) Когда были опубликованы первые сводные данные о массиве русского дольника от А. Блока до Я. Смелякова, со средними цифрами о ритме каждого поэта и каждого периода, то Колмогоров остался недоволен такой подачей материала: в этих средних цифрах теряются звуковые ритмические образы дольника в отдельных стихотворениях и группах стихотворений, звучащие очень по-разному. «По-разному»: его описание этих образов метра давалось, конечно, с точными процентными характеристиками состава и расположения ударений, междуударных интервалов, словоразделов в этих интервалах и т. д.; а смысловая интерпретация не стеснялась таких замечаний, как (о строках Не переставая кланяться в «Стихах о советском паспорте») «два пропуска ударения в нечетных стихах как бы кланяются друг другу». Попутно рассмотрены были и редкие образцы чисто тонического стиха в русской поэзии до XX века. Имитация русского народного стиха в пушкинских «Песнях западных славян» давно вызывала споры: С. П. Бобров считал, что в ней главное – анапестическая тенденция, Б. В. Томашевский – что хореическая, В. М. Жирмунский отрицал и ту, и другую. А. Н. Колмогоров доказал, что ни той, ни другой художественной тенденции нет, обе порождаются только языковым ритмом – естественно возникают из заданных «метром» тенденций этого стиха к 10-сложности строки и к 1–3-сложному объему междуударных интервалов («О метре пушкинских „Песен западных славян“»163).
А. Н. Колмогоров не подчеркивал своего новаторства в подходе к изучению стиха. Статьи свои он писал для филологов и не перегружал их математическим аппаратом. (Тот же С. П. Бобров употреблял математические понятия гораздо усерднее.) Он писал: «В значительной мере мы даем только несколько новую систематизацию взглядов, уже достаточно известных» («К основам русской классической метрики»). Мы видели, как он интегрирует направления поисков Б. В. Томашевского, Г. А. Шенгели, В. М. Жирмунского и других.
Он поверял их наблюдения математикой, но замечал рядом не только то, что мог заметить лишь математик, а и то, что может заметить любой чуткий читатель, но оценить – лишь математик. Он писал («Замечания по поводу анализа ритма „Стихов о советском паспорте“ Маяковского»164): «Гипотезы… возникающие из живого восприятия стиха, могут быть при надлежащей методике работы проверены и превращены в объективное знание». Эти слова могут считаться его завещанием стиховедам новых поколений.
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ О ЛИТЕРАТУРЕ
КОЛУМБОВО ЯЙЦО И СТРОЕНИЕ НОВЕЛЛЫ 165
Ст. 25-я. Все, что в сих правилах не указано, яко невозбраняемое, тем самым уже становится в разряд возбраненного.
«Современная идиллия»
Рассказ о колумбовом яйце (степень его недостоверности нас здесь не интересует) излагается обычно так. На обеде Колумб предложил знатным застольникам поставить яйцо на острый конец. Те попытались это сделать, вращая яйцо на разные лады, но безуспешно. Колумб взял яйцо, пристукнул им по столу, острый конец разбился, и яйцо встало. «А разве разрешалось надбивать?» – спросили разочарованные зрители. «А разве запрещалось надбивать?» – ответил им Колумб.
Структура этой хитрости понятна. Во всякой области человеческих действий из бесконечного числа возможных поступков отмеченными являются лишь сравнительно немногие официально дозволенные и сравнительно немногие официально запрещенные. Остальные остаются неотмеченными и могут вступать в оппозицию как к тем, так и к другим. Для Колумба все, что не запрещено, было дозволено, для его соседей все, что не дозволено, было запрещено.
В таком случае можно предложить следующее общее определение: хитрость есть действие, в котором поступок, официально не запрещенный, понимается как дозволенный. (Под «поступком» здесь подразумевается переход между двумя ситуациями, например между «постановкой недеформированного яйца» и «постановкой деформированного яйца».)
Чем на уровне действий является хитрость, тем на уровне слов является шутка. Ее аналогичное определение: шутка есть рассуждение, в котором мысль, официально не запрещенная, принимается как дозволенная. (Под «мыслью» здесь подразумевается связь между двумя понятиями; примеры ниже.)
Хитрость и шутка, как известно, являются важнейшими элементами в сюжете новеллы, отмечая обычно кульминацию действия. Поэтому классификация хитростей и шуток на основе предложенного определения может быть существенна для типологии новелл. Классификации подлежат «поступки» и «мысли», переводимые из категории «незапрещенных» в категорию «дозволенных». Вот три простейших примера (из начальных новелл сборника Ф. Саккетти, XIV век):
а) Вовлечение элементов, обычно невовлекаемых (новелла 9). Дурной человек, устроив пир, позвал на него шута и предложил: «Потешь нас какой-нибудь шуткой». – «Пожалуйста: угодно ли Вам самим нагадить в Вашу шляпу или надеть ее на Вас мне?» Гости распотешены, хозяин посрамлен. – В задании предполагалось, конечно, что шутка будет направлена «в пространство», а хозяин и гости будут ее сторонними зрителями; но так как официально оговорено это не было, шут считает возможным вовлечь в свою шутку хозяина (что аналогично нарушению сценической иллюзии). Ср. новеллу 6, где шут вовлекает в шутку самого себя. Рассказ о колумбовом яйце представляет собою (в смягченном виде) этот же тип.
б) Сближение элементов, обычно несближаемых (новелла 10). Два синьора в сопровождении шута едут Иосафатовой долиной. Один говорит: «Это здесь соберется на Страшный суд весь род людской». Другой: «Какая же тут будет теснота!» Шут бежит, испражняется на кочку и говорит: «В таком случае вот, я заранее занимаю себе место». – В задании предполагалось, что мысль о Страшном суде связывается с мыслями религиозного и возвышенного содержания; но так как это не оговорено, спутник считает дозволенным связать с нею мысль бытового, а шут – даже непристойного содержания. Ср. новеллу 7, где оценивается знамя с изображением распятия. Значение такого «сближения далековатых понятий» на других уровнях литературной структуры хорошо известно.
в) Обращение отношений между обычными элементами (новелла 8). Безобразный влюбленный отвергнут дамой и просит совета у Данте; Данте говорит: «Постарайтесь, чтобы она забеременела; у беременных бывают причуды, и по такой причуде, быть может, она полюбит и Вас». – В задании предполагается, что беременность есть следствие любви; но так как это не оговорено, шутка исходит из предположения между этими понятиями обратной связи: любовь есть следствие беременности. Образцы такого типа, как кажется, довольно редки.
Все приведенные примеры окрашены комизмом, и притом довольно грубым. Но это необязательно. По существу, трагические развязки, в которых герой самоубийством спасает свою честь и т. п., близко напоминают наш тип (а), а частые в литературе последнего столетия произведения, где заурядные бытовые ситуации служат толчком для целой вереницы «мировых вопросов», близко напоминают наш случай (б). В принципе в отношении к комизму и трагизму сюжетные действия всегда амбивалентны.
В другом месте мы пытались показать, что типичный басенный сюжет может быть сведен к формуле: «некто захотел нарушить положение вещей так, чтобы ему от этого стало лучше; и сделал этим себе не лучше, а хуже». Типичный новеллистический сюжет в таком случае сводится к той же формуле, но с иным концом: «Некто захотел нарушить положение вещей так, чтобы ему от этого стало лучше, – и достиг этого». Схема того и другого сюжета – четырехчленная: экспозиция, замысел, действие, результат. Наиболее удобная классификация басенных сюжетов – по «замыслу», за который герой платится провалом. Наиболее удобная классификация новеллистических сюжетов – по «действию» (хитрости, шутке), которым герой достигает своей цели. Для одних культур более характерны сюжеты басенного типа (не обязательно в басенном жанре: на сюжете такого типа построена и «Анна Каренина»), для других – сюжеты новеллистического типа; для одних – мировоззрение Колумба, для других – мировоззрение «Современной идиллии».
М. М. БАХТИН В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА 166
Система взглядов М. М. Бахтина на язык и литературу складывалась в 1920‐х годах, а общим достоянием и предметом широкого обсуждения стала только в 1960‐х годах. В каждой эпохе есть своя «борьба древних и новых»; в нынешнем круге этой борьбы сочинения и отдельные высказывания Бахтина являются важным оружием. Пользуются им чаще «древние», чем «новые»: Бахтин предстает носителем широких духовных ценностей прошлого, органической целостности которых угрожают бездушные аналитические методы современности. Такое понимание правомерно, но вряд ли основательно. Оно упускает слишком многое в логической связи взглядов Бахтина. Что именно, становится ясно, если вспомнить эпоху формирования этих взглядов.
Двадцатые годы в русской культуре – это социальная революция, культурная революция, новый класс, ощутивший себя носителем культуры; это программа «мы наш, мы новый мир построим» – построим такой расцвет мировой культуры, перед которым само собой померкнет все прежнее, и строить будем с самого начала и без оглядки на прошлые пробы; это Маяковский, Мейерхольд, Эйзенштейн и Марр. Переживать это чувство «и я – носитель культуры!» можно было двояко: «и я способен творить, а не только снизу вверх смотреть на творцов!» – это Бахтин (с его культом деятельной спорящей мысли); «и я способен воздействовать на других, а не только чтобы они воздействовали на меня!» – это формалисты (с их культом строящей словесной технологии). Вражда между Бахтиным и формалистами была такой упорной именно потому, что это боролись люди одной культурной формации: самый горячий спор всегда бывает не о цветах, а об оттенках.
Отсюда главное у Бахтина: пафос экспроприации чужого слова. Я приступаю к творчеству, но все его орудия уже были в употреблении, они захватаны и поношены, они – наследие проклятого прошлого, пользоваться ими неприятно, а обойтись без них невозможно. Поэтому прежде всего я должен разобраться в них («иерархизировать чужие языки в своем сознании») и пользоваться ими с учетом их поношенностей и погнутостей. Каждое слово – чужое, каждая фраза – чья-то несобственно-прямая речь; это навязчивое ощущение естественно именно у неожиданного наследника, не свыкшегося с будущим своим имуществом загодя, а вдруг получившего все сразу и без разбору. Задача творчества – выложить свою мысль из чужих унаследованных слов.
Отсюда второе у Бахтина: пафос диалога, то есть активного отношения к наследству. Вещи ценны не сами по себе, а тем использованием, «в котором они участвовали», и, главное, может быть сделано (Бахтин называет это «интенциями».) Литературное произведение для него – не слово, а преодоление слова, не то, что захватано прежними работниками, а то, что удалось из этого сделать несмотря на прежних работников. Произведение строится не из слов, а из реакций на слова. Но чьих? Вступая в диалог с вещью, читатель может или подстраиваться к ее контексту, или встраивать ее в свой контекст (диалог – это борьба: кто поддастся?). Первое возможно: Бахтин нехотя признает заслуги Эйхенбаума, вскрывшего в вещах Л. Н. Толстого такие злободневные контексты, о которых все давно забыли. Но это хлопотливо, да и вряд ли нужно. Второе отношение для Бахтина и для всех в 1920‐е годы гораздо естественнее: не подчиняться вещи, а подчинять вещь, брать из старого мира для постройки нового только то, что ты сам считаешь нужным, а остальное с пренебрежением отбрасывать. Вся культура прошлого – лишь полуфабрикат для культуры будущего.
Отсюда третье у Бахтина: нигилистический отбор ценностей. Если подлинная культура – в будущем, то незачем прилепляться сердцем к культуре прошлого. По существу, ему не близки ни Пушкин, ни Шекспир, ни даже Толстой. Он принимает лишь две вещи: во-первых, карнавальную традицию и Рабле, во-вторых, Достоевского; иными словами, или комический хаос, или трагическую разноголосицу. (Любопытно, с каким равнодушием к фактам преувеличивает он с чужих слов количество и качество средневековых пародий и как легко отмахивается он от целых линий в истории романа – они «плохие», их авторы не понимали, что такое роман.) Это потому, что всякая стройно слаженная словесная структура прошлой культуры вызывает у нового читателя опасение: а вдруг не я ее, а она меня подчинит себе?
Отсюда четвертое у Бахтина: противопоставление «романа» и «поэзии», резкая вражда к поэзии и вообще к «авторитарному языку», слишком подчиняющему себе собеседника. Мы знаем, что поэзия не менее (если не более) умело играет «чужим словом», чем роман: Бахтин был против поэзии не поэтому, а потому, что она – «язык богов», раздражающий человека новой культуры, и потому, что она – язык «авторитарный», парализующий собственное читательское творчество. Ведь и роман для него приемлем, лишь пока это стихия хаотичная, кипящая и неоформившаяся: он называет романом сократические диалоги и переписку Цицерона, но отказывается называть так романы Тургенева. «Роман» и «эпос» для него не жанры, а стадии развития жанров: он мог бы сказать, что всякий жанр начинается романом, а кончается эпосом. Если в работы Бахтина подставить вместо слова «роман» слово «антироман» (при нем еще не изобретенное), то смысл его высказываний будет гораздо яснее и связнее.
Бахтин – это бунт самоутверждающегося читателя против навязанных ему пиететов. Но в бунте этом, конечно, не только нигилизм. Диалогический подход – это не только гордыня переламывания чужих голосов своей интонацией, это и смирение выслушивания чужих голосов (чтобы понять врага) перед тем, как их переломить. Этому и учит Бахтин в «Проблемах поэтики Достоевского», и это для него важно: из всего передуманного в 1920‐е годы он под своей фамилией опубликовал только «Поэтику Достоевского».
Ирония судьбы Бахтина в том, что мыслил он в диалоге с 1920-ми годами, а печататься, читаться и почитаться стал тогда, когда свои собеседники уже сошли со сцены, а вокруг встали чужие. Пророк пролетарского ренессанса оказался канонизирован веком советского классицизма. Ниспровергатель всяческого пиетета оказался сам предметом пиетета. Несовременные последователи сделали из его программы творчества теорию исследования. А это вещи принципиально противоположные: смысл творчества в том, чтобы преобразовать объект, смысл исследования в том, чтобы оберечь его от искажений. Органическая цельность бахтинского мировоззрения оказалась раздроблена на отдельные положения: о диалоге, о смеховой культуре и прочее. Это закономерно: как Бахтин призывал собеседников своего поколения брать из культуры прошлого только то, что они считают нужным для себя, так теперь из его собственных работ собеседники нового поколения берут только то, что они считают нужным для себя. Но всегда лучше, чтобы это делалось сознательно – так сознательно, как делалось самим Бахтиным. Пользуясь вызывающе-неточным языком Бахтина, можно сказать: творчество Бахтина – это роман, не нужно превращать его в эпос.
P. S . Бахтин был не филологом, а философом, главным предметом для него была этика. Литература для него была иллюстративным полем этических ситуаций; точно так психолог, занимающийся характерами, разбирает Обломова как образец флегматического темперамента и не притязает считаться филологом. Я мог бы это понять из ранних работ Бахтина (о том, как по-разному человек видит себя и других, об ощущении тела и стыда и пр.), но они были еще не изданы. Поэтому я попробовал понять его с черного хода – через историческую ситуацию. Заметка с этой попыткой понимания сложилась в переписке с В. М. Смириным, была напечатана в малотиражном тартуском издании в 1979 г. и непривычностью подхода вызвала много протестов; самым запомнившимся была фраза: «Если бы вы лично знали Бахтина, вы бы так не писали!» В печати самым подробным опровержением была работа A. Shukman в «Studies in 20th Century Literature», v. 9 (1984), № 1; а самым полезным дополнением – заметка О. Седаковой «М. М. Бахтин – еще с одной стороны» в «Новом круге» № 1, Киев, 1992, с. 115–117.
ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ТВОРЧЕСТВО И ИССЛЕДОВАНИЕ: СЛУЧАЙ БАХТИНА 167
М. М. Бахтин был философом. Однако он считается также и филологом – потому что две его книги написаны на материале Достоевского и Рабле. Это причина многих недоразумений. В культуре есть области творческие и области исследовательские. Творчество усложняет картину мира, внося в нее новые ценности. Исследование упрощает картину мира, систематизируя и упорядочивая старые ценности. Философия – область творческая, как и литература. А филология – область исследовательская. Бахтина нужно высоко превознести как творца – но не нужно приписывать ему достижений исследователя. Философ в роли филолога остается творческой натурой, но проявляет он ее очень необычным образом. Он сочиняет новую литературу, как философ – новую систему.
Новая, небывалая литература, программу которой сочинил Бахтин, называется мениппеей. Это название вводит в заблуждение: оно отсылает к греческим сатирам Мениппа и римским Варрона, от которых сохранились только невразумительные фрагменты, легко поддающиеся фантастическим разнотолкованиям. Прецеденты таких широкомасштабных историко-литературных фантазий существуют. В 1903 году вышла двухтомная монография Г. Райха «Der Mimus», выстраивающая панораму истории могучего жанра с бесчисленными ответвлениями, от которого сохранились лишь скудные фрагменты и противоречивые свидетельства; рецензенты писали, что Райх «сочинил целую вторую греческую драматургию со своим Шекспиром по имени Филистион». Бахтин отличается от Райха только тем, что занимается не историческими реконструкциями, а типологическими обобщениями, а потом представляет их как конкретную реальность. В центре его обобщений «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле, а на периферии – все, что может иметь любые черты сходства с ним: идейные, тематические или стилистические. В конечном счете мениппея становится просто условным оценочным названием всего, что Бахтин считает хорошим и важным: даже разговор Раскольникова с Соней назван «христианской мениппеей». Что в сознании носителей европейской культуры такой всеобъемлющей традиции никогда не существовало, это хорошо известно историкам литературы, особенно античной литературы. Но об этом обычно забывают, потому что исследованием идей Бахтина занимаются не историки, а теоретики литературы; а на них производят сильное впечатление авторитарные утверждения Бахтина, особенно уверенные там, где он говорит о памятниках, от которых почти ничего не сохранилось, – о Мениппе, Варроне или средневековой пародии. В результате мениппея – эта «платоническая идея жанра, universalia ante rem» (Р. Веллек) – попадает в современные литературные энциклопедии как историко-литературный факт.
Область Бахтина-философа – этика, наука о должном, а не филология, наука о сущем. Свои представления о должном Бахтин переносил на литературу. Для философии аксиомой является противопоставление истинного мира реальному миру, и чем резче это противопоставление, тем лучше. Так и мениппея была Бахтину тем дороже, чем меньше она была похожа на общеизвестную и общепризнанную литературу. Идеологией мениппеи был для него перевернутый мир карнавала. Бахтину больше всего хотелось говорить о трансцендентном, т. е. о Боге (о том Боге, который присутствует третьим над всеми людскими диалогами), а о Боге адекватно говорить человеческим языком вообще нельзя, даже и независимо от цензурных условий. О Боге можно говорить только парадоксально. Карнавал и был для Бахтина формой юродства, которое с виду попирает, а по сути парадоксально утверждает христианские ценности. Карнавальны у Бахтина оказываются и сократические диалоги, и венчание терновым венцом. Для стороннего прямолинейного взгляда здесь было противоречие; поэтому, например, М. Юдина категорически утверждала, что книга о Рабле – антихристианская. Но и для взгляда изнутри здесь было противоречие – между литературой, выдуманной Бахтиным, и литературой реальной, до изучения которой он соглашался снисходить. Из реальной литературы он признавал лишь роман (точнее – только Prüfungs-, Bildungs-, Entwicklungsroman: остальные для Бахтина не существовали). Но этот роман для Бахтина утверждал становление человеческой личности, а карнавал утверждал неизменность человеческой природы; они оказывались взаимоисключающими явлениями. Так Бахтин, сочинитель небывалой литературы, вступал в конфликт с Бахтиным, пытающимся исследовать реальную литературу; этот конфликт в его творчестве так и остался не разрешенным, а лишь затушеванным.
До чего нужно было довести человека, чтобы он, как солипсист, создал из себя иной мир в замену сущего, иную литературу в замену общеизвестной! Как и формалисты, Бахтин был порожден своим временем (его пародическое отталкивание от прошлого близко напоминает литературную эволюцию по Шкловскому и Тынянову). Но он не тянулся к своему времени, а отталкивался от него. Куда? В солипсическую щель, в которой можно непосредственно общаться с Богом, творить небывалый мениппейный мир, а с людьми общаться через Медведева и Волошинова. Смягченная форма солипсизма называется эгоцентризм: для эгоцентрика всякий автор важен не тем, каков он для себя, а тем, каков он для меня. Бахтин называет это диалогизмом и считает уважением к Другому. Отсюда его эгоцентрическая уверенность, что мы знаем Шекспира лучше, чем современники: «это я делаю Шекспира великим постольку, поскольку я его читаю». Это тоже парадокс; филология с ее некрофилией уважала Другого больше. Филолог сказал бы: «это я существую постольку, поскольку читаю Шекспира». Диалог с прошлым оказывается прикрытием экспроприации прошлого; диалог этот мнимый, потому что односторонний: прошлое молчит. Диалог – это внутреннее состояние индивида, заведомо невыразимое в тексте: явление внутриличностное, а не межличностное; в лучшем случае оно – предмет реконструкции. Бахтин в диалоге сосредоточивается на себе, а не на другом, это форма эгоцентрического самоутверждения: суть не в том, чтобы при своих словах воображать собеседника, а чтобы при словах собеседника воображать себя – например, как адресата всей мировой литературы. Эгоцентризм агрессивен: собеседники в диалоге борются за власть своих значений над словом-знаком. Это получается, наверное, оттого, что этими повседневными диалогизмами Бахтин лишь отвлекает наше внимание от своего главного диалога с Богом, а в душе смотрит на них с презрением. А у Волошинова эта борьба за язык и прямо становится обнаженно-классовой. Карнавал ведь тоже агрессивен прежде всего. Чем противопоставляется карнавал быту? Быт бьет меня по заведенным правилам, а карнавал бьет меня без всяких правил. Вряд ли Бахтин хотел прославить именно это: таким образом, это тоже парадокс.
ЛИРИКА НАУКИ 168
Это посмертная книга. Ее автор, Тамара Исааковна Сильман, умерла в 1974 году. Это был человек живых и разносторонних интересов: литературовед, лингвист, переводчик. Ее вышедшая тремя изданиями книга о Диккенсе, ее руководство по стилистике немецкой поэзии и прозы, ее сборник переводов из Р. М. Рильке, впервые широко познакомивший советского читателя с этим замечательным поэтом, – все это работы, хорошо известные не одним только специалистам. Ее заметки по теории лирики стали появляться в научной печати лишь в последний год ее жизни. Но общий их замысел становится ясен только с публикацией этой книги.
Здесь тоже чувствуются все три направления интересов автора. Сам выбор темы книги принадлежит, конечно, литературоведу. Обилие анализов немецкой лирики с тонкими замечаниями о ее передаче в русских переводах напоминает нам о переводчике. Наконец, основные черты концепции автора, логика ее исследовательской мысли опираются на опыт лингвиста: представить поэтический субъект, лирическое «я» как бы ожившим грамматическим местоимением, а в развитии темы стихотворения увидеть черты «актуального членения предложения» с чередованием «данного» и «нового», «темы» и «ремы» – эта мысль языковеда, может быть (для иных читателей), спорная, но, несомненно, интересная.
И все-таки не этот лингвистический фундамент – самое главное для автора. Если попытаться сказать двумя словами, что определяет подход Т. Сильман к лирике, то слова эти будут совсем другого рода: «вкус» и «совесть». Вкус – это постоянное ощущение разницы между «хорошо» и «плохо»; «совесть» – это ощущение разницы между «искренне» и «неискренне»; а сочетание того и другого – это выделение в широком кругу «лирики» неширокого круга «подлинной лирики», на которой автор и сосредоточивает внимание. И слова, которыми Т. Сильман говорит об этом, к лингвистике уже не относятся. «Для того, чтобы писать стихи, нужно уметь говорить правду. Но это должна быть правда особого уровня – не только „для себя“, но и для других, не только правда, но и истина» (с. 75). «Только настоящий поэт, целиком и без остатка отдающийся своим мыслям и чувствам по поводу данной темы, способен заразить вас „событийностью“ ее переживания» (с. 36). «Наиболее тонкие и напряженные музыкальные „ходы“ словесной звукописи, воспринимаемой всякий раз как „чудо“…» (с. 60). «Когда, глядя на старый дуб, князь Андрей внезапно ощущает прилив радости… мы на мгновение забываем, что перед нами князь Андрей» (с. 202).
Конечно, это сказано слишком безоговорочно. Можно ни на мгновение не забывать, что перед нами не наша радость, а князя Андрея, можно отлично сознавать, что музыкальные ходы звукописи называются не «чудо», а «аллитерация», и тем не менее испытывать полноценное эстетическое наслаждение. Ведь и исследовательнице ее высокая филологическая эрудиция не мешала, а помогала ощущать лирику. Мало того. Не вернее ли сказать, что стихотворение кажется нам хорошим не потому, что оно искренне, – наоборот, стихотворение кажется нам искренним потому, что оно хорошо написано. Нашему нравственному чувству естественно претит мысль о том, что поэт, а особенно хороший поэт, мог быть неискренним. Нам хочется верить, что поэт выражал себя в стихотворении с такой же непосредственностью, с какой мы это стихотворение воспринимаем. (На самом деле и воспринимаем мы его совсем не так уж непосредственно, но об этом мы обычно не думаем.) Это очень естественное и благородное желание, и такую веру не нужно искоренять – нужно лишь отдавать себе в ней отчет. Вот такой отчет и представляет собой книга Т. Сильман. Она доверительно приглашает читателя всмотреться вместе с исследователем в те облики лирического героя, которые мы представляем себе, читая лирические стихотворения (с. 42).
Итак, «подлинная лирика», по Т. Сильман, – это те стихотворения, за текстом которых мы ощущаем душевный опыт человека, его переживание. Этим они и отличаются от баллад, где развитие переживания дополняется развитием сюжета, и от стихотворений риторических, где оно дополняется развитием логической аргументации. Отличию «подлинной лирики» от баллады посвящена в книге отдельная глава с превосходным разбором четырех примеров постепенного перехода от чистой эпичности к чистой лиричности – стихотворений Гете «Лесной царь», «Дикая роза», «Находка», «Майская песня». Вероятно, если бы книга была закончена автором, рядом бы встала такая же глава и об отличии «подлинной лирики» от дидактико-публицистической поэзии, и это сняло бы возможное удивление иных читателей, почему в книге Т. Сильман почти не рассматривается, например, гражданская лирика.
Переживание, выражаемое в лирическом стихотворении, не следует, однако, представлять себе слишком однозначно. В стихах перед нами, настаивает Т. Сильман, не переживание, а модель переживания (с. 27), не реальная личность поэта, а освобожденное от всего конкретного и бытового лирическое «я» (с. 39). «Я» в поэзии, как всякое местоимение в грамматике, есть лишь знак отношения (с. 41), начало парадигматического ряда: это контур, и лишь постепенно, по мере того как мы читаем стихотворение, мы заполняем его подробностями, как бы реконструируя образ лирического героя. Иными словами, этот образ объективно задан автором и субъективно воссоздается читателем. Насколько адекватно такое воссоздание? Читателю, конечно, хочется думать, что образ лирического героя, вставший в его сознании, един для всех читателей и соответствует реальной личности поэта, – но достаточно вспомнить, как по-разному представляли себе разные века, например, образы античных лириков, чтобы не настаивать на этом. Не настаивает на этом и автор книги: потому он и ограничивает свой материал преимущественно поэзией XVIII–XX веков, в предположении, что творцы ее мыслили и чувствовали так же, как мы.
Переживание одномоментно, а раскрытие его в стихотворении – по необходимости протяженно. В этой протяженности автор считает возможным выделить «точку переживания», точку наибольшей лирической концентрации, так сказать, точку отсчета всех координат в структуре стихотворения. Здесь Т. Сильман прибегает к удачной аналогии. В «Лаокооне» Лессинг писал, что тот момент действия, который художнику выгоднее всего запечатлеть в неподвижном изображении, – это момент переходный, откуда зрителю одновременно открываются и предшествующее движение, и последующее. Точно так же и в лирическом стихотворении центром служит переходный момент – от индивидуального человеческого опыта к общезначимому его осмыслению. Такое осмысление обычно дается в концовке стихотворения: предыдущий текст стихотворения служит в нем как бы эмпирической частью, а заключение – обобщающей частью (с. 34). Не всегда та и другая части представлены полностью: в философской лирике может разрастаться обобщающая часть, а эмпирическая дает лишь вводные иллюстрации к ней, в любовной лирике, наоборот, обобщающая часть может совсем отпасть и лишь окрасить сентенциозностью концовку эмпирической части; примеры тех и других случаев приводятся и разбираются. Переход от начальной части к заключительной и является, по мнению автора, тем местом, где мы можем подстеречь живое, еще не застывшее в слове переживание поэта. Переломная точка – это как бы настоящее время стихотворения, душевное состояние поэта в момент творчества; эмпирическая часть – его прошедшее время, оглядка поэта на самого себя и свои чувства; обобщающая часть – его будущее время: всегда так бывало и будет (с. 15). Такое выделение точки отсчета в лирической структуре представляется весьма плодотворным.
Но эта протяженность «в длину», от эмпирической части к обобщающей – лишь одно из измерений лирического стихотворения; другое его измерение – «в глубину», от упоминаемых предметов и явлений внешнего мира, послуживших толчком для переживания, до прямых слов о внутреннем мире лирического «я». Так, холмы Грузии и шумящая Арагва – это внешний образный слой в стихотворении Пушкина, а светлая печаль и сердце, которое горит и любит, – это его внутренний образный слой. Но между этими двумя слоями можно выделить промежуточный слой, и он едва ли не самый интересный. Т. Сильман называет его слоем «предметной символики». Таков цветок в стихотворении «Цветок засохший, безуханный…»: он не просто внешний повод для «странной мечты», он – символ человеческой любви и жизни, которые, по существу, и являются предметом стихотворения. У некоторых поэтов этот средний образный слой становится главным: ни одно душевное движение не названо, речь идет только о предметах внешнего мира, но в словах о них чувствуется такое эмоциональное напряжение, что они воспринимаются как символы самых глубоких внутренних переживаний. Таковы, например, Фет и Блок. Анализы стихотворений подобного рода, предлагаемые Т. Сильман, очень искусны; однако здесь больше, чем где-нибудь, велика опасность «сверхинтерпретации», опасность вчитать в текст стихотворения свое, излишне субъективное читательское осмысление, и страховка объективными критериями, оглядка на точные слова, заданные поэтом, тут особенно важна. «Глубинное» измерение стихотворения обычно соотносится с его «продольным» измерением: в эмпирической части стихотворения на первый план выступает внешний слой, в обобщающей – внутренний; но, конечно, возможны и несовпадения, дающие особый художественный эффект.
Наконец, сама словесно-звуковая ткань стихотворения тоже существенна для воссоздания лирического переживания. Стихотворение есть «концерт для смысла с оркестром», по красивому выражению Т. Сильман (с. 48). В этой оркестровке образно-смысловой, эмоциональный и звуковой ряды звучат параллельно: первый реализуется прежде всего в логико-синтаксической структуре текста, второй – в лексике, в подборе слов, третий – в фонике, в игре аллитераций. Фонике стиха автор посвящает специальную главу: здесь различаются «архитектоническая» звукопись, где повторение слов влечет за собою повторение звуков, и «локальная» звукопись, где звуки повторяются независимо от слов, причем «локальные» звуковые пятна то сливаются в сплошной «поток звукописи», то вступают в рассчитанный контраст. Эта классификация представляется очень полезной, хотя выбор анализируемых примеров не совсем удачен: «Весенние воды» Тютчева, целиком построенные на архитектонических словесных повторах («бегут… бегут», «гласят… гласят»), приводятся как образец «потока звукописи», а в стихотворении Ахматовой «Как велит простая учтивость…» средняя часть, которая кажется автору особенно напевной, как раз наиболее бедна звуковыми повторами.
Таковы основные взгляды автора, которые вырисовываются из прихотливой последовательности «Заметок о лирике». Конечно, за пределами этого изложения остается множество отдельных тонких наблюдений: о разнице между неподвижным «я» лирического стихотворения и движущимся «я» лирической прозы (или, добавим, лирической поэмы, – с. 9); о том, что самые динамичные стихи Блока так же бедны глаголами, как стихи Фета, а динамика их – от разноплановости нанизываемых образов (в стихотворении «Черный ворон в сумраке снежном…» всего три глагола, – с. 156); о скрытой грусти в концовке пушкинского шутливого «Подъезжая под Ижоры…» (с. 169–170); об аллитерации как звуковом «неологизме» (с. 53) и проч. За пределами этого разбора остается и такая важнейшая часть книги, как конкретные анализы лирических стихотворений, рассеянные по всем главам, тонкие, многочисленные и разнообразные: рядом с Пушкиным, Фетом и Ахматовой, с Гете, Рильке и Гейне (отметим особенно с. 99–115, специально посвященные Гейне) здесь присутствуют Ли Бо и У.-Б. Йейтс и наши современники И. Лиснянская и В. Шефнер. Разбираемые иноязычные стихотворения почти все даны в собственных переводах Т. Сильман (иногда с автокомментариями к ним, как на с. 70), и это придает книге особенно органичное единство. Очень хорошо, что в конце книги приложены тексты приводимых стихотворений на языке оригинала: конечно, они необходимы при таких переводах, как «Горные вершины» Лермонтова или «Всевластна смерть…» самой Т. Сильман. Жаль, что не было возможности поместить здесь хотя бы подстрочники привлекаемых автором китайских стихотворений: может быть, они тоже могли бы навести на интересные мысли.
Т. Сильман не успела завершить работу над «Заметками о лирике», и местами это чувствуется в книге. Например, неудачным издательским сокращением выглядит вся глава VII: логическим центром ее должен служить детальный анализ «Лорелеи» Гейне и двух ее русских переводов (опубликованный, тоже посмертно, отдельной статьей), но из главы он исключен, и поэтому важнейшая тема «„данное“ и „новое“ в пределах лирического текста» остается недоговоренной. Незаконченным остался интересно начатый анализ стихотворения О. Мандельштама «Мастерица виноватых взоров…» (с. 164–167). Можно думать, что при окончательной обработке книги в ней получил бы развернутую трактовку наряду с образным, эмоциональным и фоническим уровнями стихотворного строя также и метрический его уровень: всякий стиховед подтвердит, что он включается в «концерт для смысла с оркестром» по тем же правилам аккомпанемента, какие Т. Сильман установила для других уровней лирического стихотворения. Наконец, не исключена возможность, что, блестяще показав организацию времени в лирике, она остановилась бы внимательнее и на организации пространства в лирике: здесь тоже есть своя система координат, определяемая точкой зрения автора, так что, например, даже о стихотворении Фета «Это утро, радость эта…» вряд ли можно сказать: «все здесь слилось и смешалось воедино» (с. 93), – направление и движение авторского взгляда организовано в нем достаточно четко и строго.
Однако все эти невольные незавершенности не режут глаз. Ведь сам жанр «Заметок о лирике» как бы предполагает незавершенность. «…Исчерпать эти вопросы вообще невозможно», – пишет Т. Сильман на последней странице своей книги (с. 205). Если бы даже возможно было описать до конца текст стихотворения, эту «модель» лирического переживания, то заведомо невозможно описать до конца то, что находится за текстом, – само лирическое переживание поэта, реконструируемое читателем. А именно это – главный предмет книги Т. Сильман. Автор исследует не только (и, может быть, не столько) Пушкина и Гете, сколько свое восприятие их творений, и доверительно предлагает нам проверить себя, на каждом шагу приглашая задуматься над вопросом, который обязателен для филолога при анализе всякого текста: где кончается заданное поэтом и начинается воссозданное читателем? Это рассказ читателя о своем читательском опыте (и не только читательском, но и писательском: переводчик стихов – тоже поэт) – опыте сотворчества с автором. А сотворчество Т. Сильман было талантливым, вдумчивым и тонким. «Всю свою жизнь Тамара Исааковна работала над темами, которые были ей душевно близки, которыми она увлекалась не только как исследователь, но и как внимательный читатель и зритель. И эта увлеченность предметом исследования, являвшегося одновременно и предметом глубокого и богатого эстетического восприятия, давала широко проявиться ее таланту личности». Этими словами Д. Лихачева, заключающими содержательное и тепло написанное послесловие к книге (с. 222), хочется закончить и наш отзыв.
ОБ ИТОГАХ И ПРОБЛЕМАХ СЕМИОТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 169
В связи с тем, что семиотические исследования в нашей стране приближаются к своему 25-летнему юбилею (промежуток для истории науки незначительный, но все же дающий возможность подвести некоторые итоги), редколлегия «Трудов по знаковым системам» решила уделить некоторое место ответам на вопросник, который был предложен ряду исследователей. Мы обратились с такими вопросами:
1. Какие научные результаты, достигнутые за это время, Вы считаете наиболее значительными?
2. Какие направления исследований Вы считаете наиболее перспективными в будущем?
3. Какие научные надежды, которые возлагались на 1960‐е годы на семиотику, по Вашему мнению, не оправдались?
Участникам была предоставлена свобода отвечать лишь на те из вопросов, которые их заинтересуют.
Редколлегия
Я позволю себе судить только о той области, в которой чувствую себя относительно сведущим, – о стиховедении. Правда, я заранее рад, что одним из самых перспективных его участков представляется сейчас именно тот, где стиховедение теснее всего смыкается со смежными и более общими проблемами семиотики, – вопрос о семантическом ореоле стихотворных размеров (об этом ниже, § 2а).
1. Что достигнуто. Оживление стиховедческих исследований, начавшееся около 1960 года, началось с большого события: А. Н. Колмогоров усовершенствовал вероятностную модель стиха, предложенную Б. Томашевским еще в 1917 году, и она впервые стала надежным рабочим орудием в руках стиховедов. Все, что было сделано ценного в стиховедении за прошедшие годы, было связано с использованием точных методов анализа – теории вероятностей и статистики.
а) Вглубь. Одним из главных достижений этих лет мне кажется работа М. А. Красноперовой о механизме центрального события истории русской ритмики – возникновения альтернирующего ритма в русском 4-стопном ямбе. В этой и смежных работах впервые предпринят дифференцированный анализ ритма отдельных словесных категорий в составе стиха; и выделение одной из них (длинных «пиррихиеобразующих» слов) дало возможность ответить наконец на вопрос, остававшийся загадкой со времен Андрея Белого. Я знаю, что многое в работе М. А. Красноперовой вызывает серьезную критику специалистов; но того, что мне представляется главным в ее работе, эта критика, как мне кажется, не затрагивает.
б) Вширь. Здесь проведены большие подсчеты (по метрике чисто статистические, по ритмике – с использованием вероятностной модели Томашевского – Колмогорова), во много раз увеличившие материалы для стиховедческих обобщений. При этом обследовался не только русский стих, но и эстонский (Я. Р. Пыльдмяэ), литовский (Л. Саука, Ю. Гирдзияускас), латышский, армянский, украинский, белорусский. Для всех этих стихосложений мы получили более или менее полную картину сдвигов в метрическом репертуаре и (часто) в ритме основных размеров хотя бы для конца XIX и ХX века. На очереди теперь переход к более общим вопросам сравнительно-теоретической метрики (см. ниже § 2б).
2. Что перспективно. а) Семантика стихотворных размеров. Этот вопрос выдвинулся на первый план почти неожиданно (после статьи К. Тарановского 1963 года о 5-стопном хорее) и привлек общее внимание, потому что именно здесь стиховедение соприкасается с тематикой и другими областями литературоведения («форма» – с «содержанием»). Накапливаемый материал представляется удивительно живым и интересным, хорошо используется при интерпретации конкретных текстов (особенно для поэзии ХX века) и уже дает материал для первых теоретических обобщений (Ю. И. Левин). Однако здесь особенно видно, как отстает формализация тематического уровня поэзии от формализации ее метрического уровня: из‐за этого разрыва слишком многие определения приходится делать на глаз, интуитивно, и поэтому исследование этой области во многом остается еще искусством, а не наукой. Решающие сдвиги здесь еще впереди.
б) Сравнительно-историческая метрика. Этот предмет тесно связан с предыдущим: задаваясь вопросом, «откуда явилась в таком-то размере такая-то семантическая окраска», неминуемо восходишь к заимствованию этого размера из западного (или русского народного) стихосложения с его семантикой и т. д. вплоть до гипотетической индоевропейской древности. Прояснение путей эволюции и миграции основных стихотворных размеров требует выхода за пределы более или менее изученных европейских стихосложений и рассмотрения истории европейского стиха как целого. Работ такого рода почти нет; подготовительный материал по отдельным областям довольно богат, но тем заметнее зияющие белые пятна. Хочется думать, что время для первых обобщений здесь уже настало.
3. Что не оправдалось. Здесь можно перечислить многие направления работ, по которым хотелось бы видеть больше достижений, чем имеется, но систематизировать причины этих неудач мне трудно. Пожалуй, главное в том, что возможности и ограничения в применении точных методов исследования еще недостаточно осознаны и освоены стиховедами. Часто, глядя на подсчеты, показывающие какие-то сдвиги таких-то явлений от периода к периоду, не чувствуешь уверенности, что эти сдвиги статистически значимы (этот мой упрек – прежде всего самому себе). Пока обследуемый материал достаточно обширен, с этими трудностями еще можно справляться. Но как только он становится слишком дробен или слишком ограничен, трудности возрастают. Слишком дробен – например, при изучении семантики ритма (ритмическая окраска, ритмические перебои) или связи ритма с синтаксисом (этим вопросом я занимаюсь, но результатами своими очень недоволен). Слишком ограничен – например, при определении переходных метрических форм в небольших стихотворениях (особенно это чувствуется в таком актуальном вопросе, как ритмическая типология верлибра) или при исследовании фоники, которое, как мне кажется, за эти 25 лет ни на пядь не сдвинулось с мертвой точки. Многому мешает также недостаточность и разобщенность стиховедческих сил: так, исследуя историю русской рифмы, я должен был сам подсчитать громадный материал только потому, что не было уверенности, примут ли другие исследователи те же критерии подсчета и вследствие этого будут ли сопоставимы их результаты с моими.
4. Что угодно. Здесь приходится быть неоригинальным и пожаловаться прежде всего на трудности публикации самого ценного материала – справочного. Издания сводных индексов метрики и строфики русской поэзии XVIII–ХX веков – дело давно назревшее и вполне осуществимое. Подготовка метрических справочников по отдельным поэтам (по типу сборника «Русское стихосложение XIX века», М., 1979) может быть продолжена быстрее и лучше прежнего; ценнейшая картотека К. Д. Вишневского по метрике и строфике 100 русских поэтов XVIII–XIX веков может быть подготовлена для компактного издания в самое краткое время; но издательствам такой материал неинтересен. По той же причине у нас никто не занимается составлением словарей рифм русских поэтов; немногие существующие составлены в Америке. Между тем совершенно очевидно, насколько такие издания сэкономят время и организуют силы для любых исследований – не только по метрике, ритмике и строфике, но и по семантике стиха.
НАУЧНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ ТЫНЯНОВА170
В традиционном научно-популярном упрощении образ Тынянова если не всегда, то часто изображается счастливым случаем совмещения двух талантов в одном человеке – научного и художественного. Говорится, как эти два таланта помогали друг другу, – и они, конечно, помогали, поэтому исторический роман Тынянова и не спутаешь с романом Ольги Форш или с биографией работы Моруа. Но почти никогда не говорится, как эти два таланта мешали друг другу171. А они мешали, они боролись, и эта борьба в конечном счете определила весь незавершенный творческий путь Тынянова.
Может быть, вернее даже сказать, что в Тынянове боролись не научный и художественный, а теоретико-литературный и историко-литературный талант. И подсмотрел этот конфликт, и дал отток второму из этих начал мимоходно-чуткий Чуковский. Но этому предшествовала долгая история, начало которой – в самых первых, отчасти еще донаучных пробах пера Тынянова.
Сейчас мы знаем, хотя бы отрывочно, четыре образца ранней прозы Тынянова. Первый – начало школьного сочинения 1912 года, цитируемое В. Кавериным172: на тему «Жизнь хороша, когда мы в ней необходимое звено», с эпиграфом «Я чужой, я иностранец здесь, я каприз бога, если хотите» – Нагель (Гамсун, «Мистерии»). «С тех пор, как некто ткет завесы земного существования, с тех пор, как движется в заколдованном круге неразрывная цепь человеческого бытия, было замечено: рука об руку идут все люди, кто бы то ни был, принц или нищий, и часто жизнь нищего влияет на жизнь короля больше, чем жизнь придворного; и у этой живой человеческой цепи, есть свои законы…».
Это, конечно, упражнение стилистическое, а не научное; но любопытно, что уже эпиграф здесь предвещает (автобиографическую в конечном счете) тему человека в чужой среде, которая будет повторяться в художественных замыслах зрелого Тынянова173, а последняя фраза – подход к истории литературы не как к «истории генералов», а как к сплетению равноправных событий, где малые бывают важнее больших, – мысль, которая ляжет в основу тыняновской теории литературной эволюции.
Второй образец – студенческий реферат о «Каменном госте»174: «Но почему такою сдержанною силою пережитого полны спокойные стихи драмы? Потому что драма Дон Гуана – это драма Пушкина… Оба они были так же одиноки, так же неподходящи к окружающей среде. Оба они поэты, оба жадные до жизни, необузданные люди…». Биографический подход, импрессионистический стиль – это скорее эссе из «Аполлона», чем какая бы то ни было наука. Характерно замечание комментатора, что многое здесь напоминает позднейшую работу А. Ахматовой о «Каменном госте» – эту классику околонаучного интуитивизма.
Третий образец – статья «Литературный источник „Смерти поэта“»175. Она начинается: «Жуковский написал на смерть Пушкина довольно милое, хотя и небезупречное по форме стихотворение. В нем, пересказывая свое же известное письмо к Сергею Львовичу спокойным и важным элегическим дистихом, впрочем, не выдержанным, рассказывал маститый Василий Андреевич, как был спокоен и важен лик усопшего Пушкина… Вся Россия была в той комнате, где бредил и стонал Пушкин, и этот самый тайный предсмертный лепет Пушкина подслушал Лермонтов…». А продолжается: «Уже первые строки стихотворения с настойчивой аллитерацией глухого П с гласным А – „ПОгиб ПОэт, невольник чести, ПАл, оклеветанный молвой“ – вызывали ощущение выстрелов и вместе стремительного невозвратимого падения, и вслед за тем несся тонкий свист той пули, которая отняла у России Пушкина: „С СВИнцом в груди и ЖАЖдой мести“. Это было тяжко, как воспоминание о дуэли у постели умирающего». Последняя фраза уже готова для беллетристики; но предшествующая ей импрессионистическая характеристика уже маскируется научным анализом аллитерации. Четвертый образец – это незаконченное исследование «Тютчев и Гейне», впервые опубликованное в ПИЛК: беловая глава о биографических контактах двух поэтов и черновые главы о сходстве приемов в их стихах. Биографическая глава, по уже разработанному немецкой наукой материалу, написана блестяще и читается как беллетристика. Аналитические главы – россыпь наблюдений, разумно сгруппированных, но нимало не срастающихся в структурное целое: вот ритм, вот аллитерации, а почему не выбрано для анализа что-нибудь другое, неизвестно. Так можно было описать переводные из Гейне стихотворения, сопоставляя их с оригиналом, – на этом Тынянов и остановился. Но это не было системой, пригодной для анализа любого стихотворения. Тынянов это понял: «уже в этот период (Венгеровский. – М. Г.) Тынянов стремится к созданию понятного, терминологического аппарата, который позволил бы теоретически четко осмыслять наблюдаемые историко-литературные факты (решение этой задачи не было им завершено)»176. Над тем, почему оно не было им завершено, мы и попробуем задуматься. Внешние причины этого очевидны – а внутренние?
Маленькое отступление. Мы знаем, что было две школы русского формализма: московская вокруг Р. Якобсона и потом Б. Ярхо и петроградская, опоязовская. Они работали в настолько противоположных направлениях, что почти не замечали друг друга, лишь мимоходом отпуская колкости. Ярхо исходил из методики, разрабатывавшейся еще позитивизмом на материале фольклорном, античном и средневековом: выделение признаков, статистика, систематизация, в результате – статическое описание отдельных памятников, а затем реконструкция лежащего за ними процесса. Опоязовцы исходили, наоборот, из живого ощущения современного им стремительного литературного процесса, по аналогии с ним представляли себе динамическую картину литературного процесса XVIII–XIX веков, а затем реконструировали становление из этого процесса тех памятников, которые дошли до нас уже хрестоматийно окаменелыми. Ярхо переносил методику изучения древности на новое время – ОПОЯЗ переносил методику изучения современности на классику177. И то, и другое давало очень интересные открытия. Почему Тынянов, нащупывая свой научный путь, стал опоязовцем? Скажем просто: потому что у него была хорошая художественная интуиция и слишком мало той педантской усидчивости, которая после долгих и скучных подсчетов в 9 случаях из 10 приходила к подтверждению того, что было видно и невооруженным взглядом.
Есть две разные вещи: убедительность и доказательность. Убедительность апеллирует к интуиции, к общему впечатлению, доказательность апеллирует к разуму. Убедительность – дело искусства (древность точно сказала бы, какого искусства: искусства риторики), доказательность – средство науки. Где доказательность ворочает громоздкими доводами и выводами, там убедительность предлагает пару ярких примеров и говорит: «разве не очевидно?» И случается, что только через сто лет и более вдруг на каждый пример обнаруживается пять контрпримеров и оказывается, что очевидное совсем не так уж очевидно.
Тынянов искал убедительности больше, чем доказательности, и работал примерами больше, чем рассуждениями. Примеры – основа аргументации во всех его работах. Свежий взгляд, воспитанный стремительной современностью, помогал ему их выбирать, а художественный талант помогал предъявлять их читателю. Подборки примеров, пусть недлинные, но яркие, – ударное место каждой тыняновской статьи. Иногда кажется, что Тынянов нарочно оттеняет их тем тяжеловесным стилем окружающих рассуждений, за который он иронически извиняется в предисловии к «Архаистам и новаторам»178. Все это говорится совсем не в осуждение: «убедительно» отнюдь не значит «а на самом деле неверно». Как раз первая получившая известность работа Тынянова – «Достоевский и Гоголь» – была триумфом аргументации цитатами. Мысль о том, что Фома Опискин есть пародия на «Переписку с друзьями» Гоголя, была не новой, была «устной легендой»179, но до сих пор не обсуждалась всерьез; а после статьи Тынянова с ее вереницами примеров мысль эта стала доказанной и общепринятой. Убедительность переросла в доказательность.
Но Тынянову был важен не Достоевский и не Гоголь: он искал (повторяем А. П. Чудакова) «понятийного, терминологического аппарата, который позволил бы теоретически четко осмыслять… факты», – точнее, осмыслять движение фактов, потому что статических фактов для Тынянова не существует. «Руслан и Людмила» была антипоэмой (оттого и стала событием), а потом стала поэмой-классикой: с этой иронии над статическими определениями начинается статья «Литературный факт»180. Достоевский и Гоголь были важны Тынянову не сами по себе, а как иллюстрация «к теории пародии» (подзаголовок) – теории отталкивания, понимаемого в качестве двигателя литературного процесса. Точно так же в «Проблеме стихотворного языка» автору важен не стих и не язык: это лишь материал для демонстрации ключевых понятий: конструкция, доминанта, деформация подчиненных элементов. Точно так же в «Оде как ораторском жанре» главным для Тынянова является теоретическое понятие установки, то есть функции приема в системе вещи, вещи в системе литературы и литературы в системе словесности, а ода как таковая, как конкретный факт русской поэзии XVIII века его мало интересовала. (Может быть, отчасти поэтому «не были дружескими»181 отношения Тынянова с Гуковским, который жил этим XVIII веком как родным.)
Точно так же в «Архаистах и Пушкине» главное не архаисты и не Пушкин, а опыт расслоения слежавшихся понятий, «разъединение рядов», показывающее, что на уровне идеологии поэты начала XIX века могли группироваться одним образом, а на уровне отношения к языку – совсем другим. Точно так же «Тютчев и Гейне» (статья 1922 года) имеет целью прежде всего разделить понятие историко-литературной причинности на «причину» и «повод», то есть общий контекст литературного потока и конкретный толчок к возникновению в нем данного произведения (в не слишком удачной терминологии Тынянова первое – это «традиция», а второе – «генезис»). Историко-литературный материал у Тынянова 1920‐х годов нигде не является самоцелью: он всюду лишь подспорье для постановки теоретико-литературной проблемы. Если об этом забыть, то сразу бросится в глаза, например, как оборванно кончается «Архаисты и Пушкин», как скомканно – статья об «Оде»; да и само содержание «Оды как ораторского жанра» покажется тривиальным, потому что априори очевидно, что в оде XVIII века найдутся все приемы, предусмотренные риторикой XVIII века.
Так пучки примеров становятся аргументацией в историко-литературных статьях, а историко-литературные статьи становятся иллюстрациями в огромной, с трудом создаваемой теоретико-литературной системе. Одна из формулировок этой системы: «не описание, а объяснение внутренних закономерностей явлений и развенчание так называемых „героев“»182. «Не описание, а объяснение» – в этом разница с московским формализмом, для которого без описания нет объяснения.
А теперь вспомним предисловие к «Архаистам и новаторам»183: «Собственно говоря, всякая статья пишется для того, чтобы нечто выяснить; когда же нечто выяснено, статья отменяется этим самым и кажется неудовлетворительной». В первую очередь отменяется и отбрасывается историко-литературная часть, потому что она была служебной. И это имеет три очень важных последствия, вступающих в действие одно за другим.
Во-первых, этот историко-литературный материал, уже ненужный Тынянову-теоретику, остается интересен и близок Тынянову-человеку с его интуитивным ощущением истории, «артистическим пониманием литературы прошлых лет»184. Нужен только толчок, чтобы вновь обратиться к нему уже не как к средству, а как к самостоятельной цели. Толчок этот известен: все помнят знаменитый рассказ К. Чуковского185 о том, как Тынянов на докладе о Кюхельбекере говорил очень скучно и специально, а потом в разговоре по дороге домой – очень ярко и красочно, и как Чуковский после этого устроил Тынянову случай подработать детской книжкой в пять листов (обычная литературная халтура ученых того времени – ср. сотрудничество П. Е. Щеголева с А. Н. Толстым), а Тынянов неожиданно для себя и для всех написал не пять, а девятнадцать, и местами не столь уж и детских. Так ученый Тынянов открывает и, что очень важно, признает в себе беллетриста Тынянова.
Во-вторых, попробуем представить себе психологическое отношение Тынянова к этому отработанному им в статьях историческому материалу, к этой системе аргументации, построенной на убедительности. Для читателя, которому предлагаются яркие примеры, она убедительна, и этого довольно; а для автора, который эти примеры отбирал и знает, что при желании можно столь же ярко подобрать и противоположные, вполне закономерно отношение гораздо более скептическое. Сам Тынянов писал об этом откровенно: «Человеку, занимающемуся историей, трудно верить в ее существование. Действительно, что остается на земле такого, что заставило бы с уверенностью, например, сказать, что человек жил?..»186 И далее: «Один легкомысленный человек вздумал доказать, что знаменитое послание Пушкина к Чаадаеву написано не Пушкиным, а Рылеевым. Когда все присутствовавшие на докладе, возмущенные этим, спросили: „Почему?»“ – он ответил, рассеянно почесывая нос: „А почему бы и нет?“ Рылеев? Рукописи ведь нету. И несмотря на то, что это была чепуха, ординарные академики почувствовали на минуту какую-то растерянность»187. После замечательной работы Г. А. Левинтона188 о том, как Тынянов садистически – трудно сказать иначе – переиначивал историю в «Смерти Вазир-Мухтара», мы знаем, что у этого иронического пересказа эпизода русской пушкинистики есть и второй план. Беллетристика стала для Тынянова средством эксперимента над историей, – и здесь, вероятно, предстоит открыть еще много неожиданного.
И, наконец, в-третьих, если даже отложить в сторону такие эксперименты с историей, то выход в беллетристику дал Тынянову отпущение грехов против научности – законное право на риторическую убедительность вместо научной доказательности. По формуле Тынянова, «там, где кончается документ, я начинаю»189 – эту формулу мог бы повторить любой оратор античного суда. А по другой его формуле, «когда нет случайности, а есть необходимость, начинается роман»190, – и это точное повторение мысли Аристотеля, что поэзия философичнее истории, потому что свободна от случайностей. После того как в «Вазир-Мухтаре» Тынянов выместил свои чувства к истории, в «Пушкине» он начинает реконструировать психологическую подоснову пушкинского творчества – область, в которой, разумеется, никакая доказательность невозможна, а возможна лишь художественная убедительность. Статьи отходят на второй план. Знаменитая гипотеза о потаенной любви Пушкина к Карамзиной выглядит достаточно выразительно в романе и гораздо бледнее в статье; читая вводную статью к изданию Кюхельбекера в Большой серии «Библиотеки поэта», трудно поверить, что ее написал автор «Кюхли». Но роман о Пушкине был обречен на незавершенность. Детство Пушкина монтировалось из мельчайших элементов, которые откликнутся потом во взрослом творчестве поэта; но чем старше становился герой, тем скуднее оставался запас неиспользованного будущего, приходилось убыстрять темп, – смерть спасла Тынянова от решения неразрешимой задачи191.
«Беллетристика меня развратила. Раньше мне казалось очень важным как можно более глубоко и верно понять, почему Пушкин не хотел замечать Тютчева, а теперь я к этому стал равнодушен»192, – говорится в записи, опубликованной Е. А. Тоддесом в статье о незавершенных замыслах Тынянова. Первый роман Тынянова был беллетристикой, сосуществующей с наукой, второй – беллетристикой, подменяющей науку, третий – беллетристикой, дополняющей науку; но во всех трех видах над самою беллетристикой никаких экспериментов не проделывалось, по форме и «Кюхля», и «Пушкин» были похожи на другие романы тех же десятилетий, а «Смерть Вазир-Мухтара» если и выделялась, то как более подчеркнутый роман à thèse. Беллетрист вытеснил из Тынянова историка: это было, конечно, откликом на время, все более неблагосклонное к свободным трактовкам истории, но было, как мы видим, и закономерным результатом индивидуального развития. Но удовлетворить Тынянова беллетристика не смогла.
И вот здесь началось самое интересное. Тынянов-теоретик напомнил Тынянову-практику, что готовые формы в литературе неплодотворны и что литература живет только динамикой, обновлением: тем, что не-литература превращается в литературу, а бывшая литература оставляется эпигонам. Он ищет периферийных, полулитературных форм, которые могли бы вдвинуться в литературу, и находит их в малых рассказах, «записках читателя», «моральных рассказах», исторических анекдотах, записных книжках (с классическими образцами Пушкина и Вяземского в памяти), в том, что когда-то называлось «смесь»193.
Мы помним перечни замыслов, исследованные Е. А. Тоддесом в «Первых Тыняновских чтениях»: «Знаменитые опечатки», «Аноним и псевдоним», «Несколько слов в защиту Петрушки» (скоморошья общественная роль и, соответственно, скоморошьи формы и интонации новой литературы), и все это должно было получить литературный вес, пропитавшись автобиографическим, режицким и послережицким духом. (Нельзя ли сказать, что после того, как он написал из «Пушкина» книгу о детстве, вложив в нее свое детство, «Пушкин» стал ему внутренне ненужен?) В новой культурной ситуации Тынянов чувствует, что он сам становится историей, и это дает ему право, во-первых, создавать для себя формы, не считаясь с «хорошим тоном» времени, а во-вторых, расширять свою тему по аналогии на широкий круг тем «Восток и Запад» или «человек в чужом мире», – как было показано Е. А. Тоддесом. Закончим прямой цитатой из его замечательной статьи194: «он шел от положений о жанровой функции фрагмента… к попыткам ввести „записную книжку“ в собственную прозу… Располагаясь на противоположном по отношению к роману полюсе… приближаясь к границе устной словесности, к анекдоту, „совсем маленькие вещи“ могли стать для Тынянова как раз тем, что он называл „скоморошеством“».
АНКЕТА К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ю. Н. ТЫНЯНОВА195
1. Как бы Вы оценили и описали значение русской формальной школы для современного литературоведения?
Общепринятым образом: из нее вырос структурализм, а структурализм в современном литературоведении является единственным полноценным научным методом. «Вырос» – это значит, что формальная школа принижала семантические элементы художественной структуры, а структурализм считает их равноправными со всеми иными. В этом отношении из всех формалистов Тынянов был внимательнее всего к семантике и ближе всего к структурализму.
2. Какие из идей (работ) Тынянова оказали наибольшее воздействие на последующее развитие филологической науки? На Вас?
Представление о литературной динамике, в основе которой не притяжение, а отталкивание; в том числе 1) учение о смене старших и младших литературных ветвей и 2) учение о пародии (для многих скрестившееся с бахтинскими теориями комического).
3. Какие из идей Тынянова оказались невостребованными? Какие из них сохранили свой потенциал и ждут развития?
О семантике стиха и тесноте стихового ряда: об этом сам Тынянов писал расплывчато, и отклики на него хоть и часты, но малосодержательны. Идея ждет проверки точными лингвистическими методами семантического анализа (главным образом через механизм ложной («народной») этимологии).
4. Какова роль тыняновских представлений о стиховой семантике в методологии изучения стихотворного текста?
См. 3.
6196. Каково соотношение формализма и структурализма в современной филологии?
См. 1.
7. Каким представляется Вам соотношение внутринаучных и внешних (исторических, политических) факторов в судьбе формальной школы?
Внешние были второстепенны. Формальная школа оказалась в кризисе, потому что не имела ни опоры на лингвистику, ни завершения в философии. Опору на лингвистику она получила в Пражской школе, и это дало возможность формализму переродиться в структурализм. О необходимости или пользе философского самоосмысления формализма не решаюсь рассуждать; этим обычно занимается уже отжившее направление науки.
8. Что Вы думаете о Тынянове-критике? Какие его оценки литературы 1910–1920‐х годов, его прогнозы представляются Вам проницательными, а какие – не оправдавшимися?
Прогнозы по большей части не сбылись, как он и сам предполагал («закажут Индию, откроется Америка»); оценки ему приходилось подправлять на ходу (о Казине в «Промежутке»). Критерии оценок Тынянова-критика, соотношение в них формалистической теории и доформалистического вкуса – замечательно интересная тема, почти еще не разработанная.
9. Как Вы относитесь к художественной прозе Тынянова?
10. Каково место так называемого «исторического романа» XX века в истории русской прозы нашего столетия?
9–10. Очень хорошо отношусь. Исторический роман в нашем веке был по большей части развлекательной, просветительной или пропагандистской халтурой. Тынянов сделал в нем главным смещение точки зрения, ощущение исторического момента изнутри, когда «еще ничего не было решено». Наряду со «Смертью Вазир-Мухтара» в этом отношении важнее всего «Восковая персона».
11. Находились ли, с Вашей точки зрения, научная и художественная сферы деятельности Тынянова скорее в конфликтных или скорее в гармонических отношениях?
В отношениях дополнительности: художественным подходом он решал проблемы неразрешимые научным подходом, и соблазн убедительности все больше уводил его от долга доказательности. Об этом я писал в IV «Тыняновском сборнике».
13. Как Вы оцениваете современное состояние литературоведения в целом? В отдельных областях?
Кончилась культурная эпоха, огромный пласт советской литературы стал историей, и литературоведение захлебывается в новом материале.
РАБОТЫ Б. И. ЯРХО ПО ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ197
Борис Исаакович Ярхо (1889–1942) был крупной и своеобразной фигурой в литературоведении 1920–1930‐х годов. Однако имя его обычно вспоминается реже, чем имена многих его современников. Обстоятельства его жизни и работы сложились так, что основные, капитальные его исследования остались ненапечатанными198. Поэтому общая картина сделанного и задуманного им ускользала от большинства современников. А именно здесь, в широком общем замысле усовершенствования научных методов литературоведения, заключается его основная заслуга перед наукой.
Б. И. Ярхо получил образование в Московском университете, потом учился в Гейдельберге и Берлине, с 1915 по 1921 год преподавал в Московском университете, сперва приват-доцентом, потом профессором. Теория литературы не сразу стала главным предметом его занятий. Вначале он специализировался по фольклору, германистике, истории средневековой литературы (в этой области он был признанным авторитетом, его статьи печатались в зарубежных журналах, американская Академия средних веков избрала его членом). Первая большая его работа была посвящена фольклору – это «Сказание о Сигурде и его отражение в русском эпосе» («Русский филологический вестник», 1913–1916), вторая – поэзии скальдов («Мансанг» в «Сборниках Московского Меркурия», 1917). Темой своей докторской диссертации он избрал Хротсвиту, немецкую поэтессу X века, писавшую латинские драмы. Диссертация называлась «Рифмованная проза драм Хротсвиты»; Ярхо работал над ней более десяти лет, работа была закончена в двух вариантах, по-русски и по-немецки, но осталась неизданной. Исследование ритмики Хротсвиты, сложно колеблющейся между стихами и прозой, потребовало от автора разработки детальных методов статистического исследования самых различных признаков фонического строя художественной речи. Здесь были выработаны основы того, что Ярхо называл «методологией точного литературоведения». В области стиховедения, как известно, применение статистических методов было традиционным еще в классической филологии XIX века, хорошо знакомой Ярхо. Новшество Ярхо было в том, что он едва ли не первый перенес употребление этих методов на другие области литературоведения.
Серия основных теоретико-литературных работ Б. И. Ярхо относится к 1920–1930‐м годам. С 1922 по 1930 год он работает в ГАХН, где заведует кабинетом теоретической поэтики и комиссией художественного перевода; здесь ему удалось организовать небольшую исследовательскую группу (М. П. Штокмар, Л. И. Тимофеев, И. К. Романович и др.), о работе которой он всегда впоследствии упоминал с глубоким удовлетворением. ГАХН был нечто вроде клуба московской гуманитарной интеллигенции, зарабатывать приходилось на стороне. Ярхо преподавал языки и стилистику в быстро переименовывавшихся вузах того времени, работал в БСЭ, три года служил экономистом в ВСНХ, много переводил («Песнь о Роланде», «Сага о Вольсунгах», «Рейнеке-лис» Гете, пьесы Мольера и Шиллера; посмертно был издан, с досадными изменениями и без вводной статьи, перевод «Песни о моем Сиде»; до сих пор остаются неизданными переводы антологии каролингских поэтов, антологии «Видений» VI–XII веков, «Ста новых новелл»). Среди этих забот и был им написан ряд статей по ритмике русской рифмованной прозы XVII–XVIII веков (частично опубликованных), неизданные работы «Распределение речи в пятиактной трагедии», «Комедии и трагедии Корнеля», «Соотношение форм в русской частушке»; к ним примыкает небольшое исследование по истории сюжета «Юный Роланд» (Л., 1926). Работа над этими темами дала повод для систематизации и обобщения, во-первых, общеэстетических предпосылок формального исследования литературы и, во-вторых, конкретных приемов точной методики этого исследования. Первое было сделано в статьях «Простейшие основания формального анализа»199 и «Границы научного литературоведения»200 – статьях, которые заслуживают гораздо большей известности, нежели та, какой они пользуются. Второе было сделано в книге «Методология точного литературоведения» («Введение. Анализ. Синхронический синтез. Диахронический синтез») – большом исследовании (около 26 листов), подводящем итоги всему, что было сделано и намечено автором за двадцать лет работы. ГАХН был разгромлен в 1930 году, Ярхо был арестован в 1935‐м (по «делу о Большом немецко-русском словаре», захватившему немалую группу московской интеллигенции), свою книгу он писал в ссылке в Омске, а над дополнениями к ней продолжал работать до самой смерти. Книга эта осталась не издана; только небольшие отрывки появились в сборниках «Семиотика», IV (Тарту, 1969) и «Контекст–1983» (Москва, 1984). Из всех неизданных работ Б. И. Ярхо она настоятельнее всего требует опубликования – за шестьдесят лет, прошедших с момента ее написания, она нисколько не устарела. Демонстрацией развернутого применения выработанной здесь методики должно было стать большое исследование о поэтике «Слова о полку Игореве» и современных западноевропейских эпопей, оставшееся незавершенным. Б. И. Ярхо работал над ним в Курске, где он был профессором в 1940–1941 годах, и в эвакуации в Сарапуле, где он скончался от туберкулеза 3 мая 1942 года.
Исходные положения методологической системы Б. И. Ярхо, изложенные в этих работах, могут быть вкратце сведены к следующим тезисам.
Литература есть самостоятельно существующее явление объективной действительности и должна изучаться именно как самостоятельное явление, а не как отражение или выражение каких-либо внелитературных явлений (социальных отношений, психических комплексов и т. п.). Как известно, деревья, например, тоже могут изучаться как отражение или выражение чего-то постороннего, например – христианских добродетелей, и на этом основывалась вся средневековая ботаника, но науку это не сдвинуло ни на шаг.
Будучи явлением объективной действительности, литература должна исследоваться методами наук об объективной действительности – методами точных наук. Конечно, уровень точности, свойственный математическим наукам, для литературоведения недоступен; но уровень точности, например, естественных наук доступен для него вполне. Точные науки знают два основных метода исследования – наблюдение и эксперимент. Понятно, что использование эксперимента в литературоведении затруднительно (хотя и не невозможно). Поэтому основным методом литературоведения остается наблюдение. Успех его зависит от решения двух вопросов: «что наблюдать» и «как наблюдать».
На вопрос «что наблюдать» следует естественный ответ: наблюдать то, что является спецификой данного предмета. Спецификой литературы является ее эстетическая действенность, т. е. обращенность к тому (ближе не определимому) чувству человека, которое заставляет его подходить к предмету с точки зрения «красиво или некрасиво». Совокупность эстетически действенных элементов литературного произведения называется литературной формой. Эстетическая действенность каждого элемента литературного произведения вызывается его необычностью – количественной или структурной. Звук «п» в языке обычен и, следовательно, эстетически безразличен, но скопление этого звука в строке «Пора, перо покоя просит» количественно необычно, а следовательно, эстетически действенно; и оно входит в поле зрения литературоведа как явление «аллитерация». Ударные и безударные слоги в языке обычны, но правильное их чередование в той же строчке структурно необычно; и оно становится достоянием литературоведа как явление «четырехстопный ямб». Необычные звуковые формы (т. е. воздействующие на наш слух), подобные упомянутым, составляют область фоники; необычные языковые формы (т. е. воздействующие на наше мышление) – область стилистики; необычные образы, мотивы, сюжеты (т. е. формы, воздействующие на наше воображение) – область иконики или собственно поэтики. Таковы три основные области литературоведения; к ним можно добавить еще четвертую – композицию, учение об их взаимодействии. Каждая из этих областей и все они вместе могут рассматриваться как в синхроническом, так и в диахроническом аспекте.
На вопрос «как наблюдать» следует ответ: исходить из непосредственного впечатления, проверять его объективным учетом всех признаков, способных произвести такое впечатление, и выражать результаты наблюдения в виде количественных показателей. Только в таком виде результаты могут считаться доказательными. До сих пор литературоведы ограничивались первым из этих трех актов и поэтому не могли выбраться из бездны субъективизма. Исходя из непосредственного впечатления, они оперировали такими понятиями, как «цветистый стиль», «красочный», «живой» и т. п.; но, не заботясь об объективном учете признаков, они не могли вложить в эти понятия общепризнанный смысл: то, что одному казалось цветистым, другому казалось не цветистым и т. д. Между тем если мы заранее договоримся, скажем, называть «цветистым» стиль, насыщенный морфолого-синтаксическими фигурами, а «красочным» – стиль, насыщенный чувственно охарактеризованными образами и т. д., то всем этим несогласиям придет конец: достаточно будет подсчитать количество фигур в том или ином тексте, чтобы сказать, какой из них более цветистый и какой менее цветистый и насколько. Вот такое выражение качества через количество и является первоочередной задачей литературоведения, если оно хочет быть наукой, а не игрой субъективного вкуса.
Повторяем, речь идет не о том, чтобы изгнать интуицию из научного познания, но о том, чтобы изгнать ее из научного изложения. На первых же страницах своей монографии Ярхо пишет201:
Наука проистекает из потребности в знании, и цель ее (основная и первичная) есть удовлетворение этой потребности… Вышеозначенная потребность свойственна человеку так же, как потребность в размножении рода: не удовлетворивши ее, человек физически не погибает, но страдает порой чрезвычайно интенсивно… Человек интеллигентный не есть субъект, много знающий, а только обладающий жаждой знания выше средней нормы… Однако потребность в знании есть лишь бабушка науки. Матерью же является потребность в сообщении знаний. Если любознательность есть первичный биологический признак человеческой особи, то «жажда сообщений» – вторичное свойство человека, уже как ζώον πολιτικόν: иными словами, вступает в силу социальный момент. И наука, дочка этой потребности, есть в первую очередь социальный акт. Действительно, никакого научного познания (в отличие от ненаучного) не существует: при открытии наиболее достоверных научных положений интуиция, фантазия, эмоциональный тонус играют огромную роль наряду с интеллектом. Наука же есть рационализированное изложение познанного, логически оформленное описание той части мира, которую нам удалось осознать; т. е. наука – особая форма сообщения (изложения), а не познания. Задача этого изложения – нахождение общего, объективного языка, так как логика считается наиболее однородной психической функцией людей. Наряду с нею высокой степенью однородности обладают и ощущения: большинство красное видят красным, полынь называют горькой. Потому-то базой объективного языка являются чувственный показ и логическое доказательство… Для меня наука – это система доказательств, рационализированный язык, и я мечтал превратить свою науку, литературоведение, именно в такую систему.
Таким образом, статистика для Ярхо – никак не самоцель, а лишь средство дисциплины мысли, в котором литературоведение очень нуждается. «Я должен сказать, что меня особенно возмущала у нас, литературоведов, эта saloperie в обращении с выводами из порой чрезвычайно тщательно собранного материала. Я сейчас краем ока присмотрелся к метеорологии. Какой контраст! Какая точность обработки в высшей мере приблизительных, произвольных и поверхностных наблюдений! Какое щегольство разнообразными методами записи и учета! Если бы мы проявляли десятую долю этой тщательности и тратили сотую долю этих средств – наша наука могла бы поспорить с любой другой» (ед. 41, л. 30). «Кладя количественный учет и микроанализ в основу исследований, я только предлагаю сделать для литературоведения то, что полтораста лет назад сделал Лавуазье для химии, и не сомневаюсь, что результаты не заставят себя ждать» (там же, л. 1).
Квантификация эстетического впечатления – в этом пафос всей теоретико-литературной работы Б. И. Ярхо. Вот мелкий, но наглядный пример. В бумагах ученого (ед. 83) сохранился лист, озаглавленный «Программа исследования синтаксической границы стиха». Историю этой программы Ярхо мимоходом описывает в «Методологии» (ед. 41, л. 35). Ему случилось поспорить с одним ленинградским «профессором нормальной дикции»: какая пауза сильнее в лермонтовском стихе: «Белеет – парус одинокий» или «Белеет парус – одинокий»? Ярхо утверждал, что первая, оппонент – что вторая. Обычно такие споры обходятся без аргументов. Ярхо стал аргументировать. Первая пауза в спорном стихе разделяет подлежащее и сказуемое, вторая – определяемое и определение. Очевидно, более сильной из этих двух синтаксических пауз будет та, которая чаще совпадает с самой сильной из ритмических пауз стиха – концевой. Ярхо составляет перечень всех типов синтаксических пауз, возможных в конце стиха; таких типов оказывается 5 (а с подтипами – 10): 1) между предложениями, 2) между подлежащим и сказуемым, 3) между глаголом и дополнением или обстоятельством, 4) между существительным и определением или приложением, 5) прочие случаи – обращение, вспомогательные частицы. И затем он подсчитывает, как часто каждая из этих 5 пауз совпадает с концом стиха; материал – первые сотни стихов из пяти текстов: «Дракон» А. К. Толстого, «Домик в Коломне» Пушкина, «Боги Греции» в переводе Бенедиктова (5-стопный ямб), «Руслан и Людмила», «Медный всадник» (4-стопный ямб). Результат – таблица (все цифры – в процентах):

Материал для ответа на исходный вопрос получен: тип «Вот уж на море белеет / Парус одинокий» встречается в среднем вшестеро чаще, чем тип «Вот уже белеет парус / Одинокий в синеве…». А заодно впервые получены числовые данные для освещения такого важного вопроса, как анжамбман (ср. цифры «Медного всадника» и остальных текстов). Эти цифры требуют дальнейшего уточнения и проверки – и на листе записывается план «разрезов» последующей работы: как меняется распределение типов концевых пауз по авторам, по размерам, по строфике, по жанрам… Так из случайного спора о декламации вырастает продуманный план исследования большой и важной темы: ритм и синтаксис. В 1929 году Ярхо собирался осуществить такое исследование силами своей группы в ГАХН, но в 1930 году ГАХН был расформирован, и работа не состоялась.
Б. И. Ярхо строил общий план своих занятий так, чтобы постепенно испробовать свой метод на всех областях литературоведения.
В области фоники это позволило ему детально изучить ряд сложных форм, переходных между стихом и прозой, как на русском, так и на иноязычном материале. Подробно останавливаться на этих работах в настоящем обзоре излишне: во-первых, потому, что большая часть их опубликована202; во-вторых, потому, что в области стиховедения успешное применение статистических методов (одним из пионеров которых был Б. И. Ярхо, начинавший свои работы независимо не только от Б. Томашевского, но и от А. Белого) давно уже перестало быть новинкой.
В области стилистики наиболее эффектным результатом применения нового метода может служить анализ фигурации «Песни о Роланде» во вводной статье к переводу Б. И. Ярхо (М., 1934). До этого ходячим мнением было, что стиль «Песни…» беден словесными украшениями и что он сух, прост и немногословен. Подсчет показал, что оба эти утверждения неверны: число «словесных украшений», т. е. стилистических фигур, составляет около 20% от числа стихов, что не так уж мало (в «Песни о Сиде» – только около 11%); и среди этих фигур большинство (60–65%) составляют фигуры плеонастические – таким образом, стиль «Песни…» не сух, а, наоборот, принципиально многословен. Традиционное мнение о скудости и сухости восходило к суждениям больших ученых, у которых «чувство языка» было заведомо не менее развито, чем у Ярхо; из этого ясно видно, что победу в контроверсе одержало не превосходство таланта исследователя, а превосходство его метода – статистического над интуитивным.
В области иконики на низших уровнях – образ, мотив, сюжет – Б. И. Ярхо работал сравнительно мало. Можно отметить разве что выразительное сравнение воинской топики в «Песни о Роланде» и «Песни о Сиде»: при почти одинаковом объеме поэм в «Роланде» мы находим 76 боевых схваток (из них 46 единоборств), а в «Сиде» – 25 схваток (из них только 5 единоборств): динамика «Сида» держится не на схватках, а на переездах (в «Роланде» место действия меняется только 18 раз, в «Сиде» же – бессчетно). Можно отметить также любопытный анализ чувственной окраски образов: статистику цветов в пяти средневековых эпопеях. В «Сиде» использованы только три цвета и цветовые эпитеты составляют только 0,024% текста (от числа слогов); «Беовульф» соответственно дает 7 и 0,053; «Слово о полку Игореве» – 9 и 0,433; «Роланд» – 10 и 0,217; «Нибелунги» – 11 и 0,065. Что богатство палитры возрастает от полуварварского «Беовульфа» к куртуазным «Нибелунгам» – это, быть может, и можно было предсказать априорно (хотя место «Сида» и здесь неожиданно); но что автор «Слова» вшестеро щедрее пользовался своими девятью цветами, чем автор «Нибелунгов» своими одиннадцатью, – это вряд ли способна подсказать самая тонкая интуиция.
В области иконики на высших уровнях – эмоциональная и идейная концепция произведения – Б. И. Ярхо, напротив, работал очень много и в формализации этих трудных объектов достиг больших успехов. Достиг он этого благодаря высокой строгости при выделении предмета исследования. Эмоциональная концепция (трагизм, оптимизм и проч.) выводится только из сентенций, содержащихся в тексте, причем прежде всего – в авторской речи, а отнюдь не из собственных интерпретаций исследователя. «Правила» выявления идейной концепции, сформулированные Ярхо в его «Методологии» (ед. 41, л. 249–251), заслуживают того, чтобы процитировать их полностью.
Для меня важно показать, что работу по нахождению доминирующей идеи или эмоции можно было бы поставить иначе, чем это делается сейчас. Обычно, в лучшем случае, «исследователь» берет наугад какую-нибудь сентенцию из своего объекта, подвергает ее произвольной экзегезе, подгоняет под нее несколько важных мест из сюжета, а затем восхищается, как это «все» (!) в стройном целом «подчинено одной идее». Если бы такой скорострельный интуитивист произвел анализ, который он так презирает (не любят люди работать), то он увидел бы, к чему свелось бы это «все». Но это, как сказано, – еще лучший случай: нередко «ученый» сам примышляет идею к произведению, а затем уже без всяких околичностей объявляет ее господствующей, размер и смысл превосходно с нею согласованными (каким образом?) и т. д., и т. д.
Я предлагаю ввести эту работу в более строгие рамки, для того чтобы выяснить какие-то реальные, а не фиктивные отношения.
Предпосылки: 1. Идея не обязательно является основным признаком (доминантой) в общей структуре комплекса. 2. Идею можно считать концепцией, если она превосходит по количеству обнимаемого ею образного материала все другие идеи того же комплекса. 3. Она будет доминантой, если охватывает больше 50% всего словесного материала (выраженного в цифрах какого-нибудь объемного знаменателя). 4. Концепция может быть сложной, идейно-эмоциональной, т. е. один и тот же материал может выражать и идею, и эмоцию… 5. Идея должна быть expresses verbis выражена в тексте произведения: только тогда можно сказать, что она в нем наличествует. Выводить ее путем произвольной экзегезы – бесплодное занятие.
Метод: 1. Приступать к взвешиванию концепции следует лишь после достаточно детального анализа поэтики данного произведения (иконики, топики, сюжета). 2. Взвешивать нужно не одну идею, а все идеи, ясно сформулированные в исследуемом тексте. Если какая-нибудь идея явственно эпизодична, т. е. связана со словесным материалом ничтожного объема (случайно процитированная пословица, мнение второстепенного персонажа, ничем в дальнейшем не подтвержденное, и т. п.), то ею можно пренебречь. 3. Брать нужно идею только в тех выражениях, в каких она дана автором. Ни в коем случае нельзя парафразировать ее наобум; но можно дополнить ее из другого варианта, имеющегося в том же тексте. Отнюдь нельзя безоговорочно переносить идеи из одного произведения того же автора в другое. 4. Идею брать только в контексте. Если, например, идея выражена антагонистом автора и постоянно опровергается ходом действия и репликами других персонажей, то, очевидно, доминантным является отрицание этой фигуры, а не она сама. 5. Для взвешивания нужно подсчитать слова и неделимые выражения, относящиеся к идее… 6. Внесюжетные мотивы (т. е. глагольные выражения), относящиеся к идее, включаются в общую топику как существительные и прилагательные, причем глагол с дополнением или адвербиалом считается за одну единицу. Например, такими единицами к идее «богатство – высшее благо» могут служить: «нажил богатство», «сумел разбогатеть», «продал выгодно». 7. Сюжетные мотивы подсчитываются отдельно. Может оказаться, что образы в большинстве относятся к одной концепции (например, к панегирику воинской доблести), а ход действия – к другой (например, к утверждению власти судьбы), тогда в синтезе будут стоять две доминанты: одна для идеологии, другая для тематики. 8. Полученное число единиц надо взвесить на каком-нибудь объемном знаменателе.
Образцом такого подхода может служить анализ идейной концепции «Песни о Роланде». В пору работы Ярхо существовали две теории: более старая утверждала, что «Песнь…» сложилась в военной среде, более новая – что в духовной среде. Ярхо примкнул к старой теории, но впервые подтвердил ее подсчетом, сравнив «Песнь…» с более поздней (конрадовской) обработкой того же сюжета, заведомо клерикального происхождения; оказалось, что христианская топика (т. е. все стихи, из которых видно, что автор поэмы – христианин) в «Песни…» занимает около 10% стихов, в клерикальной обработке – около 20% стихов, разница – вдвое. Таким образом, идеология «Роланда» в основном светская, рыцарская. Мало того: с помощью подсчетов можно уточнить и оттенок, и концентрацию этой идеологии. Если выделить только три ее элемента – «храбрость», «воинская честь» и «патриотизм», – то лексика, относящаяся к ним, будет в «Роланде» составлять соответственно 0,29, 0,24 и 0,12% текста (по числу слогов); в «Сиде» – 0,14, 0,07 и 0%; в «Беовульфе» – 0,48, 0,48 и 0,08%; в «Слове о полку Игореве» – 0,82, 0,82 и 0,40%. Из этого ясно видно, во-первых, что по концентрации воинской идеологии «Роланд» превосходят «Сида», но далеко отстает от «Слова…», и, во-вторых, что по патриотической окрашенности все три западные эпопеи не идут ни в какое сравнение со «Словом…». «Это и есть математическое выражение идейной специфики», – заключает Ярхо (ед. 49, л. 10). «Так, применяя точные методы исследования, мы получили право говорить о „чувстве, которым проникнута вся поэма“, об „идее, управляющей всеми действиями героев“, и т. п. высокие слова, которые я вовсе не собирался устранять из литературоведения, но в которые я только хотел вложить конкретный смысл. Кроме того, подобные слова часто говорятся на ветер, и если читатель приучится требовать цифровых подтверждений, то охота швыряться громкими фразами постепенно пройдет» (ед. 41, л. 54)203.
Все сказанное относилось к отдельным областям литературоведения. Вопрос о взаимодействии этих областей между собою понятным образом гораздо труднее поддается точному исследованию. Однако и в этом направлении были предприняты первые шаги. В статье «Соотношение форм в русской частушке»204 стилистика частушек – именно, фигуры повторения – изучалась в связи с их фоникой и тематикой. Оказалось, что рифмующиеся строки частушки реже соединяются фигурами повторения, чем нерифмующиеся, и что общественно-политические частушки беднее фигурами, чем любовные: перед нами закон компенсации, фоническое и тематическое богатство как бы возмещаются стилистической бедностью. В статье о сербских тужбалицах долгого стиха205 ставился вопрос, повтор ли в этих песнях порождает аллитерацию или аллитерация порождает повтор; и так как подсчет показал, что повтор без аллитерации не существует, а аллитерация без повтора существует в 70% случаев, то первичной приходилось признать аллитерацию. (Однако связь эта не причинная, педантически настаивает Ярхо, так как, например, в древнегерманском стихе такая же аллитеративная фоника породила не стиль повторов, а стиль синонимии и метафор.)
Если же не вдаваться в сложный вопрос о взаимодействии различных элементов формы, а говорить лишь об их сосуществовании, то здесь перед статистическим методом открываются огромные возможности. Ведь не чем иным, как комплексом таких разнородных, но сосуществующих признаков, являются понятия литературного жанра и литературного направления.
Поэтика жанра была подробно исследована в работе Ярхо «Комедии и трагедии Корнеля». Общепризнанным считается, что комедия отличается от трагедии большей живостью, большей насыщенностью действием, большей обыденностью чувств и мыслей персонажей и т. д. «Большей» – это так, но насколько большей? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно наполнить конкретным содержанием каждое из этих понятий. «Живость» – это, по-видимому, частота обмена репликами; следовательно, показателем живости будет отношение числа реплик к числу стихов в пьесе; и действительно, для трагедий Корнеля это соотношение будет 0,150, а для комедий – 0,276. От живости следует отличать связность – степень той необходимости, с которой одна реплика влечет за собой другую. Показателем фонетической связности будет отношение реплик, обрывающихся на середине стиха или двустишия, к общему числу реплик (в трагедии 67%, в комедии – 77%); показателем стилистической связности могло бы служить аналогичным образом отношение числа реплик, связанных вопросом и ответом, анафорами, антитезами и проч., к общему числу реплик. Насыщенность действием – это процент персонажей, которые сами действуют в своих интересах (в трагедии – 37%, в комедии – 54%: в трагедии высокие персонажи чаще перепоручают свои действия другим); это число «моментов действия» (понятие, вводимое Б. И. Ярхо) на один персонаж (в трагедии – 2,6, в комедии – 4,2); это число физических действий (убиений, объятий и проч.), указанных в репликах или ремарках, на одну пьесу (в комедии этот показатель в 1,9 раз выше); это отношение предзавязочной экспозиции к общей длине пьесы (в комедии этот показатель в 2,7 раза выше: завязка наступает быстрее); это отношение числа действий на сцене к числу действий за сценой (в комедии, не знающей речей «вестников», этот показатель в 16 раз выше!). Разница в характере чувств явствует, во-первых, из того, что лиц, действующих из побуждений обмана, в комедии мы находим 49%, а в трагедии – 12%; действующих из ревности – соответственно 25% и 10%; действующих из доблести – 13% и 32%; действующих из патриотизма – 0% и 15%; и, во-вторых, это явствует из того, что лексика любви, радости, хитрости и лексика страха, горя, доблести, ненависти (около 160 слов, около 4000 случаев употребления) относятся в трагедии как 31:69, а в комедии как 64:36 (при этом показатель трансгрессии для первой группы 15%, для второй – 39%, т. е. чаще комический персонаж несет трагическую окраску, чем наоборот). И, наконец, разница в характере мыслей между трагедией и комедией явствует хотя бы из тематики сентенций, произносимых действующими лицами: такие темы, как государство и общество, кровные узы, горе и страх, время, составляют в сентенциях трагедий 61%, а в комедиях полностью отсутствуют; такие темы, как любовь и брак, религия, преступление, доблесть, судьба, наличествуют и в трагедиях, и в комедиях, но в первых составляют 39%, а в последних – 78%; наконец, такие темы, как радость и счастье, обман и ложь, богатство и бедность, литература и искусство, представлены только в комедиях и составляют в них 22% всех сентенций.
На первый взгляд все эти данные могут показаться тривиальными: ведь и без подсчетов известно, что трагедия отличается большей возвышенностью, а комедия – большей живостью и т. д. Но если вспомнить, какое множество в мировой литературе пьес, занимающих промежуточное положение между типичными трагедиями и типичными комедиями, и как важно бывает установить их тяготение к тому или другому жанру, то станет ясно, насколько здесь необходимо иметь твердые «точки отсчета» – характеристики жанров в наиболее чистом виде. Разумеется, полученные цифры характерны для системы жанров только одной эпохи: классицизма. Но ничто не мешает вывести такие же характеристики и для других эпох. И это уже будет переходом к следующей проблеме – поэтике литературных направлений.
Поэтике литературных направлений посвящена работа Ярхо «Распределение речи в пятиактной трагедии». Это разведка по узкому фронту: из 30 признаков, по которым сравнивались трагедии и комедии, здесь выбраны только четыре: А – процент явлений с 1, 2, 3… говорящими (монологов, диалогов, трилогов…); Б – единообразие этого процентного распределения в пьесах каждого периода (сигма); В – среднее число явлений в пьесе (коэффициент подвижности действия); Г – число действующих лиц в пьесе. Материал был ограничен четырьмя периодами: классицизм XVII века (24 трагедии двух Корнелей, Расина, Кино и др.), классицизм XVIII века (80 трагедий Вольтера, Кребильона, Сумарокова, Лессинга, Альфьери и др.), ранний романтизм (15 трагедий Клейста, З. Вернера, Шиллера), поздний романтизм (22 трагедии Грильпарцера, Кернера, Гюго, Виньи и др.); в качестве сравнительного материала привлекались еще 45 трагедий от Еврипида до Байрона и Геббеля. Показатели были получены следующие (в левой половине таблицы; для признака А взят показатель самого частого типа явлений – процент диалогов):

Перед нами закон волнообразного развития: максимальная скованность классиков сменяется максимальной свободой ранних романтиков, а у поздних романтиков начинается новый возврат к строгости; если перед началом кривой сводных показателей (что это такое, об этом – ниже) добавить показатель предыдущего периода, 18,2 (ранний Корнель), а после конца ее – показатель следующего периода, 93,0 (неоромантизм Геббеля, Граббе, Иммермана), то волнообразный характер кривой обнаружится еще яснее. («Смену волн познай, что в жизни человеческой царит» – этот стих Архилоха Б. И. Ярхо взял эпиграфом к своей работе.) Наблюдение волнообразности в смене литературных эпох (готика – Возрождение – барокко – классицизм – романтизм – реализм) далеко не ново, но числовое выражение (хотя бы по малому признаку) для него предложено впервые. Статистика позволяет сделать и более тонкие наблюдения. Так среднее распределение явлений с 1–2–3–4–5 говорящими у классиков XVII века – 10–70–16–3–1; в частности, у Корнеля 8–67–20–4–1, а у Расина – 13–73–11–2–1. Иными словами, оба классика в равной мере отклоняются от средних величин, но отклоняются в противоположные стороны: Расин предпочитает монологи и диалоги, Корнель – трилоги и тетралоги; для нас сходство между писателями яснее, чем разница, но для современников, охотно противопоставлявших Корнеля Расину, разница была яснее, чем сходство.
Проблема смены литературных направлений сама собой переходит в общую проблему литературной динамики. Б. И. Ярхо и здесь предлагает путь квантификации. Как выразить в цифрах общий темп изменений от эпохи к эпохе, от классицизма к романтизму? Для этого нужно вывести сводные показатели для всех разбираемых признаков, не смущаясь их разнородностью (ибо невозможно доказать, например, что процент диалогов – признак более, или менее, приметный, чем количество явлений). Делается это так (см. правую половину таблицы): минимальный показатель каждого признака обозначается через 0, максимальный – через 100, промежуточные выражаются в процентах этого диапазона, и из этих процентных показателей каждого признака внутри данного периода выводится среднее арифметическое, показывающее место этого периода на пройденном участке эволюционного пути. А после этого уже легко определить историческое место любого писателя в своей эпохе. Если, скажем, некоторый автор в конце XVIII века дает сводный показатель 70, то очевидно, что он ближе к ранним романтикам, чем к поздним классикам, а именно, что из расстояния, разделяющего их показатели (16,6 и 100), он покрыл около 64%. Эту величину можно назвать коэффициентом прогрессивности данного писателя, т. е. показателем его склонности к нарождающимся, а не отживающим формам. Еще проще могут быть количественно учтены такие изменения, как обогащение или обеднение метрического репертуара (например, от Пушкина к Лермонтову), репертуара стилистических фигур, круга использованных образов и мотивов (например, от ранних к поздним обработкам сюжета «Песни о Роланде») и проч. А при выявлении источников произведения должен быть прежде всего выделен процент метрических, стилистических, иконических форм, имеющих соответствие в каждом из предполагаемых литературных источников, и лишь после этого можно возводить оставшиеся элементы к внелитературным, жизненным источникам. Что литературный источник первичен, а жизненный – вторичен, должно быть для литературоведа аксиомой. Утверждать противное (поясняет Ярхо своим излюбленным биологическим сравнением) – это все равно что утверждать, будто человек возникает из молока, каши, булки и говядины: конечно, без всего этого человек жить не может, как и литература не может жить (не вырождаясь в эпигонство) без притока жизненных материалов, но возникает человек все же не из пищи, а из человеческих же семенных клеток. (Напомним, впрочем, что в основном своем исследовании по литературной генетике, в «Юном Роланде», Ярхо доказывает, вопреки традиции, как раз не литературный, а внелитературный исток исследуемого сказания.)
Упомянув о «коэффициенте прогрессивности», мы коснулись последней из проблем традиционного литературоведения – проблемы оценки. Для Ярхо эта проблема вообще не входит в область научного познания и остается в области критики. Если Белинский считал Пушкина хорошим писателем, а Писарев – плохим писателем, то эти суждения очень много дают для понимания Белинского и Писарева и очень мало – для понимания Пушкина. Можно и деревья расклассифицировать на красивые и некрасивые, но что это даст для ботаники? Однако полушутя-полусерьезно он допускал, что когда-нибудь можно будет квантифицировать и понятие таланта. Понятие таланта можно разложить на понятие богатства используемых форм (метрических, стилистических, иконических) и понятие их оригинальности. Первое доступно подсчету уже сейчас, а второе будет количественно выразимо тогда, когда мы составим для каждой эпохи частотный каталог форм и сможем обозначить оригинальность каждой формы (рифма «любовь – кровь», метафора «любовь – пламень», идея «любовь сильнее смерти» и т. д.) величиной обратной ее частоте; вот и все.
Целью литературоведения для Ярхо была не оценка, не ответ на вопрос «хорошо или плохо?», а ответ на вопрос «что и как?» – исчерпывающая сводка статистически обработанных сведений о репертуаре поэтических форм всех времен и народов. Он планировал работы самого широкого масштаба, например серию справочников по метрике, стилистике и иконике русской поэзии (метрический справочник по Пушкину был издан, по Лермонтову – подготовлен к печати) или историю филиации и миграции любовной топики в европейской поэзии от раннего латинского средневековья до высокого Возрождения. На возражения, что эти темы не по силам одному человеку, он отвечал, что время исследователей-одиночек во всех науках уже отошло в прошлое, а для небольшой исследовательской группы такая тема – дело года-двух, не более. Но условия научной работы в 1930‐х годах сложились так, что эти планы остались нереализованными.
Б. И. Ярхо называл свой метод «формальным методом». Но в отличие от «опоязовских» формалистов он считал этот метод не революцией в науке, а, наоборот, прямым развитием позитивистской методологии XIX века. Эту методологию, целью которой было отыскание объективной истины, он полемически противопоставлял современной методологии, подменявшей объективную истину или субъективной убежденностью, или злободневной полезностью. Соответственно, полемику вести приходилось на два фронта: во-первых, против «органической поэтики» интуитивизма (защищавшейся в ГАХН, например, Г. Шпетом и М. Столяровым) и, во-вторых, против социологического литературоведения 1920–1930‐х годов (в лице П. Когана, В. Фриче и др.). Приведем любопытную характеристику «органической поэтики», не потерявшую актуальности и посейчас: «Нередко мне приходилось слышать из уст людей, твердо стоящих на точке понимания литературоведения как общедоступной болтологии, что анализирование незаконно, что нельзя-де „живой организм“ поэтического произведения… разлагать на части, дробить целостный продукт вдохновения и т. д., и т. д. Они предлагают „исходить из целого“, определить сразу (интуитивно, т. е., попросту сказать, без затраты труда и времени) „сущность“, „ядро“, „доминанту“… Но каждый раз, как такой дедуктивист дает свое определение „сущности“, он только выхватывает один признак из многих и произвольно считает его основным, ибо для доказательства доминирующего характера этого признака у него нет решительно никаких средств: не проанализировав комплекса, он не знает других его признаков и не может судить о том, насколько они важнее или несущественнее, чем выхваченная им черта. Кроме того, абстрагируя один признак, он сам анализирует, только делает это неполно и плохо» (ед. 41, л. 77).
Социологическую же поэтику Ярхо упрекал за ее постоянное стремление прямолинейно объяснять более известное через менее известное – литературу через классовое сознание. Путь исследования должен быть противоположным: от отдельного памятника, через отдельного писателя, через реальную культурную среду знакомых людей (трубадуры, скальды, двор Людовика XIV, пушкинский Петербург – то, что Ярхо называет «литературной экологией») к культурной среде все более широкой и все менее определенной; и при этом не забывая, что культурная среда и классовая среда – далеко не одно и то же. Конечно, писатель пишет в расчете на читателя, но их отношения – это не «социальный заказ», а «социальный сбыт»; читающее общество – не заказчик, точно указывающий мастеру все черты требуемого изделия, а свободный потребитель, которого сплошь и рядом привлекает к витрине именно неожиданность и необычность товара. Литературные работы на заказ бывают, но обычно это «газетно-трафаретная трескотня»; а чтобы «заказать» «Евгения Онегина», заказчик должен сам обладать талантом Пушкина.
Позитивистские предпосылки методологии Б. И. Ярхо полностью объясняют его слабые стороны, достаточно ясно видные из всего вышесказанного: ее описательность, механицизм, биологизм. Ярхо видит в литературном произведении прежде всего сумму атомарных приемов, совокупность независимых друг от друга элементов формы. Понятие структуры он охотно принимает (в его рукописях мы находим даже любопытное приближение к понятию порождающей модели), но понятие организма ему ближе, и аргументация биологическими аналогиями – его излюбленный прием. Проблему динамической связи признаков он не отрицает, но на практике обычно подменяет ее проблемой статистической пропорции признаков (чтобы говорить о пропорциональной связи, оправдывается он, нужно точно разделять причину и следствие, prius и secundum, а это возможно лишь при диахроническом анализе и почти никогда – при синхроническом). Рубежи литературных категорий он отмечает механически: если в тексте какой-нибудь признак дает более 50% ритмического повторения, то перед нами стихи, если менее 50%, то проза (хотя очевидно, что в одних стиховых культурах для этого достаточно и 10%, а в других недостаточно и 90% ритмического повторения). И когда Ю. Тынянов утверждает, что метрическое положение слова придает ему новое семантическое содержание, Ярхо скептически просит сформулировать: какое именно?
Однако все это не умаляет положительных сторон методологии Б. И. Ярхо – ее требования совершенной точности и непреложной доказательности каждого утверждения. Б. И. Ярхо хорошо понимал, что без исчерпывающего анализа рискует быть произвольным всякий синтез, структурный – в такой же мере, как и любой другой. Для того чтобы избежать этой произвольности, он и развертывал свою программу статистической дисциплины. Все его грандиозные литературно-описательные предприятия – не самоцель, а лишь подготовка материала для будущих обобщений. Некоторые из этих обобщений предвиделись с первых же этапов работы: закон компенсации, закон волнообразных изменений; большинство других приходилось оставлять на долю будущих исследователей.
Методологическая революция в науке дала в руки ученых гораздо более тонкие и диалектичные методы, чем те, которые были в распоряжении Ярхо. Но для применения метода нужно располагать соответственно разработанным материалом. Литературоведение отстало от других наук: должным образом формализованным материалом оно не располагало (исключение представляла лишь скромная область стиховедения). А без этого структурный метод в литературоведении грозит выродиться в такое же жонглирование произвольно выхваченными фактами, как и его предшественники. Современный структурализм прав, когда подчеркивает, что прием есть не факт, но отношение факта к фону, на который он проецируется, что отсутствие приема может быть действеннее, чем его наличие. Но это значит, что для констатации приема мы должны знать фон так же хорошо, как факт: чтобы оценить «минус-приемы», скажем, Пушкина, нужно иметь исчерпывающую картину «плюс-приемов» предшествующей эпохи. Такой картины у нас нет, а она необходима: индексы по поэтике отдельных авторов так же незаменимы для литературоведения, как авторские словари – для языкознания. Работа в этом направлении потребует еще немало сил от исследователей, и в работе этой еще не раз им будет полезен опыт Б. И. Ярхо.
P. S. Две черты поражали современников в Б. И. Ярхо: феноменальная эрудиция и фантастическая энергия и работоспособность в самых малоприспособленных условиях. Когда брат его, Г. И. Ярхо, переводил «Гаргантюа и Пантагрюэля» и вставал в тупик перед темными местами и трудными реалиями, то Б. И. из ссылки, без книг, посылал ему разъяснения, и даже с рисунками. В двадцать пять лет, готовясь к приват-доцентуре, он привез из‐за границы запас материала для восемнадцати спецкурсов; разработан этот материал был так, что упомянутые его исследования «Мансанг» и «Юный Роланд» представляли собой лишь по одному разделу из двух таких курсов. После ссылки, обращаясь в Наркомпрос с просьбой предоставить ему работу, он перечислял свои специальности: средневековая литература латинская, французская, провансальская, немецкая, англо-саксонская, староскандинавская; стилистика, метрика, поэтика, русский и славянский фольклор, сербохорватская литература, история и теория драмы; «кроме того, я перевожу приблизительно с 20 (новых и старых) славянских, германских и романских языков». (Работы пришлось ждать год.) Свои научные идеалы он не абсолютизировал: как отжила средневековая наука, сводившая все в мире к добру и злу, так отживает наука нового времени, сводящая все к истинности и ложности, различить которые человеку тоже не дано. «Меня спросят, почему же я построил свою „Методологию“ на принципе, которому не суждено никакого будущего?.. На это я отвечу так: во-первых, я строил из своего „я“, насквозь пропитанного гипертрофированным чувством истинности и справедливости; во-вторых, я полагаю, что нашим „наукам об истине“ еще суждено пожить; а если нет, то пусть моя теория будет лебединой песней старого „филалетского“ литературоведения».
О Ю. М. ЛОТМАНЕ 206
Есть две книги в русской научной литературе, посвященные теории стиха, но чаще вспоминаемые не теоретиками стиха, а теоретиками литературы широкого масштаба. Это «Проблемы стихотворного языка» Ю. Н. Тынянова (1924) и, через сорок лет, «Лекции по структуральной поэтике: Введение. Теория стиха» Ю. М. Лотмана (1964). Материалы второй книги вошли потом, с небольшой доработкой и большими дополнениями, в две позднейшие работы Ю. М. Лотмана: для специалистов «Структура художественного текста» (М., 1970, с приложением обширного раздела о композиции), для широкого читателя – «Анализ поэтического текста: Структура стиха» (Л., 1972, с приложением образцов разбора стихотворных текстов). Можно считать, что содержание их стало усвоенным достоянием русской науки. И все-таки где реже всего можно встретить ссылки на них, так это именно в стиховедческих исследованиях. Это несмотря на то, что стиховедение, и особенно русское стиховедение, во многих отношениях – самая развитая область литературоведения. Оно изучает метрику и ритмику стиха очень формализованно, используя математические методы, оно способно к очень широким обобщениям и доказательно в своих утверждениях. Но когда оно выходит за рамки метрики, ритмики, рифмы и строфики, оно сразу теряет уверенность: его замечания о связи явлений стиха с явлениями стиля и образного строя осторожны и приблизительны. Критики охотно пользуются этим, чтобы укорить стиховедение в формализме и самозамкнутости.
На самом деле это не так. Просто те единицы стиха, с которыми имеет дело стиховедение, – звуки, ударения, словоразделы – гораздо легче поддаются формализации и обработке объективными методами, чем единицы высших уровней. Легко подсчитать, сколько в «Полтаве» ударений на третьей стопе ямба, но легко ли сказать, сколько на этой стопе образных, т. е. чувственно окрашенных, слов и какая часть их ощущается как положительно оттененные, какая – как отрицательные и какая – как нейтральные? И чем состав этих образов («художественный мир») отличается от состава образов на другой стопе? А пока мы не научились делать такие подсчеты, никакая научная доказательность в этой области невозможна.
Между тем именно эта область – область семантики стиха – представляет собой главный предмет исследования и Ю. Н. Тынянова, и Ю. М. Лотмана. Пока невозможна доказательность – бывает возможна убедительность: пока нет сквозной проработки огромных масс материала и нет методики, доступной даже для машины, – возможны наблюдения и обобщения, которые талантливый исследователь делает на свой страх и риск, пролагая дорогу и предлагая их для проверки продолжателям. Тынянов и Лотман далеко опередили свое научное время. Они наметили очертания той теории поэзии, в которую должна вписываться теория стиха.
Самое главное и трудное в этой теории поэзии – относительность. Поэтика структурализма – это поэтика не изолированных элементов художественной системы, а отношений между ними. Вероятно, не представило бы труда сделать список всех существительных, находящихся на третьей стопе 4-стопного ямба «Полтавы», и отделить среди них предметы («образы») от отвлеченных понятий, а может быть, даже составить обычными лексикографическими приемами частотный словарь-тезаурус для каждой стопы: «мир в целом», «природа неживая», «природа живая» и т. д. Но вот перед нами слово «роза». Какая в этом образе преобладает чувственная окраска: цвет или запах? Не сказать, пока не рассмотришь контекст, – да и то не всегда это возможно. Больше того: имеем ли мы право однозначно записывать эту «розу» в тезаурусную рубрику «живая природа», если видим, что в тексте она выступает преимущественно как символ любви? и какой любви – земной или небесной? Вопросы множатся, и для ответа на каждый необходимо пересматривать отношения слова «роза» с другими элементами стихотворения – со всеми словами того же семантического гнезда, со словами аллитерирующими, со словами в той же позиции стиха (например, в рифме) и т. д. Число таких отношений почти бесконечно: выделить из них подлежащие статистическому учету – задача непосильной пока трудности.
А это еще не все. Кроме внутритекстовых отношений, есть еще внетекстовые, – об этом Ю. М. Лотман не устает напоминать. Каждое слово в стихотворении воспринимается не только на фоне всех других слов в стихотворения, но и на фоне всех других поэтических (и непоэтических) употреблений этого слова, хранящихся в памяти читателя. И если внутритекстовые отношения, напрягшись, когда-нибудь и можно будет взять на учет, то внетекстовые отношения в их полном объеме – т. е. потенциально со всей мировой литературой – абсолютно недоступны для полного учета.
Для полного учета недоступны, но для выборочного – доступны, и это дает неожиданную надежду на научную формализацию нашего трудного материала. Если мы возьмем представительную выборку русской и европейской поэзии, которая была в поле зрения современников Пушкина, – выборку очень большую, но не бесконечную, – и подсчитаем в ней пропорции несомненных случаев, когда роза упоминается как ботанический объект и как символ любви земной или небесной, то мы сможем сказать, с какой приблизительной вероятностью читатель пушкинского времени, встречая в тексте Пушкина слово «роза», априорно воспринимал его как символ или не как символ. А потом на этот исходный смысл будут накладываться оттенки, привносимые внутритекстовыми отношениями. Ведь и в классическом стиховедении, изучающем метрику и ритмику, все его громоздкие подсчеты – не самоцель, а средство определить читательское ожидание при восприятии стиха. Если читатель привык, что на третьей стопе 4-стопного ямба ударение чаще отсутствует, чем присутствует, то частое появление такого ударения он воспримет как значимое отклонение от среднего, т. е. как эстетический факт. Точно так же если он привык встречать розу в стихах только как символ, то появление в них розы как только ботанического объекта (например «парниковая роза») он воспримет как эстетический факт. Мера этих ожиданий и определяется подсчетами. Распространить методику таких подсчетов с уровня ударений и словоразделов на уровень образов и мотивов, идей и эмоций – насущная забота, к которой и побуждает современное стиховедение книга Ю. М. Лотмана.
Мы начали с признания: поэтика структурализма – это поэтика не изолированных элементов художественной системы, а отношений между ними. А кончили выводом: для правильного понимания отношений необходим предварительный учет именно изолированных элементов, например слова «роза» в допушкинской поэзии. Это противоречие, но противоречие диалектическое. Поведение читателя зависит от того, находится ли он внутри или вне данной поэтической культуры. Если внутри, то читатель раньше улавливает поэтическую систему в ее целом, а уже потом – в частностях: читателю пушкинской эпохи не нужно было пересчитывать розы в стихах, которые он читал, он мог положиться здесь на опыт и интуицию. Если извне, то, наоборот, читатель вынужден сперва улавливать частности, а потом конструировать из них свое представление в целом. Когда археолог находит надпись, сохранившуюся от мало известной культуры, ему очень трудно сказать, художественный это текст или нехудожественный, а часто даже – стихи это или проза. (Совсем недавно такие споры велись вокруг древнетюркских орхонских надписей.) Приходится «пересчитывать розы» – сравнивать круг образов, стилистических приемов, ритмических слогосочетаний и т. п. в новой надписи и в других, похожих и не похожих на нее. Современному читателю пушкинских стихов легче, чем читателю орхонских надписей, – и все-таки если он будет полагаться только на свою интуицию, он рискует впасть в большие ошибки.
В самом деле, как считать: стоим ли мы еще внутри или уже вне поэтической культуры пушкинского времени? Каждый из нас обычно читает Пушкина в детстве или в юности, на фоне других книг, читанных в еще более раннем детстве или юности, и, конечно, воспринимает Пушкина совсем не так, как воспринимал его пушкинский современник. Потом приходит школьное образование, потом – если Пушкин нас заинтересовал – специальное филологическое образование или самостоятельное чтение; и чем больше накапливается опыта, тем лучше можем мы реконструировать в своем сознании мерки пушкинской эпохи. Говоря «мы», следует учитывать каждую ступень этого нашего читательского пути. Это существенно, в частности, для такого научного жанра, как комментарий. Комментарий, обращенный к квалифицированному читателю, может ограничиться уточнением частностей, – комментарий для начинающего читателя обязан прежде всего давать представление о художественной культуре в целом (вплоть до указаний: «красивым считалось то-то и то-то»). Сам Ю. М. Лотман сумел совместить эти требования в своем блистательном комментарии к «Евгению Онегину».
На языке «Лекций по структуральной поэтике» сказанное формулируется так: «прием в искусстве проецируется, как правило, не на один, а на несколько фонов» читательского опыта и читательской опытности. Можно ли говорить, что какая-то из этих проекций более истинная, чем другая? Научная точка зрения на это может быть только одна – историческая. Мы стараемся реконструировать художественное восприятие читателей пушкинского времени только потому, что именно для этих читателей писал Пушкин. Нас он не предугадывал и предугадывать не мог. Но психологически естественный читательский эгоцентризм побуждает нас считать, что Пушкин писал именно для нас, и рассматривать пушкинские образы, стиль и даже стих через призму идейного и художественного опыта, немыслимого для Пушкина. Это тоже законный подход, но не исследовательский, а творческий: каждый читатель создает себе «моего Пушкина», это его индивидуальное творчество на фоне общего творчества человечества – писательского и читательского.
На этом и не стоило бы останавливаться – но в последние десятилетия граница между научно-объективным и творчески-произвольным подходом в литературоведении стала размываться. Когда «Лекции…» Ю. М. Лотмана издавались впервые, у нас господствовало (да и не только у нас) догматическое литературоведение, для которого в центре внимания было «содержание», а к нему второстепенным украшением прилагалась «форма». Теперь, когда они переиздаются, на первый план выходит интуитивное интерпретаторство, сплошь и рядом выдающее свои толкования за науку. Ю. М. Лотман сам выступал против этого опасного увлечения не раз и не два. За границей такая парафилология принимает вид игры в прочтение одного текста на фоне другого, по возможности очень непохожего, и называется постструктурализмом или деструктивизмом. Здесь как бы возводится в принцип то чтение классиков «от нуля», без эрудиции, отталкиваясь от последней прочитанной книги, с которого когда-то в детстве начинал каждый. Из этого возникают красивые (хотя обычно неудобочитаемые) творческие фантазии, очень много говорящие о душевном складе сегодняшней культуры, но очень мало – о рассматриваемом тексте и авторе. В такой обстановке переиздание книги, созданной в героическую пору структурализма с его пафосом строгой гуманитарной научности, представляется неожиданно актуальным.
«Восприятие художественного текста – всегда борьба между слушателем и автором», – пишет Ю. М. Лотман. Борьба с сильным противником не всегда приятна: М. М. Бахтин не любил поэзию (по крайней мере в своих эстетических декларациях) именно за то, что в ней авторский голос слишком авторитарно подчиняет себе читателя; а нынешние деструктивисты кладут все силы именно на то, чтобы заставить Расина, Бодлера или Пушкина зазвучать голосом человека XX века. Но эта борьба особенная: в ней выигрывает побежденный, подчинившийся художественной воле автора и усвоивший язык его культуры. Научиться понимать художественный язык Горация, Расина или Пушкина – это значит так же расширить собственный духовный мир, как если бы мы научились греческому, арабскому или китайскому языку. Языки культур, как и естественные языки, постигаются не интуицией, а по учебникам, – к сожалению, ни для Горация, ни для Пушкина еще не написанным. Книга Ю. М. Лотмана не притязает быть словарем какой-либо поэтической культуры, хотя рассеянные в ней примеры наблюдений над текстами преимущественно пушкинской культуры хорошо показывают, как богат и сложен такой словарь. Но она стремится быть наброском грамматики, более или менее общей для языков всех поэтических культур, – такой грамматики, в которой нуждается каждый филолог, в какой бы области он ни работал. Эта грамматика называется «структуральная поэтика». О ней эти «Лекции…» Ю. М. Лотмана.
Москва, 18 сентября 1993
КАК ПИСАТЬ ИСТОРИЮ ЛИТЕРАТУРЫ 207
На вопрос «как писать историю русской литературы?» мне сразу захотелось ответить: а ее никак писать не надо, потому что сейчас мы ее хорошо не напишем – нет материала. Такая точка зрения бурбона-нигилиста была бы в серьезной дискуссии неуместна, и я хотел промолчать.
Потом я вспомнил, что сам написал часть истории русской литературы – книжку «Очерк истории русского стиха» и, стало быть, обязан поделиться опытом. Удачная она получилась или нет, но что это была действительно связная история предмета за триста лет, кажется, никто не сомневался. Как она была сделана? Описаны раздельно четыре уровня: метрика, ритмика, рифма, строфика; потом соположены параллельно; и тотчас сами сложились в шесть больших и восемнадцать малых периодов. В каждом периоде каждый уровень обнаруживал тенденцию то к упрощению, то к усложнению, каждая реализовалась по-своему, друг друга они то подкрепляли, то, наоборот, умеряли. Вся эта поэтика стиха всякий раз перекликалась со смутно представляемой поэтикой жанров и направлений.
У меня не было и нет никаких сомнений, что и эту смутность можно прояснить, охватив исследованием и не-стиховые уровни: язык и стиль; образы, мотивы, сюжеты; эмоции и идеи; и те формы, в которых все это сосуществует, то есть жанры. Охватить исследованием – это значит сделать то же, что я и мои работящие предшественники сделали со стихом: выделить существенные явления, подсчитать, систематизировать и обобщить. Чтобы мы могли сказать: такой-то подбор стиховых форм; такой-то процент славянизмов или, наоборот, вульгаризмов и варваризмов; такая-то насыщенность метафорами и метонимиями такого-то строения; настолько-то предпочитаемые персонажи таких-то социальных и психологических типов; такие-то варианты сюжета; такие-то пропорции описания, повествования, диалогов, авторских отступлений; такие-то признаки торжественного, сурового, нежного или насмешливого отношения к предмету в таких-то пропорциях, с такой-то степенью прямоты или прикровенности авторской позиции – вот признаки такого-то жанра в такой-то период; и среди них такие-то признаки усиливаются, а такие-то ослабевают по мере движения от начала к концу периода, у писателей таких-то поколений и направлений, под вероятным влиянием таких-то и таких-то смежных жанров, благодаря авторитету таких-то и таких-то авторов. И все это должно быть определено для всех жанров и всех эпох.
О программе такого рода очень легко сказать: это неосуществимо. Но уверяю, если бы я перечислил все, что нужно было подсчитать, чтобы написать обоснованную историю русского стиха, всякий тоже сказал бы: это неосуществимо. Однако стиховеды, и не столь уж многочисленные, это сделали. А сейчас, с компьютерными средствами, такие вещи делаются в несколько раз быстрее: спросите у лингвистов. Нужно только одно: быть уверенным в том, что это необходимо.
Все предположенное – это, конечно, еще не история русской литературы. Но без этой каторжной описи не существует никакая другая история литературы, потому что в ней, в этой описи, – вся специфика литературного материала. Без нее история литературы будет, как и до сих пор была, лишь временно исполняющей обязанности истории литературы – филиалом истории идей, настроений, вкусов и всего прочего, что скучно перечислять. Мы прошли структурализм и знаем, что главное – это не элементы, а отношения, что тургеневский роман существует не сам по себе, а лишь на фоне не-тургеневского романа. Но пока мы не можем определить, из чего состоит тургеневский роман, мы не можем и соотнести его с чем бы то ни было.
Кажется, есть такая типология, в которой ученые делятся на «эрудитов» и «проблемщиков». Конечно, историю литературы пишут «проблемщики». Но написанные ими истории литературы бывают тем долговечнее, чем толще под ними фундамент, заложенный «эрудитами». Да, история литературы есть одна из форм нашего осознания собственного мышления в рамках нынешней научной парадигмы и так далее. Но прежде всего она все-таки есть средство систематизации наших разрозненных знаний о литературе. А этих знаний у нас мало – немногим больше, чем при Овсянико-Куликовском. Поэтому и история литературы, по этим знаниям написанная, со сколь угодно новыми методами и точками зрения, будет не лучше, чем под редакцией Овсянико-Куликовского.
Конечно, я преувеличиваю. По отдельным жанрам мы стали знать больше. И по элегии, и по идиллии, и даже, наверное, по роману. Но вспомним все, что мы об этом читали: они описаны по верхушкам. Элегия – это Жуковский, Батюшков, Пушкин, Баратынский, в исключительном случае – Тепляков. Возможна монография о Марлинском, но он в ней будет таким же отдельно стоящим монументом, как Пушкин. Это не история литературы, а история писателей. Когда стиховеду нужно определить индивидуальность стиха, скажем, Огарева, он пишет: «по сравнению со средними показателями периода…» – и индивидуальность готова. Для стиля и образного строя никаких средних показателей мы не имеем, сравнивать не с чем. Единственное наглядное исключение – жанр байронической поэмы. Благодаря книге Жирмунского «Байрон и Пушкин» русская байроническая поэма как была, так и осталась единственным жанром, описанным с той подробностью, которая нужна, чтобы писать историю литературы. Чем обсуждать проблемы историко-литературной целокупности, я бы сейчас охотней отметил 80-летний юбилей этой книги Жирмунского.
Ломоносов и Сумароков – историко-литературные герои первой величины, но, когда мне нужно было писать об их одах, все подсчеты тем, мотивов и их композиционных сочетаний мне пришлось делать впервые. Уважать факты и собирать факты у нас умеют, нашим архивистам и библиографам можно только низко поклониться. Но метафоры и мотивы у нас как-то не принято считать фактами, и научная поэтика остается в очень досадном пренебрежении. В. С. Баевский в Смоленске уже двадцать лет как выработал технику всестороннего описания стихотворений по количественным признакам, но о совершенствовании этой методики никто не думал и не думает. (Впрочем, само уважение к фактам тоже периодически бывает под угрозой. Часть филологов увлекается философскими интересами; а философу достаточно спросить: «а почему вы считаете то-то и то-то фактами?» – чтобы парализовать любую науку. Да, наука должна сознавать, что именно она считает своими аксиомами, но почему она так считает, – пусть за нее объясняют сами философы.)
Конечно, в книге об истории литературы эти бесконечные подсчеты не будут красоваться на виду, а прячутся в примечания, в приложения, в библиографические ссылки. В текст пойдут выводы и обобщения. А вокруг этих выводов и обобщений по основной части литературы, по поэтике, будет все, что относится к бытованию и окружению литературы и что редко включалось в традиционную историю литературы.
Во-первых, это литературное производство: социальный статус писателя, средства к его существованию, литературная среда с салонами и редакциями, создание и формы проявления литературной репутации. Этим историки литературы интересовались издавна и только почему-то избегали включать это в общие истории литературы.
Во-вторых, это литературное потребление: типы изданий, тиражи, книгопродажа, библиотеки, расслоение читателей (литература крестьянская, детская, дамская), – чтобы помнить, что «Битву русских с кабардинцами» читали больше, чем Толстого, а о Блоке подавляющее большинство читателей вообще не слышали. Что история литературы – это история не только экспериментальной лаборатории литературных форм и идей, но и их серийного производства и потребления; история не только новаторства, но и история традиционализма. На эти темы, к счастью, мы сейчас знаем больше, чем пятьдесят лет назад.
В-третьих же, давно уже стало необходимым расширение обычного историко-литературного поля зрения по крайней мере в двух направлениях: географическом и историческом.
Одно – это включение переводной литературы. О ней обычно по необходимости упоминают, говоря о русском средневековье, а потом забывают. А она питала читателей всех эпох, выгодно и невыгодно оттеняла каждый шаг оригинальной литературы, служила связующим фильтром между русской и мировой литературой. В ней тоже были узкий пласт элитарной литературы и широкий – массовой, и как они взаимодействовали даже на свежей памяти во время переводного половодья 1920‐х и 1990‐х годов, никто еще не рассматривал.
Второе же и самое важное – это включение литературы предыдущих эпох. Разделы про писательские Nachleben, «Пушкин в веках», традиционно присутствуют в истории литературы, но обычно как довески к главам о Пушкине, а они должны быть довесками к главам о веках. То, что думали о Пушкине при Писареве, при Гершензоне, при Сталине и при нас с вами, очень мало говорит о Пушкине и очень много об этих наших эпохах, там и место для такого разговора. Соответственно, то, что думаем о Пушкине мы, встанет в один ряд не с Пушкиным, а с Писаревым и не будет притворяться абсолютной истиной. А тот Пушкин, который будет описываться в разделе про 1799–1837 годы и который далек от нас, как Эсхил, меньше будет залапан нашими с ним эгоцентрическими диалогами. Я понимаю, что полностью отстраниться от своего предмета никакой ученый не может, но стремиться к этому он обязан, если он ученый. И конечно, речь идет не только об отдельных фигурах, таких как Пушкин: вся русская литература XIX века для 1910‐х, 1930‐х, 1950‐х и 2000‐х годов состоит из очень разных имен и ценностей и в таком виде является частью литературного мира этих лет.
Это тоже очень трудные задачи, но мне кажется, что мы готовы к ним все-таки больше, чем к описанию истории поэтики.
Конечно, есть и обратная связь. История литературы, которую мы или кто-то другой напишет по высказываемым в этой дискуссии идеям, сразу выявит много новых пробелов в наших знаниях и даст толчок, чтобы их заполнить. Но ведь о многих старых пробелах мы и так знаем, а почему-то не спешим их заполнять.
Наша филология вместе со всей русской культурой развивалась ускоренно, прыгая через ступеньку, и неизбежно пропустила многое, что для филологии обычно считается саморазумеющимся. Позитивистический академизм у нас успел до революции сложиться разве что в фольклористике и древнерусистике. Кто внедрил бы его сейчас в изучение новой и новейшей литературы, тот мог бы в нынешней ситуации считаться самым революционным модернистом. Если говорить о «других историях литературы», то эта нулевая степень истории литературы могла бы у нас считаться самой-самой «другой».
Особенно это интересно для новейшей литературы. Советская литература кончилась, наступило время инвентаризовать ее наследие. К ней можно относиться без гнева и пристрастия. Больше того, классическая литература тем временем тоже кончилась. В газетном интервью известный актер признается, что впервые прочитал «Трех сестер», только когда пришлось в них играть, и интервьюер относится к этому с полным пониманием: «не всем же быть чеховедами». Мы не заметили, как Чехов стал существовать для чеховедов, Пушкин – для пушкиноведов, а все они вместе отодвинулись к дальнему горизонту общественного сознания, к Ломоносову и «Слову о полку Игореве», которых нужно знать понаслышке, но незачем читать. Вот в такой перспективе и должна их хоронить новая история русской литературы. Отстраниться от прошлого, ставшего мертвым, – значит облегчить работу тем, кто делает новое. Не нужно бояться, что они об этом прошлом забудут: оглядываться на экзотичное плодотворнее, чем оглядываться на надоевшее.
В русском формализме было два новаторских подхода к литературе: в Петербурге ОПОЯЗ переносил на классиков опыт современности, и классики изощрялись в новаторстве, как футуристы, а в Москве в ГАХНе Б. И. Ярхо смотрел на современность с опытом фольклориста и медиевиста, и реализм-натурализм для него оказывался аналогом гробианства XVI века. Все мы знаем, как много нового дал нам увидеть первый, оживляющий подход к литературе («как Пушкин помогает нам понять Сорокина и Проханова?»); но не меньше полезного может дать и второй, омертвляющий подход к литературе. В сказках живая вода действует только после мертвой. Или, говоря менее обидными словами: пока литература жила, история литературы была историей новаторства (даже если Пыпин и Шкловский понимали новаторство по-разному), когда литература умерла, история литературы становится историей традиционализма. Это тоже нужно.
А история литературы, изготовленная не как средство систематизации наших знаний, а как средство нашего духовного самоутверждения, пусть будет какая угодно. Такие истории читаются от моды до моды.
НАУЧНАЯ «ЩЕЛЬ»208
1. О выборе пути . Каким был Ваш вход в профессию – подсказка близких людей или учителей, собственное устремление, случайное стечение обстоятельств? Какие книги или люди оказали на Вас наибольшее влияние?
Боюсь, что единственный честный ответ – потому что филология ближе моему душевному складу; а как складывался этот склад – тема, слишком далеко выходящая за пределы анкеты. У меня в детстве было пристрастие к звучным непонятным словам, поэтому древняя история привлекала меня экзотическими именами, а стихосложение – словами «ямб» и «хорей». У меня было ощущение, что мороженое почему-то нравится мне меньше, чем сверстникам, а стихи Пушкина – больше, чем сверстникам, но я не мог им объяснить почему, поэтому я стал интересоваться не только тем, какие мороженое и стихи приятные, а и тем, как они сделаны. Потом и эти предметы, и этот подход закрепились для меня как средства ухода – не столько даже от действительности, сколько от соперничества с окружающими. Любить стихи Пушкина умеют многие, и, конечно, у них это получается лучше, чем у меня; а знать, как они устроены, умеют немногие, и здесь мне легче чувствовать себя не хуже других. Влияние среды – вероятно, в детстве мне легче было получить ответ, что значит такое-то слово, и труднее – как устроена такая-то вещь. Влияние книг – в школьном возрасте мне попали в руки Шкловский и Томашевский, и они говорили об устройстве литературных произведений интереснее, чем советские учебные и ученые книги.
2. Об изменениях . Как Вы считаете: на Вашем интеллектуальном пути происходили только количественные изменения (накопление знаний) или также и качественные? Менялся ли Ваш исследовательский путь на протяжении всей Вашей жизни сколько-нибудь значительно? <…> 209
Насколько эти изменения, если они имели место, осознавались Вами тогда, когда они происходили? Была ли это осознанная установка на будущее (отныне я буду делать так-то) или же осознание происшедшего ретроспективно, задним числом?
Что главное в этих изменениях? (Например, стало меньше эмпирии, но больше размышлений о связности, или наоборот). <…>
У меня сменились три главные области работы: классическая филология, стиховедение, общая поэтика (анализ стихотворного текста). Смены были плавными: то, что было хобби, становилось профессией, и наоборот. Я занимался стиховедением для своего удовольствия; вдруг оказалось, что оно еще не убито и Л. Тимофеев продолжает о нем писать; и я стал заниматься им открыто. Мне было интересно, как устроен стихотворный текст; вдруг оказалось, что этим занимается и Ю. Левин, и гораздо плодотворнее; и я стал относиться к своим интересам серьезнее. Классическая филология отучала от литературоведческого импрессионизма, стиховедение приучало к конкретности и объективности, этот опыт оказался полезен и для общего анализа текста. Методы варьировались – конечно, такая подробность подсчетов, какая возможна в стиховедении, пока невозможна в других областях, – но старались оставаться объективными. Наверное, можно сказать, что от античности к стиховедению – это поворот ближе к эмпирии, а от стиховедения к общей поэтике – больше для размышлений о связности. А в пределах одной области сбор фактов и размышления об их связности, вероятно, чередуются, как шаги левой и правой ногой. Я такой смены тем не планировал, но раз уж так вышло, старался извлечь из нее побольше пользы: может быть, это называется «ретроспективное осознание».
Мне хотелось иметь такую научную щель, в которой поменьше давления от разномыслящих и поменьше конкуренции с единомыслящими. Последняя такая щель называется «лингвистика стиха» – это такой участок стиховедения, в котором работников можно пересчитать по пальцам. Здесь я могу работать как специалист: сам находить новые факты, систематизировать их и осмыслять. А многолюдная классическая филология стала от меня дальше всего: я давно уже занимаюсь ей только как переводчик, компилятор и популяризатор. Впрочем, когда я писал компилятивные статьи – упаковывал не мною найденные факты и сделанные наблюдения в сжатую, связную и удобовоспринимаемую форму, – то иногда мне говорили: «какие оригинальные мысли!» Вероятно, так со стороны воспринимается простое переструктурирование.
3. Об обществе и сообществе . Ощущали ли Вы эти изменения как выражение общей тенденции или как Ваш индивидуальный (возможно, маргинальный) путь? Было ли источником изменений Ваше собственное решение или подход, выработанный сообща группой или школой, к которой Вы принадлежали?
Помогало ли Вам при этом в работе чужое мнение (коллеги, эксперта)? <…> Считаете ли Вы, что сообщество адекватно оценивает Вашу работу? <…>
Владеете ли Вы разными регистрами общения с читателем – профессионалом, любителем, человек несведущим, но любознательным? Считаете ли Вы необходимым вырабатывать разные стили и приемы для общения с разными аудиториями и читателями? Если да, удается ли Вам это? <…>
«Группа или школа», с которой я общался, объединялась более или менее сходным представлением о научности, а внутри этой широкой рамки не влияла ни на мои предметы, ни на соответственные им методы. Теперь эту школу называют тартуско-московской. Чужое мнение давало взгляд со стороны, добавляло факты и побуждало что-то доделывать (реже – переделывать). Чужие оценки были скорее безразличны (исключения – только Лотман в области науки и Петровский в области перевода): важность своих работ я не преувеличивал, споров и полемик избегал. Наверное, за это ко мне относились спокойно и судили обо мне лучше, чем я, как мне кажется, заслуживаю. Писать приходилось и в научных, и в научно-популярных жанрах; и в тех, и в других я старался быть понятным и, по возможности, простым. Лекций почти не читал (заикаюсь) и к непосредственному общению с аудиторией не привык. Перемены в научном и учащемся обществе мне из моей научной щели почти не видны.
4. Об отношении к философии . Считаете ли Вы, что изучение философии в университете было для Вас чем-то полезным или нет? <…>
Нужна ли ученому-предметнику философия (философия как знание об общих закономерностях бытия, как общее учение о методе (методах) познания, как побуждение к саморефлексии – к размышлению о том, что и почему ты делаешь)? В какой форме, по-Вашему, философия может быть полезна науке (как метод, как мировоззрение, как объемная мифопоэтическая конструкция)? <…>
Можно ли спонтанно делать то, что делаешь, или нужно постоянно (или хотя бы регулярно) давать себе отчет о методе познания?
Что такое философия, я не знаю: за всю жизнь не удалось прочитать достаточно азбучной книжки о ней. То, чему учили филологов в университете в 1950‐е годы, трудно считать философией. Историей философии я интересовался всегда, но скорее как филолог. Я жалею, что так получилось. Если это наука о самых общих законах сущего, то, наверное, она полезна для частных наук – позволяет им вписаться в какое-то целое и определить свои взаимоотношения. Если это не наука, а вера, то, наверное, она полезна для ученого: лучше сознательное вероисповедание, чем бессознательное. Я стараюсь давать себе отчет в том, где в моих (и чужих) рассуждениях кончаются доказательства, область науки, и начинаются аксиомы, область веры (и по каким личным причинам я предпочитаю такие-то аксиомы, а не другие); может быть, философия могла бы мне помочь. А пока приходится довольствоваться банальностями: бесконечное бытие – это множество разрозненных явлений, больно задевающих меня, конечное сознание – это посильное их упорядочивание, позволяющее мне среди них выживать.
5. О науке и научности . Считаете ли Вы себя представителем одной дисциплины или работником на стыке разных дисциплин?
Существует ли единая наука или как минимум две ее разновидности – естественная и гуманитарная (естественные науки и гуманитарные науки)? <…> Могли бы Вы сформулировать, чтó является для Вас критерием научности? Считаете ли Вы свою дисциплину – историю, филологию (лингвистику, литературоведение) или какие-то ее части или срезы – наукой? <…>
Какова роль новых технологий в Вашей работе (компьютеры, интернет)?
Каково Ваше отношение к формальным и структурным методам вообще и в Вашей дисциплине в частности? Можно ли сказать, что «структурализм умер»?
Ваше отношение к М. М. Бахтину: сейчас его нередко называют образцом для построения современной гуманитарной науки, согласны ли Вы с этим мнением?
В какой мере гуманитарное знание может быть свободным от идеологии <…>? В чем сказывалось в Вашей дисциплине давление навязываемых взглядов в советский период? <…> Какие внешние давления Вы чувствуете сейчас, в период, когда четко определенного идеологического давления не существует (материальные формы жизни ученого, структура сообщества, формы признания и поощрения и др.)?
Можно ли говорить о смене критериев научности в Вашей области за последние полвека? Имеет ли проблема так называемого постмодерна в том или ином смысле отношение к Вашей работе?
Какова Ваша оценка современного состояния Вашей науки – в России и на Западе («нормальное развитие», кризис, чередование трудностей и их преодолений, смена «парадигм», и проч.)?
Наука – это средство такого упорядочивания: она тем лучше, чем шире она охватывает явления и чем проще их систематизирует. То есть наук без структурных методов не бывает, потому что всякая систематизация – это структура: так уж устроено наше сознание. Поэтому структурализм в широком смысле слова умереть не может, а в узком – как культ бинарных оппозиций? – для кого как; мне он помогает работать, значит, пока не умер. «Естественное и гуманитарное – одна наука или две?» – тоже для кого как. Для Гегеля – одна, для Маркса – тоже одна, для меня – тоже: камень, червяк и стихотворение Пушкина – одинаковые явления окружающего меня бытия. А кто считает, что половину сущего определяет бытие, а половину – сознание, для тех это разные науки. Я не преувеличиваю могущества науки. Она не притязает на объективную истину, она просто помогает нам выживать в мире. Я понимаю романтиков от науки, которые так уверены в своем выживании, что считают рациональность скучной и тянутся к иррациональному. Но мне ближе классицисты от науки: как в литературе весь романтизм свободно умещается на одной из полочек классицизма, под рубрикой вдохновения и именем Пиндара, так и в науке – иррациональное на одной из полочек нашего рационального сознания, а не наоборот.
Филология – такая же наука, как другие: она собирает факты и систематизирует их. Факты ее – все, что зафиксировано словами; из этого «знания о словах» извлекается «знание о понятиях», конфликта здесь я не вижу. Кроме исследовательского отношения к словесным текстам, бывает творческое – переживание их («живое чтение») и описание этих переживаний: это необходимая часть культуры, но это не наука. Внутри филологии есть разные области («дисциплины»?), я работаю в трех, как они для меня соотносятся – сказано выше. Вне филологии есть другие науки, представить их единой «гуманитарной наукой» я не умею, поэтому насколько для нее образцом является Бахтин – не знаю. Педагогику и психологию по Бахтину я представляю, они учат людей понимать свои поступки; а историю и филологию – нет, они учат понимать не зависящие от тебя факты. У Бахтина узкая специальность – этика, и чем дальше та или иная область науки отстоит от этики, тем бесполезнее для нее Бахтин.
Идеология как система навязываемых взглядов существует всегда, если не как догма, то как мода. Я могу выделить и то, что во мне от марксизма, и то, что от реакции на него. Моим стиховедению и общей поэтике одинаково неуютно и в советском, и в послесоветском идеологическом климате: там они слишком далеки от обязательной идейности, тут – от обязательной духовности. Смена режима сказалась в том, что раньше мне нужно было четверть сил тратить на риторические способы приемлемым образом высказать то, что я думаю, а теперь этого не нужно; это хорошо.
«Роль новых технологий» я с готовностью ощущаю. Считать стало легче: я работал сперва на конторских счетах, потом на арифмометре, потом на калькуляторе. Читать нужное стало легче с появлением ксерокса; наверное, станет еще легче, если научусь интернету. Писать стало легче: из‐за старости голова вмещает меньше, это принуждает писать большие статьи не целиком, а по кусочкам, а это легче делать на компьютере, чем на пишущей машинке. Думать – не стало легче.
Изменений в моей науке и вокруг нее за последние полвека я не вижу. Уважения и заботы о ней не больше и не меньше, чем раньше. Структурирующее устройство человеческого сознания не изменилось, значит, и критерии научности не изменились. Поэтому научные гипотезы иерархизируются по-прежнему: лучше та, которая шире охватывает материал и проще его систематизирует. Поэтому постмодерн, для которого все мнения равны, науки не касается. Новые западные методики и наши им подражания почти не затрагивают моей области работы: они не столько выявляют и иерархизируют особенности строения поэтического текста, сколько демонстрируют, как по-разному читательское сознание может реагировать на эти особенности; а я изучаю текст, а не читательское сознание. О кризисе и смене парадигмы можно говорить, только если набралось много новых фактов, не укладывающихся в старую теорию. Так ли это, я не знаю. Если эти факты – из больших культур, до сих пор нам мало известных (вавилонской, индонезийской, тунгусской или простонародной средневековой европейской), то да, они существенны. А если эти факты из последних современных авангардных мод – то нет, важность их иллюзорна, просто в перспективе все ближнее кажется большим. Подождем лет сто.
6. Чему имеет смысл учить студентов? Стоит ли прежде всего передавать знания или же скорее – способы получения знания (методы)? <…>
Вот факты, они накапливались вот так-то, и на их накопление история словесности и теория словесности (или иной науки) отвечала такими-то построениями. На сегодняшний день необъясненные факты – такие-то (скажем, возникновение греческого романа или появление рифмы в европейской поэзии), постарайтесь воспользоваться опытом предшественников, чтобы объяснить и их.
7. Вопрос последний и необязательный. Что еще Вам бы хотелось успеть сделать в жизни?
Доделать что успею. Хотел бы добавить «и умереть вовремя», но это не поддается планированию.
ПРОПЕДЕВТИКА
АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА 210
1. Предмет курса
Анализ текста как основа всякой филологической работы: выделение элементов текста и выявление их структуры. Анализ поэтического текста как основа всякой работы над художественной литературой: выделение эстетически действенных элементов текста и их структуры. Сущность филологической работы над любым текстом – в том, что филолог дает себе и другим отчет в источниках возникновения своих эстетических переживаний.
2. Эстетически действенные элементы – любые отклонения от интуитивно ощущаемой нормы языка: необычное качество, необычная частота, необычное расположение звуков, слов, мыслей, оборотов и т. д. Они выслеживаются на трех уровнях и шести подуровнях строения произведения.
3. Уровни строения произведения
Эстетические раздражители, обращенные а) к уму и воображению; б) к знанию и чувству языка; в) к слуху. История равномерного изучения этих уровней: топика, стилистика, стиховедение.
А) Образный уровень
3.1. Словесно выраженные идеи и эмоции. Отчетливая и неотчетливая их выраженность; проблемы их классификации; случаи отсутствия идей и эмоций в произведении.
3.2. Образы и мотивы. Образ или понятие – потенциально каждое существительное; мотив – потенциально каждый глагол. Художественный мир произведения как совокупность его образов и мотивов; частотный тезаурус произведения, автора, эпохи. Поле зрения в этом мире, его расширение, сужение, интериоризация.
Б) Стилистический уровень
3.3. Аномальная лексика, понятие «редкого слова», их источники и классификация. Аномальная семантика, тропы и фигуры, разница между этими понятиями, их классификация; задача переработки риторической традиции в современной лингвистике.
3.4. Аномальный синтаксис, параллелизмы и инверсия, ритм длинных и коротких фраз, его повышенная ощутимость в стихе.
В) Фонический уровень
3.5. Метрика, ритм ударений и ритм словоразделов. Рифма простая и богатая, точная и неточная, грамматичная и антиграмматичная. Строфика и ее семантические ассоциации. Лингвистика стиха как наука о структурных связях метрики и других уровней.
3.6. Фоника (звукопись); аллитерации и ассонансы, их семантическая нагрузка, звукоподражания, звуковой символизм, анаграмма.
4. Композиция а) сюжетная, основанная на временной последовательности мотивов (в эпосе); б) риторическая, основанная на логической и психологической связи мотивов (в дидактической и публицистической поэзии); в) лирическая, основанная только на упорядоченном соположении образов и мотивов. Параллелизм как исток и основа лирической композиции. Сущность лирической композиции: потенциальные эстетические раздражители становятся реальными, когда складываются в композиционную структуру, то есть распределяются по тексту ощутимо неравномерно, образуя «сильные места» (кульминация) и слабые места.
Типы композиционных структур: сгущение или разрежение тех или иных элементов может выделять или начало текста (АББ), или середину (БАБ), или конец (ББА) или плавно нарастать или убывать от начала к концу (аАА). Эти композиционные схемы обычно различны на разных уровнях или подуровнях текста, образуя композицию фоническую, метрическую, стилистическую, образную и т. д. Сочетание этих простых поуровневых композиций дает неповторимо сложную композицию текста в целом.
5. Методика анализа
а) Целостное чтение: читатель, быстро прочитав текст, дает себе отчет, какие места в тексте производят на него более сильное впечатление (являются кульминациями), и пытается ответить почему.
б) Медленное чтение: читатель делает остановку после каждой фразы (строки, строфы) и дает себе отчет, какую она дала ему новую информацию и как перестроила старую информацию.
в) Рассыпное чтение: по частям речи – читатель составляет перечни существительных, прилагательных, глаголов, наречий данного стихотворения и по этим образам и мотивам систематизирует состав его художественного мира, его чувственную окраску и его динамику.
6. Анализ. Интерпретация. Оценка
При анализе предполагается, что общий смысл стихотворения ясен и выявлению подлежат детали, из которых он складывается. Анализ имманентный – не выходящий за пределы материала данного стихотворения. Анализ интертекстуальный – учитывающий сторонний материал, подтекстовые отсылки к другим стихам, черновые варианты, биографический фон, автокомментарии, отклики современников. Имманентный анализ – область теоретической поэтики, интертекстуальный анализ (сравнение данного стихотворения с предшествующей традицией) – область не науки, а критики, дело индивидуального или группового вкуса.
При интерпретации предполагается, что ясны детали, но общий смысл стихотворения из них прямо не складывается, в таком случае подлежит реконструкции ситуация, в которой или применительно к которой данный текст приобретает смысл. Презумпция здравого смысла: текст следует понимать буквально, и только если буквальное понимание его не дает никакого смысла, можно считать его иносказательным (символом, аллегорией) и искать его затекстового значения. Стихи традиционные рассчитаны на анализ, авангардистские – на интерпретацию.
Оценка. «Плохие стихи» – обычно абсолютно предсказуемые (среди традиционных) и абсолютно непредсказуемые (среди авангардистских); «хорошие» – исторически изменчивая середина между этими крайностями.
Разбираемые тексты:
Пушкин , «Предчувствие» («Снова тучи надо мною собралися в вышине…») – общее знакомство с методикой;
Фет, «Чудная картина…» – композиция образного и эмоционального уровня (расширение и сужение поля зрения, интериоризация); Фет, «Это утро, радость эта…» — то же, в сочетании с другими уровнями; Фет, «Шепот, робкое дыханье…» – то же, однотактное и двухтактное композиционное движение;
Пушкин, « К Чаадаеву» – стихотворение, построенное не на образах, а на понятиях;
Пушкин, « В рощах карийских, любезных ловцам…» – поэтика вариантов текста;
Баратынский, «Истина», «Уныние», «Череп», «Финляндия», «Буря», «Ропот», «Разуверение» и Пушкин, «Погасло дневное светило…», «Умолкну снова я…», «Мой друг, забытый мною…», «Простишь ли мне ревнивые мечты…», «Желание славы» – общие черты разных стихотворений (поэтика инвариантов текста);
А. К. Толстой, «Рондо» – поэтика комизма;
Фет, «Уснуло озеро…» – и пародия Минаева на это стихотворение – от поэтики текста к индивидуальности автора;
Пушкин, « Из Ксенофана Колофонского» в сопоставлении с оригиналом – от поэтики текста к разнокультурной картине мира;
Фет, «Непогода, осень, куришь…» – стихотворение нарочито бесхитростное;
Брюсов, « На рынке белых бредов» – стихотворение нарочито усложненное;
Мандельштам, «За то, что я руки твои не сумел удержать…» – разница между анализом и интерпретацией;
Вс. Некрасов, « Сотри случайные черты…» – разница между имманентным анализом и интертекстуальным анализом.
Обязательная литература
Гаспаров М. Л. Избранные статьи. М., 1995.
Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. Л., 1972.
Дополнительная литература
Анализ одного стихотворения / Под ред. В. Е. Холшевникова. Л., 1985.
Поэтический строй русской лирики. Л., 1973.
Ярхо Б. И. Простейшие основания формального анализа // Ars poetica / Под ред. М. А. Петровского. М., 1927. Вып. I. С. 7–28.
Russische Lyrik: Eine Einführung in die literaturwissenschaftliche Textanalyse / Hrsg. K. D. Seemann. München, 1982.
СЕМАНТИЧЕСКИЙ ОРЕОЛ МЕТРА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 211
АНТОЛОГИЯ
ПЛАН
+А3 Оседлаю коня…
Б. Размеры, восходящие к народным источникам
Б1. 1–4. 6-стопный хорей, элегический и плясовой. «Уж ты сукин сын, камаринский мужик…»
Б2. 1–2. 5-стопный хорей эпический.
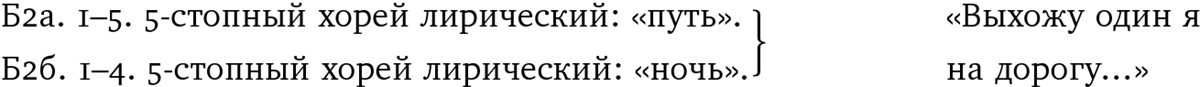
Б3. 1–4. «Кольцовский пятисложник»: «Не шуми ты, рожь, Спелым колосом…»
Б3а. 1–3. «Кольцовский пятисложник»: три «окна».
Б4. 1–3. 4-стопный хорей Д, лирический и эпический. «На заре туманной юности…»
Б4а. 1–7. 4-стопный хорей ДМДМ лирический. «Бьется сердце беспокойное…»
Б4б. 1–2. 4-стопный ямб ДМДМ и ДЖДЖ. «По вечерам над ресторанами…»
Б5 и 5а. 1–2. 3-стопный хорей Д и Ж, лирический. «Нива моя, нива…»
Б5б. 1–2. Сдвоенный 3-стопный хорей. «У бурмистра Власа бабушка Ненила…»
Б6б 1–3. 2-стопный анапест М (простой и сдвоенный). «Старый муж, грозный муж…»
В. Размеры, восходящие к западноевропейским источникам
В1. 1–4. 3-стопный хорей ЖМЖМ. «Горные вершины Спят во тьме ночной…»
В2. 1–4. 4–3-стопный хорей Ж, «украинский». «Чернобровый, черноглазый…»
В3. 1–4. 4–3-стопный ямб М и МЖМЖ, «романтический». «Старинный вальс „Осенний сон“…»
В3а. 4–3-стопный хорей МЖМЖ. «Светлана».
В3б. 1–4. 4–3-стопный хорей ЖМЖМ, балладный и послебалладный.
В3в. 1–3. Он же, «колыбельный». «Спи, младенец мой прекрасный…»
В3г. 1–6. Он же, «серенадный». «День веселый, час блаженный…»
В4а. 1–3. 4-стопный амфибрахий М, балладный. «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой…»
В4б. 1–3. 4–3-стопный амфибрахий МЖ, тоже балладный. «Песнь о вещем Олеге».
В4в. 1–3. 4–3-стопный анапест МЖ, тоже балладный. «Смальгольмский барон».
В4г. 1–14. 3-стопный амфибрахий: застолье, баллада, отчаяние. «По синим волнам океана…»
А. Размеры, восходящие к античным источникам
А1. а–в. К эпосу: гексаметр и дериваты гексаметра.
А2. 1–10. К драме: 5-стопный ямб без рифм, лирический монолог. «Вновь я посетил…»
А3. 1–4. К «ямбам»: 6–4-стопный ямб МЖМЖ. «Мильоны вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы…»
А4. 1–5. К анакреонтике: 3-стопный ямб. «Отечески пенаты…»
А4а. 1–4. 3-стопный ямб Д: «Зеленый шум, весенний шум…», «народный».
А4б. 1–9. 3-стопный ямб ДМДМ: песенный. «Среди долины ровныя…»
А5. 1–2. К «адонию»: 2-стопный дактиль, духовная песня. «Суетен будешь Ты, человек…»
А5а. 1–5. 4-стопный дактиль, ЖЖ и ММ, эпическая грусть. «Умер вчера сероглазый король…»
А5б. 1–3. 4-стопный дактиль Д, лирическая грусть. «Тучки небесные, вечные странники…»
А5в. 1–3. 4–3-стопный дактиль ДМДМ, «народная» грусть. «Что затуманилась зоренька ясная…»
ЛЕКЦИЯ «СЕМАНТИКА РУССКОГО СТИХА»212
Есть детский вопрос, который стесняются задавать литературоведы: почему поэт, начиная стихотворение, берет для него именно такой-то размер, а не иной? Как на все детские вопросы, на него очень трудно ответить.
Сперва нам, конечно, кажется: значит, в звучании каждого размера есть что-то от природы имеющее ту или иную содержательную окраску, хотя бы самую неопределенную, чисто эмоциональную. Иными словами, связь между метром и смыслом есть связь органическая. Так Ломоносов считал, что так как в ямбе голос движется от безударного слога к ударному, таТА таТА, то это размер восходящий, т. е. приспособленный для высоких од; а так как в хорее голос двигается от ударного слога к безударному, то это размер нисходящий, т. е. приспособленный для низких песенок. А Гумилев, наоборот, считал, что дактиль размер нисходящий, ТАтата ТАтата, и поэтому он важен и торжествен, а анапест – восходящий, татаТА татаТА, и поэтому он стремителен и порывист. Все такие утверждения импрессионистичны, несерьезны, потому что на каждый пример высокого ямба или веселого хорея можно привести много контрпримеров веселого ямба или печального хорея.
На самом деле причина в другом: в звучании каждого размера есть что-то по привычке (а не от природы) имеющее ту или иную содержательную окраску. Иными словами, связь между метром и смыслом есть связь историческая. В самом деле, давайте ответим себе честно: почему люди пишут стихи? Не потому, что у каждого в сердце кипят какие-то чувства и ищут свойственного им безоглядного выражения. Чувства – у каждого свои, неповторимые, а стихотворные размеры – очень даже повторимые: одних сонетов в Европе написаны многие тысячи, неужели это значит, что многие тысячи поэтов чувствовали одно и то же? Нет: люди пишут стихи с оглядкой на предшественников, они знают, что стихи пишутся давно и считаются культурной ценностью; сочиняя стихи, человек видит в этом способ вписаться в свою культуру, в свое общество, а это каждому человеку жизненно важно. И понятно, что при этом он не старается выдумывать новые стихотворные формы, а предпочитает уже существующие, апробированные культурой. Стихотворные формы – это все равно что слова в языке: люди очень редко изобретают совершенно новые слова, они пользуются словами, уже существующими в языке (иначе их никто бы не понял), – и вполне удовлетворительно выражают им свои мысли и чувства. А что такое «слова, уже существующие в языке»? Это знаки, т. е. звукосочетания, за которыми привычка закрепила такие-то и такие-то смысловые значения. Точно так же и за стихотворными формами в каждой культуре привычка закрепляет такие-то и такие-то содержательные ассоциации. И поэт ими пользуется: пишет свои новые стихи так, чтобы их содержание или соответствовало привычным ассоциациям размера, или (это тоже бывает нужно) контрастировало с ними. Поэтому мы и говорим так часто: «этот размер подходит или не подходит для данного стихотворения». Если я напишу агитку за такого-то кандидата в президенты в форме сонета, то меня не одобрят и скажут: «странная, неподходящая форма» – только потому, что обычно сонеты писались на высокие темы: философские, любовные или описательные. А если я сумею построить ее так, что видно будет: эти выборы для меня так жизненно важны, что я пишу о них самым высоким стилем; или, наоборот, эти выборы для меня так ничтожны, что я оттеняю их ничтожество издевательски высоким стилем, – то, пожалуй, обо мне скажут: «он неплохо обыграл форму сонета».
Сонет – это, конечно, лишь один из самых ярких случаев, когда с определенной стихотворной формой ассоциируется определенное содержание. Есть и другие. Если мы напишем стихотворение (о чем угодно) гексаметром, то оно неминуемо будет восприниматься на фоне античных тем и образов. Если терцинами – оно вызовет в памяти «Божественную комедию» Данте. Если 4-ст. ямбом с вольной рифмовкой – оно в русской поэзии покажется стилизацией под романтические поэмы пушкинского времени. Попробуем вообразить, что Лермонтов переписал свою «Песнь о купце Калашникове» (не изменив в ней ни единого слова!) 4-ст. ямбом «Мцыри» или «Демона» (он смог бы): содержание осталось бы то же, но весь семантический ореол, связанный с древнерусским былинным стихом, улетучился бы и поэма выцвела бы, стала бы похожей на какого-нибудь «Боярина Оршу». Вот я и назвал ключевое понятие нашей сегодняшней темы: «семантический ореол стихотворного размера». В нем и заключается важнейший для всякого филолога и особенно для преподавателя узел связи между содержанием произведения и его стихотворной формой: именно благодаря семантическому ореолу былинного стиха, 4-ст. ямба, 5-ст. хорея, 3-ст. амфибрахия и т. д. эти размеры не являются чисто внешним украшением текста, а многое вносят в восприятие его содержания – напоминая обо всех прежде читанных стихотворениях, написанных данным размером. Конечно, у разных размеров этот семантический ореол по-разному ярок. У былинного стиха он очень отчетлив: напоминает обо всем русском, народном, старинном, и больше ни о чем. У 4-ст. ямба, наоборот, он очень размыт: это всеядный размер, им писались стихи на любые темы, и поэтому у читателя он не вызывает почти никаких семантических ожиданий – ну разве что «что-то классическое, традиционное». Но между этими полюсами есть множество переходных ступеней: в русской поэзии есть гораздо больше семантически окрашенных стихотворных размеров, чем может показаться на первый взгляд. Я постараюсь перечислить – по необходимости кратко – двадцать таких размеров; причем некоторые из них будут иметь по нескольку разновидностей (с мужскими окончаниями, с дактилическими окончаниями и проч.), а некоторые – не по одной, а по нескольку семантических окрасок. Я прошу прислушаться к перечисляемым образцам и задаваться вопросом: если мы напишем таким-то размером новое стихотворение на любую тему, –213
Чтобы не запутаться в этом обилии материала, мы рассортируем его на три большие группы по происхождению этих размеров. Ведь ни один стихотворный размер не возникает на пустом месте: он заимствуется или перерабатывается из уже существовавших размеров. Откуда в русской поэзии 4-ст. ямб? Ломоносов в 1739 году, находясь на стажировке в Германии, разработал его по образцу немецкого 4-ст. ямба. А откуда у немцев 4-ст. ямб? На сто лет раньше Опиц разработал его по образцу английского и голландского 4-ст. ямба. А там он возник еще раньше в результате упорядочивания ударений во французском силлабическом 8-сложнике. А французский силлабический 8-сложник возник в X веке по образцу 8-сложного метрического стиха латинских христианских гимнов. А этот стих был заимствован римлянами у греков, а у греков он развился совсем в незапамятные времена из общеиндоевропейского 8-сложного силлабического стиха. Такими длинными генеалогиями мы сегодня заниматься не будем, а скажем упрощенно: все размеры русской поэзии (как и все явления русской культуры) имеют три главных истока: они восходят или, во-первых, к народным русским источникам; или, во-вторых, к западноевропейским источникам; или, в-третьих, к античным источникам. Соответственно с этим окрашивается и их семантика, хотя, конечно, в ходе развития она может постепенно меняться, и довольно сильно. Вот в этом порядке: размеры народного происхождения, западного происхождения и античного происхождения – мы и будем рассматривать их семантику.
Итак, размеры народного происхождения. Общий их источник – эпический стих русских былин, исторических песен, духовных стихов, в меньшей степени – стих лирических песен. Он развился когда-то из общеиндоевропейского 10-сложного размера, но в ходе этого развития утратил равносложность и стал сочетать строчки разной длины, но почти всегда с дактилическим окончанием. Так, одну и ту же строчку можно спеть:
9 слогов: Как во городе во Киеве;
10 слогов: Как во городе да во Киеве;
11 слогов: Как во славном городе во Киеве;
12 слогов: Как во славном во городе во Киеве;
13 слогов: Как во славном было городе во Киеве.
Мы слышим: некоторые из этих ритмических вариаций звучат правильным силлабо-тоническим хореем. Например, последняя – 6-ст. хореем: «Ка́к во сла́вном бы́ло гóродé во Ки́еве». 6-стопный хорей – это размер № 1 из наших сегодняшних 20 размеров. Он выделяется еще в настоящем народном творчестве, причем как в протяжных песнях, так и в плясовых: с одной стороны, (Б1.1) «Вещевало мое сердце, вещевало…», с другой стороны – «Ах ты, сукин сын, камаринский мужик…». Соответственно, и в литературном стихе сохраняются эти семантические окраски: с одной стороны, Мерзляков пишет этим размером «Сельскую элегию» (Б1.2), с другой стороны – Трефолев пишет «Песню о камаринском мужике» (Б1.3) (характерно перемежая в ней 6-стишия 6-ст. хорея и другого «народного» размера, 4-ст. хорея с дактилическим окончанием, о котором ниже, № 4). Даже когда такой поэт, как И. Анненский, пишет этим размером стихотворение с таким эстетическим названием, как «Сиреневая мгла» (Б1.4), то в нем оказываются приметы «народного» стиля: мгла «бежит», как камаринский мужик (тема быстрого движения почти постоянна в этом размере), «погости-побудь», «желанная», «волен да удал».
От другой ритмической вариации народного стиха происходит наш размер № 2 – 5-ст. хорей, «Ка́к во сла́вном гóродé во Ки́еве». В народной поэзии он в чистом виде не употребляется, есть только одна поздняя былина «Вавила и скоморохи», на три четверти состоящая из 5-ст. хореев: (Б2.1) «Говорило то чадо Вавило…». В литературную поэзию он пришел кружным путем. Я говорил, что общеславянский 10-сложный стих на русской почве утратил свою 10-сложность, стал сложнее и разнообразнее. А на южнославянской почве, в сербском народном стихе он сохранил свою 10-сложность; и когда в эпоху романтизма сербские народные песни стали переводить на немецкий и русский язык, то этот силлабический 10-сложник стали передавать 5-ст. хореем с женским окончанием: (Б2.2) «Сам Бекир-ага палит из пушек…». В таком виде он прижился в эпическом стихе, Майков так перелагал и «Слово о полку Игореве», и «Эдду» – явно ощущая этот размер как знак старины и народности. Но еще интереснее был кружной путь не эпического, а лирического 5-ст. хорея. В конце XVIII века Гете перевел им для Гердера (с подстрочника) сербскую песню «Жалоба благородной Асан-агиницы» над умирающим мужем214; после этого в немецкой поэзии 5-стопный хорей стал прочно ассоциироваться с темами смерти, оплакивания, кладбища, скорби и т. д. В русскую лирику этот размер перенес Лермонтов в (Б2а.1) «Выхожу один я на дорогу», где связал тему пути жизненного, со смертью в конце, и пути реального, дороги среди ночной природы. За ним потянулась целая вереница отголосков: (Б2а.2) «Вот бреду я вдоль большой дороги» Тютчева, (Б2а.3) «Выхожу я в путь открытый взорам» Блока, (Б2а.4) «Гул затих. Я вышел на подмостки» Пастернака и даже (Б2а.5) «Выходила на берег Катюша» Исаковского. Это – от лермонтовской «дороги»; а от лермонтовской «ночи», которая тиха, потянулся другой ряд: (Б2б.1) «Ночь. Не слышно городского шума» Фета, (Б2б.2) «Что за ночь! Прозрачный воздух скован» Фета же, (Б2б.3) «…Ночь тиха. Ты, может быть, не рада» Полонского, (Б2б.4) «Меж теней погасли солнца пятна» в «Стансах ночи» Анненского и проч. Таким образом, лирический печальный 5-ст. хорей зарождается в южнославянском народном стихе, оформляется в немецком и расцветает в русском, кружным путем возвращаясь на славянскую почву.
От третьей ритмической вариации русского народного стиха, «Как во городе да во Киеве», идет наш размер № 3, так называемый «кольцовский 5-сложник». Он выдерживается во многих настоящих народных или ставших народными песнях: (Б3.1) «Как на матушке на Неве реке…»; широко употребляется в литературных подражаниях народным песням215, теснее всего связывается с именем Кольцова, (Б3.2) «Не шуми ты, рожь», «Красным полымем…», – и эта песенная традиция доживает до самого недавнего времени как в официально признанной поэзии, (Б3.3) у Матусовского «Не слышны в саду даже шорохи», так и в подпольной, (Б3.4) у Галича «То ли шлюха ты, то ли странница…». На фоне этой песенной традиции воспринимаются и стихи, никогда не предназначавшиеся для пения, но тоже подхватывающие друг у друга не только ритм, но и образы, например три стихотворения о трех окнах: (Б3а.1) Полонский «Помню, где-то в ночь…», (Б3а.2) Фофанов «Потуши свечу…», (Б3а.3) Цветаева «Вот опять окно…».
От четвертой ритмической вариации русского народного стиха, самой короткой, «Ка́к во гóродé во Ки́еве», идет наш размер № 4, 4-ст. хорей с дактилическим окончанием. Он тоже выдерживается уже в настоящих народных песнях, (Б4.1) «Ты бессчастный добрый молодец…», тоже любим Кольцовым, (Б4.2) «На заре туманной юности…», и даже переходит из лирики в поэмы у Карамзина и его подражателей, (Б4.3) «Ах! не все нам реки слезные…». Тогдашние теоретики отмечали, что в песнях этих выражаются «томно-горестные чувства»; поэтому когда Жуковский стал разрабатывать «томно-горестные чувства» в своей лирике без всякой оглядки на народность, то он сделал смелый шаг. В народном и псевдонародном 4-ст. хорее дактилические окончания шли подряд и были нерифмованными – Жуковский стал писать 4-ст. хореем с чередующимися дактилическими и мужскими окончаниями, и притом рифмованными (это были первые дактилические рифмы в русской поэзии): (Б4а.1) «Ах! почто за меч воинственный…», (Б4а.2) «Отымает наши радости». Размер этот быстро привился, причем в двух семантических вариантах – в одном преобладала элегичность, восходящая к Жуковскому: Некрасов (Б4а.3) «Бьется сердце беспокойное…», Блок (Б4а.5) «В голубой далекой спаленке…»; в другом происходило возвращение к народной песенности: тот же Некрасов (Б4а.4) «Ой, полна, полна коробушка», Исаковский (Б4а.7) «Где же вы, где ж вы, очи карие»; а иногда они любопытным образом скрещивались, как у Ахматовой, подряд (Б4а.6) «Муж хлестал меня узорчатым» и «Сердце к сердцу не приковано…». [Б4б о 4-ст. ямбе ДМ и ДЖ.]
[Б5, 5а, 5б о 3-ст. хорее простом и сдвоенном – это вторжение из лит. стиха, от сумароковских песен через Дельвига.]
Наконец, размер № 5, последний из восходящих к народным источникам, своеобразен: его народный источник не русский, а румынский. Это 2-ст. анапест с мужским окончанием. Пушкин на юге услышал цыганскую песню на румынском языке «Арде ма, фриде ма»216 и переложил ее в песню Земфиры в «Цыганах» (Б6.1) «Старый муж…». Песня Пушкина сразу стала популярна, вызвала подражания, и размер ее стал казаться не румынским, а природно-русским, как у Кольцова (Б6.2) «Я любила его…». И даже когда поэты стали в этом размере сдваивать строчки, чтобы получался 4-ст. анапест с мужским окончанием, они опирались на фольклорную семантику то в тематике, «Не гулял с кистенем я в дремучем лесу», а то, еще тоньше, в стилистике: (Б6.3) «Я за то глубоко презираю себя».
Переходим от размеров народного происхождения к размерам западноевропейского происхождения – с 6‐го по 13-й.
Размер № 6, самый простой, – это 3-ст. хорей. В европейской поэзии он – от средневековых латинских гимнов (Ave maris stella); потом превратился в размер легких песенок, в таком качестве встречается и у некоторых русских поэтов, от Тредиаковского до Сологуба. Но главная русская семантическая традиция этого размера пошла, как ни странно, от немецкого стихотворения, в котором 3-ст. хореем была написана только первая строчка, а дальше шел более вольный размер: Гете «Ночная песня странника», «Über allen Gipfeln ist Ruh…». Его переложил Лермонтов, выдержав размер этой первой строчки на протяжении всего стихотворения: (В1.1) «Горные вершины…». И отсюда пошла целая вереница пейзажных 3-ст. хореев: (В1.2) Фет «Чудная картина…», (В1.3) Никитин «Тихо ночь ложится…», (В1.4) Есенин «Топи да болота…» и др. От этой семантической линии ответвились некоторые другие: смерть (от «отдохнешь и ты», Г. Иванов «Голубая речка…»), быт (Огарев «Небо в час дозора…», Сурков «Вот моя деревня…»), – но прослеживать их взаимодействие сейчас нет времени.
Размер № 7 – тоже от средневекового латинского размера, но пришел в Россию через Польшу и Украину. Было молитвенное восклицание «Господи, помилуй, помилуй меня», Miserere, Domine, Miserere mei; в нем быстро расслышали хореический ритм и стали складывать в этом ритме целые стихотворения, и благочестивые, и не очень, «Умереть в застолице я хотел бы лежа»; и этим латинским стихам стали подражать и на новых языках, немного деформируя их ритм под влиянием местных привычек. В украинской народной поэзии из этого получился силлабический 8+6-сложный коломыйковый стих: «Ой коби я за тим була, за ким я гадаю, Принесла бим сім раз воды з тихого Дунаю»; потом им пользовался и Шевченко: «Посіяли гайдамаки…». В России этот силлабический стих стал силлабо-тоническим: 4- и 3-ст. хореем со сплошными женскими окончаниями; и полностью сохранил песенные ассоциации, как бы добавился к уже рассмотренным нами размерам русского происхождения с народно-песенными ассоциациями: (В2.1) Мерзляков, «Чернобровый, черноглазый…», а 50 лет спустя (В2.2) Некрасов «Отпусти меня, родная…», а еще 70 лет спустя (В2.3) Мандельштам «Клейкой клятвой липнут почки…». А у Багрицкого этот размер использован в «Думе про Опанаса», и даже со сдвигами ударений, как в силлабическом стихе, чтобы подчеркнуть украинскую тематику: (В2.4) «Зашумело Гуляй-поле…».
Размер № 8 – от того же латинского размера Miserere, Domine, Miserere mei, но прошедшего не через украинское, силлабическое, а через германское, тоническое, посредничество. В германских языках этот стих, во-первых, как бы надставился в начале, превратился из хорея ТАта ТАта ТАтатА ТАта ТАта ТАта в 4–3-ст. ямб таТА таТА таТА таТА, таТА таТА таТАта, а во-вторых, под влиянием древнегерманского чисто-тонического стиха расшатал междуударные промежутки, превратился из ямба в 4–3-уд. дольник: таТА татаТА таТА таТА, таТА татаТА таТА. Такой дольник долго жил в немецких и английских народных балладах и песнях, а потом романтики привлекли его и в литературу: сперва осторожно, выправив его обратно в ямб, а потом смелее, в неровном дольниковом виде. Оба этих подхода нашли подражание и в русском стихе. Наш размер № 8 – это 4–3-ст. ямб со сплошными мужскими окончаниями, и начался он переводами из немецких и английских романтиков: (В3.1) Жуковский из Гете «Бежит волна, шумит волна…»; Козлов из Байрона «Прости, прости, мой край родной! Уж скрылся ты в волнах; Касатка вьется, ветр ночной Играет в парусах». И после этого семантическая окраска этого размера прочно остается «романтической», при всей расплывчатости этого понятия: (В3.2) Некрасов «Княгиня Трубецкая», (В3.2а) Исаковский «В прифронтовом лесу», (В3.2б) Орлов «Его зарыли в шар земной», (В3.2г) Брюсов «Противоречий сладких сеть Связует странно всех…» и даже детское «Бежит матрос, бежит солдат…». Во всех этих примерах окончания были сплошь мужские. Но в начале XIX века русский стих к этому был еще непривычен, и поэтому параллельно развивалась другая разновидность этого 4–3-ст. ямба – с чередованием мужских и женских окончаний; канонизировал ее тот же Жуковский в «12 спящих девах» и (В3.3) «Певце во стане русских воинов». И здесь семантическая окраска «романтическая», и здесь некоторые образы и мотивы переходят из стихотворения в стихотворение: (В3.5) Фет «Был чудный майский день в Москве», (В3.4) А. К. Толстой «То было раннею весной», (В3.6) К. Р. «Уж гасли в комнатах огни», (В3.7) Бальмонт «Меня крестить несли весной». А когда в этом размере появляется бытовой, неромантический материал, то от контраста с традицией размера он ощущается особенно выпукло: (В3.8) Некрасов «Горе старого Наума».
Размер № 9 – это 4–3-ст. хорей: как бы тот же романтический 4–3-ст. ямб, только укороченный в начале и от этого как бы более легкий. Начинался он тоже как романтический балладный размер, но быстрее и легче переходил в песенный. Наиболее употребительно было здесь то же чередование мужских – женских окончаний – тот же Жуковский, который написал 4–3-ст. ямбом балладу «12 спящих дев», «Над пенистым Днепром-рекой…», написал 4–3-стопным хореем балладу (В3а) «Светлана». Сплошные мужские окончания были в 4–3-ст. хорее менее употребительны, чем в ямбе; зато в нем получила развитие третья разновидность, которая в ямбе была редкой: чередование не мужских – женских, а женских – мужских окончаний. Начиналась она у романтиков тоже с балладной семантики: Жуковский «Рыцарь Тогенбург», (В3б.1) Лермонтов «Спор», (В3б.2) А. К. Толстой «Илья Муромец». Но так как хорей во всех европейских культурах более песенный размер, чем ямб, то из баллады наш размер легко переходил в песню. Здесь намечались две семантические традиции: во-первых, колыбельная – (В3в.1) Лермонтов «Спи, младенец», (В3в.2) Ахматова «Далеко в лесу огромном», (В3в.3) Инбер «Сыну, которого нет»; во-вторых, серенадная – (В3г.1) Огарев из Рельштаба «Песнь моя летит с мольбою», (В3г.2) Блок из «Розы и креста» «День веселый, час блаженный». Когда в середине XIX века жанровые границы размылись, то романтический лиризм был подхвачен такими стихотворениями, как (В3г.3) «Шепот, робкое дыханье» Фета, (В3г.5) «В сне земном мы тени, тени» Вл. Соловьева, (В3г.6) «Молитва» («Сторожим у входа в терем») Блока. И опять (как в 4–3-ст. ямбе), когда реалисты вводят в этот размер бытовой материал, он острее ощущается именно по контрасту с романтической традицией: Некрасов (В3в.1а) прямо пародирует Лермонтова, Никитин (В3г.4) начинает стихотворение пародией на Фета, а кончает прямой дидактикой, Некрасов (В3б.3) пишет этим нежным размером грубое «Эй, Иван», Никитин (В3г.4а) – более мягкую бытовую картинку «Дедушка». Наконец, символистам удалось здесь сделать интересный синтез: А. Белый (В3б.4) написал этим размером свой цикл «Деревня» на реалистическом материале, но с романтической экзальтированной стилистикой.
Размер № 10 – 4-ст. амфибрахий с мужскими окончаниями – тоже развился из немецкого народного 4-ударного дольника, но не упрощенного в ямб, а сохранившего и у романтиков неровный ритм: «Wer reitet so spät…». Для русских поэтов начала XIX века это было слишком экзотично, и они выровняли этот дольник в амфибрахий: (В4а.1) «Кто скачет, кто мчится». Амфибрахий до этого был редок в русской поэзии, так что экзотичность все-таки сохранялась, и романтическая семантика сопровождала этот размер очень долго: от Пушкина (В4а.2) «Черная шаль», Лермонтова (после А3.3а) «В песчаных степях аравийской земли», до Светлова (В4а.3) «Гренада», хотя Светлов и печатает свои 4-ст. амфибрахии в две строки. Реалисты, конечно, сделали натиск и на этот размер, но захватили не столько этот 4-ст. амфибрахий с парной мужской рифмовкой, сколько соседнюю разновидность, 4-ст. амфибрахий с обычным чередованием женских и мужских рифм: «Однажды в студеную зимнюю пору…». Таким образом, произошло своеобразное размежевание: одна разновидность 4-ст. амфибрахия сохранила романтическую семантику, а другая – реалистическую.
Размер № 11 – 4–3-ст. амфибрахий, обычно с чередованием мужских и женских окончаний, тоже получился в результате выравнивания немецкого и английского дольника, только не 4-уд., как в «Лесном царе», а более обычного 4–3-уд.: «Zu Aachen in seiner Kaiserpracht, Im altertümlichen Saale, Saß König Rudolphs heilige Macht Beim festlichen Krönungsmahle», «Торжественным Ахен весельем шумел, В старинных чертогах, на пире Родольф, император избранный, сидел В сиянье венца и в порфире» (1818). Отсюда (В4б.2) пушкинское «Как ныне сбирается…» и дальнейший, тоже романтический и тоже балладный, семантический ореол – не только, например, в балладах А. К. Толстого («Василий Шибанов», «Три побоища»), но и, более тонко, например, в (В4б.3) «Княгине Волконской» Некрасова: «Трубецкую» он стилизовал под один романтический размер, а «Волконскую» – под другой: прозаизированный стиль «бабушкиных записок» этим вдвигается в атмосферу романтической эпохи. И так вплоть до Багрицкого «Свежак надрывается. Прет на рожон…».
Размер № 12 – другой вариант выравнивания того же 4–3-уд. европейского дольника – на этот раз не в амфибрахий, а в 4–3-ст. анапест. Семантика та же, романтическая и патетическая; в начале этой традиции стоит баллада (В4в.1) «Иванов вечер» Жуковского (и, с польскими наращениями, «Будрыс»); в середине – переход от баллады к песне, «Есть на Волге утес» Навроцкого; затем следуют и (В4в.2) «Друг мой, брат мой…» Надсона, [и «Растворил я окно, стало душно невмочь» К. Р.?], и «Не венчал мою голову траурный лавр» Блока, и (В4в.3) «За гремучую доблесть» Мандельштама (в семье это стихотворение называлось «надсоновским»).
Наконец, этот же англо-немецкий дольник мог употребляться не только (чаще всего) в 4–3-уд. виде, не только (реже) в сплошь 4-ударном, но и (особенно по-немецки) в сплошь 3-уд. виде: «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…». По-русски он выравнивался, соответственно, в 3-стопный амфибрахий с мужскими и женскими окончаниями: «Не знаю, о чем я тоскую, Что сердце печалит мое…» – это наш размер № 13. У этого размера романтическая западная семантика разветвляется на несколько традиций. Во-первых, самая ранняя, еще предромантическая – застольная, от (В4г.1) перевода Дельвига из Коцебу; затем следует, например, (В4г.2) Вяземский «Я пью за здоровье немногих» и т. д. вплоть до (В4г.3) Мандельштама «Я пью за военные астры» (хотя здесь текст и напечатан сдвоенными строчками). Во-вторых, традиция балладная – у начала ее стоят (В4г.4) «Воздушный корабль» (из Цедлица) и «Тамара» Лермонтова, а в середине, что еще интереснее, (В4г.5) «Мороз, Красный нос» Некрасова. Это очень интересный случай рассчитанного взаимодействия романтической семантики стиха и реалистического бытового материала – мы такое уже встречали. Сюжетная рамка – красавица, в которую влюбляется Мороз и замораживает ее, – типично сказочно-балладная; а заполняется она реалистическими картинами крестьянской жизни. Именно поэтому они врезались в сознание читателей и отложились в нем 3‐й, «трудовой» семантической традицией этого размера: (В4г.6) Блок, «Работай, работай» (и тоже, как у Некрасова, с женским портретом), (В4г.6а) Брюсов, «Единое счастье – работа», (В4г.8) Исаковский, «Русской женщине», (В4г.9) Коржавин, так и названный «Вариации из Некрасова»; а некоторым ответвлением отсюда – стихи Блока из цикла «Мещанское житье» («Одна мне осталась надежда…») и от них – (В4г.7) Мандельштам, «Квартира тиха, как бумага». Эта «трудовая» семантическая традиция как бы постепенно переходит в 4‐ю, семантику смутной тоски и отчаянья, в ХХ в. господствует именно она. На переходе – (В4г.10) «Замученный тяжкой неволей» Мачтета; за переходом – (В4г.11) «Опять с вековою тоскою» Блока, (В4г.12) «Отчаянье» Белого, написанное в те же дни, и самоопровержение Белого – (В4г.13) «Родине». Очень своеобразным синтезом сразу нескольких семантических традиций нашего размера становится (В4г.14) «Сижу, освещаемый сверху» Ходасевича: основная тема здесь – романтическое творчество, преображающее мир и человека; заглавие – «Баллада»; в декорации – от «мещанского житья» («штукатурное небо и солнце в 16 свечей», «косная низкая скудость безвыходной жизни моей»); а исходное чувство – тоска («и в смущеньи не знаю…», «как жалко Себя…»); нет разве что застолья.
Переходим к последней группе размеров – к тем, которые восходят к античным источникам: это размеры с 14‐го по 20-й. Здесь естественнее всего проследить по очереди те, которые восходят к эпосу, к драме и к разным видам лирики.
К античному эпосу восходит, конечно, размер № 14 – силлабо-тоническая имитация гексаметра (впервые у Тредиаковского, в почете после Гнедича и Жуковского): более строгого стиля, например, (А1.2) «Сон Мелампа» В. Иванова; более вольного, анжамбманного стиля, пожалуй, только (А1.1) у Жуковского в «Ундине» и др. Русский гексаметр – это 6-ст. дактиль или 6-ст. дольник с нерифмованными женскими окончаниями; интересно, что были попытки создания, так сказать, дериватов гексаметра – других длинных строчек трехсложных размеров, обычно рифмованных. Таковы 5-ст. дактиль с женскими рифмами (А1а) у Фета, «Месяц зеркальный»; 5-ст. амфибрахий с женскими рифмами (А1б) у Лермонтова, «Дубовый листок»; 5-ст. анапест с женскими рифмами (А1в.1) у Фета, «Истрепалися сосен…»; во всех этих примерах, благодаря женским окончаниям, сохраняется ощущение сходства с гексаметром и семантика «чего-то античного». Но достаточно ввести в эти размеры обычное чередование мужских и женских окончаний, чтобы это ощущение ослабело: так в 5-ст. анапесте с мужскими и женскими рифмами (А1в.2) у Мандельштама, «Золотистого меда» с античной семантикой в содержании, и так в 5-ст. анапесте с женскими и мужскими рифмами в «905 г.» Пастернака, уже без античной тематики в содержании; но, судя по высказываниям критиков, они и в стихе «Девятьсот пятого года» ощущали сходство с гексаметром и, стало быть, античную семантику.
К античной драме восходит размер № 15 – 5-ст. ямб с нерифмованными женскими и мужскими окончаниями. Он возник в (итальянской и) английской драме шекспировского времени, оттуда перешел в немецкую лессинговскую и шиллеровскую, а потом в русскую, в «Бориса Годунова» и проч. А из драмы он перешел в лирику – в медитативные стихотворения, стилизованные под драматический монолог. Одним из первых была (А2.1) «Тленность» Жуковского из Гебеля, диалог с размышлениями о смертности всего земного; молодой Пушкин смеялся над ней, но в зрелые годы сам написал уже монолог (А2.2) «Вновь я посетил» – тоже с размышлениями о прошлом, о смерти, но и о будущем; и эта семантика с тех пор присутствует фактически во всех стихотворениях такой формы: в (А2.3) «Эзбекие» Гумилева, (А2.4) «Вольных мыслях» Блока (первое стихотворение – «О смерти»), от них – в «Белых стихах» Пастернака, во вспоминательных (А2.8) «Эпических мотивах» Ахматовой, в (А2.5) стихах 1918 г. Ходасевича, (А2.6) размышлениях о гибельных судьбах России у Волошина (и затем у Багрицкого) и затем (А2.7) у Луговского, и о старой и новой эпохе (А2.9) у Мандельштама, и (А2.10) о том, как «ломали Греческую церковь», у Бродского. Полупародией на это ощущается «Конец второго тома» Кузмина (от него «Сны» Шенгели и отчасти тот же Луговской).
Из античных лирических размеров первым следует назвать «ямбы», размер эподов Архилоха и Горация: чередование 6- и 4-ст. ямба. Это наш размер № 16. На французской, а потом и на русской почве он приобрел две семантические окраски: во-первых, от Жильбера, печальная элегия, отсюда (А3.1) «Выздоровление» Батюшкова, (А3.2) «На холмах Грузии» Пушкина; во-вторых, от Шенье, патетическая гражданская лирика, отсюда (А3.3, 3а) «Поэт» и «Не верь себе» Лермонтова, а потом (А3.4) «Скифы» Блока.
Следующий важный для нас из античных лирических размеров – анакреонтический стих: в силлабо-тонических имитациях от него пошел 3-ст. ямб, это наш размер № 17. Первая его разновидность, с обычными женскими и мужскими рифмами, начинается с (А4.1) Ломоносова, «Разговор с Анакреоном», с чередованием размеров и игрой на их семантических контрастах. Из собственно анакреонтики этот размер переходит в песни и романсы, не всегда даже веселые – (А4.2) Капнист «На смерть Юлии»; эта традиция живет дольше, чем кажется, ср. (А4.5) «Зеленая прическа» Есенина, Ахматову и пр. – потом в дружеские послания – (А4.3) Батюшков эпикурейские «Мои пенаты» (ср. дидактические послания 6-ст. ямбом, разговорные – вольным ямбом, медитативные – 4-ст. ямбом), потом в шуточные стихи (А4.4) А. К. Толстой «История государства Российского». Вторая его разновидность, с дактилическими нерифмованными окончаниями, совпадает с одним редким размером русских народных песен – (А4а.1) «На улице то дождь, то снег» – и приобретает их семантический ореол, как бы вторгаясь в круг размеров, восходящих к народным источникам: отсюда (А4а.2) «Пора любви» Кольцова, от нее – (А4а.3) «Зеленый шум» Некрасова, причем Некрасов вносит в однообразие дактилических окончаний перебивающие мужские окончания, от лирического «Зеленого шума» – эпич. (А4а.4) «Кому на Руси жить хорошо». Третья его разновидность, с чередованием дактилических и мужских рифм, является почти одновременно с таким же чередованием в 4-ст. хорее (с которым 3-ст. ямб вообще близок по жанровому – песенному – уподоблению и по семантическому ореолу) и тоже поначалу опирается на «народную» томно-горестную семантику дактилических окончаний: (А4б.1) Мерзляков «Среди долины ровныя»; но потом рядом с ним возобладала легкая, веселая семантика (от анакреонтики!) в водевильных и подобных им куплетам, например (А4б.2) Мятлев «Фонарики»; отсюда Некрасов и занес мужские окончания в свой «Зеленый шум» и «Кому на Руси». Самые семантически интересные стихи возникают на скрещении этих двух традиций, заимствуя от первой, мерзляковской, серьезность чувства, а от второй, водевильной, живость и взволнованность: (А4б.3, 4) Лермонтов «В минуту жизни трудную», «Уж за горой дремучею», от «Свидания» – (А4б.5) Полонский «В одной знакомой улице», (А4б.6) Пастернак «О бедный Homo sapiens», от «молитвы чудной» – (А4б.7) Мандельштам «Жил Александр Герцевич». [А потом от переосмысления песенности в марш – (А4б.8–9) «Мы – молодая гвардия», «Вставайте, люди русские» и «Вставай, страна огромная».]
Последние наши три размера происходят от совсем редкого античного размера, «адония», который даже не употреблялся самостоятельно, а лишь в составе сапфической строфы; откуда он попал в русскую поэзию XVIII в., трудно понять, в немецкой поэзии (у Гете и Шиллера, «Punschlied») он появляется лишь позже. <Польское?>. У нас он дает прежде всего наш размер № 18, 2-ст. дактиль, некоторое время популярный в духовных песнях о бренности земного: (А5.1) Сумароков «Часы»; удваиваясь, он дает размер (А5.2) «Снегиря» Державина на смерть Суворова, скопированный потом Бродским в «На смерть Жукова».
Из этого сдвоенного 2-стопного дактиля простым сглаживанием цезурных усечений легко возникает наш размер № 19, 4-ст. дактиль (первые сдвиги уже в «Снегире»: один из первых опытов у позднего Жуковского (А5а.1) «Суд божий над епископом», со слабым отголоском той же дактилической семантики); но привиться у романтиков он не успел («Пленный рыцарь» Лермонтова, «Пироскаф» Баратынского еще со следами усечений), поэтому его легко отбили реалисты и закрепили за своей бытовой тематикой: (А5а.2) Некрасов полупародическая «Псовая охота», «Несжатая полоса», «Саша», (А5а.3–3а) Никитин «Ехал из ярмарки ухарь-купец», «Мертвое тело», все с уклоном к сюжетности; можно сказать, что семантика этого размера – «эпическая грусть», несмотря на то что «Ухарь-купец» стала романсом Вертинского и что последняя стадия этой традиции – (А5а.5) песенка «Крутится, вертится шар голубой». От этой основной линии 4-ст. дактиля с жен. – муж. или сплошными мужскими рифмами ответвляется 4-ст. дактиль со сплошными дактилическими рифмами: прежде всего у Лермонтова (А5б.1) «Тучки небесные» и «Я, матерь Божия», потом у Апухтина (А5б.2) «Ночи безумные»; можно сказать, что семантика этого размера – «лирическая грусть». Реализм сделал натиск и на эту разновидность размера: (А5б.3) Некрасов «Не предавайтесь особой унылости»; но сочетать или размежевать свои семантические области они не успели, потому что в ХХ в. этот размер практически вышел из употребления.
Наконец, последний наш размер, № 20, это 4–3-ст. дактиль с чередованием дактилических и мужских окончаний; именно отсюда Лермонтов взял дактилические окончания для своих «Тучек». Этот размер сложился целиком на русской почве: немецких аналогов нет, традиция адония почти не чувствуется и тематика, с самых первых образцов, романтически-народная: (А5в.1) Вельтман, «Что затуманилась», песня такой популярности, что перешла, кажется, даже в татарскую народную поэзию. Можно сказать, что семантика этого размера – «народная грусть» (хотя, конечно, были в этом размере и романтические стихи без народности – «К полярной звезде» Бенедиктова). В пору наступления реализма эта семантика пришлась ко двору, явились (А5в.2) Некрасов, «В деревне», и (А5в.3) Полонский, «Что мне она! Не жена, не любовница»; даже молодой Мандельштам в 1906 г. начинал с «Синие пики обнимутся с вилами». Но в целом приход символизма, сторонившегося расхожей народности, положил конец популярности этого размера: у Блока мы еще читаем «Зарево белое, желтое, красное, Крики и звон вдалеке» (Брюсов еще стилизует народную семантику в «Каменщике» с оглядкой на этот размер, хоть и с рифмами жен. – муж.), но в ХХ в. он тоже выходит из употребления.
ПИСЬМО ПРОФЕССОРУ М. КОЛУЧЧИ С КОНСПЕКТОМ ДОКЛАДА О СОНЕТАХ МАНДЕЛЬШТАМА 217
Дорогой коллега, посылаю Вам конспект своих лекций о сонете Мандельштама: простите, что такой сжатый и неполный. В этом семестре я заканчивал курс «Поэтика Мандельштама» и кроме некоторых других текстов (например, две редакции «Ариосто») взял эти пять сонетов, потому что сам всегда плохо их понимал. Я помню, что мы с Вами послали почти одинаковые заявки для майских конференций по сонету: Вы – «О сонетах Мандельштама», я – два варианта, «О сонетах Мандельштама» или «Почему Брюсову казались правильными только сонеты Волошина и свои собственные». Посмотрите, пожалуйста, мой конспект. Мы можем поступить двумя способами. Если Вы в Вашем докладе предполагаете говорить приблизительно то же, что и я, тогда, пожалуйста, пусть эта тема целиком останется за Вами, из моего конспекта воспользуйтесь любыми дополнительными наблюдениями, а я займусь (хоть и с неохотой) сонетами Волошина. Если же направление Вашего доклада предполагает быть немного другим, то, может быть, мы сделаем два параллельных доклада на одну и ту же тему? (Или, например, Вы про все пять сонетов, а я про одно «Паденье…».) Слушателям это могло бы быть интересно. Если Вы думаете, что это возможно, то напишите мне, о чем Вы собираетесь [говорить] в Вашем докладе, и я буду обдумывать свой так, чтобы не касаться или почти не касаться того, чего коснулись Вы.
Я кончил книгу «Метр и смысл» – переработку статей о семантических ореолах русских стих. размеров, и уже сдал ее в издательство. Конечно, материал продолжает собираться и дальше, но это уже дело бесконечное. А третий том моих статей, «О стихе», до сих пор еще не вышел. В будущем году я с коллегой должен кончить книгу – точнее, серию статей – по теме «Лингвистика стиха», это трудно, времени будет мало.
Всего Вам самого хорошего! С приближающимся Рождеством и Новым годом.
СОНЕТЫ О. МАНДЕЛЬШТАМА
0. Все пять сонетов Мандельштама написаны в 1912 году – как будто Гумилев дал ему задание освоить модную стихотворную форму. (В свои книги он включил из них только два.) Для Мандельштама это был год, переломный между символизмом и акмеизмом: началом его акмеизма Гумилев считал шестистишие «Нет, не луна…», написанное в том же году (некоторые видят в нем обломок сонета: Баевский). Сквозной темой раннего Мандельштама было ощущение хрупкости земной жизни перед лицом Бога и рока. В символистских стихах это был протест (кричащий в 1910 году, успокаивающийся в 1911 году), в акмеистических стихах это было отстранение: о несказанном следует помнить, но молчать, а говорить лишь о земном и ощутимом (Гумилев). Сонеты Мандельштама интересны тем, что он именно в них переступает порог между символизмом и акмеизмом.
1. «Пусть в душной комнате, где клочья серой ваты…» (апрель). Содержание: «В зимней комнате лихорадочный больной глядит на стенные часы, и движение стрелок напоминает ему гигантские шаги: (перелом) осенний двор, детское кружение на гигантских шагах, то взлет, то спуск, как предвестие жизни и болезни». Гигантские шаги были тогда в моде (А. Ахматова. Десятые годы. М., 1989. С. 89). Болезнь с виденьями, кружение времени, ощущение пророчества – мотивы символистской поэтики; бытовой образ гигантских шагов лишь оттеняет ее. Две половины стихотворения, реальность и видение, противопоставлены трижды: не взрослость, а детство, не духота, а ветер (флюгера, ставни), ощущение настоящего полета (пророчества о гигантских свершениях будущей жизни), от которого остался лишь платок больного, «как талисман крылатый».
Память о детстве связывалась у М. если не с гигантскими шагами, то с качелями («Только детские книги читать»). То же ощущение тоски подъемов и падений – в «В огромном омуте…» (за которым у М. стоит образ «иудейского хаоса»). Отвращение к «кругу минут» – сквозная черта его поэзии: время, заполненное событиями, – хорошо; время как пустой поворот часовой стрелки – плохо («Когда удар с ударами встречается…», время как носитель судьбы и смерти, ср. «О, маятник душ строг… – стучит рок»). Этот сонет теснее всего связан с ранними стихами М.
В центральном образе возможно воспоминание о Тенишевском училище с его спортивными играми. А. А. Морозов видит в этом стихотворении воспоминание о смерти Б. Синани, тенишевского друга М., рожденного для подвигов (он умер от чахотки в 1910 году, отец его был психиатром).
2. «Паденье – неизменный спутник страха…». Содержание: «Всякое падение рождает страх, даже если это падение камня – особенно если камень движим не земным тяготением („иго праха“), а Божьей волей. Ты искал в монастыре подчинения Божьей воле, но это вело лишь к смертному отчаянию и бессилию. (Перелом.) Будь же проклят, Божий храм, посильный лишь для немногих, где нет человеческого уюта – (второй перелом), но несчастен в своем страхе и тот, кто живет лишь этим преходящим уютом». Второй перелом неожидан: «веселые дрова», по эпитету, осмыслены положительно, а потом, как «мгновенная забота», тут же становятся источником страха и неуверенности. Неожиданна и «вечность» с положительным значением: в ранних стихах М. ее боялся, в «Нет, не луна…» она ему «противна». «Вечность» камня и «мгновенность» дерева контрастируют. «Булыжники» монастырского двора напоминают о камнях, упавших с высоты; «жажда смерти и тоска размаха» – видимо, мысль о том, чтобы самоубиться, бросившись с высоты, как камень; «размах» может означать и бесконечность, такую же страшную, как «обычно» – вечность. Но почему эти мечты названы «грубыми», не совсем ясно.
Подтекст – Дан. 2:24 и 45: камень, сорвавшийся с горы и сокрушивший царского истукана, был отторгнут «не руками», «без содействия рук», т. е. Богом; в традиционной интерпретации этот камень – Христос, Бог-Слово. Отсюда стихотворение Тютчева «Problème»: «мы не знаем, правит миром Бог или безличный закон природы» (ср. у Шиллера «Dient sie knechtisch dem Gesetz der Schwere Die entgötterte Natur»). Отсюда нестандартное акмеистическое толкование: «Камень Тютчева… есть слово… Акмеисты… поднимают… тютчевский камень и кладут его в основу своего здания» («Утро акмеизма» – христианская интерпретация отстранена, на первом месте не Бог, а человек-строитель (иначе, но менее убедительно – Лекманов)). Отсюда богоборческая тема вызова «пустому небу» (стихотворение «Я ненавижу свет…», слова о «стреле готической колокольни» в «Утре акмеизма»; Шиллер предпочитал мир с богами, для Тютчева это проблема, М. явно предпочитает мир без Бога, с мирными законами природы, Божье вмешательство его пугает). Изнанка этого богоборческого вызова – страх, о нем и написано стихотворение. Можно сказать, что его давящий «готический приют» – антипод будущего оптимистически-рукотворного «Notre Dame», разрыв с символистским отношением к Богу накануне обращения к акмеистскому отношению.
Центральный образ «монаха» может ассоциироваться с (1) тем же Тенишевским училищем («маленькие аскеты, монахини в детском своем монастыре…» – «Шум времени»); но там дух был не религиозный, а позитивистический, и тогда стихотворение пришлось бы переосмыслить так: «паденье вызывает страх, тяготенье вызывает страх, для познания этих законов природы мы прячемся в тенишевский монастырь, но и там не находим отрады: изучение законов природы служит не вечности (т. е. Богу), а мгновенью, и не приносит ощущения прочности». Нам это кажется менее убедительным. (2) С «деревянными чертами» больного Надсона, посещающего швейцарский замок, как сам М. в 1909 году (Лекманов). (3) Главное – с Фр. Виллоном, ищущим свое место в мире, но миф о средневековье, в нишах которого каждому живущему заранее отведено почетное место, еще недопридуман Мандельштамом (Ронен).
3. «Пешеход» («Я чувствую непобедимый страх…»). Содержание: «Я боюсь недоступной высоты и люблю недоступную (для ласточки, для колокольни); я чувствую себя горным пешеходом со старой гравюры – меж бездной и бездной, и под нависшей лавиной, когда бьет роковой час; (перелом) но это еще не подлинная беда, а подлинная в том, что я надеюсь спастись через колокольную музыку, а это безнадежно». Зачин о страхе – такой же, как в предыдущем сонете; впоследствии такие параллельные и перекликающиеся разработки одной темы («двойчатки») стали у М. обычны. Тема «ложной надежды» тоже такая же: там – порыв к небу через готический свод, здесь – колокольный звон (колокола как связь с высотой – в стихотворениях «Когда укор колоколов…», «Скудный луч холодной мерою…»; ср. связь с морем в «Раковине»: ласточка, вслед за Державиным и Фетом, тоже душа в пограничье того и этого мира, ср. «Под грозовыми облаками» и «Смутно дышащими листьями»). Центральный образ (там монах, здесь – путник) тоже так же занимает серединное семистишие. Однако композиционный перелом здесь, в отличие от двух предыдущих сонетов, – мнимый: «но» не вводит контраст, а продолжает нагнетание.
Сонет труден для восприятия (и пересказа), потому что (1) по ходу текста меняется образ источника страха: в начале это высь, в середине и высь с лавиной, и бездна под мостками, в конце только бездна. (2) И гораздо сложнее меняется образ спасения от страха, причем ключевое слово «музыка» раскрывается только в последнем двустишии. Колокольня в начале – архитектурный символ связи с ближней, досягаемой высью; колокола в конце – музыкальный символ связи с дальней, недосягаемой высью. Первый образ близок акмеизму (особенно лично-мандельштамовскому), второй – символизму. М. по-прежнему на пороге между символизмом и акмеизмом (впрочем, музыкальная тема прорывалась у М. и сквозь акмеизм, см. «Бах» и «Ода Бетховену»). Эта перемена образа колокольни еще осложняется серединным образом «и вечность бьет на каменных часах»: то ли это часы каменной колокольни меняют голос и вместо человеческого времени гласят о нечеловеческой вечности? то ли это метафора и каменные часы – это горы, с которых гремит лавина?
В качестве подтекста легко вообразить реальную гравюру (мостки через пропасть, развевающийся плащ, вверху снежные горы, внизу бездна, на дальнем плане и ласточка на уровне зрения, и колокольня, торчащая из долины), но конкретный образец неизвестен; ср. стихи Г. Иванова о старых гравюрах. Указывались переклички со стихами М. Лозинского, адресата посвящения (Лекманов), но слишком отдаленные.
Из двух сонетов о страхе в «Камень» был включен «Пешеход», вероятно, оттого, что религиозная тема, чуждая акмеизму, звучала в нем слабее.
4. «Казино» («Я не поклонник радости предвзятой…»). Содержание: «Я не радуюсь природе, а предпочитаю радости быта. Среди стихий душа чувствует себя в страхе над бездной. (Перелом.) А в быту это приморский ресторан с широким окном, море за ним не страшно, вино передо мной прекрасно, как роза, и я издали слежу за чайкой между небом и землей (и водой)». «Бездна» и «чайка», похожая на ласточку, связывают этот сонет с предыдущим. Но в целом этот сонет уже законченно акмеистичен: поэт отгораживается от проклятых бездн широким окном (видимо, полукругом) и сосредоточивается на хрупких радостях комфорта. Об отношении М. к комфорту (все более платоническом) см. письмо к Вяч. Иванову 13.08.1909; «поэтом города» объявил Мандельштама в рецензии 1916 года Гумилев. По сравнению с этим традиционная тема природы для него – «радость предвзятая».
1‐й катрен задает общий контраст. «Серое пятно» природы и «краски жизни» напоминают о контрасте пасмурного фона «прогулочных» размышлений 1911 года и ярких красок интерьерных стихов вроде «Медлительнее снежный улей…»; «душа, как полотно» – ср. «парус души» в «Как тень внезапных облаков» (и в «В изголовье…»). 2‐й катрен развивает тему природы (небо, море, между ними душа) и наращивает отрицательную эмоцию (от «не поклонник» до «проклятой», и затем перелом «Но я люблю…»). Якорь (надежды) может считаться контрастом к «подводному камню веры» символистского 1910 года. Два терцета – два движения взгляда от заоконного моря к ресторанному столику; измятая скатерть – вместо «души-полотна», крылатая чайка издали – вместо переживаемого «душа висит» (Лекманов).
Подтексты – переломы к «Но я люблю» (от «Родины» Лермонтова и до «Бессмертник сух…» Ахматовой) (Лекманов); он же напоминает, что в июне 1912 года в Териоках в виду гостиницы «Казино» утонул Сапунов, в декорациях любивший широкое окно на заднем плане.
5. «Шарманка» («Шарманка, жалобное пенье…») (16 июня). Содержание: «Пошлая шарманка зря тревожит стоячий день; чтобы она встревожила его по-настоящему, нужна музыка получше, „туманная“ (перелом) – или, наоборот, заглушающий музыку скрежет колеса точильщика». Последняя строка неожиданна – как будто перед нею второй перелом. Бросается в глаза отсутствие зрительных образов (разве что в метафорах) – только звуковые. Однообразию описываемой музыки соответствует однообразие рифм – все стихотворение на две рифмы, и обе на -ень-. Несерьезности музыки соответствует укороченный, облегченный 4-стопный ямб. Стихотворение выглядит как бы отходом производства от четырех главных сонетов; если оно и включается в эволюцию от символизма к акмеизму, то как финальный дивертисмент, упражнение на нарочито мелкую бытовую тему.
6. Таким образом, логическая последовательность движения от символизма к акмеизму в пяти сонетах (от апреля до июня?) 1912 года такова. 1) «Пусть в душной комнате…» – бредовая смутность сознания, мысли о времени (о прошлом), иной мир и этот сближены в «гигантах и детях». 2–3) «Паденье…» и «Пешеход» – прояснение страха, мысль о пространстве (вертикаль), иной мир – тот, откуда камни и лавины. 4) «Казино» – конец страха, отстранение иного мира и сосредоточенность на этом мире (горизонтальном). 5) «Шарманка» как постскриптум – уход из трагической эмоции в легкую бытовую и из зрительной образности – в звуковую.
АРИСТОТЕЛЬ 218
Люди всегда хотели больше знать. И не только больше, а лучше: знать и не ошибаться. Знание – это наука. А размышление о надежности знания – это уже философия.
У начала европейской философии стоят три древних грека: Сократ, ученик Сократа Платон и ученик Платона Аристотель. Конечно, у них были предшественники. Но вопрос «как правильно знать?» (и, соответственно, «как правильно вести себя» в соответствии с этим знанием) сделали главным именно они. О Сократе мы сейчас говорить не будем. Это он первый сказал: «Я знаю, что я ничего не знаю», – и стал искать знания в беседах со всеми встречными и поперечными (которые, конечно, считали, что они все знают), на каждый ответ задавая переспрос, пока у собеседника не начинала кружиться голова и не появлялось очень неприятное чувство, что они тоже ничего не знают. В конце концов Сократа привлекли к суду и приговорили к смертной казни, чтобы не беспокоил народ расспросами. Казнь он принял как герой – нет, больше чем герой: как добродушный мученик. Ни одного сочинения он не оставил, но беседы его запоминались людям на всю жизнь.
«Знать и не ошибаться», – сказали мы. А отчего бывают ошибки в познании? На это духовный сын Сократа Платон и духовный внук Сократа Аристотель ответили по-разному.
Платон сказал: ошибки начинаются с неправильных понятий. В математике все понятия правильные: скажешь «квадрат» – и все люди вообразят в уме совершенно одно и то же. И это несмотря на то, что в жизни никто никогда абсолютно правильного квадрата не видел: на любом, самом аккуратном чертеже всякий квадрат будет хоть немного, да крив или перекошен. А скажешь «стол» или, еще опаснее, «справедливость» – и каждый человек вообразит в уме совсем не то, что его сосед: один представит трехногий стол, другой – четырехногий, один – всеобщую свободу, другой – всеобщее равенство. Вот когда люди научатся мысленно видеть такие понятия так же четко и едино, как «квадрат», тогда они и станут правильно знать, а стало быть, правильно жить. Как этому научиться? Платон верил, что есть иной мир, в котором существуют идеальный квадрат, идеальный стол, идеальная справедливость, а над всем этим – идеальное благо. «Идеальные», то есть ослепительно наглядные, четкие, запоминающиеся; греки все представляли себе зримо: по-гречески «идея» значит «зримый вид». Наши души до рождения живут в этом мире, видят эти идеи и, когда воплощаются в тела, сохраняют о них смутную память. Разбуди в себе эту память усилиями мысли – и твое знание будет безошибочно.
Аристотель учился у Платона двадцать лет. Он был хорошим учеником. Говорили, что Платон читал однажды лекцию о бессмертии души; лекция была такая трудная, что ученики, не дослушав, один за другим вставали и выходили. Когда Платон кончил, перед ним сидел только один Аристотель. Но чем дольше Аристотель слушал Платона, тем меньше соглашался с тем, что слышал. А когда Платон умер, Аристотель произнес: «Платон мне друг, но истина дороже», – покинул Платонову школу и завел свою собственную.
Аристотель сказал: ошибки начинаются не с неправильных понятий, а с неправильных суждений. Да, Платон прав: есть идеи квадрата, стола, справедливости. Но не надо думать, что они такие наглядные, ясные и прекрасные. Закройте глаза и представьте себе вот этот стол. Вы представите его во всех подробностях, с каждой царапинкой и резной завитушкой. Теперь представьте себе «стол вообще», платоновскую идею стола. Сразу все подробности исчезнут, останется только доска и под ней то ли три, то ли четыре ножки. А теперь представьте себе «мебель вообще»! Вряд ли даже Платон сумеет это сделать ярко и наглядно. Нет: чем идея выше, тем она не ярче, а беднее и бледнее. Мы не созерцаем готовые «виды», как думал Платон, – мы творим их сами. Повидав сто столов, тысячу стульев и кроватей, сто тысяч домов, кораблей и телег, мы замечаем, какие приметы у них общие, и говорим: вот вид предметов «стол», род предметов «мебель», класс предметов «изделие». Разложим все, что мы знаем, по этим полочкам родов и видов – и мир для нас сразу станет яснее.
Что такое суждение? Связь между двумя понятиями. Вот передо мной понятие «смерть»; вот передо мной живой человек по имени Кай; умрет он или нет? Рассуждаем. Первое суждение: «Все люди смертны» – этому нас учит опыт, все люди на свете и при нас, и до нас когда-нибудь да умирали. Второе суждение: «Кай – человек», потому что «человек» – это род, а «Кай» – это вид. Умозаключение: «Следовательно, Кай смертен». Мы можем утверждать это, не дожидаясь, пока Кай умрет, и будем, к сожалению, правы. Цепь этих трех суждений называется «силлогизм», а наука об их правильном построении – «логика». Отцом логики был Аристотель.
У Платона мир похож на монархию: вверху сидит, как правитель, идея стола, а внизу ей покорно повинуются настоящие столы. У Аристотеля же мир похож на обычную греческую демократию: столы встречаются, выясняют, что в них есть общего и что разного, и совместно вырабатывают идею стола. Не нужно смеяться: Аристотель действительно считал, что каждый стол стремится быть столом, а каждый камень – камнем, точно так же как желудь стремится быть дубом, а яйцо – птицей, а мальчик – взрослым, а взрослый человек – хорошим человеком. Нужно только соблюдать меру: когда стремишься быть самим собой, то и недолет, и перелет одинаково нехороши. Что такое людские добродетели? Золотая середина между людскими пороками. Смелость – среднее между драчливостью и трусостью; щедрость – между мотовством и скупостью; справедливая гордость – между чванством и смирением; остроумие – между шутовством и грубостью; скромность – между застенчивостью и бесстыдством. Что такое хорошее государство? Власть царя, но не тирана; власть знатных, но не своекорыстных; власть народа, но не бездельничающей черни. Мера во всем – вот закон. А чтобы определить эту меру, нужно исследовать то, что ею мерится.
Платон написал очень красивую книгу о том, каким должно быть идеальное государство, а Аристотель составляет 158 описаний для 158 настоящих греческих государств и потом уже садится за книгу «Политика». Платон больше всех наук любил математику и астрономию, потому что в мире чисел и звезд порядок сразу бросается в глаза, а Аристотель первый начинает заниматься зоологией, потому что в пестром хаосе живых существ, окружающих человека, навести порядок трудней и нужней. Здесь Аристотель сделал чудо: он описал около 500 животных и выстроил их на «лестнице природы» от простейших к сложнейшим так стройно, что его система продержалась две тысячи лет. Некоторые его наблюдения были загадкою: он упоминал такие жилки в насекомых, которые мы видим только в микроскоп. Но специалисты подтверждают: да, так, обмана здесь нет, просто у Аристотеля была такая острота зрения, какая бывает у одного человека на миллион. Острота ума – тоже.
Аристотель поставил своей целью охватить наблюдением и классификацией все на свете; чего не успевал сам, то поручал ученикам. Не миновал он и литературы: он первый написал книгу под названием «Поэтика». И, по обычаю своему, начал с самого простого и главного: почему обман или убийство нам в жизни противны и страшны, а на картине или на сцене занимательны и приятны? И отвечает: потому что в художественном произведении мы узнаем действительность, а узнавая, познаем ее – хотя бы потому, что действительность бесконечна и поэтому необъятна для ума, а художественное произведение имеет начало и конец, а стало быть, все лишнее поневоле отбрасывает, а все главное оставляет. А человек от природы так устроен, что познание доставляет ему радость (заметьте эту мысль!). Всякому из нас случалось «в минуту жизни трудную» брать с полки или просто вспоминать любые стихи, и на душе становилось легче. Для этого облегчения у нас нет специального слова. Аристотель, сын врача, взял его из медицины: «очищение», по-гречески – «катарсис». Мы видим обман в жизни, и нам противно; мы видим обман в комедии, смеемся, и с этим смехом исчезает ощущение противности. Это и есть «катарсис». То же самое происходит, и когда мы видим страшное и ужасное в трагедии, но, конечно, сложнее. Поэтому в «Поэтике», говоря о трагедии, Аристотель упомянул о катарсисе лишь мимоходом, а подробный разговор отложил до раздела о комедии. Но случилось так, что первая половина «Поэтики», о трагедии, до нас дошла, а вторая, о комедии, не сохранилась. Поэтому ученые не перестают ломать голову над понятием «катарсис» – ключевым понятием всякой теории искусства.
Недавно итальянский ученый и писатель Умберто Эко написал роман «Имя розы», сразу получивший мировую популярность. Он переведен и у нас – вероятно, многие его читали. Там говорится о том, как в средневековом монастыре была найдена драгоценная греческая рукопись, что из этого вышло и как она в конце концов трагически погибла. Так вот, эта рукопись – та самая вторая половина «Поэтики» Аристотеля с описанием катарсиса, которая до нас не дошла.
Как писал Аристотель:
Трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему <определенный> объем, <производимое> речью, услащенной по-разному в различных ее частях, <производимое> в действии, а не в повествовании и совершающее посредством сострадания и страха очищение подобных страстей…
Самая важная <из частей трагедии> – склад событий. В самом деле, трагедия есть подражание не <пассивным> людям, но действию, жизни, счастью, <а счастье и> несчастье состоят в действии. И цель <трагедии – изобразить> какое-то действие, а не качество, между тем как характеры придают людям именно качества, а счастливыми и несчастливыми они бывают <только> в результате действия. Итак, в <трагедии> не для того ведется действие, чтобы подражать характерам, а <, наоборот,> характеры затрагиваются <лишь> через посредство действий: таким образом, цель трагедии составляют события, сказание, а цель важнее всего…
Что бросается в глаза в этих двух абзацах из «Поэтики»? Угловые скобки, режущие текст. В них заключены слова, которые был вынужден добавить переводчик. Зачем? Попробуйте прочитать текст, пропуская все слова в скобках, – это вполне возможно. Смысл останется, связность останется, а стиль – на что он станет похож? На стиль конспекта «для себя» в записной книжке: с сокращениями, вставками, перебивками и т. д. В виде таких конспектов и дошли до нас все известные сочинения Аристотеля. Были ли это конспекты самого Аристотеля, по которым он читал лекции ученикам, или конспекты учеников, записывавших лекции учителя, – мы не знаем. Но согласитесь: если переводить слово в слово, то рядом придется неминуемо делать развернутый пересказ. Лучше уж вставлять слова в угловых скобках.
А опускать скобки ради плавности тоже не годится, потому что другой переводчик может понять и восполнить скомканный текст Аристотеля совсем не так. Я перевел (вслед за большинством исследователей): «И цель <трагедии – изобразить> какое-то действие…», а моя коллега переводит это место: «цель <жизни> – какое-то действие…»; смысл получается иной, и очень интересный. Не забудем, что подавляющее большинство читателей (в том числе профессиональных философов!) знакомятся с Аристотелем – и не только с ним – не в подлиннике, а в переводах. Поэтому отделять слова автора от слов переводчика необходимо, иначе из вторых и третьих рук Аристотелю припишут (как не раз бывало) то, чего он и подумать не мог. Вдобавок и собственные слова автора могут пониматься неправильно. То слово, которое мы перевели «сказание», до сих пор переводили «фабула» и понимали как «сюжет». А на самом деле оно значит «миф» – ведь греческие трагедии писались только на мифологические сюжеты. Согласитесь: разница немалая. Вот с такой кропотливой тщательностью приходится работать всякому переводчику философского текста.
А вот о том, что античная трагедия (по Аристотелю) начинается с действия (например, месть за месть), а к нему подбирается характер (например, Орест), новоевропейская же трагедия начинается с характера (например, Гамлет), а к нему подбирается действие, в котором он полнее всего проявляется, – пусть читатель подумает сам.
ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА 219
Сейчас вряд ли кому придет в голову считать наши школьные и вузовские учебники истории художественной литературой и изучать их рядом со стихами Твардовского или прозой Шолохова. А еще сто лет назад это никого бы не удивило. Да и сейчас, когда студент начинает изучать историю европейской литературы, первым прозаиком, с которым он встречается, оказывается древнегреческий историк Геродот. И если у него хватит времени полистать Геродота, он увидит: Геродот читается как роман. Даже после того, как русские переводчики обезличили его неповторимый стиль.
Пушкин писал о Евгении Онегине:
«Анекдоты» в те дни не означали «смешные истории». Анекдотами назывались яркие и характерные случаи из жизни исторических лиц. Выходили многими изданиями книжки под заглавием «Анекдоты о Петре Великом», и, конечно, содержания не комического, а восторженного. До сих пор, хоть мы этого и не сознаем, образ Петра I в нашем сознании во многом складывается из этих «анекдотов» – не всегда достоверных, но всегда красочных. Пушкин хотел сказать, что Онегин вряд ли сдал бы экзамен по истории: на вопрос, в каком веке жил Цезарь, он, пожалуй, не смог бы ответить. Но образ Цезаря он представлял себе мгновенно: это тот, который еще в молодости сказал: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме»; а двинув войска на Рим, сказал: «Жребий брошен»; а падая под ударами заговорщиков, сказал: «И ты, Брут?» А Август – это тот, который произнес: «Я принял Рим кирпичным, а оставляю его мраморным». А Калигула – тот, который хотел сделать сенатором своего коня. А тщеславный Нерон пред смертью воскликнул: «Какой артист погибает!» А циничный Веспасиан сказал: «Деньги не пахнут». А его благородный сын Тит, не сделав за день ни одного доброго дела, говорил: «Друзья, я потерял день». Вот такими яркими вспышками характеров рисовались Онегину полтора столетия римской истории, а какие в точности это были годы, не так уж интересно. Важно то, что совершенно так же представлял себе эти образы любой его современник: достаточно было назвать имя, и все было ясно без объяснений. Когда Пушкин писал о Чаадаеве:
то всякий мгновенно понимал: в императорском Риме он был бы тираноборец, в демократических Афинах – мудрый правитель, а здесь… Нынешний читатель это понимает уже не так легко, и ему приходится заглядывать в примечания, обычно скомканные и невыразительные. Это потому, что ему не пришлось, как Пушкину и его современникам, смолоду читать (сначала в пересказах, а потом и полностью) Геродота, Плутарха, Тита Ливия, Тацита – всех, кто создал для Европы эту галерею художественно-зримых образов.
Но есть не только образы людей, а и образы событий, биографии народов. Вот падение Римской империи: изнеженные или, наоборот, солдатски грубые императоры; народ, ставший от распространения христианства бездеятельным и безразличным ко всему земному; варвары, свежими силами подминающие под себя состарившуюся цивилизацию, – это тема английского историка Гиббона (вспомните в том же «Онегине»: «…прочел он Гиббона, Руссо…»). Вот французская революция: вырождающийся старый режим, первые умеренные преобразования, растущий натиск недовольного народа, все более и более жестокий террор, надлом, реакция и всеусмиряющая диктатура Бонапарта – это тема французских историков Тьера и Минье, современников Пушкина. Вот судьба России: бедствия княжеских раздоров, потом татарского нашествия, собирание всех сил вокруг государственной власти, неминуемые жертвы и конечная благотворность укрепления «государства Российского» – это тема русской истории, написанной Карамзиным. Вот та же судьба России, но с другой точки зрения: как княжеский род владел всей русской землей сообща, а потом отдельные князья стали владеть кусками русской земли порознь; как государство, собирая все народные силы, энергично закрепощало одно сословие за другим, а потом гораздо более лениво их раскрепощало, так что между указом о вольности дворянства и манифестом о вольности крестьянства прошло сто жестоких лет, – это тема русской истории, написанной Ключевским.
Цель у историка та же, что и у писателя: обнаружить закономерности жизни человеческой и жизни народной. Но там, где писатель может прибегнуть к домыслу и вымыслу, историк обязан держаться точных фактов. Сочинение историка – это как бы роман с ручательством за достоверность каждого события. Установить достоверность нелегко, источники, свидетельства сплошь и рядом противоречат друг другу, нужно не только выбрать самый правдоподобный вариант, но и объяснить, почему в одном документе он искажен так-то, а в другом так-то. Это трудная работа, оценить которую могут только специалисты. У Карамзина в каждом томе его «Истории» половину места занимает связный рассказ о событиях, а половину – мелким шрифтом – дробные примечания с обоснованием этого рассказа. Первую половину читали все, вторую – хорошо, если десятая часть читателей. У Пушкина мы читаем в собрании сочинений «Историю Пугачева» – на самом деле это только половина «Истории Пугачева», а вторая половина – документы, собранные Пушкиным, – в собрании сочинений обычно не перепечатывается.
Не только обработка материала, но и изложение его – общая забота писателя и историка. Развитому языку необходимо богатство слов и оборотов не только для конкретных предметов, но и для отвлеченных понятий. Без них не опишешь ни исторические процессы, ни душевные движения. Такой язык разрабатывает проза вообще и научная проза в частности. Ломоносову легче было писать стихи по-русски, а научную прозу по-латыни, где уже был готовый запас терминов для всего, но он и ее старался писать по-русски, создавая русский научный язык. То, что начал Ломоносов, кончил Карамзин. Молодой Пушкин считал лучшей русской прозой «Историю государства Российского» Карамзина и «Опыт теории налогов» Николая Тургенева.
Почему же мы теперь перестали ощущать историю как искусство и воспринимаем ее только как науку, и подчас довольно скучную? Во-первых, из‐за нарастающей специализации. Двигаясь вглубь своего предмета, историкам все больше приходится писать только для историков – заниматься теми вопросами, о которых Карамзин писал только в примечаниях и мелким шрифтом. А во-вторых, из‐за нарастающей идеологизации. Дореволюционные учебники истории были списками того, что сделал такой-то князь и такой-то царь. После революции нужно было срочно ввести в школу марксистский подход – представление об истории как о борьбе классов. По поручению Ленина историк-большевик М. Н. Покровский написал книжку «Русская история в самом сжатом очерке». Покровский был талантлив и умел писать ярко и едко, но в этой книжке не было ни одного живого лица, ни одного ярко описанного события – только «торговый капитал», «промышленный капитал» и т. д. Это понятно: Покровский мог рассчитывать, что факты для этих схем учителя сами подберут из дореволюционных учебников. Но дореволюционные учебники затрепывались и исчезали, а новые, безликие, переиздавались вновь и вновь. Уже и «концепция Покровского» была предана проклятию, и учебники стали писаться по новым схемам, но живее они от этого не стали. Заметьте, чем ближе к нашему времени, тем больше выцветает история в школьном курсе: Яна Гуса мы живее представляем себе, чем Бисмарка или Гладстона. Это потому, что чем дальше, тем тверже держится привычка: исторический деятель есть выразитель интересов такого-то класса, а все остальное – от лукавого.
Сейчас стало легче: учебники истории все так же плохи, но рядом с ними появляется все больше научно-популярных книг по истории. Сквозь «хронологическую пыль» вновь начинают вырисовываться «дней минувших анекдоты» – те, из которых складывается память нации о своем прошлом. И может быть, близко то время, когда мы не хуже Евгения Онегина будем отличать Калигулу от Нерона, хотя оба были жестокие тираны и уж во всяком случае выразители интересов одного и того же класса.
Когда в начале этого века стали присуждать ежегодные Нобелевские премии, то премию по литературе в первый год получил французский поэт Сюлли-Прюдом, а во второй год – немецкий историк Теодор Моммзен. Моммзен был великий ученый, и без его специальных – «мелким шрифтом» – книг до сих пор не обходятся историки. Но присуждавшие премию думали не об этих книгах, а о его старой, еще в 1850‐х годах написанной «Истории Рима» – книге «крупным шрифтом» для читателя-неспециалиста и такой яркой, что она не выцвела в умах за полвека. Не будем же этому удивляться.
…В АФИНАХ ПЕРИКЛЕС… 220
Мы сказали: «…и всякий мгновенно понимал, что в демократических Афинах Чаадаев был бы мудрый правитель». А точнее? Из каких неповторимых черт складывается образ именно этого мудрого правителя – Периклеса (или, как теперь обычно произносят, Перикла), фактически правившего Афинами в 443–429 годах до н. э.?
В школьном учебнике вы прочтете: «…славился своим красноречием». А в книгах, которые читали Пушкин и его друзья, к этому добавлялось вот что. Один его противник, тоже хороший оратор, оказавшись в изгнании, объяснял любознательным: «Если бы мы боролись и я его повалил, он и лежа убедил бы всех, что это он меня повалил». Красноречие бывает разное. Перикл не кричал, не взывал к богам, не делал трагических жестов. Всходя на трибуну, он молился про себя об одном: соблюсти меру, не сказать лишнего. У него, конечно, были враги, его бранили, над ним издевались. Перикл был спокоен: пусть говорят что угодно, лишь бы делали то, что полезно. Один грубиян шел за ним, ругаясь, всю дорогу от народного собрания до дому. Перикл молчал, а когда пришел домой, то выслал к нему раба с факелом – посветить ему на обратном пути, потому что было уже темно, а до первых уличных фонарей было еще лет восемьсот.
У него были и друзья – самые умные люди Греции, у которых он не стеснялся учиться всю жизнь. Однажды перед походом случилось солнечное затмение, и народ испугался: дурное знамение! Перикл вскинул плащ, заслонил им солнце и спросил: «Видите вы что-нибудь удивительное? нет? Так вот, затмение – это то же самое, только предмет, заслоняющий солнце, побольше».
За друзей он умел заступаться. Однажды афиняне притянули к суду философа Анаксагора – того, который когда-то сам объяснил Периклу, что такое солнечное затмение. Перикл вышел к народу и спросил: «Кто может сказать обо мне что-нибудь худое?» Никто не посмел. «Так вот, Анаксагор – мой учитель, а учитель не может быть хуже ученика». Анаксагор спасся от казни.
Афинам грозила война со Спартой. Перикл ее оттягивал сколько мог, но она все-таки началась. Это была война на измор: Перикл собрал все окрестное население в городские стены, отдал села на разграбление спартанцам, а сам тем временем медленно душил Спарту морской блокадой. Крестьяне со слезами смотрели с афинских стен, как топчут их хлеба и рубят их оливы. Но Перикл говорил: «Легче вырастить новые деревья вместо срубленных, чем новых бойцов взамен убитых». Разоряя, спартанцы щадили имения Перикла, чтобы казалось, будто он с ними в сговоре. Тогда Перикл объявил в собрании, что отдает все свои имения государству.
Он умер на третьем году войны. У его смертного ложа сидели друзья и вспоминали его походы и победы. Вдруг умирающий промолвил: «Главное не это: главное – пока я мог, я никого не заставил носить траур». Это были его последние слова.
КАК ЧИТАТЬ ТРУДНЫЕ СТИХИ 221
Легких стихов не бывает, разве что какие-нибудь газетные или альбомные однодневки. Любое, самое хрестоматийное стихотворение Пушкина или Некрасова, если пристально всмотреться в каждое слово, окажется совсем непростым. Но есть такие стихи, которые с первого взгляда ощущаются как трудные: их не перескажешь своими словами, а если понимать их буквально, то на первый взгляд получается бессмыслица. Читатели относятся к этому по-разному. Одни просто бросают книгу. Другие и не ищут смысла, а наслаждаются одним звучанием – как музыкой. Третьи пытаются понять стихотворение иносказательно – каждый на свой лад. Последние на верном пути; только нужно хорошо видеть, где кончается прямое значение, общее для всех, и начинается иносказание, вольное для каждого читателя.
Вот стихотворение О. Мандельштама, написанное в 1922 году, несомненно, из числа «трудных»:
Будем читать его постепенно, фраза за фразой, отдавая себе отчет: что мы узнали нового и как это новое переосмыслило старое, уже прочитанное.
Первая строфа: «Я не знаю, с каких пор эта песенка началась…» Мы еще ничего не видим, только слышим: перед нами «песенка» без начала и без конца, то есть вечная; а вокруг, по-видимому, тишина.
«Не по ней ли шуршит вор, комариный звенит князь?» Первое недоумение: «шуршать по песенке» ни вор и никто другой, конечно, не может. Но созвучие подсказывает ассоциацию: «песенка» – «лесенка». Мы представляем себе вора, который шуршит, поднимаясь по лесенке (шуршит, а не скрипит: видимо, вокруг что-то сухое и мягкое): какое отношение это имеет к песенке, пока неясно. И мы представляем себе комариный звон: видимо, на него чем-то похожа песенка – такая же тоненькая (недаром «песенка», а не «песня») и чем-то важная (недаром «князь»). В чем связь между вором и комаром (может быть, это комар, сосущий кровь, в переносном смысле назван вором?) – тоже пока неясно.
Вторая строфа: «Я хотел бы ни о чем еще раз поговорить…» Что значит «разговор ни о чем»? После строфы о «песенке» напрашивается мысль: это – музыка, она что-то говорит сознанию, но что именно – не перескажешь. И еще это может значить разговор о пустяках, который ведется только ради поддержания контакта с собеседником. Получается: поэт был уже когда-то участником этой музыки, этой бесконечной песенки, и теперь ему хочется опять («еще раз») включиться, слиться с ней. Проверим это понимание: пойдем дальше.
«Прошуршать спичкой…» – то есть нарушить тишину и темноту. «Плечом растолкать ночь – разбудить…» – да, действительно, вокруг – темнота, сонный покой, он тягостен, неприятен, из него хочется вырваться.
Третья строфа: «Приподнять, как душный стог, воздух, что шапкой томит…» Нагнетание продолжается: вокруг – не только темнота, тишина и неподвижность, но еще и духота («душный»), и сухость («стог»), и тяжесть («шапка»), и это в самом деле неприятно («томит»). «Перетряхнуть мешок, в котором тмин зашит…» – последнее отрицательное свойство окружающего мира: в нем все слежалось, просит встряски. В противоположность песенке, тянущейся из бесконечности в бесконечность, поэт чувствует себя заточенным в ночи – как под шапкой, как в мешке. Но почему в мешке именно тмин?
Последняя строфа: «Чтобы розовой крови связь, этих сухоньких трав звон, уворованная нашлась через век, сеновал, сон». Некоторые наши загадки разрешаются. Во-первых, сухое и мягкое шуршание, воздух, похожий на стог, объясняются тем, что названо место действия: сеновал. Заодно и песенка получает новую характеристику: это не только комариный звон, но и «сухоньких трав звон». Во-вторых, понятнее становится «вор» в первой строфе: утраченную связь (с бесконечной песенкой?) здесь поэт называет «уворованной». В-третьих, и это главное, подтверждается то, чего ищет поэт, – это «связь» взамен оторванности. Но с чем эта связь, в чем она состоит? Автор дает два определения, и оба загадочные: «розовой крови связь», она же «сухоньких трав звон». Отношения между ними можно понять двояко: 1) «розовой крови связь» – это связь между людьми, их родство по крови, а «сухоньких трав звон» – связь людей с природой, космосом, «музыкой сфер»; 2) «крови связь» – это физическое родство людей, «трав звон» – это духовное родство людей через общую для них музыку, «песенку», тянущуюся сквозь всю их историю. Право выбора остается пока за читателем. Почему «пока» – скоро увидим.
Согласитесь: стихотворение стало понятнее и даже, пожалуй, поддается пересказу. Я ни секунды не настаиваю на том, что это понимание – единственно возможное: я просто проследил ход своей мысли при чтении стихотворения.
Заметим: мы не привлекали никаких ассоциаций с другими стихами Мандельштама или иных поэтов, мы действовали так, как будто это первое и единственное стихотворение Мандельштама, которое мы прочли. Но если обратиться к творчеству поэта в целом, многое станет яснее: окажется, что «сухость», «душность» часто встречаются в его стихах, что в них можно найти даже сухую, шелестящую кровь, что с тмином связываются у него воспоминания детства, что «вор» проясняется ранней строчкой: «У вечности ворует всякий…» А начитанный человек сможет вспомнить, что «комариный князь» ассоциировался с «музыкой» поэзии еще у Державина, а «тмин» – у Верлена. Чем больше наш опыт чтения стихов, тем лучше мы поймем каждое новое читаемое стихотворение.
А теперь проверим себя. Одновременно с разобранным нами стихотворением Мандельштам написал другое, парное:
Попытайтесь самостоятельно разобрать это стихотворение. А мы ограничимся лишь несколькими замечаниями. Во-первых, предыдущее стихотворение кончалось словом «сеновал» (как загадка – разгадкой), а это – им начинается и развертывается до космических масштабов. Во-вторых, предыдущее кончалось отождествлением: «розовой крови связь» – «этих сухоньких трав звон», это – кончается их противопоставлением. Думается, что это позволяет из двух пониманий предыдущей концовки предпочесть первое: «кровь» – это связь с людьми, «звон» – связь с космосом. (А по-вашему?) В-третьих, не всякий знает слово «эолийский» – здесь оно значит «древнегреческий, стройный, мерноритмичный». И не всякий помнит, что «воз» – это народное название Большой Медведицы. В-четвертых, читая среднюю строфу, просто необходимо вспомнить строки Тютчева: «О, страшных песен сих не пой про древний хаос, про родимый!..» Наконец, в-пятых, средняя строфа, взятая нами в скобки, отсутствовала во всех прижизненных изданиях стихотворения и была вставлена поэтом незадолго до смерти. Изменила ли она смысл стихотворения и если да, то как? На этом остановимся и оставим читателя наедине с Мандельштамом.
1908
1909
1911
1912
1909
1921
17–28 марта 1931
1934
1935
ПОБОРНИК КЛАССИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 223
Книге Ф. Ф. Зелинского «Древний мир и мы (Лекции, читанные ученикам выпускных классов С.-Петербургских гимназий и реальных училищ весной 1903 г.)» почти девяносто лет, но она не устарела. Вопрос, который в ней обсуждается, из числа вечных: что такое культурный человек и какой должна быть школа, чтобы впустить его в жизнь? В начале нашего века вопрос этот вставал в виде спора между образованием «классическим» и «реальным». В 1903 году цикл лекций в обоснование «классического», гуманитарного образования прочитал перед выпускниками петербургских школ – как классических гимназий, так и реальных училищ – профессор Петербургского университета Фаддей Францевич Зелинский (1859–1944). Это был филолог с европейским именем (начал он свой путь в Германии, кончил в Польше), много сделавший для изучения греческой и латинской словесности; и это был прекрасный педагог-популяризатор, умевший говорить о сложных вещах просто, но не упрощенно. Лекции его «Древний мир и мы» оказались блестящими, до революции они выдержали три издания и были переведены на пять языков. К античности, говорил он, восходят не только те или иные отдельные наши культурные ценности, но и самое главное в европейской цивилизации – ее привычка мыслить, ее умственный строй, именно это позволяет русскому, немцу и испанцу лучше понимать друг друга, чем араба или китайца. А изучение античности, будучи правильно поставлено, не сводится к воспитанию ума, а тесно сплетается с воспитанием психологическим и воспитанием нравственным, в конечном же счете служит социологическому отбору, которым совершенствуется человеческий род.
В наши дни вопрос о культуре и школе обостряется вновь, и не только у нас в стране, но и во всем мире. Кругозор современного читателя стал шире: читая книгу Зелинского, он не остановится там, где останавливался ее автор, и не впадет в самолюбивый соблазн европейской исключительности или духовного аристократизма. Он пойдет мыслью дальше, но идти он будет по тем же направлениям, которые наметил здесь Зелинский.
ПУТЕШЕСТВИЕ АНАХАРСИСА ПО ГРЕЦИИ 224
Если уж говорить о культурной карте мира, то одно из первых странствий по ней – то, которое описано в книге под заглавием «Путешествие младшего Анахарсиса по Греции в половине IV века до Рождества Христова». Книге этой недавно исполнилось двести лет.
Герой этой книги – юный скиф из хорошо знакомых нам причерноморских степей. Зовут его «младший Анахарсис» потому, что был еще старший Анахарсис – скифский царь, который полюбил греческие нравы и обычаи, попытался завести их в своей стране и за это был убит соотечественниками. Так об этом пишет историк Геродот. Позднейшие философы стали представлять его мудрым дикарем, который близок природе, не испорчен цивилизацией, жизнью прост, духом прям, а мыслью здрав. Рассказывали, будто он даже приезжал в Грецию, стал другом Солона и бывал на пирах семи великих мудрецов. В отличие от этого старшего Анахарсиса младший Анахарсис – лицо вымышленное, ни у кого из древних авторов не упоминаемое. Его сочинил французский писатель аббат Бартелеми (1736–1795), чтобы его глазами показать читателю нового времени великую греческую культуру. И поселил он его не в век семи мудрецов, когда расцвет греческой классики был еще впереди, а в век Платона и Аристотеля, когда она уже подводила свои итоги, – не в VI, а в IV век до н. э.
Сам Жан-Жак Бартелеми работал над своей книгой тридцать лет, в 1757–1787 годах. Это было время начинающегося предромантизма: перестало казаться, что культурные каноны одинаковы для всех стран и времен, стало цениться историческое и национальное своеобразие. Раньше Древняя Греция ощущалась как идеальное воплощение общечеловеческого разума, в греческой культуре привлекали нормы, а не частности, – теперь именно неповторимые частности оказались милей всего, каждую мелочь захотелось увидеть и потрогать. Вспыхнула мода на археологию, античные камни и монеты стали светской забавой. В 1755 году начали раскапывать Помпеи, по салонам распространился «помпейский стиль». Тут-то Жан-Жаку Бартелеми и пришла в голову мысль написать всеохватывающую энциклопедию греческой культуры в изящной общедоступной форме занимательного путешествия. Три жанра скрестились в этом замысле: модные сентиментальные путешествия, традиционные записки путешественников по дальним странам и любопытнейший путеводитель по Греции для римских туристов, сочиненный во II веке н. э. писателем Павсанием; мы о нем когда-нибудь еще поговорим.
Молодой любознательный скиф ездит по Греции, любуется природой, постройками и статуями, слушает беседы философов, разбирается в политике, наблюдает нравы и размышления о добродетели, красоте и разуме. Дольше всего он живет, конечно, в Афинах. Глава о городе, глава о нравах и обычаях, глава о религии и жрецах, глава о праздниках, глава о театре. О воспитании, о философских школах, о государственном устройстве, о суде, о финансах, о сельском хозяйстве. О греческих именах, о счастье, о свадьбах и похоронах, о музыке, о первопричинах бытия. Не меньше десятка глав – о библиотеке, с обзором всех наук. Из Афин он выезжает в другие области Греции: в Фивах беседует с Эпаминондом, в Скиллунте – с Ксенофонтом, в Дельфах посещает храм, в Элиде – олимпийские игры, в Спарте любуется законами и доблестями. В Греции Бартелеми никогда не был. Он работал по книгам: делал выписки из несчетных сочинений античных авторов, располагал их по темам и по маршрутам и украшал собственным слегка чувствительным красноречием. Почти к каждому своему предложению он делает ссылку на источник. Он был не тщеславен, но щепетилен. О его сочинении уже шла громкая молва; когда он читал отрывки в салонах, то гости одевались по-гречески и устраивали ужины по греческим поваренным книгам; но он все не решался закончить работу и издать книгу. Когда она вышла в четырех больших томах с гравюрами, был 1788 год и уже приближалась революция.
Отрывок, который вы прочтете, – это пересказ, очень краткий и очень вольный. В подлиннике это сорок больших страниц; при этом о мифологических диковинках Бартелеми говорит очень бегло, считая их недостойными суевериями, а о добродетелях Эпаминонда и о красоте слога Пиндара с чрезмерным, пожалуй, многословием. Но, может быть, и такой пересказ даст понять, почему эта забытая книга стала в свое время массовым чтением для всей Европы на много десятилетий.
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БЕОТИИ
…Из Афин мы отправились вскоре после весеннего равноденствия, в первые дни Артемидина месяца мунихия. Греция – страна холмистая и гористая, повозкам ездить трудно, люди чаще странствуют пешком. Путники считаются под защитой Зевса, покровителя странников, нападать на них – грех. При дорогах – постоялые домы, но тесные и грязные. А в городах можно останавливаться у тех земляков, которые там живут постоянно и пользуются уважением. Называются они «проксены», т. е. «заступники за гостей», и через них даже сносятся города с городами. Да и простые горожане охотно пускали нас переночевать, когда слышали, что мы из Афин.
Между Афинской землей и Беотийской – Киферонские горы, мы их обогнули с севера. Там стоит Ороп, пограничный город, а близ него – роща и в ней храм Амфиарая. Когда шли походом Семеро против Фив, Амфиарай был с ними, хотя он был прорицатель и знал, что их всех ждет смерть. Боги его любили, и он не был убит врагами: перед ним распахнулась земля и приняла его живого. А потом, говорят, дух его явился из-под земли в этих местах и дает людям прорицания. Кто хочет, тот приносит в жертву богам барана, снимает с него шкуру и на этой шкуре спит ночью в храме, а во сне ему является Амфиарай и говорит вещие слова. Если пророчество поможет, то человек в благодарность бросает серебряную монету в ручей возле храма.
За Оропом течет река Асоп, самая большая в этих местах. Бог ее Асоп даже боролся с Зевсом, когда Зевс похитил дочь его Эгину. Зевс тогда грянул в Асопа молнией, и в речной воде до сих пор видны обугленные камни. А от Эгины у Зевса родился сын Эак, муравьиный царь, внуком которого был герой Ахилл.
Вверх по Асопу в четырех часах ходьбы стоит Танагра, город бога Гермеса. В храме там – статуя Гермеса Доброго Пастыря с бараном на плечах, работы ваятеля Каламида. Когда вокруг была чума, то Гермес спас Танагру, обойдя вокруг нее с бараном на плечах. В память этого каждый год справляют праздник, и самый красивый юноша обходит вокруг городских стен с бараном на плечах.
Из Танагры была родом поэтесса Коринна, у которой учился великий Пиндар. И на музыкальных состязаниях беотийцы часто присуждали награды ей, а не Пиндару: может быть, потому, что она сочиняла на местном, а не на чужом наречии; а может быть, просто потому, что она была очень красивая. Это видно по статуе, которая стоит над ее могилой.
В дне пути от Танагры стоит город Платея. Слева от дороги Киферонские горы, а справа Асоп и его долина. В этой долине когда-то греки разбили последнее войско персов, в котором было триста тысяч человек. Возле города – братские могилы греческих воинов, а над ними жертвенник Зевсу Освободителю. Каждый год здесь приносят жертвы и под звуки боевой трубы призывают тени погибших на победный пир. Но сейчас город Платея разрушен, потому что он враждовал с соседними Фивами, а Фивы были сильней. Стоят только храмы, не тронутые победителями, и гостиница для тех, кто приходит с жертвами в эти храмы. Главный храм – богини Афины, стены в нем расписные, на одной – поход Семерых против Фив, на другой – Одиссей, вернувшись на родину, стреляет из лука в женихов своей супруги Пенелопы. Эту фреску писал сам великий Полигнот, а статую Афины делал Фидий.
От Платен до Фив три часа пути через равнину. Крепость фиванская стоит на большом холме, и в стене ее семь ворот. Крепость называется Кадмея, а ворота, в которые мы вошли, – Электрины. Кадм был первым основателем города Фив, а Электра – его сестрою. Говорят, что Кадм пришел сюда из‐за моря, убил здешнего дракона, посеял его зубы в поле, и из земли выросли воины в латах; они перебили друг друга все, кроме пятерых, а пятеро вместе с Кадмом основали город. Поле это показывают перед самыми Электриными воротами. Могилы Кадма в городе нет, потому что он был любимцем богов и не умер, а сам превратился в дракона и уполз на северный край света. А на месте дворца Кадма стоят развалины, потому что дочь Кадма Семела, которую любил бог Зевс, попросила Зевса явиться ей во всем своем величии, и тогда от молний Зевса дворец сгорел, а Семела погибла. Средь развалин есть святилище Семелы, но оно заперто, и туда никого не пускают.
Слева от Кадмейского холма течет речка Диркея, а справа – речка Исмен. Называются они так вот почему. Вторыми основателями Фив были братья Зет и Амфион, Зет – силач, а Амфион – музыкант с волшебной лирой. Мать их была рабыней у злой царицы Диркеи – они освободили ее, а царицу казнили, привязав к рогам быка. По имени растерзанной названа первая речка. А Исмен был старший сын Амфиона. Мать его Ниоба своей гордыней прогневала богов Аполлона и Артемиду, и они за это убили золотыми стрелами Исмена и всех его братьев и сестер. Умирая, он бросился в воду, и по имени его названа вторая речка. Зет и Амфион возвели вокруг Кадмеи новую стену; на звук волшебной лиры Амфиона камни сами снимались с мест и ложились в постройку. У восточных ворот показывают могилу двух братьев и на ней несколько каменных глыб – говорят, они пришли сюда на зов Амфиона.
В Фивах родился и вырос Геракл, сын Зевса, величайший греческий герой. Когда входишь в Фивы через Электрины ворота, то направо от тебя храм Аполлона Исменского со статуей работы Фидия на том месте, где древний Кадм убил дракона, а налево – храм Геракла, на карнизе которого – изображения двенадцати его подвигов, сделанные Праксителем. Храм этот на том месте, где стоял Гераклов дом; здесь – могилы Геракловых детей, которых он сам перебил в приступе безумия. Чтобы остановить его, богиня Афина оглушила его большим камнем; камень здесь лежит до сих пор и называется Вразумитель.
Фивы – самый сильный город Беотии. Все остальные города с Фивами в союзе и покорны им, а кто противится, тех фиванцы разоряют, как Платею. Фивам на руку, что другие города живут в вечных перекорах: Ороп славится жадностью, Танагра – завистью, Платея – тщеславием, Фивы – насилием, Галиарт – глупостью и так далее. Впрочем, глупыми соседи считают всех беотийцев, вместе взятых, и дразнят их «беотийские свиньи». Знаменитый врач Гиппократ объясняет эту глупость тем, что в Беотии воздух влажный и застойный, а по ту сторону Киферона, в Афинах – чистый и свежий.
Раньше в Фивах правила знать, а теперь – народ. За свергнутую знать заступилась Спарта и послала на Фивы свое войско. В трех часах пути от Фив, возле Левктры, оно было разбито, и это было первое поражение непобедимых спартанцев, какое помнят люди. Половина спартанского воинства полегла. Когда я был потом в Спарте, мне рассказывали, как пришла туда об этом весть. Был праздник, шли состязания; правители запретили прерывать праздник, разослали известия о павших по их домам и приказали, чтобы кто не в силах сдержать горе, тот не показывался бы на улицах. Родственники поздравляли друг друга с тем, что их мужья, отцы и дети пали столь доблестно, а спасшиеся стыдились показаться на глаза согражданам. Таково было мужество спартанцев.
Победителями-фиванцами командовал Эпаминонд. Он был ученик философов и любитель добродетели, но по должности сделался полководцем и завоевателем. Живет он в строгой бедности, питается часто только хлебом и медом, изучает музыку, как мудрецы-пифагорейцы, и любит играть на флейте. В беседе он больше слушает, чем говорит; о скифских делах он задавал мне такие вопросы, что я не на все мог ответить. Я спросил его, как сумел он победить спартанцев. Он ответил: «В Греции обычно самых сильных воинов ставят на правый фланг. В бою каждая сторона побеждает на своем правом фланге, а потом победители сходятся и, утомленные, бьются дальше. Я поставил самых сильных воинов на левый фланг, против спартанского правого, и выстроил их не в двенадцать, а в пятьдесят рядов: чувствуя за собой такую силу, боец храбрее бьется. Так мы сразу одержали верх в главной схватке, и победа была наша. Я рад, что мой отец дожил до нашего торжества».
За речкой Диркеей возле храма Матери Богов стоит дом поэта Пиндара, который умер сто лет назад. Он писал хвалебные песни в честь победителей на Олимпийских и других состязаниях, слог их был мощный, как горный поток, и они славились на всю Грецию. Я удивился, что такие знаменитые песни писались по таким случайным поводам. Мне ответили: «О победителе там говорилось не так уж много, а больше – о его городе, о богах, о судьбе и мудрости. Так делают все сочинители хвалебных песен. У Пиндара был поэт-соперник, его звали Симонид. В одну песню он вставил такую хвалу близнецам-Диоскурам, сыновьям Зевса, что заказчик обиделся и заплатил ему только треть обещанного: „а две трети пусть заплатят Диоскуры“. Когда вечером был пир, вошел раб и сказал: какие-то двое юношей-богатырей хотят видеть Симонида. Тот вышел, никого не увидел; и тут вдруг дом за его спиной зашатался и рухнул, раздавив и жадного хозяина, и его гостей. Это заплатили Диоскуры».
Другой великий беотийский поэт – Гесиод. Он жил четыреста лет назад. Он был крестьянин и жил в деревушке Аскре, что под горой Геликоном; мы проходили мимо нее, когда покинули Фивы и пошли дальше. У Гесиода был злой брат, который хотел оттягать у него клочок земли. Чтобы образумить брата, Гесиод написал поэму «Работы и дни»: о том, что правда выше всего и кто ее нарушит, того накажут боги; и о том, что самый честный труд – это крестьянский труд, и что пахать надо так-то, а сеять тогда-то, каждой работе – свои дни. Гесиода тоже чтут по всей Греции. Однажды он даже состязался с самим Гомером, и судьи присудили ему победу – потому что Гомер прославляет войну, а Гесиод – трудовую мирную жизнь.
Геликон, «Витая гора», посвящен Музам; отсюда они сходили вдохновлять Гесиода. Муз вначале считалось только три: Мелета, Мнема и Аэда, что значит «забота», «память» и «песня», потому что песню нужно сначала сочинить, потом выучить, а потом спеть. А теперь там в храме изображены целых девять Муз: Евтерпа-музыка, Терпсихора-пляска, Талия-комедия, Мельпомена-трагедия, Эрато-лирика, Каллиопа-эпос, Полигимния-красноречие, Клио-история и Урания-философия. Там течет источник, выбитый небесным огнем Пегасом, и другой, над которым умер прекрасный Нарцисс, влюбившись в свое отражение и не в силах отойти от него. Зелень и коренья вокруг такие сладкие и хорошие, что даже змеи жалят не смертельно.
Дальше мы пришли в городок Лебадею, близ которого знаменитый оракул в пещере Трофония. Трофоний и Агамед были зодчие, выстроившие в Дельфах храм бога Аполлона; Аполлон за это обещал им лучшую из наград – и через семь дней оба они умерли мирной смертью во сне, с улыбкой на устах. Пещера эта маленькая, высотою в рост человека, а глубиною в два шага. В глубине щель, в которую, кажется, не протиснуться человеку; но когда вопрошающий, принеся жертвы и помолясь, спускает в эту щель ноги до колен, то его сразу туда затягивает, а потом выбрасывает из этой щели тоже ногами вперед. Вышедшие из святилища бывают в таком ужасе, что будто бы никогда больше в жизни не смеются; но это неправда.
Спутник мой рассказал мне, что дед его был учеником философа Сократа и спускался к Трофонию, чтобы спросить: что такое демоний Сократа? Сократ часто говорил, что то-то и то-то подсказывает ему его демоний, но что это такое, не объяснял. Под землею ученик Сократа увидел темное море, окруженное огненной рекой, сияющие острова на нем, клокочущую бездну и над нею в клубах пара движущиеся звезды, то вспыхивающие, то угасающие. Мрачный голос ниоткуда спросил его: «Что хочешь узнать?» Он ответил: «Все». Голос сказал: «Звезды, которые гаснут, – это души тех, кто погряз в чувственной жизни; звезды, которые кружатся в тумане на одном месте, – души тех, в ком разум боролся со страстями; звезды, которые вспыхивают и взлетают ввысь, – души тех, кто повиновался лишь высшему разуму. Души этих последних и есть демонии, помогающие людям правильно жить. А все остальное ты узнаешь через три месяца». Через три месяца дед рассказчика умер.
За Лебадеей налево от нашего пути была Херонея, где чтится древний скипетр, который бог Гефест выковал для Зевса, а Зевс дал Пелопу, по которому назван полуостров Пелопоннес, а от Пелопа получили его потомки Атрей, Фиест и Агамемнон, воевавший под Троей. Двадцать лет спустя близ этой Херонеи царь Филипп Македонский, ученик Эпаминонда, разгромил греческие войска и стал господином над всею Грецией; но тогда мы об этом знать не могли. А направо был Орхомен, древний город, когда-то споривший с Фивами за власть над Беотией; это отсюда царевич Фрикс спасался по небу в Колхиду на золотом баране, за руном которого потом плавали Ясон и аргонавты. Но при нас Орхомен был уже в упадке, и хорош там был только храм Харит, богинь красоты. Их три, и зовут их Аглая-Блестящая, Евфросина-Радостная и Талия-Цветущая.
Дальше путь наш был к северу по гористым местам через Фокиду и Локриду к славному ущелью Фермопилам, через которые открывается выход в северную Грецию. Горы здесь как будто упираются в самое небо, а от гор до моря только пятьсот шагов. Здесь когда-то четыре тысячи греков приняли бой с несчетным воинством персидского царя Ксеркса, и все погибли смертью храбрых; среди них – триста спартанцев с их царем Леонидом, имя которого значит «Львенок». Мы видели каменного льва на могиле Леонида и читали знаменитую надпись, сочиненную тем самым поэтом Симонидом, который был соперником Пиндара:
А за Фермопилами нам открылась Фессалия, страна колдуний, умеющих сводить месяц с неба; на запад от нее – горы Пинд, любимые музами, на север – подоблачный Олимп, гора богов, а на восток – тенистая Темпейская долина, красивейшее место Греции…
ОПЫТ АНТИЧНОСТИ ДЛЯ ПЕДАГОГИКИ БУДУЩЕГО 225
У меня нет педагогического опыта, ни теоретического, ни практического. Если я позволил себе принять участие в этом обсуждении, то лишь потому, что в предложенных тезисах говорилось, в частности, что образцом универсальной педагогики будущего может быть древнегреческая педагогика. А древнегреческой культурой я немного занимался. Так вот, по всему тому, что я знаю, я решительно говорю: весь опыт античности для педагогики будущего – это опыт полностью отрицательный.
Предполагается, что цель новой педагогической концепции в том, чтобы вырастить вместо человека-профессионала человека-универсала. Так вот, именно этого в античной педагогике не было: она вырабатывала именно человека-профессионала. Не только столяр учился своему делу у столяра, но и медик – у медика, правовед —у правоведа, математик – у математика, и никаких других знаний, кроме своих специальных, учителя ученикам не сообщали. Общеобразовательной была средняя школа, но какое это было общее образование? Читали Гомера, и при упоминании какой-нибудь звезды сообщалось что-то из астрономии, при упоминании города – из географии, при упоминании корабля – из морского дела, при упоминании бога – из мифологии. Это очень близко напоминало объяснительное чтение по Ушинскому или тот «комплексный метод», который был в недолгой моде в наших школах 1920‐х годов. Вряд ли это то, к чему стремится новая педагогическая концепция.
Даже те единицы из тысяч, которые дотягивали до высшего образования, попадали не в универсальную школу, а или в философскую, или в риторическую, причем философы и риторы не совпадали ни в чем и ненавидели друг друга смертной ненавистью. Конечно, прекраснодушный Цицерон мечтал, как хорошо было бы, если бы правовед-учитель мог объяснить ученику не только юридическую законность, но и философскую справедливость, – но и Цицерон понимал, что вряд ли это сбыточно. Конечно, стоики объявляли, что истинный мудрец, поскольку он мудрец, постольку он и истинный оратор, и истинный полководец, и истинный плотник, – но за это над ними и потешалась вся античность пятьсот лет напролет. А если у Платона Протагор, профессионал мудрости, пасует перед Сократом, универсалом мудрости, то это лишь потому, что источник мудрости для Протагора – знание, а для платоновского Сократа – откровение. Откровение же методологической разработке не поддается и предметом нашего обсуждения, по-видимому, быть не может.
И не нужно преувеличивать контраст между духовностью греков, у которых была «эписте́ме» и идеал homo sapiens, и приземленностью римлян, у которых была «те́хне» и идеал homo faber. Во-первых, не надо забывать, что наибольшее приближение античности к универсальному образованию – система семи благородных искусств – была выработана именно при римлянах. Во-вторых, не надо забывать, что «техне» стала из «ремесла» «искусством» и «наукой» именно у греков: у Аристотеля «Поэтика» – это «пойетикэ техне», а не какая-нибудь «эпистеме». В-третьих, если уж увлекаться этимологиями, то homo sapiens, от sapӗre, совсем не значит «человек понимающий» в противоположность «человеку знающему», а значит «человек соображающий» – соображающий, как пользоваться топором или пилой и как пользоваться понятиями и суждениями.
Но главное даже не это. Главное то, что античная культура не была универсальной, потому что была эгоцентричной. Она опиралась на собственное (как всегда, полувыдуманное) прошлое и не желала знать никаких других культур. Не существовало не только греко-египетских или греко-персидских словарей – не существовало даже греко-латинских словарей. В Риме были гувернеры, которые учили детей греческому языку, а в Греции даже и того не было, и Плутарх, образованнейший человек, живущий к тому же под давней римской властью, честно признается, что латинский язык он знает посредственно. Конечно, были шарлатаны, ссылавшиеся на египетскую и прочую мудрость, но вся эта мудрость была выдуманной. Античная культура была замкнута на себя – а такая культура обречена на гибель. Она и погибла через двести лет после Плутарха – потому что сменившая ее христианская культура оказалась (до поры до времени) универсальней. Универсальней, потому что демократичней: она не делила своих приверженцев на элиту, которой доступно откровение, и на темное быдло, как это делал Платон и, кажется, делают некоторые идеологи новых педагогических концепций.
Спрашивается: если античная педагогика представляет для нас такой яркий отрицательный пример, то как нам этим примером воспользоваться?
Попробуем, опираясь на смысл понятия «универсальное», определить, какие частности сводятся в эту всеобщность. Здесь я вижу четыре пункта.
Первое: материальная и духовная культура. О материальной мы привыкли забывать. Все мы помним, как наши учителя-марксисты клялись, что в истории главное и первоначальное – производительные силы, и тем не менее можно было кончить исторический факультет, не имея понятия, как устроен римский плуг, испанская каравелла или дизельный двигатель. После отмены марксизма все бросились в духовность, и знания молодежи о том, как жили люди на земле, стали еще хуже. Если бы я писал школьный учебник истории, я бы о каждом времени и месте писал три параграфа: как люди боролись с природой; как они для этого строили и ломали общество; и что от этого сохранилось в так называемой духовной культуре. Но, конечно, написать такой учебник я бы не сумел: не хватило бы знаний.
Второе: точные науки и гуманитарные науки. Принято сетовать, что нынешние люди точных наук и технических профессий далеки от гуманитарных знаний; но редко сетуют, что нынешние гуманитарии еще того дальше от знакомства с точными и естественными науками. Когда сейчас составляют пособия по истории русской или мировой культуры, то параграфы о состоянии наук в такую-то эпоху выглядят в них самыми инородными. Это оттого, что в науках больше, чем в искусствах, сильна иллюзия, будто все прошлые эпохи были только подступами к нашей и самостоятельного интереса не представляют. После книги Куна о научных революциях и сменяющихся картинах мира (кстати, эта книга должна быть очень близка нам, привыкшим говорить о переходе количества в качество) люди точных наук должны внимательней задуматься над историей своих наук, и тогда в этом понятии картины мира им и гуманитариям легче будет встретиться и объединить свои силы. Путь к универсализации знания лежит через его историю.
Третье: европейская и внеевропейские культуры: исламская, китайская, индийские и та же античная. И даже больше: разные традиции внутри европейской культуры, например русская и немецкая, или немецкая и французская, или русская допетровская и русская послепетровская. Это разные культурные языки, и воображать, будто мы интуитивно можем понимать Пушкина, так же наивно, как воображать, что мы интуитивно можем понимать аккадскую культуру. Мы не апостолы, которые манием Святого духа могли сразу заговорить на всех языках: мы должны учить эти языки по еще не написанным учебникам, упорно и терпеливо. В чем разница между культурными языками? В отборе и систематизации фактов окружающей нас действительности. Бытие бесконечно, а человеческое сознание конечно, поэтому мы вырываем из бытия конечное количество явлений, способное уместиться в нашей голове, и называем их фактами; отбор этих фактов каждая культура делает по-своему. Для историка столетней давности главными фактами были царствования и войны, для современного – добывание и распределение средств к жизни. Для биолога животные делятся на позвоночных, беспозвоночных и так далее, а для животновода – на диких и домашних. (Когда гуманитариям предлагают вносить в естественные науки человеческую точку зрения, мне всегда кажется, что имеется в виду именно позиция животновода.) А отобрав факты, каждая культура упаковывает их в голову человека, как в чемодан, тоже по-своему, систематизируя их на свой компактный лад. Вот эти принципы собственного отбора и систематизации фактов и составляют язык каждой культуры; он и подлежит описанию и изучению на всех уровнях от высоконаучного до упрощенно-популярного. Это очень трудно: чтобы написать детскую книжку «Занимательная Греция», у меня ушло двадцать лет. Но это необходимо: начинающийся век – это век конфронтации нашего мира с так называемым третьим миром, и если наше универсальное образование не будет нести свою службу взаимоперевода и взаимопонимания, нам будет очень трудно.
И четвертое, последнее: если угодно, это частный случай предыдущего. Европейская, в том числе и наша культура – потомок двух родителей: античной и иудейско-христианской. «Бог дал иудеям закон, а эллинам – философию». Дельфийское и сократовское «Познай себя» значит не только «познай, что есть в тебе», но и «познай, откуда оно в тебе». Мы имеем не только право, но и обязанность знать античную и иудейско-христианскую культуру лучше, чем исламскую, индуистскую или китайскую. Поэтому очень хорошо, что сейчас восстанавливаются экспериментальные гимназии с классическими языками, но это не должно стать самоцелью: во-первых, мы должны помнить, что главное для нас не языки, а основанная на них культура, а во-вторых, что не только античные языки и культура, а и еврейский язык и культура, и не в объеме Ветхого Завета, а в объеме всей ее истории. Большое счастье, что в РГГУ есть центр по иудаике, который может стать рассадником этих знаний. Мы любим оглядываться на Ренессанс – так не забудем, что одной из опор его были «трехъязычные коллегиумы», где наравне изучались греческий, латынь и древнееврейский. А в нашей стране с ее бытовым и не только бытовым антисемитством эта задача имеет не только академический, но и очень практический смысл.
Повторяю главное: универсальное образование – это не возврат к эгоцентрическим идеалам античной культуры, сколь бы сапиентичны они ни казались; это подготовка к плюралистической культуре будущего, где культурных языков будет много, диалог между ними будет главным, а служба взаимопонимания – первой необходимостью. Ее и должна иметь в виду новая концепция образования, а как в ней будет соотноситься наш опыт филологии и философии – покажет практика. Вспомним: как началась первая новоевропейская философия – схоластика XII века? От диалога: крестовые походы столкнули христианскую культуру с исламской и европейской, начались миссионерские споры, аргументов от откровения оппоненты не принимали, пришлось разрабатывать аргументы от разума – и пошло, и пошло. Я слышал, что в древней Индии в ученых и судебных спорах прежде всего каждый спорящий должен был пересказать точку зрения противника так, чтобы тот подтвердил: «да, это так». Мы этого еще не умеем, давайте учиться.
«СОТРИ СЛУЧАЙНЫЕ ЧЕРТЫ…»226
А. БЛОК И ВС. НЕКРАСОВ
Мне случилось читать курс по технике анализа стихотворного текста – конечно, анализа имманентного, ограничивающегося тем, что содержится в самом тексте, без апелляции к сторонним биографическим, литературным или иным подтекстам. Разобрав таким образом несколько заранее подготовленных стихотворений (эти разборы напечатаны выше227), я предложил студентам дать мне для анализа какие-нибудь стихи для разбора импровизированного, без подготовки. Они предложили на выбор несколько стихотворений новейшего, постмодернистского стиля. Одним из них было следующее пятистишие Всеволода Некрасова:
Поэтика постмодернизма исходит из предположения (вполне справедливого), что в литературе все уже сказано, все слова – чужие и поэт может только комбинировать и обыгрывать осколки хорошо знакомой читателю классики. Для имманентного анализа, забывающего обо всем, что было до и вне рассматриваемого текста, это очень неблагодарный материал. Однако попробуем все же подступиться к нему нашим обычным образом. Вообразим, что из классики до нас почти ничего не сохранилось, а это стихотворение сохранилось. В истории так бывает.
Что прежде всего бросается в глаза в стихотворении Вс. Некрасова? Нет знаков препинания: каждая строчка, каждое высказывание – отдельно. Еще? Пять строчек сгруппированы как бы в четыре абзаца: две, одна, одна и одна строка. Еще? Строка «Сотри случайные черты» повторяется дважды: видимо, она для содержания особенно важна. Еще? Длинные и короткие строчки повторяются симметрично: длинная, короткая, длинная, короткая, длинная. Короткие строчки оба раза следуют за повторяющейся строкой «Сотри случайные черты» – как будто они пытаются развивать ее содержание. Что ж, таких наблюдений достаточно для начала, теперь можно переходить к последовательному чтению и посмотреть, как же они пытаются развивать это содержание.
Оказывается, развивают они его странно: не по смыслу, а по звуковому сходству. (В современной науке такой подбор слов называется «паронимическая аттракция».) За первым «Сотри…» вплотную следует строчка «Три четыре»: «три» созвучно с «сотри», «четыре» созвучно с «черты». «Три» и «четыре» – два числительных, следующих друг за другом; в сочетании со звуковыми повторами они напоминают разве что считалку (типа «…три, четыре – причепили») или, отдаленнее, сигнал к началу какого-то действия («три, четыре – начали!»). Смысла не получается; поэтому следующая за этим отбивка осмысляется приблизительно так: видимо, у поэта первая проба развития содержания не удалась и он хочет начать заново.
За вторым «Сотри…» сразу следует отбивка: видимо, поэт задумывается и колеблется, вторая проба идет труднее. После отбивки – строчка «Смотри случайно». Опять звуковые переклички сильнее смысловых: «смотри» созвучно с «сотри», наречие «случайно» почти точно повторяет прилагательное «случайные». Новые слова более содержательны (знаменательны), чем «три четыре», но друг с другом все равно не связываются, разве что мы вообразим, что после «смотри» подразумевается запятая, а после «случайно» – многоточие, указывающее на оборванность начатой фразы. За этим следует отбивка и за ней подтверждение нашего предположения: да, последнюю строчку можно понимать как продолжение предпоследней: «случайно не протри только дырочки».
Эта последняя строчка – развязка стихотворения. Она противопоставлена всем предыдущим. Во-первых, ритмом: там всюду был ямб (во 2‐й строке – другой двухсложный размер, хорей), здесь – трехсложный размер, 2-стопный анапест с дактилическим окончанием. Во-вторых, фоникой: появляются звуки д и к, кь, которых во всех предыдущих перетасовках согласных не было. В-третьих, грамматикой: раньше императивы были утвердительны (с дополнением в винительном падеже), здесь императив отрицательный (с дополнением в родительном падеже). В-главных же, стилистикой: до сих пор мы воспринимали слова «сотри… черты» в переносном, метафорическом смысле слова – как очертания, образ, облик, как это слово обычно и употреблялось в русском поэтическом языке XIX века; а здесь оказывается, что слово это нужно понимать в прямом, буквальном смысле слова, как черты карандаша на бумаге, которые нужно стирать резинкой, но осторожно, чтобы случайно не протереть бумагу до дырочки. (Если бы нам было сказано «Сотри случайные линии» – такого неожиданного переосмысления не произошло бы.) «В-главных» говорим мы потому, что от этой особенности стилистического плана меняется и образный план стихотворения: перед нами возникает совсем иная картина, гораздо более земная и бытовая, чем раньше.
Спрашивается, почему мы с самого начала понимали эти «черты» только в переносном, а не в прямом смысле: как черты лица или характера, а не как карандашные черты? По двум причинам. Во-первых, как сказано, по языковой: слово «черты» во множественном числе употребляется почти исключительно в переносном значении, о карандашных же чаще говорят не «черты», а «черточки». А во-вторых, по стиховой: слова «сотри случайные черты» складываются в правильный четырехстопный ямб (типичный ритм – с пропуском ударения на III стопе; типичный синтаксис – глагол в начале, дополнение в конце, перед ним определение), а 4-стопный ямб – это любимый размер русской классики с ее высокой тематикой, где нет места карандашу и резинке. Это с самого начала – конечно, намеренно – направляло мысль читателя по неправильному пути.
В таком случае проясняется, так сказать, прагматический сюжет стихотворения: это – путь читателя от неправильного, ложно-высокого понимания стихотворения к правильному, вещественному, бытовому. Это вполне в духе автора – он принадлежит к тому направлению современной поэзии, которое не перенимает традиции прошлого, а отталкивается от них, ломает их и из обломков строит новые конструкции. Два этапа развития этого сюжета: во-первых, обессмыслить обычное звучание строчки «Сотри случайные черты», а во-вторых, наполнить его новым смыслом. Первое достигается двойным повторением этой строчки и созвучиями следующих строчек с нею: известно, что любое слово, если его долго повторять, покажется бессмысленным набором звуков. Второе достигается тем, что короткие строчки, если оглянуться на них из концовки, становятся вполне понятными: «три четыре», начинай стирать, и «смотри случайно» не протри дырочки. По звукам они ориентированы назад, на предыдущие строчки, и это мешает заметить, что по смыслу они ориентированы вперед, на строчку-развязку. Это труднодостижимое совмещение и делает пятистишие Вс. Некрасова произведением поэзии. Попробуем разрушить звуковую перекличку, например:
или разрушить смысловую перекличку, например:
и мы увидим, насколько это глупее и беднее того, что получилось у Некрасова.
Мы разбирали эти пять строчек так, как будто не знали никаких других текстов, которые помогли бы нам разобраться в этом стихотворении. Таковы были правила игры – правила имманентного анализа текста. Мы сумели удовлетворительно интерпретировать стихотворение даже при таких условиях, правда, допустив, что читатель знает, что такое 4-стопный ямб и какие ассоциации с ним связываются. На самом деле читатель знает даже больше.
Во-первых, строчка «Сотри случайные черты» – это цитата из Блока (пролог к поэме «Возмездие»):
Во-вторых, строчка «Не протри только дырочки» – это намек на немудреную школьную шутку-каламбур: «Три да три да три – что получится?» – «Девять». – «Нет, дырка: если тереть, тереть и тереть, то протрешь бумагу насквозь». Если помнить об этом, то смысл стихотворения станет еще яснее: автор спорит с высокой проповедью Блока с позиций бытовой житейской мудрости. Мир – это хаос, и искать в нем глубинную гармонию – пустое дело: если стирать с его облика случайные черты – ничего не получится, кроме дырочки. Смысл стал ярче, но – заметим мы – нимало не изменился: нашим имманентным анализом мы пришли к той же интерпретации, только более долгим путем.
Все дальнейшие возможные ассоциации – дело произвольное. Одни из участников обсуждения этого стихотворения вспомнили стихотворение самого Блока «Балаганчик», где девочка и мальчик смотрят (как в дырочку) на балаганное представление, где все только с виду красивое, а на самом деле ненастоящее. Другие вспомнили каламбур с тем же словом и с тем же вызовом возвышенным проповедям (только другим) у Маяковского в «Теплом слове кое-каким порокам»:
т. е. «лучше добывать деньги не трудом, а плутуя в карты». Третьи вспомнили противоположность между европейским и китайским художником: первый кропотливо кладет мазки, поминутно исправляя сделанное («трет и трет»), и с тысячной подчистки выходит чудо, а второй стремится нарисовать картину несколькими мгновенными взмахами, комкая и отбрасывая каждую неудачу, и с тысячной попытки выходит чудо. Продолжать вольные аналогии можно до бесконечности; современные «постструктуралисты», кажется, даже сделали это своей программой. Но это уже не столько научный подход к предмету, сколько художественный.
P. S. Кроме этого стихотворения, для импровизированного разбора были предложены еще несколько: «Море волнуется» того же Вс. Некрасова, «Долина Дагестана» Д. Пригова и др. Мы выбрали «Сотри…» только потому, что оно было короче и, соответственно, проще. Присутствовавший на обсуждении профессор Д. Ворт добавил еще несколько тонких примет, по которым последняя строка стихотворения «Сотри случайные черты» противопоставляется предыдущим: в ней не только впервые появляются звук «д» (в ключевом слове) и отрицательный императив с дополнением в родительном падеже, но вдобавок по длине она совмещает признаки и длинных строк (три слова), и коротких строк (два сильных ударения), т. е. перед нами контраст и фонический, и грамматический, и ритмический.
«ОСЕНЬ» ПУШКИНА 228
АНАЛИЗ ДЛИННОГО СТИХОТВОРЕНИЯ
Поэзия разделяется на эпос, лирику и драму. Лирика разделяется (или разделялась) на оды, элегии, песни, послания (и т. д.), а также «разные стихотворения». Но есть и еще одно разделение, не учтенное в учебниках, – стихотворения короткие и длинные. Они воспринимаются по-разному. Сознание может охватить целиком маленькое стихотворение и не может – большое; структурные связи между элементами маленького стихотворения невольно улавливаются при первом чтении, между элементами большого – только после перечитывания и запоминания. Соответственно, и анализ большого стихотворения отличается от анализа маленького.
Мы знаем три простейших способа практического анализа стихотворений. Можно окинуть взглядом стихотворение в целом, выделить то, что больше всего бросается в глаза, и начинать разбор именно с этого. Можно медленно читать текст, стих за стихом и фраза за фразой, и на каждой остановке давать себе отчет, что эта фраза сообщила нам нового и как перестроила старое. Можно составлять и систематизировать по темам списки существительных (образы), прилагательных (окраски), глаголов (мотивы) в стихотворении: они дадут картину его художественного мира. Но над большим стихотворением первое будет слишком трудно, второе – слишком долго (к концу чтения забывается его начало), третье – слишком громоздко. Приходится анализировать большое стихотворение по частям – начиная с обычного школьного плана.
Мы взяли для разбора стихотворение Пушкина «Осень» (1833).
ОСЕНЬ
(отрывок)
Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?Державин
Мы сосредоточиваемся только на его содержании – образах и мотивах, эмоциях и идеях. О стиле, языке, стихе и о том, как они аккомпанируют содержанию, здесь нет возможности говорить подробно. Главная наша забота – проследить, как связаны друг с другом и уточняют друг друга все образы и понятия стихотворения: убедиться, что среди них нет ничего лишнего и каждое слово делает свое дело.
В «Осени» одиннадцать строф, и вдобавок к ним одна отброшенная и одна недописанная; они тоже важны для понимания стихотворения. (Длинное стихотворение имеет подзаголовок «Отрывок»: читателю как бы предлагается вообразить, что замысел поэта еще гораздо обширнее.)
Вот их содержание:
I – Осень в ее конкретности, теперешняя
II – Осень через Контраст: весна и зима
III – Осень через Контраст: зима
IV – Осень через Контраст: лето и зима
V – Осень через Подобие: дитя перед нелюбовью
VI – Осень через Подобие: дева перед смертью
VII – Осень вообще, всегдашняя
VIII – Я: мои внутренние ощущения
IX – Я: мое внешнее поведение
X – Я: мои творческие переживания
[Xа – Я: воображение]
XI – Я: создание стихов
[XII – Я: выбор темы]
Последняя, XII строфа обрывается на начальных словах – там, где речь заходит о содержании стихов, о содержании творимого мира. Это оправдание подзаголовка «Отрывок». И она, и другая строфа о том же (Ха) были написаны и отброшены – далее мы увидим почему.
Стихотворение распадается на две части: осень и я, природа и человек, окружающий мир и сотворяемый мир. Эта группировка строф отчасти подчеркивается стиховыми и стилистическими признаками.
1. Стихотворный размер «Осени» – 6-стопный ямб; в нем главная примета ритма – цезура: более традиционная мужская (Октябрь уж наступил…) ощущается как более твердая, более новаторская дактилическая (И страждут озими…) – как более зыбкая и плавная. Число дактилических цезур по строфам в каждой части стихотворения нарастает от начала к концу. Среднее число строк с «романтическими» дактилическими цезурами таково: осень первая – 1; контраст – 2; подобие – 3,5; осень вторая – 4; я перед стихами – 3,5; я над стихами – 4. Максимум дактилических цезур – в отброшенной строфе Ха. Ритмическая кульминация – в концовке строфы XI, начало создания стихов: Громада двинулась и рассекает волны, дактилическая цезура с безударным зачином второго полустишия создают эффектный затянутый безударный интервал.
2. Лица. Осень в I строфе представлена безлично, объективно; единственное указание на автора – сосед мой. В строфах-контрастах и строфах-подобиях появляются я, мы, а потом и более интимные ты, вы. Осень в VII строфе уже целиком лично окрашена: Приятна мне твоя прощальная краса. Последние строфы, о себе самом, понятно, все содержат я, но с одним любопытным исключением. В строфе XI я отсутствует – мысли, рифмы, перо, стихи и корабль существуют как бы сами по себе. А в начатой строфе XII вместо я появляется объединяющееся с читателем мы: созидаемый мир поэзии существовал как бы сперва только для поэта, потом сам по себе и, наконец, для всех.
3. Стиль. Внимание на него направлено кульминационной строкой строфы VIII: …организм …ненужный прозаизм. Это побуждает прислушиваться к стилистическим аномалиям и в других строфах. Оказывается, что все прозаизмы сосредоточены в первой части стихотворения: и разговорные (вонь, грязь, киснуть, да пыль, да комары), и книжные (в присутствии луны, душевные способности). Во второй части стихотворения вместо этого начинают повторяться тавтологии: звонко… звенит промерзлый дол, недвижим корабль в недвижной влаге. Тавтология может быть приметой как разговорного, так и поэтического стиля; здесь это, скорее всего, поэтический стиль, контрастирующий с начальным прозаическим. Точка переключения – в VI строфе: Могильной пропасти она не слышит зева, зрительный образ зев (вместо ожидаемого зова) необычно совмещается со слуховым слышит.
Итак, мы видим, что стиховые и стилистические приметы содействуют выделению основных тематических частей произведения: осень и я.
Теперь можно переходить к обзору художественного мира стихотворения строфа за строфой.
Осень в I строфе, как сказано, конкретная, теперешняя. Назван конкретный месяц – октябрь – и перечисляются глагольные действия: реже в прошедшем времени (наступил, дохнул, застыл, уснувшие), вдвое чаще в настоящем (отряхает, промерзает, журча бежит, поспешает, страждут, будит). Ощутимость времени подчеркнута опережающим сдвигом роща отряхает листы с нагих своих ветвей: слово нагой употреблено в приблизительном смысле «обнажающийся». Ощутимость пространства упорядочена: отрясаемые листы – это вертикаль; дорога и ручей – это горизонтальная линия; пруд – горизонтальная плоскость; отъезжие поля – еще более широкая горизонтальная плоскость. Начиналась строфа рощей (восприятие через зрение), кончается дубравами (воспринятыми через слух). Образы движения чередуются с образами покоя и при этом усиливаются: отряхает – дохнул – (промерзает) – бежит – (застыл) – поспешает на бешеную забаву. В концовке строфы это напряжение движения и покоя находит выражение в новом измерении – в звуке: лай собак.
Движение внимания в I строфе – от явлений природы к явлениям культуры. Роща – это только природа; дорога – след культуры, ставший частью природы; мельница – уже культура, но пруд при ней – подспорье культуры летом и часть природы зимой; сосед-охотник – культура, потребляющая природу; упоминаемые без видимой надобности озими объединяют охотника и мельницу в культурное целое. Половина строфы – о природе, половина – о соседе. Так вводится основная тема стихотворения: природа, осень, как подступ и стимул к культуре, к я. Здесь культура еще потребительская, в строфах о я она станет творческой. Начало роща отряхает отсылает как к подтексту к «19 октября 1825» (Роняет лес багряный свой убор); а потом в строфах о я появится камелек забытый… а я пред ним, отсылающий к Пылай, камин, в моей пустынной келье.
В контрастных II–IV строфах времена года рассматриваются и как часть природы, и как часть культуры. Весна – это тяжесть природы в человеке: я болен, кровь бродит… чувства, ум стеснены; рядом с этим оттепель, вонь, грязь упомянуты более бегло. Лето – это тяжесть природы вокруг человека: зной, пыль, комары, жажда (созвучный глагол страждем рассчитанно перекликается со страждут озими); рядом с этим душевные способности упомянуты лишь бегло. Зима – это утомительность общества с его забавами: санями, коньками, блинами и вином: если весна и лето тяжелы избытком дурного, то зима, наоборот (парадоксально), избытком хорошего. Здесь ощутимый литературный подтекст – «Первый снег» Вяземского, давший когда-то эпиграф к первой главе «Евгения Онегина».
В уподобительных V–VI строфах (середина стихотворения!) парадоксальная логика достигает кульминации. Это подчеркнуто: Как это объяснить? В основе подразумевается естественное этическое чувство: незаслуженно нелюбимое дитя вызывает сочувствие, обреченная на болезнь и смерть дева вызывает сочувствие. Но вместо «вызывает сочувствие» сказано сперва к себе влечет (это еще этика), потом мне (и вам) нравится (это уже эстетика). Любование болезненностью – черта новой, романтической тематики, в стихотворении она здесь откровеннее всего. Парадокс окутан романтической расплывчатостью: осень мила сперва зримой красою, потом лишь понимаемым много доброго и, наконец, невыразимым я нечто в ней нашел. В литературном подтексте здесь собственная элегия Пушкина «Увы, зачем она блистает… Она приметно увядает…» (1820) и, более отдаленно, чахоточная муза Делорма – Сент-Бёва из пушкинской рецензии 1831 года. Переход от дитя к деве – с усилением: нелюбовь может исправиться, обреченность непоправима, там – преходящие отношения, здесь – экзистенциальная сущность.
После такой подготовки наконец становится возможна вторая строфа об осени (VII) – эмоциональная и оценочно окрашенная. В первом случае картина строилась на глаголах – здесь на существительных, идущих перечнем, а единственный глагол люблю как бы вынесен вперед за скобки. Там картина оживала от начала к концу (появление соседа, и страждут озими), здесь она становится к концу все объективнее и холоднее (в буквальном и переносном смысле). Парадоксальность подчеркнута в первом же восклицании Унылая пора! очей очарованье! (аллитерация, с подтекстом из собственного «Талисмана»: Но когда коварны очи очаруют вновь тебя). Потом она слабеет в сочетании пышное увяданье и становится почти неуловимой в словах в багрец и в золото одетые леса. Багрец (порфира) и золото – это краски царской одежды, раскрытие слова пышное; но багрец – это и чахоточный румянец, о котором в предыдущей строфе было сказано: играет на лице еще багровый цвет. После предыдущей строфы логика парадокса уже понятна: я ценю красоту осени, потому что нам уже недолго любоваться ею; отсюда метафора с оттенком олицетворения – прощальная краса.
Движение внимания в строфе VII, как и в строфе I, начинается с деревьев, но идет не вниз, а вверх. Вместо конкретного октябрь здесь в начале обобщенная пора, потом столь же обобщенная природа; множественные леса менее конкретны, чем роща, а метафорические багрец и золото – чем листы. Для начала момент взят более ранний: ветви еще не нагие, а одетые в яркие листья; для конца – по-видимому, более поздний: не только первые морозы (от которых пруд уже застыл и т. д.), а и отдаленные седой зимы угрозы. Но временного перехода здесь нет, скорее это вневременное сосуществование. В промежутке – ветер (шум и свежесть), небо (облака) и солнце (противопоставленное предыдущей мгле как носитель света, а последующим морозам – как носитель тепла). В начале стихотворения была осень земли, теперь, в середине, – осень неба: тема природы как бы возвышается, подводя к теме творчества. Здесь впервые в изображении природы появляется цвет, до сих пор она была бескрасочным рисунком.
От уже осмысленного центрального парадокса идет мысль строфы VIII: как красота девы милей перед смертью и красота осени перед зимой, так перед зимою расцветает и поэт. Расцветаю – метафора из мира природы, поэтому имеется в виду прежде всего физическое здоровье, а душевное здоровье лишь как его следствие: это подчеркнуто концовочным словом организм с комментарием. Перед лицом смертного холода становятся ощутимы и дóроги привычки бытия, три потребности организма: сон, голод и плотские желания (играет кровь) с их гармонией (чредой… чредой). Их сопровождают эмоции, вытекающие друг из друга: любовь к жизни, легкость, радость, счастье. Описывающие это глаголы становятся все динамичнее: сон слетает, кровь играет, желания кипят, обобщение – я снова жизни полн. Это снова – характерно: мир природы цикличен в своем круговороте угасания и обновления, отсюда – вновь… вновь… чредой… чредой… снова.
Все эти последовательности вставлены в неслучайную рамку: в начале говорится, что все это полезно здоровью моему, а в конце – что разговор обо всем этом есть ненужный, то есть бесполезный, прозаизм. Это еще один шаг подступа от мира естественного, где главное – польза, к миру творческому, где пользы нет и не должно быть (тема «Поэта и толпы», 1828). При слове полезен назван русский холод – это отсылка к еще одному подтексту – стихотворению «Зима. Что делать мне в деревне?..» (1829), кончавшемуся бури севера не вредны русской розе, как дева русская свежа в пыли снегов!; а перед этим в нем присутствовали и сосед, и охота, и даже попытки творчества. Этот эпитет русский – дополнительный контраст между миром естественным и миром творческим, в котором – как видно из опущенных строф Ха и XII – все нерусское: рыцари, султаны, корсары, великаны, Молдавия, Шотландия и т. д., за одним только исключением: вы, барышни мои (в подтексте – метаморфозы пушкинской Музы, описанные в зачине восьмой главы «Онегина»).
Строфа IX – переломная: она из двух половин, разделенных малозаметным но. Первая половина – белый день, широта, динамика; вторая половина – вечер и ночь, уголок у камина, сосредоточенность. Первая завершает рассказ о мире естественном – вторая начинает рассказ о мире творческом. В мире естественном состояние поэта подводило к ощущению я снова жизни полн: здесь это полн перекипает через края и находит выражение в ска́чке на коне в раздолии открытом. Такая скачка уже была в I строфе; но там это было целенаправленное действие – охота соседа, а здесь это действие без цели, только разрядка жизненных сил – опять противопоставление практической полезности и творческой самоцельности. В описании ска́чки замечательно быстрое сужение пространства: в поле зрения – сперва все раздолие открытое, потом лишь конь со всадником (взгляд со стороны!), размахивающий гривою, потом лишь конские копыта, бьющие в лед. Это сужение сопровождается выходом в блеск и звук (причем, видимо, двоякий звук: звон, разлетающийся по долу, и треск, остающийся под копытом). Звук был до сих пор только в I строфе (лай), а блеск – только в III строфе (зеркало речек; смиренно блистающая краса в V строфе явно не в счет).
Этот образ блеска важен, потому что только он связывает через голову но две половины IX строфы. Конь в широком раздолии – это природа, камелек в тесной келье – это культура. Картина природы сужалась до блеска конского копыта; переход от природы к культуре дается через затемнение, гаснет день, а камелек забыт; картина культуры начинается с блеска огня в этом очаге. Далее сужение пространства продолжается, но с осложнениями. Огонь в камельке то яркий свет лиет, то тлеет медленно, сужая освещенное пространство; это тот же жизненный ритм чредой… чредой…, что и в строфе VIII. Я пред ним читаю – поле зрения сужается дальше, в нем остается только голова с книгой. Иль думы долгие в душе моей питаю – дальнейшее это сужение или расширение? Для дум не нужна даже книга, душа вся внутри человека, с точки зрения внешнего мира – это сужение; но душа сама вмещает в себя целый мир, и с точки зрения внутреннего, творческого мира – это расширение; оно подчеркнуто словом долгие (в противоположность краткому дню). Это – опять парадоксальное! – взаимодействие внутреннего и внешнего мира становится темой следующей строфы.
Строфа Х начинается движением ухода внутрь: и забываю мир, ухожу в тишину, в сон. Но тут же возникает встречное движение, и пробуждается поэзия во мне, из сна в явь. И то, и другое движение, в сон и из сна, происходит под общей сенью (в общей среде) воображения. Стиснутая между этими движениями, душа стесняется лирическим волненьем, от этого трепещет и от этого звучит – кульминация напряжения! Слов в этом звуке еще нет, слова будут в строфе XI. Достигнув этого предельного напряжения, душа ищет излиться свободным проявленьем – движением вовне, как через край, как между VIII и IX строфами. Но тут же опять возникает встречное движение, ко мне идет незримый рой гостей – откуда? Оказывается, из самого меня, они – давние… плоды мечты моей. С чем тождественна эта мечта из упоминавшегося выше: с душой или с воображеньем? По смыслу слова – скорее с воображеньем: вероятно, оно порождается душой, а потом, порожденное, получает самостоятельное существование, усыпляет и стесняет душу и т. д. Получается еще один парадокс: не душа – вместилище воображения, а воображение – вместилище души. В таком случае напрашивается объяснение: может быть, воображение и есть творческий мир, уже созданный и существующий рядом с реальным, а нынешний акт осеннего творчества – это лишь добавление к нему новых элементов или упорядочение тех, которые в нем уже есть.
Те, которые в нем уже есть, перечисляются в отброшенной строфе Ха. Это образы, населяющие поэзию, их пятнадцать: четырнадцать фантастических в пяти строках и один реалистический – барышни! – в трех строках. Фантастические образы противопоставлены друг другу в различных отношениях. Рыцари противопоставлены султанам, как Запад – Востоку; рыцари – монахам, как светское – духовному; султаны – арапским царям, как белые – черным; монахи (чернецы), вероятно, тоже ассоциируются с черным. (Карлики среди них пока непонятны: то ли это сказочные существа, то ли реальные, хоть и экзотические, шуты; во всяком случае, в подтексте здесь «Руслан и Людмила».) Восточный ряд продолжается в богдыханах; после белых и черных владык они – желтые. Западный ряд продолжается в гречанках с четками; после героев светских и духовных они совмещают в себе и то, и другое качество. Гречанки противопоставляются корсарам как женское начало мужскому и пассивное – активному; в то же время они вместе смыкают западный ряд с восточным, соединяя в себе западное христианство с восточной экзотикой. До гречанок в черновике были турчанки и цыганки, но эти образы оказались менее содержательными. Западный ряд продолжается еще на одну ступень испанцами в епанчах – редкое слово, отсылающее к новому подтексту – «Каменному гостю». Это вводит два новых измерения: временно́е (в епанчах – это более позднее время, чем стальные рыцари в латах) и «междоусобное» (в епанчах они уже не воюют с Востоком, а бьются друг с другом на дуэлях). Ряд, промежуточный между Западом и Востоком, продолжается жидами, они и аналогичны гречанкам с четками по этой функции, и противопоставлены им по вере (а корсарам по «невоенности»). Собственно восточный ряд не продолжается, на его месте появляются богатыри и великаны и вносят новые отношения: великаны – чистую, внеисторическую сказочность (стало быть, карлики тремя строками выше – тоже сказочные), а богатыри впервые вводят, в добавление к Западу и Востоку, намек на русскую тему. Наконец, царевны пленные могут быть жертвами и восточных султанов или корсаров, и сказочных великанов, а графини хоть и стоят с ними рядом, но уже могут принадлежать не только экзотике, а и современности (как в «Домике в Коломне»), – это переход к контрастному образу, уравновешивающему весь этот список: к барышням моим. Им посвящены целых три строки, они резко выделены обращением вы, их портрет рисуется с постепенным приближением и укрупнением: общий облик, лицо, глаза; образ их двоится, они – и литературные героини, и воспоминания о реальной любви: Пушкин был знаменит как открыватель образа барышни уездной, но это было уже в годы его творческой зрелости, а слова любимицы златой моей зари отсылают к ранней его молодости.
Строфа XI начинается опять с чередования движений извне и вовне, но вдвое убыстренного – на пространстве не строфы, а полустрофы. Мысли волнуются в отваге – это думы долгие из строфы IX, приведенные в лирическое волненье строфы Х. Рифмы навстречу им бегут – сперва, в строфе Х, «из меня в меня» шла толпа внесловесных образов, теперь – рой оформляющих их созвучных слов. Пальцы тянутся к перу, перо к бумаге – ответное движение вовне, движутся, движутся материальные предметы. Стихи потекут – за ними последует движение уже не материальное, но материализующееся. Так… корабль… и т. д. – прямое описание творчества дополняется описанием через подобие, как в строфах V–VI, но вчетверо убыстренным – на пространстве не двух строф, а одной полустрофы. Там вещественная природа пояснялась сравнением с человеком; здесь человеческое творчество поясняется сравнением с вещественным кораблем. Переход от бездействия к действию и наоборот в строфах IX–X совершался плавно, здесь совершается мгновенно, через восклицание но чу! (Собственно, чу! означает не «посмотри», а «прислушайся»: зримая картина корабля комментируется словом, относящимся к внутренне слышимому звучанию сочиняемых стихов.) Самое замечательное в этой строфе – полное отсутствие местоимения я: оно было в каждой из семи предшествующих строф, но здесь, на переломе, оно исчезает, материализующийся творческий мир существует уже сам собой. В начале следующей строфы о нем говорится куда ж нам плыть? – в этом мы соединяются и корабль творчества (и на нем герои – плоды мечты моей?), и поэт, и читатель.
Недоработанное и отброшенное начало строфы XII – это выбор маршрута, то есть декораций для сочиняемой поэмы. Все они – экзотические и романтические: сперва – испытанные Пушкиным Кавказ и Молдавия, потом, дальше на запад, – нетронутые Шотландия, Нормандия (со снегами, то есть, вероятно, не французская область, а земля норманнов, Норвегия), Швейцария. Шотландия напоминает о Вальтере Скотте, Швейцария – скорее всего о Байроне «Чайльд Гарольда», «Манфреда» и «Шильонского узника». В черновике намечались еще два противопоставления: культурный юг – дикий север (Египет, Италия, Эллада – Лапландия; в подтексте – недописанное стихотворение 1828 года «Кто знает край, где небо блещет…») и древний мир – новый мир (Египет – младая Америка).
Самое интересное, что в этом списке предполагался и вариант …губернии Псковской, о коей иногда… – явная параллель к барышням из строфы Ха: Пушкин опять вспоминает преображения своей Музы в начале восьмой главы «Онегина», от экзотики – к русскому быту. «Осень» писалась в 1833 году, в это время возникал соблазн продолжить «Онегина» (набросок «Ты хочешь, мой наперсник строгий…» писан в те же дни); эта мысль (в соединении с воспоминаниями о болдинской осени 1830 года, когда «Онегин» дописывался), по-видимому, и была толчком для создания «Осени». Но метафора переросла свой биографический повод: образ громадного корабля не вязался с образом Псковской губернии с ее барышнями. Автобиографические намеки были вычеркнуты, и стихотворение стало не изображением конкретного творческого поиска, а картиной творчества вообще. Путь вдохновения из осенней России в большой мир намечен и оставлен воображению читателя. Этот созидаемый поэтом мир так велик, что не поддается описанию, – поэтому стихотворение оставлено отрывком с многозначительным эпиграфом из Державина – Чего в мой дремлющий тогда не входит ум? Эти слова любопытно переосмыслены: у Державина эта строка открывала концовку «Жизни Званской» с размышлениями об истории (а потом – о бренности всего земного и вечности поэта), у Пушкина оно раскрывается не на историю, а на географию (а потом на что? – пусть об этом задумается читатель).
Вот теперь, закончив обзор художественного мира нашего стихотворения по строфам, мы можем представить его суммарно – тематической описью, как бы предметным указателем к «Осени». Это список всех существительных «Осени», всего – 175. В скобках указывается число словоупотреблений; курсивом выделены слова из отброшенных строф. Слова группируются в 18 семантических гнезд: это действительно целый мир, более широкий, чем кажется при первом чтении. Как эти образы перекликаются друг с другом из разных мест стихотворения, читатель теперь сможет разобрать и сам, а затем составить такие же списки для прилагательных и глаголов и исследовать их так же, как когда-то мы исследовали их в маленьком стихотворении «Снова тучи надо мною…».
1) Бытие, мир, громада; проявленье, присутствие;
2) век, полгода, дни, день, минута, пора (2);
3) цвет, багрец, золото; шум, тишина; холод, хлад, зной; вонь;
4) природа, небеса, солнца луч, луна; раздолие, дол, грязь, пыль; влага, волны; ветра (2) дыханье; мгла, огонь, свет;
5) годовые времена, весна (2), оттепель; лето, засуха; зима (3), морозы, снег (3), лед (2) как зеркало; осень (2), октябрь;
6) леса, дубравы, сени, роща, ветви, листы; поля, отъезжие поля, луга; берега, реки, ручей; скалы, снега, ландшафт;
7) конь, грива, копыто; собаки, лай; медведь, житель берлоги; комары, мухи;
8) озими, мельница, пруд; дорога, бег саней (2); корабль, паруса; праздники, забавы, поминки; охота;
9) рой гостей, знакомцы, сосед; всадник, матросы, рыцари, монахи, корсары, цари, царевны, графини, султаны, богдыханы; карлики, великаны; богатыри; гречанки, испанцы, жиды;
10) под соболем, в епанчах; блины, вино, мороженое; печи, камелек, стекла; железо [коньков]; перо (2), бумага, четки;
11) семья, дитя, дева, барышни, Армиды, старуха; любовник, подруга;
12) организм, ноги, рука, пальцы, сердце, плечи, голова, виски, лицо, уста, очи (2), улыбка; кровь (2);
13) жизнь, заря [молодости], здоровье, сон (2), голод, желания, увяданье, смерть, могильная пропасть – зев;
14) душа (2), душевные способности, привычки;
15) ум, мысль (2), думы, воображенье, мечта, ее плоды;
16) чувства, волненье, тоска, тревоги, гнев, ропот, угрозы, отвага; любовь, любимицы; бедняжка;
17) честь, очарованье, краса (2);
18) поэзия, стихи, рифмы; прозаизм.
СКВОЗЬ ЛИТЕРАТУРУ
О КНИГЕ В. П. ГРИГОРЬЕВА 229
Книга В. П. Григорьева представляет собой первую часть исследования о поэтике Велимира Хлебникова; вторая часть, судя по упоминаниям автора, должна быть посвящена хлебниковскому словотворчеству, а далее напрашивается само собой исследование принципов хлебниковского словосочетания (поэтический синтаксис, стиль фразы, организация сверхфразовых единств). Работа, начало которой предлагается читателям, неожиданно оказывается едва ли не первым в нашей науке столь подробным очерком индивидуального языка и стиля писателя. Известные монографии В. Виноградова о Пушкине имели совсем другую направленность – Пушкин выступал в них на фоне исторических традиций слово- и стилеупотребления. Здесь об этом не было речи: Хлебников, один из самых внетрадиционных русских писателей, требовал иного рассмотрения – не по месту в истории, а по внутренней системности поэтического явления. Выбор этой темы, на которой оттачивается методология изучения «Грамматики идиостиля», был осознан: избирался идиолект (1) достаточно близкий к современности, (2) сыгравший значительную роль в истории поэтического языка ХX века, (3) не «простой», а «сложный», желательно даже «максимально сложный» (с. 9). Разумеется, каждое из этих трех достоинств материала оборачивалось трудностями совсем особенного рода. Трудности эти исследователь с честью преодолел.
Заглавие книги не может не напоминать о самой первой научной работе, посвященной Хлебникову, – о брошюре Р. Якобсона (1921) с ее программой разработки «поэтической диалектологии» (с. 212). Действительно, с тех пор за шестьдесят с лишним лет это первая научная попытка охватить исследованием поэтику сложнейшего автора в целом, и попытка, увенчавшаяся бесспорным успехом. Однако последовательность рассмотрения материала у автора иная, чем у Якобсона: не от простейших наблюдений над языковой практикой Хлебникова, а от анализа главных понятий языковой (и не только языковой) теории Хлебникова – той основы, где язык смыкается с мировоззрением (с. 192). Это вполне оправданно. Интерес Хлебникова к языку был не только практическим (как у всякого писателя), но и теоретическим – не в меньшей степени, чем, например, у Ломоносова или Карамзина; и он не в меньшей степени требует исследования именно с этой стороны. Это, кажется, признается всеми писавшими о Хлебникове; но разработку на конкретном материале эта тема получает впервые.
В. П. Григорьев выделяет пять основных понятий «языкового мироощущения» Хлебникова: слово; язык в его внутреннем единстве; язык в разнообразии его раскрытия; число; музыка. Это темы пяти центральных глав: «Самовитое слово», «Единый смертных разговор», «Гнездо „языков“ и образ языка», «Образ числа» и «Созвучия и раззвучия». Этим главам предшествует пространное «Введение», а за ними следуют главы-экскурсы: «Несколько оппозиций» (внутренние соотношения в семантике поэтического мира Хлебникова), «Хлебников и Пушкин» (внешние соотношения в ней – темы воли, судьбы и т. д.) и «Еще раз, еще раз…» (монографический анализ стихотворения, которое автор называет «хлебниковским „Памятником“»).
Из центральных глав книги, бесспорно, важнейшей оказывается «Гнездо „языков“ и образ языка». Здесь автору приходится преодолевать главную трудность своего материала – язык хлебниковских метаописаний. Прихотливая образность хлебниковской терминологии, говорящей не столько словами, сколько «намеками слов», способна привести в отчаяние любого систематизатора. Давно известен перечень двадцати «языков» своего творчества, составленный самим Хлебниковым (он производит впечатление насмешки над всякой классификационной логикой): «1) Числослово, 2) Заумный язык, 3) Звукопись, 4) Словотворчество, 5) Разложение слова <…>, 9) Нежные сладкие слова, 10) Косое созвучие, 11) Целинные созвучия, 12) Вывихи слова <…>, 16) Звездный язык, 17) Вращение слова, 18) Бурный язык, 19) Безумные слова, 20) Тайные <слова>» (с. 84). В. П. Григорьев смело дополняет его упоминаниями о всех других подобных «языках», собранными по всем страницам Хлебникова, изданным и неизданным; в результате перечень разрастается до 53 пунктов, включая такие, как «речь двоякоумная», «поединок слов», «скорнение (согласных)», «опечатка», «разложение слова на аршины, стук счета и на звериные голоса» и т. д. А далее следует анализ этого списка, изъятие самоповторений, систематизация оставшегося и выявление тех хлебниковских текстов, которые могли стоять за этими обозначениями в сознании поэта, – выявление очень убедительное и во многом неожиданное даже для тех, кому приходилось заниматься творчеством Хлебникова. В результате исследователь получает драгоценную возможность: работая над анализом стихов Хлебникова, не только объективно разбирать их склад, но и представлять себе, как вписывались наблюдаемые явления в поэтическое самосознание Хлебникова. Разноголосица хлебниковского перечня сводится в «многомерный образ языка» (с. 84): перед нами как бы различные проекции и срезы одного и того же предмета, очень сложного по очертаниям и составу, помогающие представить его себе в разных поворотах и глубинах.
Этот предмет, главную тему своего исследования, автор называет «воображаемой филологией» Хлебникова – по аналогии с «воображаемой геометрией» Лобачевского. Такой предмет не столь нов, как кажется. «Народная этимология» – не научная, но как бы научная трактовка языка – издавна находилась в поле зрения лингвистики. «Поэтическая этимология» (обороты вроде «слезы слизывал с губ», как бы приглашающие читателя на мгновение поверить, что созвучие слов слезы и слизывал не случайно, а соответствует «глубинной» связи их смыслов) стала предметом внимания лингвистики совсем недавно, и прежде всего благодаря работам самого В. П. Григорьева (впрочем, предпочитающего называть это явление «паронимической аттракцией»). Представим себе, что такое «приглашение поверить» делается не на мгновение, не на одну строчку, а на все время пребывания читателя в художественном мире поэта, – и перед нами будет «воображаемая филология». Доказать, что она не научна, а фантастична, для лингвиста не стоит труда; но отменить ее эстетическое воздействие подобная критика не может. Фиктивное с лингвистической точки зрения реально с литературоведческой точки зрения, потому что оно организует (и очень действенно) словесный и образный мир литературного произведения – а такая организация и порождает эстетический эффект.
Столь же существенна в концепции книги глава «Самовитое слово». Заумь и псевдозаумь Хлебникова издавна были первой насмешкой над поэтом и служили поводом для ложных толкований всего его творчества. В. П. Григорьев ставит все представления на свои места простым утверждением: «самовитое слово» есть слово, дополняющее (а не заменяющее) слова общего языка. Если это заумь (которой у Хлебникова в чистом виде не так уж много), то она воспринимается как непереведенная цитата из иного языка (так, скажем от себя, пьеса «Боги» воспринимается современным читателем приблизительно как звуковой кинофильм на иностранном языке с редкими титрами). Если это словообразовательный неологизм, то он подчеркивает те оттенки значения, которые безразличны для слова в его повседневном бытовании, но важны для включения его в данный контекст. Подробный анализ лингвистики и эстетики хлебниковского словотворчества, как сказано, отложен автором для отдельного исследования. Что касается так называемой чистой зауми, то она (частично) представлена в отдельной главе «Единый смертных разговор» в необычном осмыслении – как интерлингвистический эксперимент, требующий рассмотрения в ряду других проектов всемирного языка от Лейбница до наших дней (здесь автор критически учитывает и работы В. Гофмана, <Святополк->Мирского и А. Костецкого, затрагивающие эту проблему). Думается, что эксперименты с заумью имели для Хлебникова и иной интерес – так сказать, упражнений по осмысливанию бессмысленного (а не наоборот!). Кажется, еще не обращалось внимания на то, что начало ХX века было в научной психологии временем увлечения экспериментальными исследованиями памяти с помощью таблиц для запоминания бессмысленных трехбуквенных слогов и что эта методика обнаружила несостоятельность потому, что выяснилось: абсолютно бессмысленных слогов не бывает, все они при запоминании приблизительно осмысляются, только очень индивидуально и прихотливо, т. е. невыгодно для психологического эксперимента. Трудно думать, что такая общедоступная вещь, как эти таблицы, миновала внимание Хлебникова.
В главах о числе и музыке с некоторым опозданием всплывает давно напрашивающееся у читателя имя Пифагора. Именно в нем скрещиваются все три главные темы Хлебникова: число, музыка («Хлебников и музыка» – тема, впервые обсуждаемая в этой книге, преимущественно по неизданным материалам) и слово. Напомним, что еще в пифагорейской философии считалось, что самое мудрое на свете – число, а после него – тот, кто дал вещам имена. Наконец, для главы «Хлебников и Пушкин», может быть, стоило бы подробнее остановиться на еще двух ключевых понятиях хлебниковской эстетики слова – красоте и простоте. О «прекрасных словах» и «безобразных словах» Хлебников говорит нередко, и этот его критерий, разумеется, заслуживает самой внимательной реконструкции. «Простота» же (не говоря уже о том, что она значила для хлебниковского жизненного идеала и бытового поведения) интересна тем, что иногда пушкински ясные и гладкие созвучия, даже попросту ритмико-синтаксические стереотипы отождествляются для Хлебникова с «простотой» и принимаются в его стихи (с. 138), иногда же, наоборот, служат поводом для отталкивания; об этой диалектике можно было бы сказать больше, и это укрепило бы позицию автора в споре с оценками Г. Винокура и многих других, кто противопоставляет кристаллы пушкински ясных хлебниковских «удач» аморфной массе утомительных «экспериментов». Наконец, для главы «Еще раз…» можно упомянуть еще один штрих, сближающий Хлебникова с Пушкиным: для Хлебникова 1922 год был годом 37-летия, знаменательность этой цифры для возраста поэтов и художников была для него больше, чем для кого бы то ни было, и обращение к пушкинскому «Памятнику», пусть подсознательно, могло быть неслучайным.
Исключительное достоинство книги – в том, что в ней широко привлечены неизданные архивные материалы. Хлебников издан не полностью, а что издано, то очень далеко от текстологического совершенства; поэтому поправки, вносимые В. П. Григорьевым в текст (вплоть до угловых скобок вокруг знаков препинания), важны не только для этого исследования, но и для понимания Хлебникова в целом; а щедрые публикации неизданных записей Хлебникова (обычно мелких, но иногда и по полстраницы – см., например, замечательное рассуждение о «приказе» и «вдохновении» на с. 195) проясняют многое известное и приоткрывают неизвестное в его взглядах и приемах. Это – напоминание (автор возвращается к нему не раз) о том, как насущно важно предпринять новое издание собрания сочинений Хлебникова. Даже если бы в книге не было ничего, кроме этих архивных публикаций, она уже от этого была бы ценным вкладом в «велимироведение». Здесь же они прокомментированы и включены в стройную систему реконструкции поэтического сознания Хлебникова.
Не менее важное достоинство – библиографический аппарат книги. Приложенный библиографический список близок к тому, чтобы называться «все о Хлебникове»; до сих пор в наших изданиях ничего подобного не появлялось. Для молодых исследователей это очень важно: сам автор мимоходом отмечает, как пагубно сказывается на существующих работах о Хлебникове недостаточное знакомство с историей вопроса. При этом она не остается праздным приложением к книге: ссылки на нее щепетильно присутствуют на каждой странице. По большей части это ссылки полемические – что вполне понятно, потому что подавляющее большинство упоминаний о Хлебникове в литературоведении и (особенно) критике представляет собой набор суждений достаточно далеких от научности. Поэтому работа В. П. Григорьева от начала до конца звучит заступнической, апологетической интонацией (особенно, конечно, во вступительном разделе, разросшемся почти на треть книги) – и это, пожалуй, подчас даже вредит книге. Значительность творчества Хлебникова в русской, славянской, европейской поэзии ХX века – факт и без того очевидный; такие исследования, как книга В. П. Григорьева, лучше всего посодействуют осознанию этой значительности.
«Предлагаемое читателю описание – это все же пока, скорее всего, своего рода „введение“ в грамматику идиостиля, а не сама грамматика как таковая, претендующая на определенную полноту», – оговаривается автор в предисловии (с. 6). Это действительно так: здесь расчищено пространство работы, отточен методологический инструментарий, намечены очертания исследуемого явления, сделаны промеры основных общих проблем, показан образец монографического анализа отдельного стихотворения, перечислено немало конкретных тем, напрашивающихся для специального исследования (в том числе большой список «ключевых слов-образов», требующих каждое отдельного рассмотрения по всей массе хлебниковских контекстов: время, слово, число, судьба, воля, люди…, лад, мир, война, небо, звезда, море…, город, конь, дерево, игра… см. с. 197), – и на этом объем книги заставил автора остановиться. Все интонации исследователя – незавершенные; это заставляет ожидать продолжения исследования. В 1985 году исполняется 100 лет со дня рождения Велимира Хлебникова. Создание «Грамматики идиостиля» этого писателя по программе, развернутой в книге В. П. Григорьева, – дело достойное советской науки.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР М. КУЗМИНА230
ТЕЗАУРУС ФОРМАЛЬНЫЙ И ТЕЗАУРУС ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
Выражение «художественный мир писателя» (или произведения, или группы произведений) давно уже сделалось расхожим, но до недавнего времени употреблялось оно расплывчато и неопределенно. Лишь в последние десятилетия, как кажется, удалось вложить в него объективно установимое содержание. Художественный мир текста, представляется теперь, есть система всех образов и мотивов, присутствующих в данном тексте. А так как потенциальным образом является каждое существительное (с определяющим его прилагательным), а потенциальным мотивом – каждый глагол (с определяющими его наречиями), то описью художественного мира оказывается полный словарь знаменательных слов соответственного текста. Чтобы эта совокупность образов стала системой образов, а опись художественного мира превратилась в описание художественного мира, она требует количественного и структурного упорядочения: во-первых, словарь этот должен быть частотным, а во-вторых, он должен быть построен по принципу тезауруса. Частотный тезаурус языка писателя (или произведения, или группы произведений) – вот что такое «художественный мир» в переводе на язык филологической науки.
Еще Б. И. Ярхо, не ставя задачи исчерпывающего описания художественного мира, вычислял степень наличия (например) темы любви в изучаемом тексте как долю слов, так или иначе относящихся к любви, от общего количества слов в тексте (см. нашу статью в приложении к этому тому231). Важно, что при этом «относящимися к любви» считались не только слова этого семантического поля, но и синтаксически связанные с ними: не только слово любовь…, но и слова …сильна, как смерть. Потом, когда Ю. И. Левин впервые перешел к составлению полных частотных словарей сборников Мандельштама и Пастернака232 и к наблюдениям над их семантическими пропорциями, то такие сочетательные связи перестали учитываться. Нам известно несколько работ, описывающих художественный мир поэта по принципу частотного тезауруса, – например, работы Борецкого и Кроника с сопоставлением художественного мира трех античных баснописцев233. Все эти исследования, во-первых, ограничиваются учетом только существительных и прилагательных (глаголы труднее систематизируются и дают менее яркую картину), а во-вторых, группируют слова, разумеется, только по тематическому сходству, а не по тематической смежности: любовь отходит в разряд «психология», а смерть – в разряд «биология», как бы они ни были связаны в тексте.
При таком подходе страдают главным образом две стороны словарной семантики: многозначность и метафоричность. Если слово день употреблено в контекстах ясный день, минувшие дни и а из стекла того <волшебного зеркала> струился день, то трудно надеяться, что первое употребление попадет в рубрику «неживая природа: атмосфера», второе – «общие понятия: время», а третье – «общие понятия: зримость». Скорее в тезаурусе будет отмечено: «Общие понятия: время – …день (3 употребления)». Если слово тень употреблено в контекстах тень дерева, тень друга, тень на челе, тень в зеркале, то тоже велика опасность, что в частотном тезаурусе эти значения смешаются. И подавно можно быть уверенными, что в словосочетаниях свет любви, пламень любви, волны любви, розы любви, крест любви и ярмо любви слово любовь останется в рубрике «человек: психология», а пламень, волны, розы, крест и ярмо разойдутся по рубрикам «неживая природа: огонь», «неживая природа: вода», «живая природа: растения», «человек: общество: религия» и «вещи: сельскохозяйственные орудия». Как обойти такие трудности – это пока остается делом интуиции и такта каждого отдельного исследователя.
Все это нимало не ставит под сомнение ценность частотных тезаурусов такого рода: нужно сперва знать, какие разнородные образы присутствуют в сознании поэта, и лишь затем ставить вопрос, как это разнообразие сочетается в единство. Но на самый этот вопрос наш тезаурус ответа не дает. Составив такую опись образного состава текста, мы не можем произвести обратной операции: реконструировать по полученной описи исходный текст. Ясно, что для такой реконструкции нужны дополнительные сведения – указания на специфические связи слов именно для данного текста. Обычный тезаурус (типа Роже), группирующий чувства к чувствам и оружие к оружию, а потом объединяющий чувства и ум в разряде «душевный мир», а оружие и одежду в разряде «вещи», – это тезаурус, построенный на сходстве. Такой тезаурус, который группировал бы чувства (например, храбрость) и оружие (например, копье) по текстовым ситуациям (например, сражение), был бы тезаурусом, построенным на смежности – смежности самой различной степени, как в рамках фразы, так и в рамках целого произведения или группы произведений. Тезаурус первого, традиционного типа – по сходству – можно назвать тезаурусом формальным; тезаурус нового типа – по смежности – тезаурусом функциональным.
Если нужны напоминания о том, как важны именно эти ассоциации по смежности при восприятии художественного мира, то достаточно привести одно стихотворение того поэта, о котором у нас пойдет речь далее, – из «Осенних озер» М. Кузмина:
Мы видим, как естественны, выразительны и кузмински-характерны все эти ряды ассоциаций – и в то же время как далеки они от формальных рубрик «общество», «растительный мир», «животный мир» и «вещи: одежда».
Мы попытались построить параллельно тезаурусы обоих типов для одной и той же группы текстов – для 25 стихотворений М. Кузмина (1907–1908) из книги «Сети», составляющих в сборнике часть III и разделяющихся на три цикла. Они обладают тематическим единством, интуитивно ощутимым, но нелегко формулируемым (труднее, чем, например, для соседних «Александрийских песен»); они позволяют сопоставлять внутритекстовую смежность в рамках стихотворения, цикла, раздела, а в случае нужды привлекать для сопоставления данные по другим разделам книги и книгам автора. Для начала мы ограничились опять-таки тезаурусом имен существительных – систематизация прилагательных, а тем более глаголов и наречий разработана еще недостаточно. Структура формального тезауруса, разумеется, не копирует механически Роже или иной общеязыковой образец, а рассчитана специально для анализа поэтического текста и подлежит дальнейшим усовершенствованиям (ср. несколько иную структуру в работах М. И. Борецкого).
Материал: Кузмин М. Сети: Первая книга стихов. М., 1908, ч. III: (I) «Мудрая встреча», 9 стихотворений, 172 словоупотребления имен существительных; (II) «Вожатый», 7 стихотворений, 180 словоупотреблений; (III) «Струи», 9 стихотворений, 148 словоупотреблений. Всего в трех циклах 285 слов, 500 словоупотреблений имен существительных (целиком повторяющиеся строки в стихотворении «С тех пор всегда я не один» не учитывались).
Формальный тезаурус (числа – количество словоупотреблений)
I. Общие понятия: а) целое, части, движение, сила: мир (3); конец (2), покой, разделение, сила (3), слабость, удар; б) форма: круг, узор, черта; в) количество: вес, мера; г) причинность: беда, жребий, судьба; д) пространство: глубина, даль (3), простор, страна (2); е) время: вечер, время (4), грядущее (2), год, день (8), лето, май, минута, ночь, пора, полдень, прошлое, срок, утро (3), час (2); ж) чувственные свойства: блеск (3), блистанье, пурпур, свет (10), сияние (3), сумрак, тень (4), тьма, темнота, цвет; звук (2), молчание, тишина; горение, холод; з) знаковость: двойник, знак, клеймо, образ, сигнал. Всего – 93 словоупотребления.
II. Природа неживая: а) вселенная: звезды, земля, небо (2), небосвод, планета, солнце (3); б) атмосфера: гром, заря (3), молния, облак(о) (2), радуга, туман; в) земля: алмаз (3), золото, камень, пещера, холм (2); г) вода: берег, волна (2), водопад, вода (3), воды, влага, капля, лед (2), море, пролив, поток, пучина, река (3), родник, снег, струя (3); д) воздух: воздух (2); е) огонь: дым, огонь (3), пламень (3), пожар. Всего – 60 словоупотреблений.
III. Природа живая: а) целое: лог, поле; б) растительность: купина, куст, роза (6), сосна, хмель, цветок (2); в) животный мир: конь, птица, петух; г) организм и его продукты: жало, крылья (3); воск. Всего – 22 словоупотребления.
IV. Человек телесный: а) тело: грудь (3), жилы, кровь (4), нога (3), плечи, палец (3), рука (6), сердце (14), спина, стопа, тело, хромец; б) лицо: взор (4), глаз (7), губы (2), голос, дуновение, дыхание, лик (3), лицо (4), око (3), слеза, ухо, уста (2), черты (2), чело, язык (2); в) жизнь и смерть: бремя, гибель, мертвый, могила, мученье, прах, рана (2), смерть, тление. Всего – 84 словоупотребления.
V. Человек духовный: а) целое: душа, дух (2); б) ощущения: слух; в) ум: загадка, мысль, сомненье (2); г) речь: лепет, речь, слово (2); д) воля: хотение; е) чувство: блаженство, восторг, веселье, любовь (17), отрада (2), радость, страданье, скорбь (2), страх (3), тоска, томленье, трепет, ярость; ж) нравственность: вера, грех, грешник, соблазн, скверна. Всего – 51 словоупотребление.
VI. Человек общественный: а) поселение: град (= город), село; б) иерархия: вождь (2), господин; в) семья: брат (2), жених, сестра (2); г) дружба: гость (2), друг (4), милый (2), поспешник; д) общение: беседа, величание, встреча (3), свидание (3), разлука (4), верность, измена, клятва (2), милость, обман, охрана; е) хозяйство: сокровище; ж) право: беззаконница, запрет (3), оковы (2); з) война: Александры, бой, конница; и) религия: бес, вечерня, кумир, молитва, рай (3), серафим; к) искусство: соната, хор. Всего – 58 словоупотреблений.
VII. Человек деятельный: а) борение, дело, подвиг, призыв; искатель, плакальщик, пытатель; б) возврат (2), лёт, плавание, путь (8), шаг; вожатый (3), путник, скиталец; в) засада, победа, преграда; воин (2), пленный; г) дар (3); д) лобзание, объятие, поцелуй, прикосновение. Всего – 41 словоупотребление.
VIII. Вещи: а) дом, здание, келья, комната, коридор, крылья, ограда (2), сад (2), сень (2), ступень; б) врата, дверь (2), окно, оконце, порог (2); в) дорога, мост; костыль, посох, челнок, якорь; г) костер, печь, свеча (5); д) веретено, весы, кудель, молот, ярмо; зеркало (4), рожок, сосуд, стекло (4), цепь (2), чаша; е) броня, знамя, копье (2), латы (5), меч (7), нож, стрела, тетива, труба (3); ж) кадило, колокол, ладан (2), лампада (2), риза (2); 3) венец, венок, кольцо (2), наряд, перстень, плащ, риза (2); и) книга, страница, строка. Всего 91 словоупотребление.
Функциональный тезаурус (числа – номера стихотворений по порядку; 142 означает, что слово дважды упоминается в стихотворении № 14; в круглых скобках – слова с метонимическим контекстуальным значением, в квадратных – с метафорическим)
А. Общие понятия: 1) благая сила: око – 6, любовь – 6, (рука – 6), свет – 17; 2) злая сила: бес – 14, тьма – 17; 3) судьба: судьба – 22, жребий – 16, [сестры – 10, веретено – 10, кудель – 10], страницы – 2, [река – 2, капли – 2]; пленный – 2, оковы – 2, 5; 4) мера: мера – 4, вес – 4; весы – 3; сотня – 14; без конца – 13; 5) время: грядущее – 15, 8 (свет – 8), прошлое – 15, [сосуд – 15, потонувшие сокровища – 2], день – 16, час – 16, минуты – 13, до зари – 13, 222, до утра – 112. Всего – 37 словоупотреблений.
Б. Лица.
Ба) «Я»: 1) человек телесный: силы – 6, хромец – 6; мученье – 25, рана – 22, кровь – 222, (струею – 22); 2) внешность: рука – 13, палец – 13, 15, спина – 16: шаги – 5; 3) духовный мир: душа – 4, дух – 14, 17, сердце – 1, 7, 11, 12, 13, 172, 183, 212, 22, 24, (чаша – 17, алмаз – 17, 19), грудь – 14, 21, 22, жилы – 14, [крылья – 5, 8]; 4) ощущения: взор – 2, 15, глаз – 2, 6, 17, 19, (облак – 6), слух – 17, ухо – 2. Всего – 120 словоупотреблений;
Бб) «Ты»: 0) друг – 3, 12, 13, поспешник – 4, [посох – 4, путь – 4]; гость – 112, путник – 11; вожатый – 10, 132, вождь – 14, 16, господин – 16, воин – 14, 15, жених – 12, [серафим – 14]; милый – 182; 1) человек телесный: силы – 17, слабость – 17, тело – 24, кровь – 24, дыханье – 24, [воск – 24, пурпур – 24, роза – 24, вода – 24, воздух – 242]; 2) внешность: черты – 11, 13, лик – 42, 15, лицо – 11, 13, 152, (сияние – 13), [молния – 15]; око – 20, 21, (блеск – 20), глаз – 4, 16 (свет – 16), взор – 15, [струя – 15]; уста – 8, 15, (огонь – 15), губы – 12, 21; чело – 21, плечи – 12, крылья – 12, рука – 12, 13, пальцы – 8, нога – 10, 12, 15, стопа – 10; прикосновение – 8; 2а) атрибуты: броня – 16, латы – 10, 12, 13, 16, 20, (блистанье – 10, блеск – 16); меч – 15, (радуга – 15), копье – 15, конь – 15, клеймо – 12; ризы – 21, сиянье – 21, 24, странный наряд – 7. Всего – 48 словоупотреблений;
Бв) «Мы»: 5) эмоции: любовь – 3, 42, 5, 11, 12, 16, 173, 183, 19, 252, [воды – 4, водопад – 4, родник – 4, ярмо – 12, струя – 17, кровь – 17, розы – 17, горение – 8, огонь – 19, пламя – 19, пламень – 22, пожар – 24, саламандры – 19], покой – 4, веселье – 22, радость – 21, отрада – 1, 23, восторг – 21, блаженство – 14, [рана – 14], лёт – 17, объятия – 3, поцелуй – 3; томленье – 6, тоска – 1, скорбь – 4, 5, [бремя – 5], страх – 5, 6, 8, трепет – 7, тень (на челе) – 21, страданье – 25, слеза – 4, плакальщик – 2; 6) воля: хотение – 8, [якорь – 23]; борение – 8, пытатель – 2, искатель – 2; 7) ум: мысль – 3, обман – 9, загадка – 7, сомненье – 16, 17, [пламень – 17]; 8) речь: лепет – 7, слово – 11, 23, речь – 7, беседа – 11, молчание – 8, голос – 20, язык – 22, 25, взор – 13, рука – 25; 9) дело: дело – 3; 10) нравственность: грешник – 4, грех – 14, [жало – 14, риза – 14], соблазн – 14, скверна – 5; 11) общество, общение: сестра – 3, брат – 3, 7; знаки милости – 16, лобзание – 14, величание – 8, клятва – 8, 15, верность – 15, [цепи – 19, 24, мост – 19, оконце – 19, планета – 19, земля – 19, день – 19, ночь – 19], перстень – 13, кольцо – 13, 15; измена – 25, разделение – 8; 12) религия: вера – 5, подвиг – 5, молитва – 23, вечерня – 5, ладан – 23, кадило – 23, дым – 23, пещеры – 5; земной кумир – 12; 13) искусство: книга – 16, строки – 16; песня – 8, пенье – 16, 252, хоры – 8, соната – 20, (звуки – 20). Всего – 60 словоупотреблений.
В. Событие: 1) срок: срок – 2, время – 5, 17, пора – 11, лето господне – 11, год – 11, день – 93, 11, (белый камень – 11), час – 9, [алмаз – 9, блеск – 9, венец – 9, тень – 9, узор – 9, черта – 9, сень – 9, сосна – 9, холм – 9, утро – 9, полдень – 9, вечер – 9]; сигнал – 2, петух – 17, труба – 22, 21, колокол – 21, свет – 9, (туман – 9); 2) встреча: встреча – 12, 7, свидание – 1, 17, 25, призыв – 17, (звуки – 17); 2а) дар: дар – 13, 162, зеркало – 13, 152, 16, стекло – 132, 15, (день – 13); тень – 13, образ – 16, двойник – 16; 3) путь: путь – 6, 7, 14, 19, 21, 232, дорога – 24, коридор – 13, ступень – 13, без возврата – 7, 13, [плаванье – 25, пролив – 25]; скиталец – 13; костыли – 6 (други – 6), дорожный рожок – 22, дорожный плащ – 21; 4) препятствие: преграда – 23, разлука – 21, 25, запрет – 24, 252; река – 13, 19, поток – 13, пучина – 13, воды – 13, волны – 13, 15, глубина – 15, (челнок – 13); темнота – 13, небосвод – 13: огонь – 15, пламенный простор – 15, огненное море – 15, [купина – 15]; ярость – 13, смерть – 13, гибель – 13; 4а) борьба: беда – 18, засада – 18, охрана – 14, бой – 10, удар – 16, (гром – 10); меч – 11, 183, 22, 23, стрелы – 24, тетива – 11, копье – 10, знамя – 10, конница – 10, (беззаконница – 10), молот – 19, костер – 25, нож – 25; победы – 11, [Александры – 19]; 5) цель: конец – 19, берег – 24, холмы – 13, куст – 13, роза – 13, 183, страна иная – 13, дали – 7, свет – 7; пороги – 7, врата – 7, сад – 62, рай – 6, 9, 22, небесный град – 23. Всего – 140 словоупотреблений.
Г. Окружение: 1) ближнее: здание – 1, дом – 11, сень – 11, крыльцо – 11, комната – 1, келья – 1; ограда – 202, стекла – 1, окно – 3, дверь – 32, круг – 12, свет – 12; печи – 3, ладан – 1, ризы – 1, золото – 1, лампада – 4, 20, свеча – 12, 3, 7, 20, свет (свечей) – 11, 20; 2) дальнее: мир – 19, дали – 22, день – 22, май – 2, свет – 2, 10, цвет – 2, тень – 2, тишина – 10; небо – 152, солнце – 2, 21, звезды – 4, сумрак – 21, облако – 21, дуновение – 8, влага – 18; села – 13, поле – 10, луг – 2, цветы – 2, 10 (венок – 10), хмель – 10, птицы – 2 (пенье – 2); 3) в целом: мир – 6, внешний мир – 12, здешние страны – 9; время – 8, 19, тление – 8, прах – 8, [мертвый – 14, могила – 14]; холод – 1, лед – 1, 4, снег – 1. Всего – 69 словоупотреблений.
Разница между двумя картинами очевидна. Не говоря уже о том, что в функциональном тезаурусе слова день, тень и им подобные дифференцируются по значениям и расходятся в разные рубрики, можно заметить, например, как разделяются слова стекло (синоним окна и синоним зеркала), взор (мой взор – элемент душевной жизни человека, твой взор – элемент внешности человека), рука (к кому… мне руки протянуть; целую руки твои; рукою крепкой Любовь меня взяла), как перемещаются слова крылья (не часть птичьего организма, а символ человеческой душевной силы – ср. заглавие известной повести Кузмина), камень (белым камнем отмечен этот день), дым (дым и так идет из кадила), пещера (я подвиг великой веры свершить готов, когда призовешь в пещеры). Понятно, что такая рубрикация точнее передает интуитивное восприятие этих слов в кузминском тексте. В словосочетаниях типа блеск очей; из уст его огонь; стекала кровь струею и т. п. слова блеск, огонь, струя, следуя за главными, попадают в семантический разряд «человек телесный» (такие и подобные слова взяты в функциональном тезаурусе в круглые скобки). Наконец, слова, входящие в состав сравнений, метафор и проч., тоже относились к рубрике не по основному своему, а по переносному значению: мой друг прекрасен, как серафим; ты как воск, окрашенный пурпуром, таешь; горит в груди блаженства рана (такие слова взяты в квадратные скобки). В рубриках «срок» и «судьба» половина словоупотреблений оказываются переносными. По существу, такие образы существуют в художественном мире произведения на особом положении – не как «основные», «реальные», а как «вспомогательные», «условные» (швейцара мимо он стрелой… – говорится об Онегине, но это не значит, что стрела входит в предметный мир «Евгения Онегина»). Иногда они разрастаются в целые картины и все же остаются вспомогательными: в стихотворении № 9 «Двойная тень дней прошлых и грядущих…» описание полуденной тени от сосен занимает половину стихотворения, и все-таки это лишь сравнение для основного – образа роковой час. Иногда они получают самостоятельное развитие, и тогда граница между вспомогательными и основными образами становится трудноразличима: во фразе «в моем сердце – роза любви» – роза, несомненно, была бы вспомогательна; но розы любви расцветающие видит глаз; из‐за розы меч горящий блещет – здесь уже такой уверенности нет. У символистов и потом у авангардистов это бывает чаще, у Кузмина (в «Сетях») сравнительно редко.
В результате таких сдвигов пропорции основных семантических полей в функциональном тезаурусе заметно меняются по сравнению с формальным. Сильно сокращаются разряды «вещи» и «природа»: и перстень, и ярмо, и цепь, и пламя, и роза, и планета оказываются лишь символами человеческих состояний и отношений. Сокращается также разряд «общие понятия»: много слов, обозначающих категорию «время», переходит в рубрику «событие: срок», а много слов типа блеск, свет… – в рубрику «человек: внешность». За счет этого расширяются прежде всего разряды «лица» (на «человека духовного» по формальному тезаурусу приходилась одна десятая часть всех словоупотреблений, по функциональному – почти четверть) и «события». Если приравнять функциональный разряд «общие понятия» к одноименному формальному (I), «дальний мир» – к «природе» (II–III), «лица» – по рубрикам к «человеку телесному», «человеку духовному» и «человеку общественному» (IV, V, VI), «события» – к «человеку деятельному» (VII), а «ближний мир» – к «вещам» (VIII), то картина пропорций будет такая:

Можно отметить и еще некоторые любопытные подробности. К «я» относится 123 словоупотребления, к «ты» – 84, общее соотношение 6:4. Но по разряду «человек телесный» это соотношение оказывается 2:8, а по разряду «человек духовный» – 9,5:0,5; «я» в наших стихах раскрывается главным образом изнутри (что вполне естественно), а «ты» – извне (что уже менее предсказуемо: вполне возможны стихи, в которых поэт так вживается в «ты», что изображает его также преимущественно изнутри, – таков Пушкин в своих элегиях). В первом из трех циклов нашего материала отношение «я : ты» – 8:2, во втором – 3:7, в третьем – 7:3; из трех наслаивающихся образов «ты – гость», «ты – вожатый» и «ты – милый» наиболее детализованным оказывается второй. На разряды «окружение» и «общие понятия» в первом цикле приходится 35% словоупотреблений, во втором – 20%, в третьем – 10%: поэт как бы старается вначале представить лиц и действие на фоне декораций, а потом оставляет эту заботу.
Главная, однако, разница в том, что по формальному тезаурусу нельзя было реконструировать исходную совокупность текстов, а по функциональному уже отчасти можно: «Миром правит Любовь, сила благая, бдящая и светлая; человек – пленник в оковах неведомой судьбы, но для каждого наступает роковой срок, когда раздается сигнал и открывается путь к свету; вожатым на этом пути становится гость и друг, лицо его сияет, из уст его огонь, на плечах – латы; он вручает дар – зеркало со своим образом; человек предается ему клятвой верности, скрепленной лобзанием и перстнем, и тогда в нем, измученном, оживает сердце, в него входит любовь, изгоняя страх и скорбь, суля восторг и блаженство…» и т. д. – такой почти механический пересказ функционального тезауруса связными фразами уже дает картину, довольно близко отражающую художественный мир данных стихотворений Кузмина. Можно даже пойти дальше, опираясь на кузминскую синонимику и на частотность его излюбленных слов: «Сердце трепещет и горит огнем в предощущении любви; час трубы настал, свет озаряет мне путь, глаз мой зорок и меч надежен, позабыты страхи; роза кажет мне дальний вход в райский сад, а ведет меня крепкая рука светлоликого вожатого в блеске лат» – такая развертка набора самых употребительных слов нашего тезауруса может считаться как бы пересказом ненаписанного стихотворения Кузмина из нашего раздела «Сетей».
Можно заметить, что предлагаемое описание мира по функциональному тезаурусу – «Миром правит Любовь…» и т. д. – напоминает импрессионистические характеристики вроде: «Мир Фета – это ночь, благоуханный сад, божественно льющаяся мелодия и переполненное любовью сердце…». Или: «В стихах Багрицкого веет вольность сурового моря и бескрайней степи, и этот ветер становится торжествующей бурей революции…» и т. п. (примеры условные). Это так: только те образные связи, которые в таких характеристиках угадывались наобум, здесь опираются на объективно установленные закономерности сочетаний образов по смежности в данном тексте. Точно так же ведь и формальный тезаурус – «положительные эмоции – столько-то словоупотреблений, отрицательные эмоции – столько-то» – восходит к импрессионистическим характеристикам вроде: «Любимое слово писателя NN – страх: листаем и видим: страх сдавил ему горло, липкий страх подползал к сердцу, страхами вставала уличная ночь…» (пример условный; такие приемы любил К. Чуковский). И там, и здесь наука делает одно и то же дело: объективными показателями подтверждает и уточняет (или опровергает) непосредственное интуитивное впечатление от текста.
Формальный тезаурус остается незаменим как средство межтекстового анализа (функциональный – как средство внутритекстового). Возьмем еще раз пропорции восьми разрядов формального тезауруса части III «Сетей» и сравним их с теми же пропорциями в части IV «Сетей» («Александрийские песни», 690 словоупотреблений существительных):

Цифры подтверждают и уточняют интуитивное впечатление: мир «Александрийских песен» более конкретный (вдвое ниже доля «общих категорий»), более вещественный (доля «вещей» – та же, но эти вещи предстают не как сравнения и метафоры для чего-то иного, а сами по себе), более живой (почти вдвое больше становится «живой природы»), более внешний («человек духовный» сокращается на треть, а «человек общественный» возрастает почти вдвое), более созерцательный («человек деятельный» заметно сокращается; кроме того, половину этого разряда в «Александрийских песнях» составляют названия профессий – угольщик, красильщик, танцовщица, воин, вор… – стоящие на грани разряда «человек общественный» и совершенно нехарактерные для части III). Подобное сопоставление функциональных тезаурусов вряд ли было бы возможно: функциональный тезаурус «Александрийских песен» (еще не составленный) имел бы, вероятно, слишком непохожий вид. Можно сказать, что формальный тезаурус показывает, как обогащается восприятие данного текста от запаса общеязыковых ассоциаций, накопившихся в результате знакомства со многими другими текстами; функциональный тезаурус, наоборот, показывает, как запас общеязыковых ассоциаций обогащается и обновляется спецификой данного нового текста. Формальный тезаурус позволяет сравнивать тексты по составу лексики внутри семантических гнезд; функциональный тезаурус – по структуре этих семантических гнезд.
Является ли рассматриваемая структура элементом идиостиля? Это зависит от того, какое содержание мы вкладываем в понятие «идиостиль». С одной стороны, нет: если идиостиль – это те явления языка, которые неминуемо присутствуют в речи автора, о чем бы в этой речи ни говорилось, то наш тезаурус охватывает не столько словесный, сколько образный уровень речи, т. е. именно специфику того, «о чем в ней говорится». С другой стороны, да: наш тезаурус – это картина нестандартных семантических связей, присущих не языку вообще, а только данному автору (произведению, группе произведений), и как таковая, по-видимому, имеет право называться идиостилем.
Для дальнейшего совершенствования техники составления функциональных тезаурусов представляются важными три направления.
Первое – самое очевидное: нужно расширять круг учитываемых слов – принимать к рассмотрению не только существительные, но и прилагательные (конечно, вокруг своих существительных), и глаголы (вокруг своих подлежащих и дополнений; собственно, такие рубрики, как «событие» или «человек деятельный», гораздо естественнее заполняются именно глаголами), и даже местоимения: уже при нашем первом подступе понадобилось выделить поля «я» и «ты», а какие тонкости допускает игра местоимениями в лирике, давно и блестяще показано Р. Якобсоном. Разумеется, при таком расширении круга слов еще больше расширится круг учитываемых словосочетаний.
Второе: нужно дифференцировать виды и степени межсловесных связей по смежности, лежащих в основе функционального тезауруса, – например, внутри словосочетания, внутри предложения, между смежными предложениями, внутри целого текста. Для формального тезауруса аналогичную иерархию представляют связи между словами одной рубрики, одного разряда, одного класса234. Мы попробовали выделить в нашем материале наиболее тесные связи – внутри словосочетания и внутри предложения: други-костыли, свет любви, любовь и скорбь, сердце, как чаша, сердце (точит) кровь, кровь (станет) водою, светом (развею) тьму, свет (горит) до утра, с пеньем (пойду) на костер. Таких связей в нашем тексте оказалось 162. Из них 94 сплетаются в одну большую группу (87 слов, 236 словоупотреблений: от любого из этих слов к любому можно перейти, сделав от 1 до 10 шагов по словосочетаниям – например, от посоха к молнии: посох (нужен) в пути, в пути (испытаешь) меч, меч сердце (прободал), сердца алмаз, Час, как алмаз, день и час, день (струился) из стекла, стекло (хранит) черты, (видишь) в чертах лицо, лицо как молния), 33 – в 12 малых групп по 3–10 слов (всего 53 слова, 90 словоупотреблений); 35 представлены одинокими парами слов (всего 70 слов, 75 словоупотреблений), т. е. из общего количества 285 слов (500 словоупотреблений) в тесные словосочетания входят 73% (80% словоупотреблений), в том числе в основной группе – 30% (47% словоупотреблений). Насколько такая степень словосочетательной связности текста является нормальной, повышенной или пониженной, до обследования сравнительного материала сказать невозможно.
Наконец, третье: нужно расширять охватываемую группу текстов, сравнивая функциональный тезаурус одного стихотворения, цикла стихотворений, раздела в книге, целой книги, группы книг, всего творчества поэта. (Мы уже видели некоторые отличия в пропорциях функционального тезауруса трех циклов нашего материала.) Интересно, что среди рассматриваемых 25 стихотворений есть одно (№ 11), в котором собраны почти все основные рубрики нашего тезауруса (сердце, любовь, дом, гость, путник, срок, путь на борьбу и победы): при желании все остальные стихотворения можно вывести из этого.
Составление тезаурусов отдельных стихотворений – прием, неоднократно используемый Ю. М. Лотманом в его анализах поэтического текста235. Его опыт показывает, что здесь часто оказывается важным самый широкий принцип рубрикации: «хорошее – плохое», причем и в положительном, и в отрицательном поле могут объединяться слова из самых разных семантических разрядов. Можно предполагать, что по мере расширения материала от одного стихотворения к циклу и т. д. этот оценочный критерий рубрикации будет все более слабеть, а объективные – все более выдвигаться, пока наконец в пределе – при максимальном охвате материала – функциональный тезаурус текста не сблизится и не сольется с формальным тезаурусом языка.
В заключение воспользуемся случаем для публикации одного неизданного текста – как бы в оправдание того, что материалом для описанных «словарных» методов исследования были взяты тексты именно Кузмина. Это небольшое произведение, по-видимому, конца 1920‐х годов, показывающее, что форма словаря (в данном случае – алфавитного) была не чужда художественным экспериментам самого Кузмина. Оно производит впечатление алфавитного указателя характерной топики собственного творчества (раннего и позднего), составленного самим поэтом. Алфавитный принцип организации текста в поэзии известен еще с ветхозаветных псалмов, в прозе применялся гораздо реже. Здесь ассоциация напрашиваются не столько с литературными аналогами, сколько с изобразительным искусством («Азбука» Бенуа) или, что еще интереснее, с кинематографом: последовательность сменяющихся картин напоминает смену кадров. Это, может быть, не случайно: интерес Кузмина к кинематографу засвидетельствован (не говоря о мелких реминисценциях) циклом 1924 года «Новый Гуль» и драмой «Смерть Нерона», в которой чередование сцен из римской истории и из современной жизни близко напоминает гриффитовскую «Нетерпимость».
Без заглавия 236
1 Айва разделена на золотые, для любви, половинки. Предложить – вопрос, отведать – ответ.
2 Желтая бабочка одна трепещет душою на медовых шероховатых округлостях, пока не появится
3 всадник, и не будет
4 гостем.
5 Друг, —
6 он редок, как единорог, что завлек Александра Рогатого на заводи, где вырос город для счастья любви,
7 он слаще жасмина,
8 вернее звезды (в море, над лиловой тучей, в одиноком бедном окне).
9 Италия, вторая родина, нас примет! Коринфская капитель обрушилась, как головка спелой спаржи, и обломок стоит в плюще под павлиньим небом, как переполненная осенними, лопающимися от зрелой щедроты плодами, корзина.
10 И ты, Китай, флейтой лунных холмов колдуешь дружбу.
11 Лодка, лодка! место – двоим, третий тонет,
12 и мандолина миндально горчит слух. Испано-Рим и арабо-Венеция загробным кузнечиком гнусаво трещат, как крылышком богини Пэйто – убеждения.
13 Навес полосатый и легкий скроет твою убежденность, когда язычок умолкнет.
14 С облака на облако третий скачет все выше к фазаньим перьям зари. Дитя вдохновенья.
15 Пастух на синих склонах.
16 Рыбак усердно каплет.
17 Сыпется снег на черно-зеленый мох.
18 Еще неизвестная, но уже полная значенья тропа на свиданье —
19 и утро, возвращенье.
20 Фонарь тушится. Он не нужен.
21 Огромный холм, как комод, как Арарат,
22 внизу часовой, будто убежал ангел из восточного рая.
23 Наконец, шатер, как скиния наслаждения, он закрыт.
24 Щегленок поет невинно для отвода глаз.
25 Но эхо перекладывает все это в другую тональность двусмысленно и соблазнительно.
26 Из шатра выходит юноша.
27 Он как яблоня. Впрочем, у шатра и вырастает яблоня, словно для сравнения не в свою пользу.
ПРИЛОЖЕНИЕ
I. МУДРАЯ ВСТРЕЧА. Посвящается Вяч. И. Иванову. (1) 1. Стекла стынут от холода, Но сердце знает, Что лед растает, – Весенне будет и молодо. / В комнатах пахнет ладаном. Тоска истает, Когда узнает, Как скоро дастся отрада нам. / Вспыхнет на ризах золото. Зажгутся свечи Желанной встречи – Вновь цело то, что расколото. / Снегом блистают здания. Провидя встречи, Я теплю свечи – Мудрого жду свидания.
(2) 2. О, плакальщики дней минувших, Пытатели немой судьбы, Искатели сокровищ потонувших, – Вы ждете трепетно трубы? / В свой срок, бесстрастно неизменный, Пробудит дали тот сигнал. Никто бунтующий и мирный пленный Своей судьбы не отогнал. / Река все та ж, но капли разны. Безмолвны дали, ясен день. Цвета цветов всегда разнообразны, И солнца свет сменяет тень. / Наш взор не слеп, не глухо ухо. Мы внемлем пенью вешних птиц. В лугах – тепло, предпразднично и сухо – Не торопи своих страниц. / Готовься быть к трубе готовым. Не сожалей и не гадай. Будь мудро прост к теперешним оковам, Не закрывая глаз на Май.
(3) 3. Окна плотно занавешены, Келья тесная мила. На весах высоких взвешены Наши мысли и дела. / Дверь закрыта, печи топятся, И горит, горит свеча. Тайный друг ко мне торопится, Не свища и не крича. / Стукнул в дверь, отверз объятия; Поцелуй, и вновь, и вновь, – Посмотрите, сестры, братия, Как светла наша любовь!
(4) 4. Моя душа в любви не кается — Она светла и весела. Какой покой ко мне спускается! Зажглися звезды без числа. / И я стою перед лампадами, Смотря на близкий милый лик. Не властен лед над водопадами, Любовных вод родник велик. / Ах, нужен лик молебный грешнику, Как посох странничий в пути. К кому, как не к тебе, поспешнику, Любовь и скорбь свою нести? / Но знаю вес и знаю меру я, Я вижу близкие глаза, И ясно знаю, сладко веруя: «Тебе нужна моя слеза».
(5) 5. Я вспомню нежные песни И запою, Когда ты скажешь: «воскресни». / Я сброшу грешное бремя И скорбь свою, Когда ты скажешь: «вот время». / Я подвиг великой веры Свершить готов, Когда позовешь в пещеры; / Но рад я остаться в мире Среди оков, Чтоб крылья раскрылись шире. / Незримое видит око Мою любовь – И страх от меня далеко. / Я верно хожу к вечерне Опять и вновь, Чтоб быть недоступней скверне.
(6) 6. О, милые други, дорогие костыли! К какому раю хромца вы привели! / Стою, не смею ступить через порог – Так сладкий облак глаза мне заволок. / Ах, я ли, темный, войду в тот светлый сад? Ах, я ли, слабый, избегнул всех засад? / Один не в силах пройти свой узкий путь, К кому в томленьи мне руки протянуть? / Рукою крепкой любовь меня взяла И в сад пресветлый без страха провела.
(7) 7. Как отрадно, сбросив трепет, Чуя встречи, свечи жечь, Сквозь невнятный нежный лепет Слышать ангельскую речь. / Без загадок разгадали. Без возврата встречен брат; Засияли нежно дали Чрез порог небесных врат. / Темным я смущен нарядом, Сердце билось, вился путь, Но теперь стоим мы рядом, Чтобы в свете потонуть.
(8) 8. Легче весеннего дуновения Прикосновение Пальцев тонких. Громче и слаще мне уст молчание, Чем величание Хоров звонких. / Падаю, падаю, весь в горении, Люто борение, Крылья низки. Пусть разделенные – вместе связаны, Клятвы уж сказаны – Вечно близки. / Где разделение? время? тление? Наше хотение Выше праха. Встретим бестрепетно свет грядущего, Мимоидущего Чужды страха.
(9) 9. Двойная тень дней прошлых и грядущих Легла на беглый и неждущий день – такой узор бросает полднем сень Двух сосен, на верху холма растущих. / Одна и та она всегда не будет: Убудет день, и двинется черта, И утро уж другой ее пробудит, И к вечеру она уже не та. / Но будет час, который непреложен, Положен в мой венец он, как алмаз, И блеск его не призрачен, не ложен – Я правлю на него свой зоркий глаз. / То не обман, я верно, твердо знаю: Он к раю приведет из темных стран. Я видел свет, его я вспоминаю – И все редеет утренний туман.
II. ВОЖАТЫЙ. Victori duci. (10) 1. Я цветы сбираю пестрые И плету, плету венок, Опустились копья острые У твоих победных ног. / Сестры вертят веретенами И прядут, прядут кудель. Над упавшими знаменами Разостлался дикий хмель. / Пронеслась, исчезла конница, Прогремел, умолкнул гром. Пала, пала беззаконница – Тишина и свет кругом. / Я стою средь поля сжатого, рядом ты в блистаньи лат. Я обрел себе Вожатого – Он прекрасен и крылат. / Ты пойдешь стопою смелою, Поведешь на новый бой. Что захочешь – то и сделаю: Неразлучен я с тобой.
(11) 2. «Лето Господнее – благоприятно»… (см. в тексте)
(12) 3. Пришел издалека жених и друг. Целую ноги твои! Он очертил вокруг меня свой круг. Целую руки твои! / Как светом озарен весь внешний мир. Целую латы твои! И не влечет меня земной кумир. Целую крылья твои! / Легко и сладостно любви ярмо. Целую плечи твои! На сердце выжжено твое клеймо. Целую губы твои!
(13) 4. Взойдя на ближнюю ступень, Мне зеркало вручил Вожатый; Там отражался он как тень, И ясно золотели латы; А из стекла того струился день. / Я дар его держал в руке, Идя по темным коридорам. К широкой выведен реке, Пытливым вопрошал я взором, В каком нам переехать челноке. / Сжав крепко руку мне, повел Потоком быстрым и бурливым Далеко от шумящих сел К холмам спокойным и счастливым, Где куст блаженных роз, алея, цвел. / Но ярости пугаясь вод, Я не дерзал смотреть обратно; Казалось, смерть в пучине ждет, Казалось, гибель – неотвратна. А все темнел вечерний небосвод. / Вожатый мне: «о друг, смотри – Мы обрели страну другую. Возврата нет. Я до зари С тобою здесь переночую». (О, сердце мудрое, гори, гори!) / «Стекло хранит мои черты; Оно не бьется, не тускнеет. В него смотря, обрящешь ты То, что спасти тебя сумеет От диких волн и мертвой темноты». / И пред сиянием лица Я пал, как набожный скиталец. Минуты длились без конца. С тех пор я перстень взял на палец, А у него не видел я кольца.
(14) 5. Пусть сотней грех вонзался жал, Пусть – недостоин, Но светлый воин меня лобзал – и я спокоен. / Напрасно бес твердит: «приди: Ведь риза – драна!» Но как охрана горит в груди Блаженства рана. / Лобзаний тех ничем не смыть, Навеки в жилах; Уж я не в силах как мертвый быть В пустых могилах. / Воскресший дух неумертвим, Соблазн напрасен. Мой вождь прекрасен, как серафим, И путь мой – ясен.
(15) 6. Одна нога – на облаке, другая на другом, И радуга очерчена пылающим мечом. / Лицо его как молния, из уст его – огонь. Внизу, к копью привязанный, храпит и бьется конь. / Одной волной взметнулася морская глубина. Все небо загорелося, как Божья купина. / «Но кто ты, воин яростный? тебя ли вижу я? Где взор твой, кроткий, сладостный, как тихая струя? / Смотри, ты дал мне зеркало, тебе я обручен, Теперь же морем огненным с тобою разлучен». / Так я к нему, а он ко мне: «смотри, смотри в стекло. В один сосуд грядущее и прошлое стекло». / А в зеркале по-прежнему знакомое лицо, И с пальца не скатилося обетное кольцо. / И поднял я бестрепетно на небо ясный взор – Не страшен, не слепителен был пламенный простор. / И лик уж не пугающий мне виделся в огне, И клятвам верность прежняя вернулася ко мне.
(16) 7. С тех пор всегда я не один, Мои шаги всегда двойные, И знаки милости простые дает мне Вождь и Господин. С тех пор всегда я не один. / Пускай не вижу блеска лат, Всегда твой образ зреть не смею – Я в зеркале его имею, Он так же светел и крылат. Пускай не вижу блеска лат. / Ты сам вручил мне этот дар, И твой двойник не самозванен, И жребий наш для нас не странен – О ту броню скользнет удар. Ты сам вручил мне этот дар. / Когда иду по строкам книг, Когда тебе склоняю пенье, Я знаю ясно, вне сомненья, Что за спиною ты приник, Когда иду по строкам книг. / На всякий день, на всякий час – Тебя и дар твой сохраняю. Двойной любовью я сгораю, Но свет один из ваших глаз На всякий день, на всякий час.
III. СТРУИ. (17) 1. Сердце, как чаша наполненная, точит кровь; Алой струею неиссякающая течет любовь; Прежде исполненное приходит вновь. / Розы любви расцветающие видит глаз. Пламень сомненья губительного исчез, погас. Сердца взывающего горит алмаз. / Звуки призыва томительного ловит слух. Время свиданья назначенного пропел петух. Лета стремительного исполнен дух. / Слабостью бледной охваченного подниму. Светом любви враждующую развею тьму. Силы утраченные верну ему.
(18) 2. Истекай, о сердце, истекай! Расцветай, о роза, расцветай! Сердце, розой пьяное, трепещет. / От любви сгораю, от любви; Не зови, о милый, не зови: Из-за розы меч горящий блещет. / Огради, о сердце, огради. Не вреди, меч острый, не вреди: Опустись на голубую влагу. / Я беду любовью отведу, Я приду, о милый, я приду И под меч с тобою вместе лягу.
(19) 3. На твоей планете всходит солнце И с моей земли уходит ночь. Между нами узкое оконце, Но мы время можем превозмочь. / Нас связали крепкими цепями, Через реку переброшен мост. Пусть идем мы разными путями – Непреложен наш конец и прост. / Но смотри, я – цел и не расколот, И бесслезен стал мой зрящий глаз. И тебя пусть не коснется молот, И в тебе пусть вырастет алмаз. / Мы пройдем чрез мир как Александры, То, что было, повторится вновь, Лишь в огне летают саламандры, Не сгорает в пламени любовь.
(20) 4. Я вижу – ты лежишь под лампадой; Ты видишь – я стою и молюсь. Окружил я тебя оградой И теперь не боюсь. / Я слышу – ты зовешь и вздыхаешь, Ты слышишь мой голос: «иду». Ограды моей ты не знаешь И думаешь, вот приду. / Ты слышишь звуки сонаты И видишь свет свечей, А мне мерещатся латы И блеск похожих очей.
(21) 5. Ты знал, зачем протрубили трубы, Ты знал, о чем гудят колокола, – Зачем же сомкнулись вещие губы И тень на чело легла? / Ты помнишь, как солнце было красно И грудь вздымал небывалый восторг, – Откуда ж спустившись, сумрак неясный Из сердца радость исторг? / Зачем все реже и осторожней Глядишь, опустивши очи вниз? Зачем все чаще плащ дорожный Кроет сиянье риз? / Ты хочешь сказать, что я покинут? Что все собралися в чуждый путь? Но сердце шепчет: «разлуки минут: Светел и верен будь».
(22) 6. Как меч мне сердце прободал, Не плакал, умирая. С весельем нежным сладко ждал Обещанного рая. / Палящий пламень грудь мне жег, И кровь, вся голубая. Вблизи дорожный пел рожок, «Вперед, вперед!» взывая. / Я говорил: «бери, бери! Иду! лечу! с тобою!» И от зари и до зари Стекала кровь струею. / Но к алой ране я привык. Как прежде истекаю, Но нем влюбленный мой язык. Горю, но не сгораю.
(23) 7. Ладана тебе не надо: Дым и так идет из кадила. Не даром к тебе приходила Долгих молитв отрада. / Якоря тебе не надо: Ты и так спокоен и верен. Не нами наш путь измерен До небесного града. / Слов моих тебе не надо: Ты и так все видишь и знаешь, А меч мой в пути испытаешь, Лишь встанет преграда.
(24) 8. Ты как воск, окрашенный пурпуром, таешь, Изранено стрелами нежное тело. Как роза сгораешь, сгорая не знаешь, Какое сиянье тебя одело. / Моя кровь пусть станет прохладной водою, Дыханье пусть станет воздухом свежим! Дорогой одною идем с тобою, Никак мы цепи своей не разрежем. / Вырываю сердце, паду бездушен! – Угасни, утихни, пожар напрасный! Пусть воздух душен, запрет нарушен: Мы выйдем целы на берег ясный.
(25) 9. Если мне скажут «ты должен идти на мученье», – С радостным пеньем взойду на последний костер, – Послушный. / Если б пришлось навсегда отказаться от пенья, Молча под нож свой язык я и руки б простер, – Послушный. / Если б сказали: «лишен ты навеки свиданья», – Вынес бы эту разлуку, любовь укрепив, – Послушный. / Если б мне дали последней измены страданья, Принял бы в плаваньи долгом и этот пролив, – Послушный. / Если ж любви между нами положат запрет, Я не поверю запрету и вымолвлю: «нет».
P. S. По аналогии с этим частотным тезаурусом образов (существительных) мы попробовали составить частотный тезаурус мотивов (глаголов) для «Стихов о Прекрасной Даме» Блока (93 стихотворения по изданию 1905 года). Были выделены рубрики (по убыванию веса) «движение», «иные действия», «пространство», «зрение», «мысль», «речь», «сокрытие/раскрытие», «бытие», «хорошие и дурные чувства» и т. д. Рассматривалось, какие отклонения от средних показателей этих рубрик дают, во-первых, показатели трех разделов сборника, «Неподвижность», «Перекрестки» и «Ущерб», а во-вторых, показатели глаголов, относящихся к трем образным полюсам книги, «Он» (герой), «Она» (героиня) и «Оно» (обстановка). Некоторые результаты были интересны, но рубрикация оставляла желать лучшего, и работа осталась неопубликованной.
МИР СИГИЗМУНДА КРЖИЖАНОВСКОГО 237
Я боюсь, что, взглянув на имя автора, иной читатель подумает, что это перевод с польского, а взглянув на заглавие, иной даже, может быть, вспомнит давний немецкий шарлатанский фильм о пришельцах. Они обманутся. Раскроем книгу: таким языком переводы не пишутся.
«Боковая ветка, – подумал Квантин, – ржавая узкоколейщина, саркофаги на колесах, как бы не заехать в катастрофу». Но вдоль темного низкокрышья уже скользил голубой глаз фонаря. Свисток на высокой сверчковой ноте проиглился сквозь тьму. Наткнувшись на ступеньку, Квантин схватил подставившийся поручень и впрыгнул в вагон. Лязгнули тимпанным переплеском буфера, и поезд тронулся. Сначала окна вагонного кузова медленно терлись о воздух. Старый паровичок, шаркая паром, казалось, шел сквозь ночь, волоча мягкие ночные туфли, то и дело спадающие с пят. Но постепенно колеса надбавляли скорости… кривые рессоры вагоны кузовов ахали на стыках, из всех щелей шуршал рассекаемый паровозной грудью воздух. Обгоняя ночь, окна скользили уже сквозь голубое предсветье, загибающееся вслед бегу колес сшибом углов и выгибей быстро – до слиянности – мелькающих контуров…
Рассказ называется «Боковая ветка». Поезд не простой: он увозит героя в страну снов. Там люди живут во сне и спят наяву. В самом деле: давно уже сказано, что если сделать сны продолжающими друг друга, а явь прерывистой, то сны покажутся явью, а явь – снами. Но пропаганда давно приучила всех видеть единые сны, простейше-связанные, а газеты давно целиком обновляют мир каждое утро. Сон блаженства, единый сон о единении. Действительность защищается, но закрытые глаза ее не видят. Легкий сон не выдерживает трения о действительность, а тяжелый хорошо ассимилируется с жизнью. Хорошо просненные подушки; подушки нового образца, набитые, как портфели, цифрами и диаграммами. Все на тяжелую индустрию тяжелых снов! Оптовая поставка утопий. Вечерние курсы ночных видений. Дневное оцепенение, ночная страда: кошмароделы и экспедиторы фантомов торопятся…
Как меняются местами сон и явь, так меняются вымысел и действительность. Персонажу обидно быть выдумкой какого-то выдумщика; и он доказывает, что не автор измышляет его, а он измышляет автора. Выйдя из книги, такой персонаж обычно становится критиком книг: ему жизненно необходимо, чтобы все поверили, что Рудин или Пигасов – выдумка, а он, слабая их копия, – реальность. Не поэтому ли о Тургеневе преимущественно пишут пигасовы, о Достоевском – фердыщенки, а о Грибоедове – молчалины? Если персонаж особенно энергичен, он может и убить своего автора – например, на дуэли. Но он этого не делает, потому что тогда-то станет ясно, что без автора он ничто. (Сюжет шварцевской «Тени»? Да, но на десять лет раньше.)
Что отличает настоящих людей-творцов от этих выдуманных ими тварей? Честность. «Звездное небо надо мною – моральный закон во мне». (Жизнеописание этой мысли – ее рождение под черепом Канта, мученический путь из головы в рукопись, под шрифт, на склад, в магазин, к компиляторам, к цитаторам, к комментаторам, в цифровые сноски и, наконец, к столетнему юбилею, на гробницу к Канту – составляет отдельный рассказ в шесть страниц.) Моральный закон заставляет настоящих людей быть благодарными за свое бытие – пусть неизвестно кому – и платить кто чем может: живописец гармонией красок, музыкант – звуков, философ – идей (рассказ «Чужая тема»). Это независимо от того, как воспримут подобное мнимые люди. А они воспринимают однозначно: «Рассказы ваши, ну, как бы сказать, – преждевременны. Спрячьте их – пусть ждут… А сами-то вы из зачеркнутых или из зачеркивающих?» Писать можно только о зачеркнутом и для зачеркнутых.
Кантовский мир существует в пространстве и времени, потому что только в пространстве и времени может его представить себе человеческое сознание. Но что заставляет сознание порождать пространство и время? Боль, отвечает автор. Когда нам больно, рефлекс толкает нас отбросить источник боли как спичку, которая обожгла руку. Отбросить подальше – от этого возникает пространство; отбросить подавнее – возникает время. Общий знаменатель пространства и времени – боль. Поэтому время можно преобразовать в пространство и путешествовать во времени, как в пространстве (повесть «Воспоминание о будущем»). И, попав в будущее, путешественник опять видит: вокруг – трудноразличимые настоящие люди и мнимые люди. Мнимые – это те, которые порождены не настоящим, а прошлым, запроектированы им, живут, шумят и митингуют под лозунгами прошлого, стертыми, как десятая копия под копиркой. Какой год на календаре этого будущего? 1951-й. Автор умер годом раньше, а писал это двадцатью с лишним годами раньше.
Кантовский мир был четко поделен на истинный и мнимый – мир вещей в себе и для себя. Но это упрощение: существуют не два, а четыре мира. По краям – сияющий мир вещей без теней («звездное небо над нами…») и черная пропасть теней без вещей; между ними – мир, где вещи отбрасывают тени, и мир, где тени отбрасывают вещи. Мы живем среди теней, которые отбрасывают вещи, и мы сами – такие же тени. Но мы убеждаем себя, будто живем среди вещей, которые отбрасывают тени. Сиянье вещей в себе – это мир естей, наш – мир нетов («объявившихся на государеву службу почитать в естех, а протчих людишек писать нетами» – из писцовой книги XVII века.) Рассказ «Страна нетов» написан от лица больше чем путешественника во времени – от лица человека из не соприкасающегося с нетами мира естей. Неты живут на шаре, который кажется плоским, под неподвижным солнцем с кажущимися восходами и закатами. Пишут книги о том, что они есть; доказывают себе себя, хотя, чем доказывать свою жизнь, естественнее было бы жить. Учат, что «мыслю – следовательно, существую» (но многие ли из них мыслят?) или что мир – лишь скверная привычка так называемой нервной системы. Боятся истины, потому что она их отменит, и упражняются в умении не знать. В их религии мир сотворен из ничего, а прародители вкусили от древа познания, но не вкусили от древа жизни. Умирают и этим обнаруживают свое подлинное небытие (ести не умирают). Умеют, быв ничем, казаться всем.
Между нетами и миром – пропасть, заполненная болью: боль соприкосновения. (Познать – значит позвать всю свою боль, ставшую миром, обратно в себя; а это страшно.) Эта ограда помогает им выжить. Помните, на краю старинных карт народец с огромными ушами, в которые можно кутаться, как в одеяла? Когда настали гиперборейские холода, этим тварям пришлось выбирать: или, вслушиваясь в шорох мира, погибнуть, или сложить уши вокруг себя и выжить. Выжили закутавшиеся (рассказ «Итанесиэс»).
Неты живут кучно: им кажется, что из многих «нет» можно сделать одно «да». Но и в куче они прячутся друг от друга – спина к спине; и не верят друг в друга – человек человеку призрак. Их любовь – это когда одно небытие выдумывает образ другого небытия. Их ненависть – это когда одно небытие видит небытие другого и догадывается о собственном. Ненависть эта так сильна, что злоба дня, собранная в аккумулятор, может двигать машины. Небольшая размолвка с женой окупает обед из трех блюд. А ведь кроме семейной вражды есть еще национальная и классовая (рассказ «Желтый уголь»).
Что такое любовь, говорится в рассказе «В зрачке». Не буду его пересказывать: достаточно сказать, что он ведется от лица мужского образа, запавшего (через зрачок) в сознание женщины и там растворяющегося в забвении. Вокруг него образы других, запавшие сюда до и после него. Все пронумерованы, но не в хронологическом, а в ассоциативном порядке. Четные номера смиренны, нечетные – нахальны: диалектика сердца. Процесс забывания аналогичен остыванию раскаленного тела: из алмаза в уголь, через промежуточную точку аморфности. Если у людей эта точка смутности между любовью и нелюбовью расплывается порой на всю жизнь, то это потому, что забвение не измена, а ряд измен: мы меняемся, и любить можно, лишь изменяя вчерашнему человеку с сегодняшним. Измена может опережать эти изменения или отставать от них и т. д.
Кто-нибудь скажет: это игра в понятия? Нет, это мышление образами. «Художество – это ненадуманное думанье». «Искусство думать – легкое, а вот искусство додумывать – труднейшее из всех». Эти образы картонные? Не больше, чем у Свифта и Эдгара По. Неживые? Вспомните, как ехал поезд в страну снов. Схематичные? Да, они конспективны: это дисциплинирующий стиль, он спасает болящего от неврастеничности. В рассказе «Книжная закладка» на 12 страницах перебираются шесть тем (помните, как Чехов брал в руки пепельницу и говорил: хотите, завтра будет рассказ «Пепельница»?). Рассказ «Чужая тема» начинается предложением: «Не хотели б вы приобрести, гражданин, философскую систему? С двойным мироохватом: установка и на микро- и на макрокосм… Миросозерцание вполне оригинально; не подержано ни в чьих мышлениях. Вы будете первым, просозерцавшим его… Но ведь я же и недорого прошу… Если миросозерцание вам не по средствам, то, может, вы удовлетворитесь двумя-тремя афоризмами…». Цинично? Нет, автор – скептик, но не циник. «Всю мою трудную жизнь я был литературным небытием, честно работающим на бытие», – говорит он; это солипсизм наизнанку. Сухо? Можно и распространить. «Теперь у меня было достаточно материала, чтобы попробовать закрепить тему… Прежде всего надо перечеркнуть правду, зачем она? Потом распестрить боль до пределов фабулы, да-да; чуть тронуть бытом и поверх, как краску лаком, легкой пошлотцой – и без этого ведь никак; наконец, два-три философизма и…» Многоточие автора.
Мне бы не хотелось вдаваться в оценки: каждый читающий эту заметку, думаю, сам уже почувствовал, броситься ли ему искать эту книгу по прилавкам и библиотечным полкам или без нее будет спокойнее.
Человека, который создал этот мир, начинающийся с боли, звали Сигизмунд Доминикович Кржижановский (1887–1950). Какой мир запроектировал его самого, мы не знаем: о своих дореволюционных годах он молчал, а бумаги только свидетельствуют: шесть лет – на юридическом факультете, год учения (чему?) в Западной Европе, с 1914-го – присяжный поверенный в Киеве. В первые годы после революции он читает лекции по истории и теории культуры в студиях Киева, поражая слушателей энциклопедичностью знаний и яркой точностью образов. В 1922‐м переезжает в Москву, голодает, зарабатывает литературной поденщиной: переводы, инсценировки, сценарии, либретто, потом статьи о Шекспире и Шоу. Свои рассказы он читал в литературных кружках, их слушали, дивясь, «как любопытный скиф афинскому софисту»; только вокруг были не Афины, а Скифия. Вишневский учил его стучать кулаком на редакторов, но софист этого не умел: «Я тот пустынник, который сам себе медведь». Из нескольких томов его прозы напечатано было лишь несколько рассказов. Четыре раза он пробовал издать книгу, и четыре раза это срывалось. «Литература – борьба властителей дум с блюстителями дум». «Когда над культурой кружат вражеские разведчики, огни в головах должны быть потушены». Безвестность спасла его от гибели в годы репрессий. Из Москвы он не эвакуировался, писал очерки «Москва в первый год войны», но составить из них книгу уже не мог. Пил; на вопрос почему отвечал: «От трезвого отношения к действительности». От мозгового спазма потерял способность читать, заново учился азбуке. На проверочный вопрос психиатра «любите ли вы Пушкина» заплакал – единственный раз на памяти женщины, которая знала его тридцать лет.
«Пусть ждут», – говорили о его рукописях «зачеркивающие». Если эта его первая книга смогла увидеть свет, хоть и почти через сорок лет после его смерти, то это заслуга двух людей, разделенных двумя поколениями. Это вдова писателя, артистка А. Г. Бовшек, профессионально подготовившая для печати все его рукописи, снабдившая их библиографией, хронологией, воспоминаниями об авторе, но не дожившая до их издания. И это поэт В. Г. Перельмутер, составитель и автор вступительной статьи и примечаний к этой книге: он понял, что Кржижановский – это событие, и сделал его событием, преодолев инертность тех, на которых Кржижановский не умел стучать кулаком. Тираж 100 000 – это много для «Московского рабочего» и мало даже для Москвы. Пусть серая бумага и опечатки в каждом втором латинском слове (к сведению читателя: с. 78, 95, 102, 197, 276, 278, 401, 403) – все равно, спасибо издательству. Пусть в катастрофически тесном комментарии порой не хватает необходимого (оглавление рассказа «Квадрат Пегаса»: «Звезды», «Гнезда», «Седла», «Отцвел», «Приобрел», «Надеван», «Запечатлен», – кто, кроме историков языка, помнит, что это – список слов на «ё», писавшихся через «ять»?) – все равно, спасибо составителю. Сейчас он готовит вторую книгу Кржижановского: его повести и воспоминания о нем.
Три раздела книги «Воспоминания о будущем» – рассказы, повесть, очерки – это три первые просеки сквозь мир Сигизмунда Кржижановского. «Избранное» издано, «неизданное» осталось: для читателя еще многое впереди.
«ИНТЕЛЛИГЕНТСКИЙ РАЗГОВОР» 238
БРОДСКИЙ, РУССКИЕ ПОЭТЫ И РУССКИЕ ФИЛОЛОГИ В ПИСЬМАХ И ЗАПИСЯХ М. Л. ГАСПАРОВА
В ноябре 1992 года нам вместе с поэтом Алексеем Парщиковым повезло присутствовать в качестве свидетелей при одной беседе, которая развивалась за соседним столиком в студенческом кафе Стэнфордского университета и по свежей памяти была детально законспектирована Михаилом Леоновичем Гаспаровым, в то время преподававшим там, по его слову, «в почетном звании» Visiting Professor. Собеседниками Гаспарова в этом «триалоге» выступили Иосиф Бродский и профессор Стэнфордского университета Лазарь Флейшман. Беседа проходила с 10 до 11 утра, а уже пополудни М. Л. сделал для меня копию страничек из своей записной книжки «на память». Разговор, разумеется, шел о поэзии и, в значительной мере, о Борисе Пастернаке. Как видно из публикуемого ниже конспекта, Бродский щедро делится своими наблюдениями и одновременно задает провокационные вопросы двум ведущим специалистам: Флейшману – автору фундаментальных работ о поэте, и Гаспарову – исключительному знатоку русской поэзии, который именно в Стэнфорде приступил к подготовке академических комментариев к стихотворениям Пастернака.
Бродский любил пикироваться с филологами, высказывать свои часто парадоксальные суждения, прежде всего в том, что касалось квартета поэтов Пастернак – Мандельштам – Ахматова – Цветаева. Он не стремился к тому, чтобы выходить победителем в таких спорах, гораздо более важным для него было знать мнение специалистов. Так, он был очень доволен, что его эссе «Об одном стихотворении» получило значительный резонанс среди историков литературы. Гаспаров особо ценил этот анализ «Новогоднего» Цветаевой, о чем, в частности, сообщал в другом письме с той же конференции в Амхерсте: «Бродский разбирал стихи МЦ и Пастернака, о Магдалине гораздо хуже, чем мог бы. (Его разбор „Новогоднего“ ведь был замечателен)».
Бродский однажды обмолвился, процитировав Александра Блока: «Я не претендую на то, чтобы быть филологом. Филология – это труд адский. Зато у филологов я могу выспросить, что же там было на самом деле. Мне, прежде всего, интересно знать, как „жили поэты“». Причиной участия Бродского в таких филологических беседах была безусловная для него необходимость определить свое место в «коллективной биографии эпохи». Этот термин родился в прениях на конференции к столетию О. Мандельштама в 1991 году в Лондоне:
Гаспаров. <…> Мы не изучаем процесс творчества – до этого наука психология еще не дошла; мы изучаем процесс восприятия, собственного восприятия. Поскольку мы просто читатели, мы, конечно, не обязаны этим заниматься, но поскольку мы филологи, каждый из нас обязан дать по крайней мере самому себе отчет в том, почему он воспринимает этот текст именно так. <…>
Бродский. Но это носит тогда в конечном счете характер автобиографический, не правда ли?
Гаспаров. Пока каждый из нас занимается этим наедине с собой – да; а когда мы общаемся друг с другом – это уже становится коллективной биографией.
Бродский (очень довольный ответом). А!.. – Замечательно! (Смех.)
Так, именно с точки зрения «коллективной биографии эпохи», и должен быть прочитан «интеллигентский разговор» Бродского, Гаспарова и Флейшмана. С разрешения вдовы ученого А. М. Зотовой мы публикуем здесь конспект по копии из записной книжки Михаила Леоновича Гаспарова.
А. Устинов
– Как вы себе представляете Пушкина, если бы он убил Дантеса, а не Дантес его? – Представляю по Вл. Соловьеву, ничего лучше не могу придумать. – Ведь Дантес вряд ли хотел убивать. Почему он попал ему в живот? Скверная мысль: может быть, целился в пах? – Исключено: ниже пояса не целились, дуэльный этикет не позволял. – А если бы попал? – Очень повредил бы своей репутации. – Совсем трудно стало представлять себе, что такое честь. Сдержанность: оскорбление от низшего не ощущается оскорблением. В коммунальной квартире так прожить трудно. У Ахматовой было очень дворянское поведение. – Это она писала: для кого дуэль предрассудок, тот не должен заниматься Пушкиным? – Да. – О себе она думала, что понимает дуэль, хотя в ее время дуэли были совсем не те. – Как Евг. Иванов писал Блоку по поводу секундантства, помните? «Помилуй, что ты затеял: что, если, избави Боже, не Боря тебя убьет, а ты Борю, – как ты тогда ему в глаза смотреть будешь? и потом, мне неясны некоторые технические подробности, например: куда девать труп…» Вот это по Соловьеву.
– Отчего Пастернак обратился к Христу? – А отчего Ахматова стала ощущать себя дворянкой? Когда отступаешь, то уже не разбираешь, что принимать, а что нет. – Ахматова смолоду верующая. – Пастернак, вероятно, тоже: бытовая религиозность, елки из «Живаго». – Нет, у Пастернака сложнее: была память о еврействе. – А я думаю, просто оттого, что стихи перестали получаться. – А почему перестали? – Он не мог отделаться от двух противоестественных желаний: хотел жить и хотел, чтобы мир имел смысл. Второе даже противоестественней. – Не смог отгородиться от среды: дача была фикцией, все равно варился в общем писательском соку. – Ему навязывали репутацию лучшего советского поэта, а он долго не решался ее отбросить, только в 1937-м.
– Когда он родился? Да, в 1890‐м, удобно считать: 50 лет перед войной, 55 после войны («это он на собственный возраст примеривает», – сказал потом Ф.), война ослабила гайки режима, мир опять затянул их. О том, как он отзывался на антисемитские гонения и дело врачей, нет ни единого свидетельства, но в самый разгар их он писал «В больнице»: «какое счастье умирать».
– Не люблю позднего Пастернака (оказалось: никто из троих не любит). Исключения есть: про птичку на суку, «Август», даже «Не спи, не спи, художник». Но вы слышали, как он их читает? Бессмысленно: я ручаюсь, что он не понимал написанного. – Ну, не понимать самого себя – это единственное неотъемлемое право поэта. – И сравните, как он живо читал фальстафовскую сцену из «Генриха IV» и сам смеялся. – Он читал ее мхатовским актерам и очень старался читать по-актерски. – И потом, любоваться собою ему, вероятно, было совестно, а Шекспиром – нет.
– Я стал понимать Пастернака – лет в 16 – только на «Спекторском». – Я тоже, хотя к тому времени и не понимая, знал наизусть половину «Сестры моей – жизни». – «Значенье суета, и слово только шум». А вы? – Я, пожалуй, на «Темах и варьяциях». – Четыре поэта, БП<астернак>, ОМ<андельштам>, АА<хматова> и МЦ<ветаева> – как носители четырех темпераментов: сангв<иник>, мел<анхолик>, флегм<атик>, хол<ерик>. Каждый может выбрать по вкусу. И равнодействующая двух непременно пройдет через третьего. – А ваше предпочтение? Цветаева и Мандельштам. – Несмотря на Ахматову? – Цветаева могла бы написать всю Ахматову, а Ахматова Цветаеву не могла бы. Ахматова говорила: «Кто я рядом с Мариной? Тëлка!» – Ну, это была провокация. – Да, конечно, опять дворянская сдержанность и так далее, и так далее, и так далее.
– Вы слышали его ранние прелюды? Они построены на музыкальных клише. – Странно: поэтика и клише – привилегия Мандельштама. – Нет: цитата и клише – вещи разные. – Правда, в музыке он пошел не дальше Скрябина. Харджиев его за это осуждает. Но ведь Скрябин, Шенберг, Стравинский – это как раз и есть три пути музыкального модерна. – Он в стихах пишет словами, как нотами, – по музыкальным правилам; а мыслью – по философским правилам. В ранних черновиках так и видишь переходы от конспектов к стихам. – Напишите об этом!
ОБ ОДНОЙ ФУТУРИСТИЧЕСКОЙ ШУТКЕ239
Автор этой книги – русский футурист Сергей Павлович Бобров (1889–1971). Он был организатором литературной группы «Центрифуга» с ее издательством (1914–1918), его хлесткие статьи вызывали много шума и доставляли много неприятностей, прежде всего ему самому. После революции он был заметной фигурой в московском Союзе поэтов (СОПО), после 1925 года надолго выпадает из литературы, под конец жизни выступает (за единичными исключениями) только как стиховед и переводчик. Его богатый архив хранится в ЦГАЛИ (ф. 2554).
В последние двадцать лет Бобров стал привлекать внимание литературоведов, главным образом по смежности240. Из «Центрифуги» вышел Борис Пастернак, его письма к Боброву (частично опубликованные) очень интересны как документ времени его творческого формирования. Мы знаем, что среди несохранившихся ранних произведений Пастернака были сказочные повести в манере Гофмана. Интерес к Гофману он делил с товарищами по «Центрифуге» – Асеевым и Бобровым. Публикуемая книжка Боброва – еще одно свидетельство этого общего увлечения.
Книга называется «К. Бубе́ра. Критика житейской философии». Встречались смелые ссылки на нее как на первый русский отклик философии Мартина Бубера.
Это недоразумение. «К. Бубера» – это Кот Бубе́ра, и критикует он «Житейскую философию Кота Мурра», сочиненную Гофманом. Обычно Гофман привлекал русских писателей лирической стороной своего двоемирия – в этой книжке сильнее чувствуется его сатирическая сторона. Все три жанра Кота Буберы (речь перед кошачьим собранием, стихи и афоризмы) присутствуют или хотя бы упоминаются в книге Гофмана. Почему бобровский герой получил такое странно звучащее имя – неизвестно. Сам Бобров на этот вопрос отвечал лаконично: «Был такой кот».
«Критика житейской философии» К. Буберы анонсировалась «Центрифугой» еще с 1916 года. Это была вторая вспышка издательской активности «Центрифуги» – в 1916–1918 годах ею были выпущены десять книг, преимущественно на средства И. А. Аксенова. В каталогах 1918 года книга «К. Буберы» значится уже вышедшей («цена 6 р.» с возможными повышениями). Но тираж так и не был напечатан. Сохранились только корректурные листы с небольшой правкой С. Боброва. На обороте титула сказано: «„Критика житейской философии“ отпечатана летом 1918 г. типографией Левенсон в Москве». На последней странице обложки – «XVII», порядковый номер книги среди изданий «Центрифуги».
Эти корректурные листы Бобров потом переплел (вместе с позднейшей своей книжкой «Восстание мизантропов» – М.: Центрифуга, 1922) и за полтора года до смерти подарил М. Л. Гаспарову. На внутренних сторонах переплета две надписи: «Бедная моя юность сумасбродная! С. Бобров. Авг. 1969» и «Читайте и не очень сердитесь – мы тогда были еще очень молоды, увы! С. Бобров. 22.IX.69». По этому экземпляру и печатается настоящее издание.
Центральная часть книги – собственно «Критика житейской философии» – это публичная речь Буберы на тему «Что такое кот». Тема в ней быстро теряется, композиция с трудом прослеживается, текст воспринимается исключительно как стилистическое упражнение – сочетание высокого пафоса с низкими метафорическими образами, столь характерное для полемических тирад самого Боброва. Кульминация сочинения – описание «кривой моментов становления» «сей бурлескной фикции – Кота Мурра»: образец ученого «амфигуризма» (бессмысленного словоизлияния). «Если непрерывная функция постоянной будет представлять собой единство единства или единство, заключенное в единстве, или единство единицы, ибо что может быть единей…» Бобров смолоду увлекался математикой.
Л. Флейшман предположил, что «Критика житейской философии» – не самодовлеющее упражнение в стиле, но пародия. Предметом ее могла быть последняя книга Андрея Белого «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности» (М.: Мусагет, 1917) с такими разделами, как «Световая теория Гете в монодуоплюральных эмблемах» и проч. Это очень правдоподобно. Бобров был теснее всего связан с Белым по работе в «Ритмическом кружке» 1911–1912 годов; последующая стремительная эволюция Белого к антропософии вызывала у позитивистически настроенного Боброва резкий протест. Если это так, то получают дополнительный смысл подстрочные примечания с пародическими аллегориями («Великий Могол означает Вяч. Иванова, а кресло аполлинийскую стихию…», «Мышь означает, по Бальмонту, символизм, а Бубера, натурально, футуризм…»). И заметнее становится, что интонации стихов Буберы («Победная песнь»: «Я – серым абрисом в лазури выписываюсь из облаков…») имитируют торжественный стиль ямбов «Урны» Белого, особенно раздела «Думы» (хотя, конечно, на это наслаиваются и северянинские мотивы – «Я, победитель, я – велик…», и эксперименты с ритмом и рифмами, еще до выхода «Критики…» цитировавшиеся в «Распевочном единстве размеров» Божидара с комментарием Боброва – М., 1916).
«Мышь означает, по Бальмонту, символизм…» – это намек не только на Бальмонта, но и на М. Волошина с его полуиздевательской статьей «Аполлон и мышь» (она начиналась рассказом, как к Бальмонту приходила мышка, а он ее нечаянно убил; может быть, в этой мышке жил талант Бальмонта?). Факсимиле и герб на странице 35 стилизованы под Ремизова: Ремизов в это время уже был мастером грамот Обезвелволпала. Упоминание о кинофильме с тютчевским заглавием «В буйной слепоте страстей» (в разделе «Мои досуги», естественно выдержанном в традиции Козьмы Пруткова) метит также и в Брюсова, у которого под заглавием «В буйной слепоте» был раздел в сборнике «Семь цветов радуги» (М., 1916).
Кроме основного направления пародии – против символизма – было и побочное – против критиков символизма. Бобров отнюдь не хотел, чтобы его смешивали с либерально-газетными бичевателями декадентства. Именно поэтому в своем предисловии к «Критике…» он притворяется их единомышленником, чтобы тотчас довести до абсурда их идеи и стиль. К. Бубера здесь – «светлая личность, исполненная… глубоко материалистического миропонимания»: «истинный смысл декадентщины – реакция»; «Фет, Кукольник, Честертон, Брюсов, Семен Бобров и др.» – порнографы и певцы мелкобуржуазных хотений (архаист Семен Бобров, герой эпиграмм начала XIX века, назван здесь, конечно, вместо самого Сергея Боброва); а на проклятый вопрос «Что делать?» можно наконец ответить: «Читайте Буберу!» Упоминания об «апельсинах вышины» и «безумцах в розовых галошах» создают комическое впечатление, что автор предисловия не читал книги, о которой пишет.
«Кудстэйл», именем которого подписан многозначительный эпиграф, – фигура вымышленная; эпиграфы от его лица появляются и в позднейшей прозе Боброва. Портрет пушистого кота, помещенный на фронтисписе, – открытка, которую уже во время печатания книги принес Боброву И. А. Аксенов со словами: «Вот ваш автор»; отсюда – второе «приложение» в конце книги. Подражанием Аксенову же (четвертому хору из трагедии «Коринфяне») выглядит «лунная любовь» в стихах Буберы. Реминисценции из Пушкина («К моему Аристарху») на странице 44 и из Лермонтова («Тамань») на странице 11 легко узнаваемы; французская цитата на странице 13 – второе четверостишие из стихотворения Бодлера «Кошка» («Цветы зла», XXXIV) с опечаткой (tète вместо tête).
Подготовитель приносит глубокую благодарность А. Б. Устинову за неоценимую помощь при осуществлении этого издания.
ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ А. К. ЖОЛКОВСКОГО И Ю. К. ЩЕГЛОВА 241
Это предисловие – в первую очередь для тех, кто впервые встречается с именами А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова. Но вряд ли таких читателей будет очень много. Специалисты-филологи внимательно следят за их публикациями – сперва в СССР, потом за рубежом – вот уже тридцать лет. Любители словесности в России уже знакомы с книгой А. К. Жолковского «Блуждающие сны: Из истории русского модернизма» (М.: «Советский писатель», 1992) – сборником блестящих и парадоксальных интерпретаций Пушкина сквозь Бродского и Гоголя сквозь Соколова. А самый широкий круг читателей скоро узнает и оценит огромный энциклопедический комментарий Ю. К. Щеглова к «Двенадцати стульям» и «Золотому теленку» Ильфа и Петрова – комментарий не менее увлекательный, чем сами эти романы. Предлагаемая сейчас книга содержит статьи, еще не публиковавшиеся в России. Они могут служить введением ко всем остальным работам обоих авторов. Прочитав их, даже опытный читатель заметит в даже знакомых ему статьях больше, чем замечал раньше: увидит тот общий знаменатель, который лежит за самыми разнообразными мыслями авторов и который, может быть, станет хорошим побуждением для собственных мыслей читателя.
Этот общий знаменатель – та концепция, которая сформулирована в заглавии этой книги, «Работы по поэтике выразительности», и в ее подзаголовке, «Инварианты – тема – приемы – текст». Для краткости и авторы, и первые их читатели давно привыкли обозначать эту концепцию двумя словами «тема – текст». А. К. Жолковский и Ю. К. Щеглов снабдили свою книгу и предисловием, и введением, и послесловием. В них описана и система их понятий, и логика их рассуждений, и истоки их идей, и то, как они вписываются в общую картину научной мысли последних десятилетий. В них не сказано только об одном источнике этой концепции – просто потому, что эта простейшая бытовая ситуация казалась им самоочевидной.
Всякому из нас много раз в жизни приходилось и приходится пересказывать своими словами содержание книг, кинофильмов, картин, даже музыкальных произведений. Мы это делаем, чтобы поделиться впечатлением, чтобы побудить собеседника самого прочитать книгу или посмотреть картину, чтобы объяснить ее значительность (если я – учитель) или ее ничтожество (если я – критик). Такой пересказ может растягиваться надолго, а может сжиматься до одной фразы. Он всегда старается передать главное и всегда сознает, что это главное нимало не исчерпывает состава произведения. Спрашивается: как мы выделяем это главное и как оно соотносится со всем остальным, что есть в произведении?
На этот вопрос пытаются отвечать школьные учебники, с малых лет внушающие нам два слова-отмычки: «тема» и «идея». Тема – это «то, что показывает нам автор», идея – это «то, что он хочет этим сказать». Идея «Ревизора» – абсурдность общественных порядков николаевской России. Тема «Ревизора» – чиновничий быт заштатного русского городка. Сюжет «Ревизора» – история, как случайно приняли незначительного человека за очень-очень важного. Образы «Ревизора» – Хлестаков, городничий и т. д. Художественные средства «Ревизора» – комическое взаимонепонимание, бытовые детали, складные реплики, неожиданные словечки и т. п. Все школьные разборы русской классики, по которым учились и Жолковский, и Щеглов, и я, и, вероятно, большинство даже молодых читателей, строились по этой удручающей схеме. Мало чем отличаются от этого и заграничные учебники словесности. (Стоит, пожалуй, отметить лишь одно отличие. В английских учебниках слово «theme» обычно означает то, что у нас называется не столько «темой», сколько «идеей», – мысль или чувство, определяющее взгляд автора на свой материал. Именно поэтому, кажется, авторы этой книги сливают тему и идею в понятии «тема» и концепция их называется «тема – текст», а не «идея – текст».)
В чем слабость этих школьных разборов, видно с первого взгляда. Цепь переходов от более общих понятий к более частным – прерывистая и беспорядочная. Между пересказом «темы», характеристикой «образов» и случайными наблюдениями над «художественными средствами» нет никакой связи. Лев Толстой сам определил идею «Анны Карениной» в ее эпиграфе «Мне отмщение, и Аз воздам». И сам же на вопрос, что он хотел выразить своим романом, сказал, что для ответа он должен был бы повторить весь роман от слова до слова. Проследить этот путь от формулировки идеи до всего текста от слова до слова – задача для школьной техники анализа непосильная. Вот для этого и стали совершенствовать эту технику Жолковский и Щеглов. Средства совершенствования подсказали им и Эйзенштейн, и Пропп, и авторы «рецептивной» теории литературы. Но отталкивались они от элементарных потребностей школьного разбора – потребностей хорошо знакомых и легко вообразимых любому читателю.
Так явилась концепция «тема – текст» – попытка выделить, назвать и описать все звенья перехода от абстрактной формулировки темы (идеи) к конкретному словесному составу текста, вплоть до синтаксических оборотов, отбора лексики, ритма и рифм. Для этого было введено ключевое понятие, встречающееся на каждой странице этой книги: «приемы выразительности» (ПВ). Чтобы тема превратилась в текст, она должна пройти через сетку приемов выразительности, обогащаясь и конкретизируясь на каждом шагу. Таких приемов авторы выделили десять; а число возможных сочетаний этих приемов, понятно, во много раз больше. Описание прохождения темы по лабиринту приемов выразительности читается скучно, как техническое пособие, а чертежи, иллюстрирующие это описание, выглядят для неподготовленного читателя отпугивающе. Но это дело привычки. Здесь есть и такие статьи, которые не отягощены ни терминологией, ни чертежами, – осторожный читатель может начать с них, а кончить там, где иссякнет его любопытство. Потому что эта книга написана именно для любопытствующих: «как сделано литературное произведение». Оно сделано сложно: описание строения маленького стихотворения всегда будет вдвадцатеро длиннее самого стихотворения. Поэтому пусть не обижаются те, кто не найдет здесь сразу ответа на то, как сделана «Анна Каренина». Никто не станет учиться азбуке по «Анне Карениной» – а эта книга есть именно азбука литературного анализа. Вместо «Анны Карениной» читатель найдет здесь «Анну на шее» и Анну Ахматову – право, это немало.
Нужно сделать еще три предупреждения – авторы их делают, но недостаточно заметно. Во-первых, исходной темой может быть не только кусок действительности, но и кусок языка: когда Хлебников пишет «О, рассмейтесь, смехачи!..», то темой его служит не явление «смех», а слово «смех» с его словообразовательными возможностями. Во-вторых, процесс движения от темы к тексту – это нимало не попытка реконструировать психологию творчества писателя, это только средство наглядно представить результат этого творчества. Мы знаем множество примеров, когда рассказ начинал сочиняться, например, с мимоходного запаха крепкого табака (Замятин), а стихотворение – с броской рифмы (Маяковский). Но когда и рассказ, и стихотворение кончали сочиняться, то в них оказывалась вся пирамида «тема – приемы – текст», где и тема, и приемы к тому же были не случайными, а характерными («инвариантными») именно для Замятина или Маяковского. В-третьих, заметим, что это и не попытка передать ход мысли исследователя. В самом деле, чтобы объективно и аналитично описывать нисхождение от темы к тексту, необходимо сперва совершить в уме восхождение от текста к абстрактной формулировке темы, – и эту операцию авторы проделывают здесь интуитивно, не скрывая возможной ее субъективности. Читатель при желании может сам подумать над тем, какие особенности текста произведения побудили авторов к именно такой, а не иной формулировке его темы, – кое-какие указания на этот счет имеются и в самих статьях.
Но хотя начинается исследовательская работа авторов (как и всякая исследовательская работа) с движения интуиции, кончается она изложением предельно рационалистичным. Цель ее – выведение средств выразительности из области подсознательного в область сознательного. Здесь нет места ни тайне писательского творчества, ни произволу читательского сотворчества. Что не поддается формализации в «теме – тексте», то безоговорочно оставляется за рамками исследования: «о чем нельзя сказать, о том следует молчать». А читательское сотворчество твердо вводится в строгие рамки: такие-то варианты интерпретаций допускаются текстом, а такие-то – от лукавого, они отсечены фильтром приемов выразительности. Жолковский и Щеглов сформировались как исследователи в ту героическую эпоху структурализма, когда идеалом гуманитарных наук было сближение с точными науками. Этот идеал остается для них в силе и сейчас: они сами расписываются в своем «нефилософском и редукционистском уклоне». (Постструктуралистская игра мысли тоже не чужда им – особенно А. К. Жолковскому, – но осознанна и допустима только на фоне структуралистской строгости. В статьях этого тома ее нет.)
У концепции «тема – текст» не было недостатка ни в критике слева, ни в критике справа. Справа ее критиковали за сложность: отпугивали громоздкие описания и чертежи для передачи (казалось бы) простых и очевидных вещей. Слева ее критиковали за примитивность – за то, что в основе ее лежали потребности простейшего школьного разбора. Читатель этой книги должен будет сам искать свое отношение к ней между этих двух крайностей. Повторим лишь главное: она написана для тех, кому любопытно, «как сделано литературное произведение». Есть читатели, для которых такое знание разрушает эстетическое наслаждение от рассказа или стихотворения, – им такая книга не нужна. И есть читатели, для которых такое знание только усиливает эстетическое наслаждение: они любуются не только произведением, но и автором. Для них в этой книге найдется много нового и интересного.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО К СБОРНИКУ СТИХОВ М. О. КУЛАКОВОЙ 242
При желании, наверное, можно отыскать образцы этой книжки в средневековых «Бестиариях» и «Физиологах». Но мне не хочется этого делать. Мне она нравится своими сегодняшними интонациями, очень живыми и разговорными. Когда мы их слышим на каждом шагу, то привычно не замечаем. Когда они естественно укладываются в хореи и амфибрахии, мы их замечаем и радуемся. А когда в них на месте привычных будничных лиц и типов с такой же естественностью появляются звери, птицы и растения, то мы еще и удивляемся, и стараемся это понять. А с такого удивления и начинается искусство.
Поначалу эти приемы кажутся простыми, детскими: представляется, будто они пригодны разве что для шуточных стихов, будто серьезного ими не скажешь. Это не так: такими же «детскими» приемами во взрослой поэзии работал когда-то Даниил Хармс, и получались у него вещи интересные, а по мнению некоторых, даже философские.
И еще я хочу сказать Марине Кулаковой отдельное спасибо за «авторский комментарий», приложенный в конце книги, – так сказать, руководство к чтению этих стихов. Если бы так делали и другие современные передовые поэты, то судьба поэзии в наши дни, может быть, была бы немного другой. Конечно, такому комментарию тоже приходится быть немного ироничным, но в какой мере – пусть об этом каждый читатель судит по своему собственному чувству.
В. А. КОМАРОВСКИЙ МЕЖДУ БРЮСОВЫМ И БЛОКОМ 243
К ПРЕДЫСТОРИИ ОДНОГО СТИХОТВОРНОГО РАЗМЕРА
В феврале 1907 года юная Анна Ахматова писала С. В. Штейну про «…второй сборник стихов Блока. Очень многие вещи поразительно напоминают В. Брюсова. Напр., стих. „Незнакомка“, стр. 21, но оно великолепно…» и т. д. (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. 1982. С. 271, с примечанием: «в это время Ахматова очень любила стихи Брюсова». На это ее суждение обратил наше внимание Р. Д. Тименчик). Читателю наших дней, вероятно, трудно почувствовать в самом знаменитом стихотворении Блока какое бы то ни было сходство с Брюсовым. Но такое сходство было, и в чем оно состояло, можно угадать без ошибки: это стихотворный размер, 4-стопный ямб с дактилическими и мужскими окончаниями (ДМДМ), и связанные с ним семантические ассоциации.
Этот размер поздно возник в русской поэзии. Его впервые осваивают символисты, причем каждый из больших символистов – по-своему; но прочнее всех наложил свою печать в его семантику именно Брюсов. А потом он переходит к наследникам символизма, в их творчестве персональные манеры основоположников начинают переплетаться и взаимодействовать, семантика размера размывается, память о зачинателе-Брюсове выцветает и на ее месте всплывает память о продолжателе-Блоке.
Разумеется, экспериментальные обращения к 4-стопному ямбу с дактилическими и мужскими рифмами случались и гораздо раньше. Дактилическую рифму, как известно, ввел в русскую поэзию Жуковский, в 1820–1821, написав «Ах, почто за меч воинственный Я свой посох избрала…» и «Отымает наши радости Без замены хладный свет…». Оба стихотворения написаны 4-стопным хореем: этот размер знал дактилические окончания (без рифм) еще в народной поэзии. Почти тотчас Жуковский попробовал перенести свою находку и в ямб: в 1824 году он пишет «Мотылек и цветы»: «Поляны мирной украшение, Благоуханные цветы…». Почти одновременно и независимо от него такие же опыты делают Баратынский («Дало две доли провидение…», 1823) и Языков («В альбом Ш. К.», 1825, с нарочито экспериментальным чередованием рифмовок ЖМЖМ и ДМДМ). Но в ямбе дактилические окончания не имели опоры на традицию (ни на народную, ни на западную), поэтому судьба этих экспериментов в двух размерах была очень разной. В 4-стопном хорее чередование окончаний ДМДМ тотчас привилось и породило длинный ряд интонационно-тематических подражаний с той же «томно-горестной» семантикой244. В 4-стопном ямбе, наоборот, обращения к такой рифмовке в 1830–1840‐х годах очень редки и друг с другом не связаны. Семантика их повторяет семантику хореев Жуковского (разве что усиливая эмоциональный накал): кажется, что поэты ощущают новый размер как тот же 4-стопный хорей, надставленный в начале на один слог:
«Сбылись души моей желания, Блеснул мне свет в печальной мгле…» (К. Аксаков, 1835); «…Одна мечта неуловимая За мной везде несется вслед…» (Подолинский, 1842); «..Меня томит печаль глубокая, С тобою поделю ее…» (К. Аксаков, 1835); «Умри, заглохни, страсть мятежная, Души печальной не волнуй!..» (Губер, 1839); «…Мой друг, прочти ее страдания, Вглядись в печальные черты…» (Красов, 1835); «С глубокой думой у Распятия Благоговейно предстоя…» (Шахова, 1846).
В середине века, на переломе от романтизма к реализму, эта семантическая традиция замирает: 4-стопный хорей ДМДМ сумел переключиться на новый, бытовой материал, 4-стопный ямб ДМДМ не сумел и временно перестал существовать. За всю вторую половину века мы знаем только четыре стихотворения этим размером, и все – сатирические или юмористические: размер не воспринимается всерьез (Ф. Глинка, «Не стало у людей поэзии…», 1852; Добролюбов, «Ужасной бурей безначалия…», 1860; Минаев, «Мне в жены бог послал сокровище…», 1880; В. Соловьев, «Я был ревнитель правоверия…», 1894).
Повторное открытие размера происходит около 1895–1905 годов и начинается естественным образом с возрождения чисто-романтической тематики и стилистики. Главную часть работы сделал тот, кто всего непосредственнее был связан с замирающей позднеромантической инерцией, – Бальмонт: в 1898–1904 годах он пишет не менее десятка стихотворений этим размером, и его подхватывают его партнерша М. Лохвицкая (1900–1904) и даже слабеющий Фофанов («Влача оковы мира тесного…» в «Иллюзиях», 1900). Темы Бальмонта в этих стихах – программные декларации, любовное неистовство, лишь позже – обычные у него голоса стихий и проч.:
«Как стих сказителя народного Из поседевшей старины, Из отдаления холодного Несет к нам стынущие сны…» («Будем как солнце»); «Я ненавижу человечество, Я от него бегу, спеша. Мое единое отечество – Моя пустынная душа…» («Только любовь»); «…Вы разделяете, сливаете, Не доходя до бытия, Но никогда вы не узнаете, Как безраздельно целен я…» («Только любовь»); «Люблю тебя со всем мучением Всеискупающей любви! С самозабвеньем, с отречением… Поверь, пойми, благослови!» (Лохвицкая, 1902–1904); «Я буду ждать тебя мучительно, Я буду ждать тебя года, Ты манишь сладко исключительно, Ты обещаешь навсегда…» («Горящие здания»); «…Отдать себя на растерзание, Забыть слова – мое, твое, Изведать пытку истязания И полюбить, как свет, ее…» («Только любовь»); «…Зачем чудовище – над бездною, И зверь в лесу, и дикий вой? Зачем миры, с их славой звездною, Несутся в пляске гробовой?» («Горящие здания»).
Почти так же декларативны и патетичны – только менее обильны – такие ямбы и у других старших символистов: «Откуда силы воли странные? Не от живых плотей их жар…» (Коневской, 1899); «…Свобода – только в одиночестве. Какое рабство – быть вдвоем!..» (Сологуб, 1903); «…Без ропота, без удивления Мы делаем, что хочет Бог. Он создал нас без вдохновения И полюбить, создав, не мог…» (Гиппиус, 1896).
Брюсов пришел по следам этих первых экспериментаторов: его первые четыре стихотворения в нашем размере пишутся только осенью 1904 года и печатаются в сборнике «Stephanos» на рубеже 1905–1906 годов. Брюсов делает с нашим размером то же, что делал со всей своей поэзией: умеряет символистскую расплывчатость и декадентское неистовство парнасским спокойствием и строгостью. Из четырех стихотворений, цитируемых ниже, первое можно вообразить у Бальмонта, два следующих уже неповторимо брюсовские, а последнее – с эпиграфом из бодлеровского «К прохожей», запомним это слово – вносит в материал новую тему, загадочно-урбанистическую, открывателем которой в символизме был опять-таки сам Брюсов:
«Опять душа моя расколота Ударом молнии, и я, Вдруг ослепленный вихрем золота, Упал в провалы бытия…» («Молния»); «Целит вечернее безволие Мечту смятенную мою. Лучей дневных не надо более, Всю тусклость мига признаю!..» («Целение»); «Свершилось! молодость окончена! Стою над новой крутизной. Как было ясно, как утонченно Сиянье утра надо мной…» («В полдень»); «О, эти встречи мимолетные На гулких улицах столиц! О, эти взоры безотчетные, Беседа беглая ресниц! На зыби яростной мгновенного Мы двое – у одной черты; Безмолвный крик желанья пленного: „Ты кто, скажи?“ – Ответ: „Кто ты?“»… («Встреча»).
«Незнакомка» Блока датирована 24 апреля 1906 года – т. е. по горячим следам чтения брюсовского «Stephanos». Она возникла на скрещении двух мотивов: внешнего прохождения и внутреннего прозрения, внешнего городского быта и внутреннего ощущения вечной женственности. Первый из этих мотивов восходит к Брюсову, второй – к Гиппиус. Вспомним:
Стихотворение Гиппиус – «Она» (1905, печ. 1906): «Кто видел Утреннюю, Белую Средь расцветающих небес, – Тот не забудет тайну смелую, Обетование чудес… Душа моя, душа свободная! Ты чище пролитой воды, Ты – твердь зеленая, восходная, Для светлой Утренней Звезды». Для Блока оно было важно: именно с посвящением Блоку (по его просьбе) оно появилось во II книге ее «Собрания стихов». Блок, несомненно, знал его еще до публикации 1906 года, но откликнулся на него, повторив его размер, лишь по выходе «Stephanos»: камерная бесплотность Гиппиус совместилась с уличной эротикой Брюсова, и отсюда явилась уникальная образность блоковского стихотворения. Вместо столицы у Блока – загород, вместо яростного желания – хмельное прозрение, но мотив движения, прохождения, отмечающий у Блока кульминацию, почти несомненно подсказан брюсовской «Встречей» (а через нее бодлеровской «Прохожей»): «далёко, там, в толпе скользит она…», «но миг прошел, и мы не с ней…».
Что этот мотив движения был для Блока небезразличен, видно из того, что второе его стихотворение в этом размере, «Все помнит о весле вздыхающем…» (1908), все построено на тонких вариациях темы движения, буквального и метафорического: «весло» в начале, «бесцельный путь в конце, «взор убегающий», «движения несмелые», «поворот руля», «уходящий призрак корабля» в середине.
Опубликована «Незнакомка» была зимой 1906/1907 года в «Нечаянной радости» – к этому времени Брюсов напечатал еще одно броское стихотворение нашим размером, и тоже с городским фоном – «Вечерний прилив» (1906): «Кричат афиши пышно-пестрые, И стонут вывесок слова… Скрыв небеса с звездами чуткими, Лучи синеют фонарей – Над мудрецами, проститутками, Над зыбью пляшущих людей…». Надо ли удивляться, что первыми читателями «Незнакомка» воспринималась как ощутимая вариация на брюсовскую тему?
Сам Блок через несколько лет признал важность брюсовского размера в своем сознании, повторив его в 1912 году в послании «Валерию Брюсову (при получении „Зеркала теней“)». В «Зеркале теней» были напечатаны еще три стихотворения Брюсова тем же размером: «Фирвальштеттское озеро», «В игорном доме», «Демон самоубийства»; в своем ответе Блок образцово стилизует поэтику Брюсова (изысканные дактилические рифмы), но брюсовское отстраненное спокойствие и конкретную образность подменяет своей собственной привычной взволнованностью: кажется, что это отклик не на «Зеркало теней», а на стихи из «Stephanos»: «…Вновь причастись души неистовой, И яд, и боль, и сладость пей, И тихо книгу перелистывай, Впиваясь в зеркало теней … Что жизнь пытала, жгла, коверкала, Здесь стало легкою мечтой, И поле траурного зеркала Прозрачной стынет красотой…».
К этому времени 4-стопный ямб с окончаниями ДМДМ уже прочно считался фирменной маркой Брюсова. Свидетельство этому – пародии. Уже в 1908 (?) году в «Альманахе молодых» П. Потемкин в «Дружеских пародиях Жака» для пародии на Брюсова избирает именно этот размер:
(Заметим здесь, однако, несомненную реминисценцию уже из «Незнакомки», из «Дыша духами и туманами…» и «И веют древними поверьями…»: блоковская семантика размера начинает свою экспансию.)
Молодые ученики Брюсова, прямые и косвенные, быстро усвоили «его» размер. Мы находим его у Ходасевича, 1907: «Когда, безгромно вспыхнув, молния…», «Ужели я, людьми покинутый…» – с реминисценциями и из вышецитированной «Молнии» Брюсова, и из «Незнакомки» Блока (отмечено Н. А. Богомоловым); у Б. Лившица, 1909: «О ночь священного бесплодия…»; у Гумилева, 1908: «На льдах тоскующего полюса…», ср. затем «Одиночество», 1909; у Шершеневича, «Когда в зловещий час сомнения…»; у Лозинского, 1908: «Один над дышащею бездною…»; у Зенкевича, 1909–1911, «Магнит» и «Свершение» (с откликами на «Царю Северного полюса» и «Последний день»?); у Грааля-Арельского, 1913; у Эллиса, 1911; у С. Боброва, 1913 (одно из двух стихотворений этим размером в «Вертоградарях над лозами» прямо посвящено «Валерию Брюсову»). Критика не замедлила отозваться на это опять-таки пародиями: А. Измайлов в «Кривом зеркале» 1910 года пишет этим размером пародию на А. Рославлева, хотя Рославлев таким размером не писал, и эпиграф из него перед пародией – обычным 5-стопным ямбом.
Самая систематическая разработка этого размера – у самого малоуважаемого из «подбрюсников», у А. Тинякова: в его книге «Navis nigra» (1912) в тематическом цикле «Morituri» целых четыре стихотворения 1907 и 1910 годов написаны нашим размером (и еще при одном этот размер стоит в эпиграфе «Дало две доли Провидение…»). Ссылка на брюсовского «Демона самоубийства» – в эпиграфе к первому же стихотворению:
«Шесть тонких гильз с бездымным порохом Вложив в блестящий барабан, Отдернул штору с тихим шорохом, Взглянул на улицу в туман…» («Самоубийца», далее – реминисценция из Кузмина); «Я подойду к холодной проруби, никто не крикнет: „берегись!“…» («Утопленник»); «…И буду водку пить горячую, И будет молодости жаль…» («Бульварная»); «Мой труп в могиле разлагается, И в полновластной тишине, Я чую, – тленье пробирается, Как жаба скользкая, по мне…» («Мысли мертвеца»); ср. у позднего Тинякова: «Существованье беззаботное Природа мне в удел дала: Живу – двуногое животное, – Не зная ни добра, ни зла… В свои лишь мускулы я верую И знаю: сладостно пожрать! На все, что за телесной сферою, Мне совершенно наплевать…»
Любопытно, что здесь подражатель-тематизатор как бы указал дорогу образцу: поздний Брюсов обращается к этому размеру часто (после 1910 года не менее 13 раз), и самые заметные из этих стихотворений – о смерти и о страсти – обычно столь же аккуратно классифицируют и ту, и другую: «Демон самоубийства» (1910: яд, нож, мост, револьвер), «Царица страсть» (1915: мальчик, девушка, женщина), «Выходы» (1916, рифмовка ДЖДЖ), «Уйди уверенно» (1916), «Одно лишь» (1921: «Я ль не искал под бурей гибели…»). Не исключено, что и Ходасевич оглядывался на эти стихи Тинякова в берлинском «Нет, не найду сегодня пищи я…» (1923, про уличных собак).
О любви Брюсов этим размером почти не писал (можно назвать разве что два стихотворения 1921 года, «Руками плечи…» и «Римини»). Здесь смягчающее успокоение после бальмонтовского неистовства установили Вяч. Иванов и Кузмин. Колебания Иванова в его редких экспериментах очень интересны: в «Кормчих звездах» безукоризненная стилизация бесплотной романтической традиции с эпиграфом из Шиллера в переводе Жуковского, в «Прозрачности» проходное пейзажное стихотворение из «Горной весны», в «Эросе» (1906) вновь яркая стилизация священной чувственности Бальмонта, в «Cor ardens» (в «домашнем» разделе «Пристрастия») выход из бурь и успокоение. «По бледным пажитям забвения Откуда, странники? куда?..» («Кормчие звезды»); «Люблю тебя, любовью требуя; И верой требую, любя!..» («Эрос»); «…Блажен, кто из пучин губительных, При плеске умиренных волн, До пристаней успокоительных Доводит целым утлый челн…» («Cor ardens»). Потом он вернется к этому размеру лишь в рождественском стихотворении 1944 года из «Римского дневника» – тоже о выходе из бурь (военных) и успокоении под Вифлеемской звездой.
Кузмин подхватывает эту тему в «Мудрой встрече», посвященной Иванову (1907): «Моя душа в любви не кается – она светла и весела…»; потом она трижды проходит в этом же размере в «Осенних озерах» («Что сердце? огород неполотый…», «Теперь я вижу: крепким поводом…», «Над входом ангелы со свитками…»). Из того же круга Иванова выходят стихи В. Бородаевского (печ. 1914): «Довольно. Злая повесть кончена…» (ср. зачин брюсовского «В полдень») и «Моя свирель – из белой косточки…». Еще решительнее упрощает тему все тот же Тиняков (1907–1908): «Двенадцать раз пробили часики В пугливо-чуткой тишине, Когда в плетеном тарантасике Она приехала ко мне…» и т. д.
Диапазон вариаций любовной темы от Бальмонта до Тинякова очерчен и заполняется далее без всякого труда; можно заметить лишь некоторую отстраненность, парадность, зрительность образов: «Когда рукою неуверенной К ногам роняли вы платок…» Шершеневича, «И вот она! Театр безмолвнее Невольника перед царем…» С. Парнок, «Я рад тому, что ложью зыбкою Не будет ваше „нет“ и „да“, И мне Джиокондовой улыбкою Не улыбнетесь никогда» (Мережковский, 1913); интроспективные стихи, как «Да, я одна. В час расставания… » Парнок, здесь реже. У Городецкого почти все стихи этим размером – на женскую тему: «Полуверка», «Итальянка» (1912), «Ты начернила брови милые…» (1914), «Ты все такая же нарядная…» (1916), «С мороза алая, нежданная, Пришла, взглянула и ушла…» (1913, с откровенной реминисценцией из Блока). На этих успокоенных интонациях новый вариант 4-стопного ямба начинает легко осваивать всю толщу нейтральной поэтической топики: и природу, и раздумья, и фантазии, и быт (насколько быт допускался в этой поэзии). Гумилев в «Старине» (1910) еще считает нужным оттенить быт буйной мечтой: «Вот парк с пустынными опушками, Где сонных трав печальна зыбь… Теперь бы кручи необорные, Снега серебряных вершин!..», – а в «Старых усадьбах» (1913) уже не нуждается в таком оттенении: «Дома косые, двухэтажные, И тут же рига, скотный двор… На полке рядом с пистолетами Барон Брамбеус и Руссо». Для младших поэтов 1910‐х годов именные клейма основоположников явно уже стираются с этой стихотворной формы.
Общедоступность и всеохватность нового размера закреплены, как обычно, Игорем Северянином, который отважно переводит в свою стилистику все символистские темы: и величие поэта, и душевный надрыв, и экзотику, и любовь: «Я, интуит с душой мимозовой, Постиг бессмертия процесс. В моей стране есть терем розовый Для намагниченных принцесс…» («Грезовое царство», 1910); «Всю ночь грызешь меня, бессонница, Кошмарен твой слюнявый шип. Я слышу: бешеная конница – Твоих стремлений прототип…» («Симфониэтта», 1912); «Въезжает дамья кавалерия Во двор дворца, под алый звон. Выходит президент Валерия На беломраморный балкон…» («Процвет Амазонии», 1913); «В ее руке платочек-слезовик, В ее душе – о дальнем боль… Страдать до смерти кем-то велено, И к смерти все ведут пути!..» («Поэза о тщете», 1915).
С появления блоковской «Незнакомки» прошло почти десять лет, но мы видим: влияние ее ничтожно, она остается на обочине разливающегося потока 4-стопного ямба с рифмовкой ДМДМ. Стихотворение Блока возникло, как сказано, на скрещении мотивов прохождения и видения, а они не востребованы массовой продукцией. «Видение» так и останется невостребованным. «Движение» же оживает в стихах после 1910 года. Гумилев (по воспоминаниям Н. Чуковского) говорил, что, когда поэту нечего сказать, он пишет: «Я иду…». В некоторых стихах, видимо, так и было: у Сологуба «…Иду, иду дорогой новою, Стихами сладкими хваля Тебя за ласковость суровую, Моя воскресшая земля…» (1915), у самого Брюсова «Ищу грибы, вскрывая палочкой Зелено-бархатные мхи…» (1916). Блоковское происхождение этого мотива не вызывало сомнения у современников: А. Альвинг, рецензируя («Жатва». 1912. I.) «Стихи» Эренбурга (1910), писал: «Метрика – обычна. Иногда заметно влияние блоковской поэзии, например: „Когда над урнами церковными Свои обряды я творю, Шагами мерными и ровными Оне проходят к алтарю…“».
Но художественно осмыслено это было только в псевдотуристических стихотворениях В. Комаровского из «Итальянских впечатлений» (1913) – тех, которые подробно разобраны В. Н. Топоровым в статье «Две главы из истории русской поэзии начала века»245. Толчком к осмыслению была сама фиктивность «Итальянских впечатлений»: Комаровский писал их по воображению, сидя в Царском Селе и мучась психической болезнью; таким образом, собственные «шаги» по Риму стали для него художественным объектом, обросли историческими ассоциациями и т. д. Образцом для Комаровского был Брюсов: это подчеркнуто эпиграфом из его только что напечатанного «Как Цезарь жителям Алезии К полям все выходы закрыл, Так Дух Забот от стран поэзии Всех, в век железный, отградил…» (с намеком на собственную отгражденность от Италии).
Отсюда оставался один шаг до любовно-туристических стихов Цветаевой. Конкретным реминисценциям из процитированного стихотворения в цветаевском «Ты запрокидываешь голову…» посвящена недавняя заметка К. М. Поливанова («„Итальянский“ мотив одного „московского“ стихотворения Цветаевой», в печати246), поэтому мы ограничимся лишь наметкой общей ритмико-семантической преемственности.
Цветаева впервые соединила мотив движения с мотивом любовным; это было далеко не то же, что соединение «движения» с «видением» в «Незнакомке», однако все же было ближе к блоковскому образцу, чем к брюсовским и подбрюсовским. Можно считать, что для читателей именно с ее стихов начинается постепенная переориентировка 4-стопного ямба ДМДМ с Брюсова на Блока. Сделала она это в трех стихотворениях 1914–1919 годов, обращенных к трем разным адресатам:
(К С. Парнок, декабрь 1914);
(К О. Мандельштаму, 18 февраля 1916);
(К С. Голлидэй, апрель 1919).
В первом стихотворении связь с образцом В. Комаровского очевиднее всего: речь идет действительно о «туристической» поездке Цветаевой с Парнок в Ростов Великий под Рождество 1914 года. Одиннадцать строф впечатлений единообразно начинаются словом «Как…», смена их создает ощущение движения, собственно глаголов движения почти нет; мотивировка внимания к ним и поэтизации их – любовь к подруге, все больше обнажаемая к концу. Второе стихотворение вдвое короче; речь идет о «туристической» прогулке, когда Цветаева «дарила» Мандельштаму Москву, – вместо картин на виду, наоборот, глаголы движения, прохладная любовь выдвинута в центр и в концовку, но замаскирована мыслью о прошлом и будущем спутника. Третье стихотворение окончательно переключается с обозрения пространства на обозрение времени: это серия картин (12 строф, 13 «Как…») из жизни романтической героини, которой Цветаева уподобляет актрису-адресатку (вспомним «Итальянку» Городецкого), а любовь понятным образом – основное их содержание. Потом Цветаева еще дважды обратилась к этому размеру в любовных стихах (к Н. Вышеславцеву, 1920: «Да, друг невиданный, неслыханный…» и «В мешок и в воду – подвиг доблестный…»), но коротких и свободных от описательных осложнений.
Почти одновременно и независимо от Цветаевой скрещивает те же мотивы движения и любви Пастернак в стихотворении 1916 года «На пароходе». Здесь обстановка – пароход, река, природа – демонстрирует движение в пространстве, а на их фоне (как всегда у Пастернака, очень развернутом) любовный разговор демонстрирует движение во времени – во времени разговора и во времени прожитой жизни:
Может быть, выбор блоковского размера был дополнительно подсказан Пастернаку стихотворением А. Штиха о любовном прощании (печ. 1915, с реминисценцией из Фета): «Вы уезжали. О, как жалобно Полозья бороздили снег… И если б мог, руками сжал бы я Коней задохнувшийся бег…». При переработке 1928 года Пастернак внес изменения в строфы о разговоре, и мотив движения в них ослабел.
На этом период семантического становления 4-стопного ямба ДМДМ можно считать законченным. Мы видели, как его семантический ореол возник «под знаком Брюсова», расплылся в стихах его эпигонов и начал вновь структурироваться, ориентируясь уже не на Брюсова, а на «Незнакомку» Блока, которая оторвалась от брюсовской традиции и все больше стала заслонять ее собой. Поворотным моментом на этом пути от Брюсова к Блоку можно считать именно «Итальянские впечатления» Комаровского, а закрепили эту переориентировку Цветаева и Пастернак. После 1917 года, когда популярность Брюсова стремительно падает, а Блока (благодаря «Двенадцати») растет, эта установка на Блока стала распространяться еще стремительней. Но прослеживать историю 4-стопного ямба ДМДМ в советской (и эмигрантской) поэзии мы сейчас не имеем возможности.
SABINULA 247
КОММЕНТАРИЙ К РАССКАЗУ В. А. КОМАРОВСКОГО
Время действия – конец правления Веспасиана (69–79, умер 70 лет от роду), основателя недолгой династии Флавиев; он запомнился как правитель умный, грубоватый и прижимистый, враг «кутил и модниц»; его разговор с механиком о машине для перевозки колонн сохранен Светонием. Изгнал из Рима философов, учредил государственную ораторскую школу (во главе с Квинтилианом). Сын его – Домициан, будущий император, слывший порочным и жестоким. «Кажется, я становлюсь богом» – предсмертная шутка Веспасиана: популярные императоры после смерти причислялись к лику богов (непопулярные Нерон, Гальба, Вителлий названы здесь «божественными» по ошибке).
Из раннего римского прошлого упоминаются только битва при Каннах, победоносные полководцы Сципионы (III–II вв. до н. э.); затем – основатели Римской империи Цезарь (ум. 44 до н. э.) и Август (ум. 14 н. э.) с его женой Ливией; при Августе был сослан на Дунай знаменитый поэт Овидий, но за что – доподлинно неизвестно. Преемники Августа – «нелепые тираны», императоры династии Юлиев–Клавдиев: Тиберий (Тиверий) с его временщиком Сеяном; Калигула, к которому в 40 году приходило жаловаться на погром посольство александрийских евреев с философом Филоном; «божественный» Клавдий; и наконец, знаменитый злодей Нерон (54–68). Упоминается мать Нерона Агриппина, первая жена – добродетельная Октавия, вторая – порочная Поппея, последняя наложница – преданная Актея; его воспитатель и советник философ Сенека, его полководец Корбулон (Корвулон), воевавший с парфянским царем Вологезом; все они были убиты Нероном, а раньше всех Марк Юний Силан, правнук Августа, в котором Агриппина видела соперника сыну. Затем после краткого междуцарствия («восстание испанских легионов», Гальба, Отон, Вителлий) «с бою» взял власть Веспасиан. Против него поднял было мятеж полководец Юлий Сабин, но был разбит, долго скрывался с помощью своей жены Эппонины и был с нею казнен незадолго до времени действия рассказа. «Эпохой двенадцати императоров» называется время от Юлия Цезаря до Домициана; их биографии написал Светоний, а историю правления – Тацит.
Римская империя при Веспасиане простиралась до Рейна (Ренуса) и Дуная до Сахары и от океана до границ Парфии (Персии). Из завоеванных Римом областей (провинций) упоминаются Галлия («трансальпинская» – нынешняя Франция, «цизальпинская» – северная Италия), Бетика (южная Испания), Африка (Тунис), Паннония (Венгрия), Мизия (Сербия и северная Болгария), Каппадокия и Понт (Малая Азия); из городов – Александрия и Цезарея (в Палестине). Область бриттов – недавно завоеванная Британия; область батавов в устье Рейна – нынешняя Голландия; янтарь туда привозили из «гиперборейской» («засеверной», полусказочной) Прибалтики.
Восстание рабов «в северных латифундиях» (больших поместьях северной Италии) – вымышлено, как и мятеж «македонского Антиоха»; это имя носил мелкий сирийский царь Антиох Коммагенский, но он уже давно был лишен власти Веспасианом. Как управляющему «залили горло оловом» – традиционный мотив (так рассказывали, будто алчному Крассу победители-парфяне залили горло золотом). Канны, где находилось имение Аппия, видимо, следует представлять в южной Галлии (современный курорт Канн близ Ниццы; название «Лауданум» вымышлено). Но «местом знаменитого поражения» римлян от Ганнибала (216 до н. э.) были другие Канны, в южной Италии: ошибка едва ли не намеренная. Аппий ехал в Галлию по тропам, «параллельным римскому сооружению» – мощеной Аврелиевой дороге вдоль моря (на самом деле туда обычно плавали морем).
Рим называется просто «город» (глава 1). В нем три сословия: сенаторы (аристократия), всадники (богатая буржуазия) и народ. Гражданские должностные лица назывались магистратами; отслужив год высоким магистратом, сенатор получал в управление одну из провинций (как Целий – Африку). Военачальники – командиры легионов, римских полков, – назывались легатами; орлы на древках были знаменами легионов. Легионы были пешим войском с небольшими конными отрядами; «топот бесчисленных копыт» караковых (темно-гнедых) коней – анахронизм. Победоносное войско справляло триумф – торжественное шествие через Рим с добычей и пленными; но триумф над парфянами в главе 9 вымышлен.
Из построек города Рима названы Капитолий, главный холм с древними храмами богов; Пантеон, большой купольный храм «всех богов», выстроенный за 100 лет до времени действия; цирк, место для скачек; «новый амфитеатр» – знаменитый Колизей; табуляриум – здание государственного архива, пострадавшее в войне за Рим при воцарении Веспасиана. «Кампанья» как общее название окрестностей Рима – не античный, а итальянский термин. Остия – гавань Рима в устье Тибра; Байи – модный тепловодный курорт близ Неаполя; Сибарис в южной Италии назван по ошибке, он был уже 600 лет как разрушен.
Историк Корнелий Тацит на самом деле в это время был еще молод и свои «Анналы» (не мемуары!) о временах Нерона стал писать лишь лет через тридцать; но действительно, он запомнился как суровый критик современных нравов и мастер «сжатого и точного» стиля. Остальные персонажи рассказа вымышлены. Имя Агриколы заимствовано из одноименного сочинения Тацита, имя Ветулия – из стихотворения Пушкина «К Лицинию».
600 тысяч сестерций долга Аппиева отца – цифра условная; собственно, по указу Клавдия, подтвержденному Веспасианом, сын вообще не должен был отвечать за долги отца. Образовательные поездки в Грецию были у состоятельных римлян обычны (Афины, Коринф; Милет как центр ораторского искусства назван, видимо, ошибочно вместо Родоса). Коринфская медь (будто бы с примесью золота) считалась самой лучшей. Стеклянные сосуды, очень дорогие, были в это время новинкой. Обсидиан – горное стекло, он шел только на мелкие резные поделки. Пеплум – греческая женская одежда с заколками на плечах. Игра в шахматы – анахронизм. Taedium Vitae – отвращение к жизни, ведущее к самоубийству: эти слова встречаются у Корнелия Непота в I веке до н. э., но крылатым выражением становятся только в новое время.
Сирены, пением завлекающие моряков, – образ из «Одиссеи»; обычно изображались с девичьими головами и туловищами хищных птиц (не рыб). Палица фессалийского героя – видимо, ошибка: палицей был знаменит только Геркулес, герой фиванский и аргосский. «Геркулес на распутьи» – известная притча о том, как он делает выбор между пороком и добродетелью. «Богиня» в главе 6 – Венера, муж ее – бог-кузнец Вулкан, любовник – бог войны Марс, урод-сын – бог сладострастия Приап; Венере уподоблена Нигрина, Вулкану – Целий, Марсу – Публий.
Кардинал Биббиена (Бернардо Довици, 1470–1520) – советник папы Льва Х, дипломат, гуманист, драматург (подражатель Плавта). Эразм считался лучшим латинским стилистом своего времени, поэтому критика от его лица в предисловии начинается с языка: «золотой» считалась латынь Цицерона и Вергилия (I в. до н. э.), «серебряной» – I–II вв. н. э., «оловянная латынь» – вообще не термин. Лукиан, греческий эссеист и сатирик II века, любимый гуманистами, назван как тип легкомысленного скептика: жанр и стиль его сочинений не имеют ничего общего с «Сабинулой».
К СТАТЬЕ М. БЕРГА «ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ» 248
Aux Saumaises futurs préparer les tortures.
(кажется, из Буало)
Статья М. Берга представляет серьезный интерес для будущих филологов. Как правило, филологи не знают, из каких побуждений вверенные им писатели прошлого писали свои сочинения: все упоминания о славе и деньгах в их стихах и прозе суть уже литературные мотивы, связанные с действительностью лишь косвенно, а читать прямо в душе у Пушкина или Софокла мы не имеем надежных средств. В «Гамбургском счете» нам предлагается очерк структуры писательского тщеславия, работающей хотя бы в одном секторе современной словесности. Можно думать, что в других секторах – например, в массовой литературе – критерии успеха преобладают другие, но оттуда деклараций мы пока не имеем.
Я прошу прощения за то, что говорю как бы с точки зрения будущих филологов, но ведь основным признаком успеха (странным образом не упомянутым в статье М. Берга) обычно считается именно «остаться в веках»; а прижизненная слава и деньги – это лишь здешний «бессмертья, может быть, залог». Раньше остаться в веках было трудно, потому что книги, особенно рукописные, легко погибали. Теперь, когда вся мировая словесность переводится в электронику, это легче: сохраняться будет все, и, стало быть, в бесконечном будущем когда-нибудь кому-нибудь заведомо придется по вкусу всякая вещь, которая сейчас пишется, бульварная ли, элитарная ли. Полтораста лет назад литература барокко была в презрении и забвении, а сейчас она – гордость европейской культуры. Об античности нечего и говорить. Вы читали хоть о каком-нибудь древнегреческом стихотворении: «это плохо»? Нет, все ему благодарны только за то, что оно сохранилось. Отбор сохранившегося из античной литературы – дело случая (с поправкой разве что на школьные программы: что переписывалось для школ, то сохранялось лучше). Отбор того, что из нынешней литературы будет выхвачено вкусами будущего из электронных залежей нашей культуры, – тоже дело случая (с поправкой разве что на индекс цитируемости, которого для изящной словесности, кажется, еще не вычисляли). Впрочем, вкусов будет много, и все разные.
В самом деле, статья начинается за упокой, а кончается за здравие – видимо, для ободрения. Предполагается, что мир все время обновляется, назначение художника – свидетельствовать об этом обновлении, и эту его стратегию можно назвать гамбургским счетом. Непонятно только, почему счетом. Старый гамбургский счет был средством соизмерения успеха разных играющих по общим правилам единого вкуса. Лучше всего он работал в классицизме, где правила действительно были общими. И действительно устраивались состязания: Ломоносов, Тредиаковский и Сумароков перелагали один и тот же псалом и печатали, даже не подписываясь: пусть читатели сами решают. (Что решали читатели, мы – любопытным образом – не знаем.) Но когда романтизм сделал предметом гордости сочинение новых правил и вкусов, то сведение гамбургских счетов стало возможно только среди единомышленников. С целью самоутверждения, как у кукушки и петуха. Счет, кто лучше, кто хуже, сделался приятной формой кружкового времяпрепровождения – например, в «Новом ЛЕФе» со Шкловским – и, кажется, остается таковой до сих пор. (Теперь кружки называются референтными группами.) Насчет того, что реальность обновляется и искусство должно на это откликаться, никто не будет спорить, даже соцреалист. Но как именно обновляться – это все всегда будут понимать по-разному. Предвидя это, автор сразу спешит оговорить: «понятно, что реальность – это не просто „новые черты быта“ или „новые психологические типы“…». Остается сказать: «a realibus ad realiora» со всеми испытанными последствиями.
Лучше, наверное, не предполагать, что ты и только ты говоришь на единственном настоящем гамбургском языке, который призван стать всеобщим. Лучше взять и попробовать составить словари чужих языков: например, раздать опросный лист с именами стольких-то современных писателей (впрочем, почему только современных?) и чтоб каждый притязающий на место в литературе проставил им баллы по собственному кружковому усмотрению. А потом сдать эти бюллетени социологам: ведь и в статье М. Берга обсуждается не литературный вопрос «как писать», а социологический, «как выглядеть писателем». И социологи, очень помучившись, составят по этим данным многомерную карту современного художественного вкуса. Со сложными изоглоссами. Сейчас она никому не нужна, но будущим Сомэзам послужит драгоценным путеводителем по археологии нынешней словесности. Чтобы знать, с какого конца копать электронные залежи.
СМЫСЛ ТЕКТОНИКИ И ТЕКТОНИКА СМЫСЛОВ 249
Активное взаимодействие и взаимообогащение разных научных дисциплин давно уже перестали быть редкостью в практике гуманитарных исследований. Понятно, что характер такого взаимодействия не может быть во всех случаях совершенно одинаков. Иногда это использование данных одной науки для решения проблем другой, иногда – применение методов одной науки к материалу другой, иногда же (и в последнее время очень часто) – использование данных и материалов разных наук для создания глобальных обобщений.
Монография Л. И. Таруашвили о тектонике визуального образа в античности и христианской Европе – это типичный пример междисциплинарного исследования. Однако задача ее вовсе не в том, чтобы единой концепцией охватить самые разные виды художественной деятельности прошлых эпох; общие соображения о природе античной и европейско-христианской культур, о значении первой для развития второй (см., например, с. 139–143, 320–326) если и высказываются в ней, то с осторожными оговорками, как гипотетические выводы из главных положений. Основная проблема данной исследовательской работы, как это видно уже из ее подзаголовка, лежит в области пластических искусств. Соответственно, и судить о том, насколько оправданно предложенное автором ее решение, проще всего профессиональному искусствоведу. Тем не менее книга Л. И. Таруашвили заслуживает самого серьезного внимания и со стороны филолога-литературоведа по причине того, что путь автора к намеченной им конечной цели по необходимости проходит через огромное и разнообразное множество литературно-художественных текстов, через доскональный анализ и углубленное толкование их образного строя.
В ходе такого рассмотрения автор использует найденное им гармоничное сочетание разнородных методик. Суть этого сочетания примерно такова. Пользуясь филологическими процедурами и литературоведческими методами, автор выявляет и описывает визуально-пластические образы литературного текста. Затем, пользуясь методами, разработанными в искусствоведческой науке, он интерпретирует эти выявленные и описанные образы с точки зрения их отношения к тектонике, т. е. к чувственно-наглядному образу устойчивости материального тела. При этом, внимательно разбирая семантику слов и словосочетаний, автор не обходит вниманием и другие уровни текста: от звукового (например, на с. 242–243 разбор фонических экспрессий в оде Горация, выявляющий поэтически значимую аналогию между движением языка читателя и движением ног танцующих персонажей) до повествовательного (например, сравнительный анализ нарративной схемы в рассказах о чудесном спасении постройки у Плиния Старшего и аббата Сугерия на с. 306–308).
Конечно, визуальные образы в литературных текстах и прежде бывали предметом специальных исследований, но случалось это эпизодически; что же до их тектонической стороны, то она и вовсе никогда не была предметом сколько-нибудь последовательного внимания. А между тем, как показал в своей монографии Л. И. Таруашвили, эта сторона весьма существенна, будучи симптоматическим признаком в историческом плане. Особенно важно, что разработанный им метод тектонического анализа автор не только применяет, но также подробно и четко изъясняет в разных местах своей работы (например, во вводных частях глав об античном и средневековом архитектурном экфразисе, с. 274–275, 301–302).
Важно подчеркнуть, что, осуществляя сквозной анализ образов богов, людей, зданий и даже метафор образного мышления в античной и новоевропейской литературе с точки зрения антитезы тектоническое/атектоническое, Л. И. Таруашвили остается далек от упрощенного отождествления атектонического с эффектом бесплотной легкости (с. 13–14). Последний – это лишь законченное выражение атектонического. Как отмечает автор, анализируя архитектурную символику в Вульгате и в литературе Средних веков, даже эффект косной тяжести по сути своей атектоничен, ибо косвенно, через ассоциацию с идеями дремоты и сна связан с идеей особой легкости (с. 48–50). Тектоника – это образ свободного стояния, и атектоническое не противоположно, но внеположно ей (с. 13–14). В связи с этим автор формулирует положение об атектоническом как особом проявлении амбивалентности образа. Тем самым он намечает выход к иной, отдельной теме, которая, однако, остается в монографии неразработанной, поскольку требует специального рассмотрения.
Единообразие подхода к памятникам самого разного рода тщательно выдержано, и это позволяет делать убедительные сопоставления и широкие обобщения. Одна из главных причин, по которым такое аналитическое рассмотрение текстов оказывается весьма эффективным, – это особенность еще одного метода, самостоятельно разработанного и примененного автором монографии. Метод состоит в последовательном выявлении исторически обусловленного характера связи между тектоникой образов и их аксиологическим рангом. Автор исходит из убедительной предпосылки, что основным показателем той эстетической ценности, какую могла иметь тектоника для поэтической фантазии определенной исторической эпохи, является не количество тех или иных тектонических характеристик в поэтических текстах данной эпохи само по себе (хотя и это тоже важный признак), а то, с какими – положительными или отрицательными – ценностями внеэстетического порядка (религиозного, этического, гносеологического и т. д.) систематически увязываются эти тектонические характеристики.
Автор приводит и подробно разбирает многочисленные примеры из Гомера и Вергилия, показывающие закономерное ослабление тектонических признаков при переходе от высших божеств к даймонам и столь же закономерное появление атектонических признаков в описаниях обитателей загробного мира. Этому противопоставлены, в частности, биполярная система образов в поэме Дж. Мильтона «Потерянный рай», а также картина запредельного мира в «Божественной комедии» Данте, где эффект легкости и невесомости нарастает по мере перехода повествования от низших сфер к высшим. На примере образного строя «Фарсалии» Лукана автором особенно наглядно показана прямая корреляция нравственно-героического начала с тектоническим (Помпей) и злого начала с атектоническим (Цезарь). Напротив, при рассмотрении соответствующих мест из «Романа о Тристане» Беруля, «Неистового Роланда» Ариосто, «Бури» Шекспира и целого ряда других произведений более позднего времени становится видно, что благое, героическое и нравственное стремится к выражению в образах атектонических. Большой интерес представляет также раздел монографии, в котором анализу подвергается само понятие тектоники как совокупности образующих ее компонентов – объема, плотности, тяжести, упора, равновесия, – а затем на многочисленных примерах из античной поэзии показано место каждого из этих компонентов в системе античного классического образа действительности (с. 247–266). Качеством и глубиной анализа также выделяются пассажи, посвященные мотиву отражения в воде (с. 266–273), мотиву головокружения как желательного состояния в европейско-христианской поэзии (с. 226–242), теме Икара в лирике и эмблематике Ренессанса (с. 191–193). Значительное внимание уделено также произведениям русских писателей (Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Островского и др.).
Автор превосходно владеет огромным литературным материалом: из античной литературы он использует не только высоких классиков, но и таких малопопулярных авторов, как Либаний и Аристид Квинтилиан. Все опорные тексты рассматриваются на языке оригиналов; расхождения между подлинным Гомером и его новоевропейскими переводами, образцово-филологически разобранные, дают автору один из самых изящных аргументов в его обширном арсенале.
При всей филологической безукоризненности этой монографии читатель не только склоняется к ее одобрительной оценке в целом, но и побуждается к ряду критических раздумий. Так, противопоставление «творческого духа» античности (тектонического) и христианской Европы (атектонического) может показаться слишком упрощенным. Дело в том, что и античная, и новоевропейская культуры были многослойны. «Дух культуры», если уж пользоваться этим опасным понятием, по-разному проявляет себя в различных ее областях и на различных уровнях. Литература – не прямолинейное выражение этого «духа», а очень опосредованное – например, через традиции и условности жанра. Высокие жанры античности утверждали «тектонические» ценности, а малые жанры охотно играли атектоническими; образцы малых жанров в большинстве дошли до нас от последних веков античности, но у разобранных автором Марциала, Плиния Младшего были и очень давние предшественники: эпиграммы Посидиппа о Фаросском маяке и о храме Афродиты над морем относятся к началу III века до н. э. Кроме того, можно было бы возразить, что и в новое время атектонический вкус не был абсолютно господствующим. Так, намеченному в монографии парадоксальному ряду авторов, оперировавших атектоническими символами интеллектуального процесса: Ариосто – Монтень – Ницше – Шестов (с. 201–208), – можно было бы противопоставить ряд: Галилей – Вольтер – Гегель – Толстой.
Но предвидя подобные возражения, автор многократно подчеркивает, что ведет речь исключительно об эстетической предрасположенности, а не о полном тождестве тектонической эстетики в античную эпоху или атектонической – в послеантичную. Полной реализации такой предрасположенности не могли не мешать внешние по отношению к ней, но при этом влиятельные факторы, такие как познавательные, морально-назидательные, научно-просветительские установки для христианской Европы, сакрализованный и в силу этого особенно мало меняющийся фонд мифических повествований, миметический принцип в искусстве и литературе, внутренняя динамика общества и его неизменная открытость вовне – для Европы античной. «Полагаем, что в нашей работе приведено достаточное число досконально разобранных примеров атектонического в античной визуальной культуре, показывающих, сколь далеки мы от мысли, будто весь античный мир был чем-то вроде музея статуарной пластики. Точно так же не забыты нами и примеры тектонической выразительности из литературы и искусства христианской Европы», – справедливо замечает автор (с. 14) в разделе «Вместо предисловия». Во введении ко второму разделу монографии (с. 143–145) содержится рассуждение о тектонике как о культурно-исторической универсалии. То, как может взаимодействовать эстетическая установка с ограничивающими ее условиями, автор показывает, анализируя упомянутую эпиграмму Посидиппа о Фаросском маяке. Он отмечает, что атектонические мотивы заданы эпиграмме тематически, т. е. мотивом головокружительно высокой башни, этого «чуда света», а эстетические предпочтения поэта отражаются в заметно окрашивающих образный строй эпиграммы тектонических акцентах.
Не исключено, что в монографии найдется и ряд других суждений, способных вызвать возражения читателя. Что ж, если автор не ответил на эти возражения заранее (а в тексте книги много таких предвосхищающих ответов), то, как мы полагаем, внутренняя полемика с ним будет интеллектуально плодотворной. Но следует подчеркнуть, что главный интерес монографии – не в тех или иных отдельных ее выводах, а в разработке всей системы аргументации, всей методики анализа литературных памятников, предложенной автором. По существу, здесь открыто новое и многообещающее направление исследований – изучение тектоники вербального образа. Думается, что, если в дальнейшем гуманитарная наука сохранит свой нравственно-интеллектуальный тонус, данное направление непременно найдет своих продолжателей.
Остается добавить, что автор достаточно позаботился о читателе, желающем разобраться в содержании его книги. Уже с самого начала, в упомянутом разделе «Вместо предисловия» он изложил основные идеи монографии с конспективной краткостью и исчерпывающей полнотой. И в дальнейшем свои рассуждения, сами по себе нередко достаточно сложные, он излагает так, что они становятся ясными и даже кажутся простыми. Подспорьем читателю служат и очень подробное, на восьми страницах, предисловие, и указатель. Отдельного упоминания заслуживает высококачественное оформление книги, делающее ее как приятной для глаза, так и удобочитаемой.
ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ С. А. ОШЕРОВА 250
Эта книга выходит почти через двадцать лет после смерти ее автора – Сергея Александровича Ошерова (1931–1983). Составляющие ее статьи писались главным образом в 1960–1970‐е годы. Сергей Александрович был ученым, но не был ни академическим работником, ни преподавателем. Он работал переводчиком и редактором переводов. Он сделал последний (и единственный удобочитаемый) русский перевод «Энеиды» – в любой литературе, даже избалованной хорошими переводами, это было бы событием, у нас это прошло незамеченным. Он дал русскому читателю все трагедии Сенеки (те самые, на которых училась вся новоевропейская драматургия) и его «Письма к Луцилию», самый яркий памятник стоической философии. Его диссертация была написана о раннем римском эпосе – об исторических поэмах Невия и Энния, и тоже сопровождалась переводом сохранившихся фрагментов этих поэм. От этих трех опорных точек расходилась кругами тематика его статей, составивших данный том.
Чтобы оценить их, нужно вспомнить, на что была похожа советская классическая филология около 1960 года. Она была лишена двух условий, необходимых для развития всякой науки: во-первых, преемственности поколений и, во-вторых, контакта с зарубежной филологией. В 1920–1930‐е годы предметы классической филологии в университетах не преподавались: в ее истории оказался перерыв длиной лет в пятнадцать. Когда она восстановилась и когда ей стал учиться С. А. Ошеров, то его преподавателями в Московском университете были, так сказать, не отцы, а деды от науки: поколения отцов не было. Это были ученые дореволюционного позитивистского склада, они прекрасно знали древние языки, они по-настоящему любили древние литературы, но не знали, что должна делать с этим наука: разве что пересказать содержание, выделить и процитировать красивые места и сделать замечания о художественных особенностях. Новую зарубежную научную литературу они не читали – даже ту скудную, которая доходила до советских библиотек. Пусть желающие заглянут в «Историю римской литературы» (Изд-во АН СССР. 1950–1962. Т. 1–2), и они поймут, что сказанное не преувеличение. Впрочем, когда первые их ученики пытались заполнить этот концептуальный вакуум дежурными понятиями советского литературоведения, картина получилась еще безотраднее: такова была другая «История римской литературы» (Изд-во МГУ, 1954).
Учиться настоящей науке, складывать осмысление текстов в картину целостной римской культуры с ее общими и специфическими чертами приходилось самостоятельно, по книгам. У старших это не находило понимания. Когда С. А. Ошеров защищал диссертацию, это чуть не стало провалом: оппонент его Ф. А. Петровский категорически заявил, что по таким фрагментам, какие сохранились от Невия и Энния, невозможно делать какие бы то ни было обобщения. (А когда дело не шло об «обобщениях», тот же Ф. А. Петровский, блестящий переводчик, охотно помогал С. А. Ошерову, редактируя его «Энеиду».) Ошерову пришлось уйти в переводы и редактирование; его сверстник по науке Г. С. Кнабе надолго ушел в лингвистику; более младший, С. С. Аверинцев, должен был в первые свои годы работать в Институте искусствознания. Перестройка университетской классической филологии началась лишь позже, и Ошеров смотрел на нее со стороны.
Сейчас каждый хорошо знает, что в античной культуре время ощущалось как циклическое, вечно неизменное, а в новоевропейской – как линейное, целеустремленное. Нужно напоминание, чтобы вспомнить, что среди филологов у нас об этом едва ли не первым стал писать С. А. Ошеров (в статье о Вергилии).
Овидий для русского читателя очень долго оставался только легкомысленным ритором и сомнительным оппозиционером. С. А. Ошеров если не первым, то одним из первых показал, что за его изящными картинками из жизни людей и богов стоит большое, связное и очень античное мировоззрение. Драмы Сенеки не только у нас, а и на Западе сплошь и рядом описываются лишь как упражнения в риторическом пафосе. С. А. Ошеров не только представил их как форму стоической проповеди, но и объяснил, почему эта форма оказалась для такой проповеди непригодной: страдания трагических героев с точки зрения этической и с точки зрения эстетической выглядят слишком различно. Ошеров писал об этом в лучшем случае в предисловиях и послесловиях, сопровождавших свои и чужие переводы, а чаще в небольших статьях, появлявшихся в малотиражных научных сборниках «на случай»; эти мысли входили в сознание читателей, не запоминаясь его именем. В этой книге они собраны воедино впервые.
Он был переводчиком не только античных авторов, но и новоевропейских: с немецкого и с итальянского, Алесссандро Мандзони и Итало Кальвино, «Римских элегий» и «Вильгельма Мейстера» Гете. О них он не писал статей, но такая жизнь в двух мирах тоже много значила для более глубокого понимания античной культуры в ее цельности и ее специфике. Перевод – лучшая школа понимания переводимого, и Ошеров чувствовал в латинских стихах больше, чем позволял себе об этом писать. Только в статье о Вергилии он обмолвился необычным замечанием, что Вергилий по темпераменту своему был лирик, а не эпик и что в «Энеиде» есть места не только гениальные, но и холодные и вялые. Но развивать эти мысли он не хотел: как филолог он не имел права на субъективные суждения. В издательстве «Художественная литература», где он был редактором, он начал серию «Библиотека античной литературы» и вел ее двадцать лет, по тому в год; она не меньше дала русской культуре, чем дали бы университетские курсы и академические монографии. Книги ее хорошо памятны ученым и неученым любителям словесности; в них выработалось образцовое сочетание высококачественного перевода, продуманного комментария и вступительной статьи, одновременно серьезной и доступной. Лучшими примерами таких статей были статьи самого Сергея Александровича об Овидии и Сенеке.
Когда филолог занимается переводом, он на практике проверяет свои представления о сходстве и специфике двух культур, переводящей и переводимой. С. А. Ошеров меньше написал о своем опыте, чем мог бы, однако статья его «Стилистическая перспектива и перевод» заслуживает самого пристального внимания и теоретиков, и практиков. Она напоминает, что переводчик не имеет права на культурный эгоцентризм, не может и не должен считать стиль своей эпохи венцом словесного творения: он лишь звено в цепи тех, кто писали и переводили на родной язык до него и будут писать и переводить после него. В разное время обществу нужны разные манеры перевода: то вольный («французская традиция»), то точный («немецкая традиция»). Точность, доведенная до предела, оборачивается буквализмом, иногда смешным, а иногда создающим такие чудеса, как «Илиада» Гнедича; а чем оборачивается вольность, доведенная до предела? Ошеров задумывается и отвечает: античными мотивами в «Tristia» Осипа Мандельштама. Эти стихи Мандельштама никто не считал переводами и все ценили за оригинальность, и только сам автор ощущал их как «творческие переводы» с языка вечности на современный язык. Так традиционная тема «античные мотивы у такого-то» становится неожиданной частью проблемы «перевод как проявитель специфики культур».
Есть ученые, для которых и научная, и переводческая работа является средством самоутверждения и самовыражения; есть другие, которые стремятся раствориться в переводимом авторе или в обсуждаемой научной проблеме так, чтобы казалось: а как же иначе, ничего индивидуального в предлагаемом решении нет. Сергей Александрович Ошеров был из числа этих «других»: достаточно перечитать то, что он писал об искусстве перевода. Прижизненной известности это вредит. Он и не стремился к прижизненной известности; ему было достаточно сознания, что он в полную меру сил делал свою долю общего дела сменяющихся поколений русских просветителей. Это дело было ему по сердцу, и за это он был благодарен судьбе. Он умер рано, многого не успев. Он был вправе пожаловаться и на малый срок, выпавший ему, и на то недоброе время, на которое пришелся этот малый срок. Но он не жаловался. Незадолго до смерти и зная, что приближается смерть, он написал такие стихи251:
Хотелось бы, чтобы стихи Сергея Александровича Ошерова, впервые собранные в этой книге, сложились в сознании читателей в тот образ их автора, который навсегда остался в памяти знавших этого человека.
КНИГА М. Ю. МИХЕЕВА 252
Книга М. Михеева точно соответствует своему заглавию: она удачно соединяет анализ образного и идейного мира Андрея Платонова с анализом его языка. Обычно тем и другим занимаются разные специалисты, а здесь автор сумел и то, и другое осуществить с редким профессионализмом. Он нашел наилучший путь к изучению изумительно сложного языка Платонова: отказался от преждевременных обобщений и сосредоточился на разборе отдельных словесных оборотов («факты»), показывая в каждом совмещение нескольких словосочетательных стереотипов с разнонаправленными ассоциациями («предположения» – «истолкования»). При этом он не только выявляет эти языковые подтексты, но и иерархизирует их: указывает для каждого случая, какой из них (по всей видимости) воспринимается сознанием в первую очередь, какой – во вторую, какой – в третью. Это действительно необходимо, хотя соблюдается исследователями далеко не всегда. Многие десятки разборов такого рода рассеяны по всей книге (указатель прилагается), и все они очень убедительны. Аномальные словосочетания встречаются у Платонова буквально в каждой фразе; обычно их не отнесешь ни к метафорам, ни к метонимиям; хочется называть их «малыми семантическими сдвигами». Это самая неизученная область стилистики: ее исследование до сих пор не столько наука, сколько искусство. Этим искусством М. Михеев владеет превосходно.
За областью языковых аномалий начинается область языковых норм; здесь научный подход уже становится возможен, и автор стремится к нему сильнее, чем большинство литературоведов. Определяя центральные темы и идеи Платонова, он пользуется точными методами: подсчетами лексики по важнейшим семантическим полям (гл. 3). Результаты, как правило, убедительны и подтверждают или уточняют те представления об образном мире Платонова, которые до сих пор могли быть только интуитивными. Здесь напрашиваются только два замечания. Во-первых, не описана техника подсчетов: тем, кто пойдет за автором по этому пути, трудно будет сверять с ним свои результаты. Во-вторых, статистика используется в естественном предположении: что чаще в языке писателя, то для него и важнее. Но на странице 55 оказывается, что лексика «дальности» у Платонова высокочастотна, а лексика «близости» малочастотна, между тем как интуитивно представлялось, что тема межчеловеческой близости у Платонова одна из главных. Автор полагает, что здесь вступает в силу «некая особая авторская стыдливость», запрещающая прямо говорить как раз о самом дорогом. Это не метод: такими приемами можно из любой статистики вывести любые угодные пишущему выводы. На самом деле такие статистические неожиданности обычно просто значат, что подсчеты нужно сделать более детализированными, раздельно подсчитать употребление слов в различных ситуациях и т. п. Это трудно, но необходимо.
Причина этого случая, конечно, в том, что автор входит в мир Платонова не только «через его язык», как лингвист, а и обычным читательским путем, через вдумчивое чтение и размышление над образами и идеями писателя. Анализ языка служит лишь для контроля субъективного понимания («догадки») объективными критериями; но и это очень большое достижение. Общее же понимание образного и идейного содержания платоновского творчества, предлагаемое в книге, представляется очень убедительным, связным, далеко не стандартным и чрезвычайно своевременным.
Картина мира Платонова, складывающаяся из результатов анализа М. Михеева, приблизительно такова. В точном соответствии с понятиями марксизма, мир монистически материален: бытие первично, сознание вторично. Отсюда подчеркнутая вещественность, грубость всех образов, в том числе и описывающих душевную жизнь; отсюда же и навязчивая рационалистичность, подчеркнуто механическая причинность всех отношений между явлениями. Такое бытие переживается как страдание, мучение; в ходе этого мучения оно вырабатывает из себя сознание, сублимируется в сознание. Пространство этой направленности от бытия к сознанию, от материи к духу называется душа. К материи она обращена чувствами, в этом их надежность; на противоположном от материи конце скапливается ум, он ценен лишь постольку, поскольку выстрадан собственными чувствами, если же он притязает на самостоятельность или навязывается со стороны, то он бесполезен. Поведение человека в этом мире материалистически определяется только как эгоизм и прагматизм («жадность», «скупость» как положительные качества). Однако, развивая чувства и ум, человек способен ощутить себя как частицу единой человеческой массы и распространить свой эгоизм на всю эту массу. Это взаимопроникающее единство общего чувства и есть коммунизм: материалистический наследник христианской любви к ближнему. Когда он будет достигнут, наступит блаженный конец времени.
Таким образом, взгляды Платонова по своему содержанию нимало не противоречат коммунистической идеологии: наоборот, он додумывает все ее положения до логического конца и представляет в предельно ощутимых образах. Именно поэтому он и оказался на положении внутреннего врага: официальная советская идеология коммунизма была половинчатой и лицемерной, и последовательное и полное приятие и выражение ее идей были ей опаснее, чем открытое их отрицание. Платоновскую позицию очень точно называли юродством (и автор с этим не спорит); но как юродивый не отвергает и не компрометирует христианские духовные ценности, а, наоборот, максималистски утверждает их, так и Платонов утверждает коммунистические духовные ценности. Представлять Платонова антикоммунистическим писателем – досадное упрощение: трагизм его положения гораздо глубже, он погибал не от врагов, а от своих. Между тем почти все, что за последнее время написано о Платонове, представляет его именно антиподом коммунизма. Психологически это понятно: пишущим в наши дни трудно относиться с уважением и сочувствием к коммунистическим идеалам. Это чувствуется и в рассматриваемой работе: М. Михеев в своей работе всем своим материалом подводит к тем выводам, которые мы попробовали сформулировать, но сам их не делает. «Юродство» Платонова он понимает скорее как иронию, пародию (если не сатиру), принижает в платоновской системе «ум» во имя «чувства» (характерно, что нерассмотренной осталась тема Машины у Платонова, очень важная для этой антиномии); элементы социалистического «новояза», затопляющие язык Платонова, играют для него преимущественно роль «чужого слова». Вряд ли это так: у Платонова этот пласт слишком органичен. Когда нам кажется, что применительно к положительным персонажам такой язык трогателен, а к отрицательным – сатиричен, то это читательская иллюзия: так по Эриугене один и тот же божественный свет кажется райским праведникам сладким, а адским грешникам жгучим.
В книге семнадцать пронумерованных глав: «Краткий биографический очерк», «Обзор тем с птичьего полета», «Статистика (пробег по метафизическим константам писателя)» и т. д.: техника словосочетаний, изображение человека, народ и история, пространство, время, «Избыточность и недоговоренность», «Слагаемые языковой игры» и, наконец, «Платонов в контексте» (русской литературы ХX века). Однако предисловие начинается словами: «В этой книге собраны мои статьи, написанные за последние 15 лет…»; автор не маскирует фрагментарности своего текста мнимой монографичностью. Наоборот, он дробит каждую главу-статью на малые параграфы – каждый отталкивается от отдельного (обычно языкового) «факта» или группы фактов. Развернутое оглавление книги представляло бы очень интересный путеводитель по лабиринту «мира Платонова». К сожалению, только «бы»: по необъяснимой беззаботности развернутого оглавления при книге нет, названы только главы, но не параграфы (а указатель приложен именной, но не предметный), и читатель должен с трудом вспоминать, в какой связи возникала в книге та или иная интересная тема. Можно надеяться, что это поправимо: тираж книги – 300 экземпляров, для такой содержательной работы это преступно мало. Подождем переиздания.
ТЕМНЫЕ СТИХИ И ЯСНЫЕ СТИХИ 253
ТРОПЫ В «СЕСТРЕ МОЕЙ – ЖИЗНИ»
Что стихи бывают более ясные и более темные, интуитивно понятно каждому, и обычно при поверхностном рассмотрении стихов между читателями даже не возникает разногласий на этот счет. Особенно когда писатель сам указывает, что с такого-то времени он стремится к неслыханной простоте и понятности. Но сказать, насколько или во сколько раз одно стихотворение яснее или темнее другого, – это, конечно, на одной интуиции невозможно. Здесь нужен анализ, опирающийся на подсчеты. В этом сообщении мы хотели бы сделать пробный шаг в сторону такого анализа.
Стихотворение может быть темным по разным причинам. Прежде всего из‐за ослабления связности текста: скачки мысли от предложения к предложению в стихах, как правило, больше, чем в прозе; это отмечалось не раз, хотя по-настоящему еще не исследовалось. Далее, из‐за ослабления связности внутри предложения: что пастернаковский синтаксис с его пропусками слов представляет здесь особенную сложность, понимали даже первые критики. И наконец, из‐за ослабления точности отдельных слов, то есть из‐за частого употребления слов в переносных значениях. Это тропы, главные из них – метафоры и метонимии с синекдохами, в меньшей степени – гипербола, ирония, эмфаза и, условно, перифраза. Вот только об этом аспекте сложности стихотворной речи мы и будем говорить: к нему легче подойти с подсчетами.
Конечно, трудности на этом пути огромны. Определить, употреблено ли слово в прямом или в переносном значении, часто очень нелегко. Исследователю приходится действовать двусторонними и потому ненадежными движениями: тропы он определяет по несоответствию предполагаемой здравым смыслом картине мира, а подлинную (индивидуальную) картину мира – по отсеву тропов. На каждом шагу он должен решать для себя вопрос, что перед ним: необычное описание обычного мира или точное описание необычного мира? В традиционной поэзии обычно предполагался первый вариант, и все словосочетания, не укладывавшиеся в бытовой здравый смысл, считались переносными выражениями, тропами – аномалиями на уровне языкового строя. Никто не сомневался, что «пламень сердца» – это любовь (метафора плюс метонимия). В авангардной поэзии часто приходится предполагать второй вариант: поэт-сюрреалист с легкостью представит нам мир, где анатомическое сердце в грудной клетке способно гореть настоящим пламенем. В таком случае перед нами аномалии не на уровне языка, а на уровне образного строя (содержания). Если мы будем считать, что в стихотворении Пастернака «Болезни земли» реальна только картина грозы, а все остальное – переносные описательные выражения, или если мы будем считать, что в нем реально присутствуют (хотя бы в сознании поэта) также столбняк, водобоязнь и прочие болезни, то насыщенность стихотворения тропами в первом случае будет заметно больше, а во втором – меньше.
Конечная задача исследователя – реконструировать ту действительность, которую имеет в виду поэт: так называемую авторскую картину мира. Реконструируя ее, мы опираемся в первую очередь на слова, употребленные в прямом значении, а потом применительно к этому истолковываем слова, употребленные в переносном значении. Чем больше слов в прямом значении, тем нам легче.
Вот пример – начало стихотворения Пастернака «Душная ночь». «Накрапывало, – но не гнулись И травы в грозовом мешке, Лишь пыль глотала дождь в пилюлях, Железо в тихом порошке». В прямом значении – 7 знаменательных слов из 12: грозовой воздух, травы не гнулись, накрапывало, тихий дождь падал в пыль. Только это и есть надежная картина. На тропы остается 5 слов из 12, то есть 40%: это «показатель тропеичности» данного отрывка. Следующая строфа: «Селенье не ждало целенья, Был мак, как обморок, глубок, И рожь горела в воспаленьи, И в роже пух и бредил Бог». В прямом значении – только 3 слова, селенье, рожь и мак, три подробности к уже обрисованному пейзажу; на тропы остается 9 слов из 12, т. е. показатель тропеичности – 75%, почти вдвое выше. И, вероятно, каждый согласится, что первую строфу, несмотря на пилюли и порошки, мы воспринимаем как более простую, а вторую, в которой пухнет и бредит Бог, – как более сложную.
Из 14 знаменательных слов, употребленных заведомо в переносном значении, метафорами являются 8: мешок (духота), глотать пилюли и порошок (капли дождя падают в пыль и катятся, как пилюли), ждать целенья, гореть в воспаленьи. Все они без исключения объединены семантикой болезненности. Метонимиями являются четыре слова с той же семантикой: железо (железосодержащее лекарство), пух и бредил Бог (все мироздание пронизано болезненностью). Два слова совмещают переносное значение с прямым: глубок применительно к обмороку – прямое значение (точнее, стершаяся до предела метафора), а применительно к маку – метонимия; рожа как растение мальва-просвирняк (по Далю) – прямое значение (точнее, может быть, синекдоха: на степных травах простерлось и мучится мироздание), а как воспаленная рана – метонимия (Пастернак в примечании указывает, что именно это значение – главное). Наконец, одно слово обморок употреблено в сравнении, и как трактовать его – спорно: с одной стороны, оно употреблено явно в прямом значении (в отличие от глубок), с другой – оно явно не принадлежит к реальному миру описываемого сельского пейзажа, в котором никто в обмороке не лежит. Такие слова в составе сравнений мы просто исключали из подсчетов (с должными оговорками), пока мы не договоримся, как их следует учитывать. Метафорических слов, как мы видим, вдвое больше, чем метонимических; это, по-видимому, нормальная для русского языка пропорция, к этому мы еще вернемся.
Мы видим на маленьком пространстве двух строф: основные образы, складывающиеся в картину поэтического мира стихотворения, выражены преимущественно словами в прямом значении, а вспомогательные образы, складывающиеся в данном случае в эмоциональную окраску этого мира, выражены словами в переносном значении, тропами. Мы предупреждали, что в интерпретации возможны разногласия: наверное, кто-нибудь захочет настаивать, что Бог у Пастернака тоже основной образ и что мы должны вполне сюрреалистически буквально представлять себе в земле – рожистую рану, а в ней – человековидного Бога, который пухнет и бредит. Думаю, однако, что дальнейшее разворачивание образов в этом стихотворении говорит скорее против такого представления.
Точно так же могут быть сомнения, как трактовать отдельные слова – как прямые значения, метафоры или метонимии. Прежде всего это относится к стертым метафорам и метонимиям. В стихотворении «До всего этого была зима» герои бегут по дрова «в магазин С восклицаньем: Сколько лет, Сколько зим!» – считать ли «сколько лет» стершейся метафорой или реанимированной? и считать ли метафорой «магазин» в значении «дровяной склад»? Для таких случаев, как «магазин», мы ввели понятие «малый семантический сдвиг» и не причисляли их к метафорам и метонимиям, чтобы не завышать искусственно их число. Например, «вихрь, зарывшись, коротел» – «зарывшись (в пыль)» – это метафора, а «коротел» буквально значит «укорачивался», у Пастернака же – «прекращался»: это мы тоже считали малым семантическим сдвигом. Более важное сомнение – в стихотворении «Мучкап»: «Душа – душна, и даль – табачного Какого-то, как мысли, цвета». Почему даль табачного цвета – по сходству (потому что пыльная) или по смежности (потому что дурманящая), то есть метафора это или метонимия? Как кажется, дополнительное слово «цвета» больше говорит в пользу метафоры «потому что пыльная», но настаивать на этом трудно. Таких разногласий может быть много.
Поэтому не следует считать приводимые далее данные окончательными. Скорее это приглашение ко всем желающим заинтересоваться проблемой, попробовать все эти трудности на практике, сверить результаты и выработать общую методику, которая поможет исследовать Пастернака и не только его.
Покамест обследованный по этой методике материал таков. Из Пастернака рассмотрены 50 стихотворений сборника «Сестра моя – жизнь», 20 стихотворений сборника «Близнец в тучах» и 15 стихотворений из других книг. Из Мандельштама около 30 стихотворений – почти исключительно ранних, до 1925 года. Из остальной русской поэзии тоже около 30 стихотворений и отрывков: Державин, Пушкин, Баратынский, Тютчев, Фет, Некрасов, Блок, Маяковский, Шершеневич. Из русской прозы – пять описательных отрывков из Пушкина, Гоголя, Толстого, Белого и Ремизова, а также два отрывка из Пастернака: из «Детства Люверс» (I, 2) и «Доктора Живаго» (I, 7, 10). Подсчитывались показатели тропеичности: процент переносных словоупотреблений от общего количества знаменательных слов – существительных, прилагательных, глаголов и наречий. Избранные показатели – конечно, округленные – приводятся ниже.
Проза: «Пиковая дама» – 3%, «Мертвые души» – 6%, «Петербург» – 20%, «Детство Люверс» – 28%, «Доктор Живаго» – 25%.
Поэзия XIX–XX веков: «Евгений Онегин» – 30%, «К морю» – 40%, «Марко Якубович» – 5%, «Рыцарь на час» – 15%, «Снежная маска» – 50%, «Флейта-позвоночник» – 40%.
О. Мандельштам: «Золотистого меда…» – 20%, «Лютеранин» – 25%, «Веницейской жизни…» – 25%, «Я в хоровод теней…» – 30%, «Айя-София» – 35%, «Концерт на вокзале» – 45%, «Notre Dame» – 50%, «1 января 1924» – 50%, «Сеновал» – 60%, «Реймс – Лаон» – 80%.
Б. Пастернак: «Импровизация» (1915) – 80%, «Импровизация» (1948) – 75%;
(«Сестра моя – жизнь»): 15% – «Подражатели»;
30% – «Сестра моя – жизнь…», «Балашов»;
35% – «Памяти демона», «Плачущий сад», «Зеркало», «До всего этого…», «Душистой веткою…», «Уроки английского», «Степь», «У себя дома», «Конец»;
40% – «Ты так играла…», «Воробьевы горы», «Еще более душный рассвет», «Елене», «Давай ронять слова…», «Имелось»;
45% – «Ты в ветре…», «Из суеверья», «Про эти стихи», «Образец», «Сложа весла», «Определение поэзии», «Определение творчества», «Мухи мучкапской чайной», «Лето…», «Как усыпительна жизнь!»;
50% – «Девочка», «Весенний дождь», «Наша гроза», «Mein Liebchen…», «Мучкап», «Дик прием был…», «Попытка душу разлучить…», «Гроза моментальная навек», «Любить – идти…»;
55% – «Дождь», «Тоска», «Свистки милиционеров», «Звезды летом», «Распад», «Любимая, – жуть!», «Послесловье»;
60% – «Определение души», «Болезни земли», «Как у них»;
65% – «Не трогать», «Душная ночь».
(«Второе рождение»): 35% – «Ирпень – это память…»; 40% – «Волны»; 55% – «Любимая, молвы слащавой…».
(«На ранних поездах»): 20% – «Сосны», «Старый парк»; 25% – «Дрозды»; 30% – «Иней»; 40% – «Опять весна».
(«Когда разгуляется»): 10% – «В больнице»; 20% – «Без названия», «Когда разгуляется»; 25% – «Липовая аллея»: 45% – «Быть знаменитым некрасиво…».
Собранного материала, около 150 текстов, достаточно хотя бы для одного очень важного утверждения. Можно сказать, что среди них выделяются две большие группы: тексты средней сложности с показателями около 30–35% (тропеичность около трети) и тексты повышенной сложности с показателями около 50% (тропеичность около половины). Как кажется, это соответствует интуитивным читательским ощущениям. Тексты с очень низкой и очень высокой тропеичностью редки. Что минимум тропеичности мы обнаруживаем не в стихах, а в прозе, это, конечно, не удивительно: 3% в «Пиковой даме», 2% в «Хаджи-Мурате». Минимум тропеичности в стихах – «Песни западных славян» Пушкина, 5%, почти никаких переносных значений: «У ворот сидел Марко Якубович; Перед ним сидела его Зоя, А мальчишка их играл у порогу» и т. д. Следующая ступень, 10% тропеичности – только два текста, «Гусар» Пушкина и сатира «Недавнее время» Некрасова; на этом же уровне стоит, как мы видим, «В больнице» Пастернака, с его поздним намеренно упрощенным стилем. Далее нарастание происходит предсказуемо: в реалистической поэзии меньше тропеичности, в романтической больше, в модернистской и авангардистской еще больше. Максимальный показатель – 80% тропеичности: видимо, дальше текст становится уже недопустимо непонятным. Этот максимум обнаружен в двух стихотворениях, у Мандельштама и у Пастернака. У Мандельштама это «Реймс – Лаон» («Я видел озеро…») 1937 года, описание готического собора, подчеркнуто стилизованное под загадку: «Я видел озеро, стоявшее отвесно: С разрезанною розой в колесе Играли рыбы…» и т. д. У Пастернака это «Импровизация» 1915 года: «Я клавишей стаю кормил с руки…» и т. д. Его мы рассмотрим подробнее.
Содержание стихотворения – большая метафорическая картина: игра на рояле уподобляется кормлению крикливых птиц на пруду. 80% тропеичности – это значит: из 57 знаменательных слов в собственном значении употреблены только 12. Это слова: казалось; клавиши; руки, локоть; ночь, полуночный, темно; и люблю вас. Некоторые из них употреблены дважды. Только по ним реконструируется ситуация: ночью поэт, импровизируя за роялем, объясняется музыкой в любви к (присутствующей?) женщине. В конечном счете понимание стихотворения определяется единственным словом «клавиши»: если бы не оно, никакая реконструкция была бы невозможна. Можно было бы предположить, что пруд и птицы являются содержанием импровизированной музыки, – тогда их следовало бы считать не тропами, а частью реальности, присутствующей в сознании героя. (Так в стихотворение «Сосны» вписана картина моря в сознании героя: «где-то за стволами море Мерещится всё время мне»). Но никаких авторских указаний на это здесь (в отличие от «Сосен») не имеется.
Слова, употребленные в переносном значении, объединены в три семантических поля: герой, кормящий стаю, – 8 слов; ночной пруд с кувшинками (фон) – 14 слов; и птицы с их криками и смертной борьбой (действующие лица) – 23 слова. Черный пруд ассоциируется с роялем, птицы – со звучащими клавишами. Особую многозначность имеют начальные слова «хлопанье» (крыльев – и в ладоши) и «плеск» (птиц в пруду – и рукоплескания). Другая возможная связь реального и метафорического плана – странно пылающие кубышки с дегтем в III строфе: может быть, это в блестящей передней стенке рояля отражаются свечи, зажженные над клавишами (??). Наконец, третья связь: отмечалось, что лексическая кульминация стихотворения, «птицы из породы люблювас», обыгрывает созвучие слов «liebe dich» и «лебеди» – при этом лебеди остаются не названы! Доля переносных словоупотреблений по строфам почти не меняется: 75–75–75–85%. Легкий подъем в конце дополнительно подчеркивается тем, что в двух последних строфах появляются, так сказать, метафоры в метафоре: слова в переносном значении (ночь) полоскалась в гортанях (запруд), пылали кубышки дегтем и обглодано (дно у лодки).
Стихотворение, как известно, было переработано для издания 1948 года. Показатель тропеичности стал 75%, очень ненамного ниже. Однако новая редакция кажется яснее по трем причинам. Во-первых, заглавие стало «Импровизация на рояле»: рядом с указанием на клавиши-птиц появляется указание на рояль-пруд. Во-вторых, исчезает необычное слово «люблювас», зато появляются прямо названные лебеди: метафорические птицы становятся конкретнее. В-третьих и в-главных, в последней строфе появляются слова в прямом, непереносном значении, дополнительно мотивирующие связь реального и метафорического плана: «и было охвачено тою же самой тревогою сердце», а осложняющие «гортани запруд» и «кубышки с дегтем» исчезают. Из-за этого конец стихотворения оказывается не усложненным, а облегченным: максимум тропеичности приходится на предпоследнюю строфу, а минимум – на последнюю: 75–75–90–60%. Это разрешение стилистического напряжения и позволяет, как кажется, ощущать переработанную редакцию как более ясную по сравнению с первоначальной – не за счет снижения метафоричности, а за счет ее композиционного распределения. Эту композицию мы будем отмечать и в других стихах.
Если ранняя «Импровизация» – это максимум тропеичности у Пастернака, то позднее «В больнице» – минимум. Из 135 слов в переносном значении употреблены только 13, причем по большей части это очень стертые метафоры вроде «нырнула огнями во мрак». По нескольку строф подряд проходят без единого тропа: «Его положили у входа, Все в корпусе было полно. Разило парами иода, И с улицы дуло в окно…» и т. д. Резко выделяются сгущения только в двух строфах: где клен отвешивал веткой прощальный поклон и где Бог жаркими руками держит человека и прячет в футляр (там же – 2 из 5 сравнений: как изделье, как перстень; входит ли «футляр» в состав сравнения, зависит от постановки запятой). Ясно, что это совсем другая поэтика тропов. Впрочем, здесь возникает важное сомнение. Настойчивый прием, четырежды повторяющийся в «В больнице», – это строчки с перечнями подробностей: «К палатам, полам и халатам», «Панели, подъезды, зевак». Р. Якобсон, утверждавший, что в основе поэтики Пастернака – метонимия, сказал бы, что и эти слова метонимичны: палаты, полы и халаты суть метонимии больницы. Если принять такую трактовку, то показатель тропеичности поднимется до 17% – тоже довольно скромная цифра. Однако нам кажется, что для такой метонимической трактовки нет достаточных оснований.
Показатели остальных стихотворений Пастернака располагаются между этими двумя крайностями, 80% и 10%. Разница между ранней «Сестрой моей – жизнью» и поздним «Когда разгуляется» сразу бросается в глаза: в ранних стихах показатель почти ни разу не спускается ниже среднего (треть слов, 30–35%), в поздних почти ни разу не дотягивает до этого среднего. Исключения в обоих случаях единичны. В «Сестре моей – жизни» это стихотворение «Подражатели» (в котором средняя строфа совсем свободна от тропов). В «Когда разгуляется» это программное стихотворение «Быть знаменитым некрасиво…», где в половине строф доля тропов сильно повышена: «любовь пространства», «будущего зов», «пробелы в судьбе» и т. п. Это – один из не очень частых случаев, когда распределение тропов по тексту имеет явное значение стилистического курсива. Еще более яркий случай – противоположный: когда в стихотворении резко выделяется не сгущение, а разрежение тропов: так в стихотворении «Степь» начало и конец показывают высокую тропеичность, а между ними врезаются строфы про омет (выделенные также и ритмом), почти свободные от тропов. А в «Мухах мучкапской чайной» столь же резким разрежением тропов выделена концовка – это как будто разрешение утихающей душевной муки героя.
Вот показатели тропеичности для тематических групп строф в некоторых стихотворениях «Сестры моей – жизни» и «Когда разгуляется». Ощутимые повышения тропеичности (стилистические кульминации) выделены курсивом.

Эти композиционные показатели тропеичности могут быть полезны при анализе этих стихотворений по отдельности, но сколько-нибудь отчетливые общие закономерности здесь, как кажется, не выявляются. Можно заметить, что тропы чаще возникают в концовках, немного реже в серединах стихотворений и явно избегаются в начале. Это понятно: автор старается в начале стихотворения представить читателю свой художественный мир в легко воспринимаемом виде, а уже потом начинает его усложнять и украшать.
Общая последовательность постепенного снижения показателей тропеичности в таблице, как кажется, не противоречит интуитивным ощущениям большей или меньшей темноты и ясности стихотворений. Неожиданности возможны: например, «Зеркало», содержание которого вызывало целые дискуссии, имеет лишь показатель среднего уровня сложности, 35%. Видимо, это значит, что сложность «Зеркала» порождается не метафоричностью, а иными причинами – может быть, ослаблением связности текста между предложениями и строфами. Точно так же и последнее стихотворение «Сестры моей – жизни», «Конец» («Наяву ли все…»), имеет показатель 35%, а ощущается как сложное: тоже из‐за ослабления связности (после сокращения раннего варианта). Сходным образом и стихотворение Мандельштама «Веницейской жизни…» небогато тропами, но ощущается темным из‐за ослабленной межфразовой связности.
Некоторые стихотворения «Сестры моей – жизни» в поздние годы перерабатывались. При этом, конечно, тропеичность понижалась, но, как и в «Импровизации», не очень значительно: «Мучкап» – с 50% до 40%, «Сестра моя – жизнь…» – с 30% до 25%. В «Мучкапе» упростилось начало, в «Сестре…» – основная часть (строфы про разлаявшийся тормоз и канапе). Переработки были очень локальные и едва ли не по прямым указаниям редакторов.
Наконец, последнее, о чем необходимо сказать: каково среди тропов соотношение метафор, метонимий и всего остального? Р. Якобсон, как известно, поверив статье «Вассерманова реакция», утверждал, что Пастернак – метонимический поэт, вопреки общей тенденции поэзии к метафорическому стилю. Это можно было сказать только при очень расширительном понимании того, что такое метонимия: к точному количеству тропов, называемых метонимиями, это отношения не имеет. Мне пришлось еще десять лет назад отметить, что доля метонимий в «Сестре моей – жизни» у Пастернака меньше, чем в «Ленине» у Маяковского254. Новые подсчеты это только подкрепляют. В рассмотренных стихотворениях «Сестры моей – жизни» на метонимии с синекдохами приходится только треть, в «Когда разгуляется» – еще того меньше, только четверть. Может быть, эта убыль тоже значима. Больше всего метонимий в стихотворениях «Наша гроза» и «Звезды летом» («…по просьбе Губ, волос и обуви, Подолов и прозвищ…»), может быть – в «Мучкапе». Но методика выявления и различения метафор и метонимий еще мало разработана, спорных случаев много, поэтому подробнее говорить об этом сейчас мы не решаемся; а сверить конкретные наблюдения было бы очень интересно.
Хочется надеяться, что если предложенная тема заинтересует коллег, то общими усилиями можно будет выработать согласованную методику опознания тропов в тексте и это позволит гораздо точнее исследовать стилистику Пастернака и не только его. Тогда, может быть, мы с большей уверенностью сможем говорить, что «Импровизация» не просто сложнее, чем «В больнице», а сложнее в восемь раз.
ПРЕДИСЛОВИЕ К СТАТЬЕ А. А. БЛОКА 255
Статья А. А. Блока под заглавием «Катилина» написана на материале римской истории: речь идет о неудачной попытке государственного переворота в Риме в 63 году до н. э. Казалось бы, такая статья требует прежде всего тематического комментария – к набору исторических фактов и их освещению. Но такой комментарий вылился бы только в очень длинный список фактических неточностей и произвольных домыслов Блока. Это не оттого, что Блок был несведущ или небрежен. Это оттого, что он очень не любил «профессоров», и особенно «филологов», и нарочно писал назло им. И еще оттого, что в своих первых читателях и слушателях он мог предполагать запас школьных знаний достаточный, чтобы восполнить опущенное и оценить домысленное и переосмысленное. За пределы гимназической образованности Блок не выходит. Так и современному читателю любой учебник древней истории скажет всё достаточное о бестолковом заговоре 63 года до н. э., который запомнился только потому, что в гимназиях читали речь Цицерона против Катилины.
Конечно, было бы возможно и не очень трудно проследить, по каким переводам Блок перечитывал Саллюстия, как использовал (очень старую) статью И. Бабста о нем, что взял из хроники событий при гимназических изданиях Цицерона, какие комментарии помнил из университетского чтения Катулла и где прочитал, будто бы «Катилина исстари поминался в итальянских народных легендах». Но это не было бы главным для понимания блоковской статьи. Главными в ней являются четыре утверждения. Три из них подсказали Блоку Моммзен, Ибсен и Вяч. Иванов, а четвертое и самое интересное принадлежит самому Блоку.
Первое: это модернизованная картина упадка Римской республики. Противопоставление «падения нравов в язычестве» и чистоты нравов в рождающемся христианстве было общим местом европейской картины мира, Блок с детства представлял его хотя бы по драмам Майкова. Однако обычно «падение нравов» приурочивалось к эпохе империи, а эпоха республики рисовалась как последний век гражданской доблести. Т. Моммзен в своей «Римской истории», писанной вслед 1848 году, первый превратил эту республику из идеального образа в натуралистическую картину политического загнивания, коррупции и партийной борьбы, а падение этой республики назвал «революцией». Блок перевел это с политического языка на эстетический – изобразил броский контраст между буржуазной пошлостью и теми, кто слышит музыку революции. Воплощением старого мира для обоих был Цицерон: Моммзен обзывал его «адвокатом», Блок – «помощником присяжного поверенного». Воплощением нового мира для Моммзена был Цезарь, для Блока – Катилина; характерно, что для Цезаря Блок не находит уничтожающих слов, не может вполне отделаться от инерции, заданной Моммзеном. А далее оставалось только расцветить эту картину (не без передержек) образами, живо напоминавшими вчерашний и сегодняшний день России: тут и «дворяне», и «состоятельные буржуа», и солдаты, которые не хотят воевать, и дороговизна съестных припасов, и «резня буржуазии», и «белый террор», и ключевое понятие – «римский большевизм».
Второе: это модернизованный образ Катилины. По традиции, идущей от Цицерона и Саллюстия, он представлялся чудовищем, воплощением зла, скопищем всех пороков. Когда романтизм занялся переоценкой всех ценностей, он не преминул вывернуть наизнанку и этот образ: демонический сверхчеловек восхищал самой своей безмерностью, все равно – в добре или в зле. Таким изобразил Катилину в юношеской драме Ибсен: его Катилина хочет возродить древний свободный Рим, а если нет, то погубить современный рабский Рим, и это равно прекрасно, потому что одинаково вдохновлено великой страстью и великой волей. По-провинциальному гиперболический пафос этой запоздалой романтической драмы остался почти незамечен в Европе, но русский (и собственный блоковский) культ Ибсена выдвинул именно Катилину в герои Блока. Традиционный контраст между языческими пороками и христианскими добродетелями отступил перед романтическим контрастом между убогими пороками и великими пороками: с одной стороны, «мелкое взяточничество и низкие похоти», с другой – «великие мечты и страсти, иногда находящие исход в преступлении», украшенном гибелью.
Третье: это модернизованный образ Христа, сближаемого с Катилиной: и тот, и другой – революционеры. Модернизацию Христа начал в XIX веке Ренан, но у него Христос был революционером только в религии. Потом Ницше отверг Христа за его благостное бессилие и противопоставил ему стихийную мощь языческого Диониса. Потом Вяч. Иванов реабилитировал Христа, объявив, что он не контраст, а близкое подобие неистового страдальца Диониса: рискованное переосмысление, о котором он иногда жалел. Наконец, Блок суммировал эти идейные напластования в формуле «Иисус – художник» (в наброске драмы о Христе – за день до «Двенадцати», за три с половиной месяца до «Катилины»): перенес на Христа ницше-вагнеровское понятие «человек-артист», которым он определял для себя идеальный образ человека будущего. Эта универсальная формула и сближала, и разделяла Христа и Катилину: Катилина уничтожал Рим и мир, Христос их преображает новой моралью, которая «как огонь поедающий». Как именно представляет Блок это преображение мира «сжигающим Христом» и как вписывает это представление в рамки истории, из его выражений не совсем ясно: кажется, идеальными людьми этого христианского будущего он представлял только «рослых и здоровых варваров» с их «мощью и свежестью». А чтобы сжать в единую картину все пятьсот лет от Катилины до воцарения варваров в Европе, он последовательно избегает точных дат: Овидий и Христос у него напрашиваются в современники Цицерону и Катилине.
Наконец, четвертое, собственное блоковское утверждение, которым Блок гордится, – это сопоставление заговора Катилины и поэзии Катулла. Стихотворение Катулла «Аттис» написано редким размером «галлиямбом» – с четким ритмом в начале каждой строки, с убыстренным и расплывчатым в конце. Острому слуху Блока это напомнило незабываемый саллюстиевский портрет Катилины: «бледность, мерзкий взгляд, походка то скорая, то вялая, все черты душевного расстройства в лице и облике…». Опираясь на это сходство, он рисует эффектную сцену, где по ночному Риму разъяренный Катилина «революционный держит шаг», как будто под марш Катулла. Это – замечательное уточнение к только что наметившемуся образу Христа как духовного революционера. Определение «человек-артист» раздваивается: «человек»-революционер идет на бой, «артист»-поэт звучит ритмом той же поступи, и в этом ритме – суть и дух времени. Это раздвоение намечено во втором параграфе «Катилины» и воочию, в катулловском звучании, представлено в четвертом. Именно так в «Двенадцати» соотносились банда красногвардейцев и поэт, откликающийся им. После этого собственный облик шагающего Христа – уже освобожденного от ярости, «нежной поступью надвьюжной» – оставался в «Двенадцати» без комментариев, раздражая загадочностью и современников, и потомков. (В «Катилине» он тоже незаметно освобождается от ярости: в беглом пересказе «Аттиса» герой «растекается в лирических слезах, свойственных христианской душе» – слова неожиданные после того, что было сказано об «огне поедающем».)
Краеугольным понятием в мировоззрении Блока была «стихия» – изобретение романтиков, бережно им сохраняемое. Стихия вдохновляла ницшеанское «стремление разрушить правильность, нарушить порядок жизни» – то, что через год Блок назовет «крушением гуманизма». У Блока было два сквозных образа, обозначавших стихию: ветер и музыка. С «ветра» начинаются «Двенадцать»; о том, что значит «сеять ветер» и какой ветер подул перед рождением Христа, говорится в начале «Катилины». О «музыке революции», одушевляющей движение современности, Блок настойчиво говорит чуть ли не в каждом своем публицистическом выступлении. Это понятие пришло к нему от Ницше, выводившего из «духа музыки» греческую и всякую трагедию. К музыке в собственном смысле слова это метафорическое выражение никакого отношения не имело, и музыковедов оно только раздражает. Какие личные ощущения вкладывал в него Блок, можно лишь угадывать за его расплывчатыми выражениями. Только один раз он позволил себе сказать об этом точнее и конкретнее – в «Катилине», говоря о ритме стихов Катулла, неврастенической походке римского большевика и фуриях народного гнева. Эта возможность заглянуть в те представления, которые стояли за важнейшим для Блока понятием «музыки», – самое главное, что дает нам очерк «Катилина»: «музыка» 1918 года – это был ритм катулловского галлиямба.
В европейской и русской культуре давно сложилась привычка все, что совершается важнейшего в современности, примерять к образцам древней истории. Так поступил и Блок. Поэтому очерк «Катилина» оказывается драгоценным автокомментарием к его «Двенадцати» и, более того, к его представлению о духе музыки, которым говорит стихия.
О КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И О САМОМ СЕБЕ256
После панихиды по С. С. Аверинцеву 21 апреля 2004 года, на которой Михаил Леонович и я стояли у самых дверей и вместе вышли, я попросила его дать интервью студентам-классикам. Студенты слушали мой спецкурс по истории изучения античности в России XX века, и такие беседы-интервью с филологами-классиками старших поколений входили в условия зачета. Я понимала, что едва ли следующему курсу выпадет удача поговорить с Михаилом Леоновичем. Думаю, он тоже это понимал и сразу согласился. Беседовали с Гаспаровым две студентки, Юля Вольфман, которая сейчас учится на 5 курсе257, и Аня Пастушкова, уже окончившая в этом году университет. После интервью Михаил Леонович посетовал на то, что студентам придется мучиться с расшифровкой, и предложил приготовить для них ответы на вопросы письменно. Получилось два варианта, друг от друга отличных: расшифровка интервью и ответы на список вопросов, которые М. Л. сгруппировал по своему усмотрению, так что получились связные воспоминания. Каждый вариант имеет свои достоинства. В первом привлекателен сам диалог разных поколений, спонтанность ответов, то, что иначе не назовешь, как живостью. А по вопросам «невпопад» хорошо видно, что изменилось в дисциплине и отношении к ней за полвека. Во втором меньше случайного и больше сюжетов, уже излагавшихся в автобиографических частях «Записей и выписок» и в ответах на анкету, составленную Н. С. Автономовой258. Однако многое изложено подробней и с новыми деталями, которые Михаил Леонович припомнил уже после интервью. В расшифровку интервью были внесены минимальные исправления и минимальные комментарии, включающие имя, отчество и годы жизни упоминаемых учителей и коллег. Практика показывает, что такая элементарная информация небесполезна для младших в цехе. Собственноручные ответы Михаила Леоновича печатаются по его тексту, переданному студентам «для зачета», и тоже снабжены минимальными комментариями.
– Чем Вы руководствовались в выборе темы в Институте мировой литературы?
– Чтобы тема была похожа на модные слова. Модные слова менялись, сейчас я с лету не все их вспомню. Одно время должно было упоминаться слово «концепция», в другое время – другие. Главная забота была маскировать и делать вид, что это не сборник бессвязных статей, а коллективный труд. Сейчас такие проблемы устарелыми кажутся или еще нет?
– Думаю, нет. Сейчас свои модные слова.
– Это я замечал.
– Что Вы можете сказать о Вашем секторе в ИМЛИ?
– Соболевский259 формировал сектор по одному твердому принципу – чтобы люди были нескучные, поэтому из всех остальных секторов ИМЛИ на нас смотрели с безумной завистью. Но качество научной работы от этого несколько страдало, потому что нравственные добродетели с интеллектуальными добродетелями не всегда совмещаются.
– В МГУ кафедра называется «классическая филология» – именно филология, – а у нас, например, «античная культура». Существует ли «классическая филология» или следует говорить о более или менее общей науке об античности? Считается, что в нее должен включаться весь комплекс наук об античности.
– А это уже тяжелая проблема – нащупывание золотой середины между крайностями, которых все равно не вместить. И нащупывание золотой середины – это, к сожалению, не наука, а искусство. Так что все зависит от того, кто командует кафедрой и нащупывает направление, причем это не только нас касается. Я только что был на большой конференции при кафедре славистики в американском университете, кафедра хорошая, руководитель – замечательный ученый, очень занят: борется, чтобы кафедра оставалась кафедрой славянской филологии и не становилась кафедрой славянской культуры. Какие перекосы при той или другой формулировке возникать могут, вы по собственному опыту представлять можете.
– Скажите, среди всех тем, которые Вы изучали, какая Ваша любимая тема или автор?
– Гораций.
– Оды или всё?
– Да, честно говоря, оды, хотя писал я про «Поэтику»260.
– А из греческой литературы?
– А там я более робкий и, что важнее, просто недостаточно знаю и чувствую язык, чтобы по-разному ощущать авторов. Так как я с помощью французских гимназических изданий перевел Пиндара, то некоторую привязанность к нему сохранил, но, боюсь, я не имею на нее права. Сейчас отрывок из Пиндара я буду, как ребус, разгадывать.
– А по какому принципу Вы выбирали для переводов тексты? По личной предрасположенности?
– Наверное, по личному, но также и по конъюнктурному принципу: кто-то остался в русской культуре непереведенный, вот я переведу его – даже если получится не очень хорошо, все равно даяние благо, ругать авось не будут.
– К нам на кафедру приехала девушка из Англии, она рассказывает, что там учат по такой системе: они год учат грамматику, а потом дома читают тексты, комментарии и литературу и пишут сочинения, которые и обсуждают в классе. У нас же первый год учат грамматику, а потом мы вслух читаем тексты. Что Вы думаете об этих двух системах?
– Знаете, это, наверное, зависит от того, как в первый год грамматику пройти. Если так, как нас учили, то никакого хорошего сочинения я не напишу, и разбирать его сообща – это сведется к тому, что руководитель будет мне и другим сообщать, как это нужно было сделать на самом деле. Сейчас, насколько я знаю, на первом курсе лучше идет работа, возможно, хорошо чем-то английским воспользоваться, но как изумительно их там учат, это я знаю. У меня была книжка совершенно на другую тему – «Очерк европейского стихосложения», ее в Англии переводили мои коллеги-стиховеды, так что все было в порядке261. Но после – хотя и считается, что в России «редакторский рай», а там даже понятия такого нет, – она попала к издательскому научному редактору, и мне пересылали десятками страниц его замечания: что по староанглийскому стиху, кажется, гипотеза устарела, что последняя книга «Гаргантюа…» не подлинной считается, а апокрифической, а семитское стихосложение в таком-то пункте недостаточно близко проходит. В общем, редактирование было такое, что я не переставал недоумевать перед его энциклопедичностью и в предисловии к английскому изданию ему благодарность написал отдельную и выразил сожаление, что он эту книгу только редактировал, а не написал – была бы лучше. Но на половине моих восторженных недоумений я увидел на библиотечной полке книжку этого редактора про Авла Геллия262, тут у меня все недоумения отпали: что такое в Англии античник, об этом у меня представление было. А когда электронная почта стала обычным делом, выяснилось, что его электронный адрес aulusgellius…
– А если говорить о других школах – итальянцах, немцах, американцах, – Вы что-нибудь знаете об их классическом образовании?
– О классическом – нет, я уже стал командироваться за границу, когда во мне от классика мало что осталось.
– А Вы были в Греции, в Италии? Какое впечатление это на Вас произвело?
– При советской власти за границу я не ездил и даже, когда звали, отказывался, чтобы от хлопот уклониться. В 1990 году странное интеллигентское общество «Мир культуры», в котором я состоял наряду с гораздо более уважаемыми лицами, устроило для своих членов круиз вокруг Европы с единственным обязательством на борту парохода для своих же прочитать пару интересных лекций. Получив уведомление об этом, я немедленно сказал ему «нет», но жена посмотрела на меня такими глазами, что пришлось поехать, хотя бы до половины, потому что в то же самое время предстояла командировка в другое место. В этой поездке я оказался на несколько часов в Афинах и на несколько часов в Риме с таким разным впечатлением, что самому от себя неприятно стало. В Афинах это было поразительно, потому что я столько до этого карт и планов перечерчивал, что, оказавшись на Акрополе, я с закрытыми глазами знал, что справа, что слева, и единственное, что меня волновало: правда ли, что если с Акрополя смотреть в сторону моря, то на горизонте видна даже Эгина. Старая гравюра – большая-пребольшая, с таким вот видом с Акрополя – висела на стене в редакции «Вестника древней истории». Скучая на каждом заседании, я на нее смотрел и думал: и вправду видно или так, с образовательной целью?
– Видно?
– Преувеличено. По-видимому, видно, но моим глазам не всегда: один раз разглядел, другой раз не разглядел. Так что Акрополь был как родной, а когда оказались в Риме, то из‐за разных безалаберностей этого визита там даже не несколько часов, хорошо если полчаса удалось постоять над форумом. Я был в ужасе: в этой кирпичной каше абсолютно ничего не мог узнать из того, что на планах чертил и так далее. Все-таки главной моей специальностью всегда был Рим, а не Греция, так что очень неприятно было. Когда во второй раз я в Риме оказался по совершенно не античным делам, по русской филологии, и мне сказали: «Ну, вы, наверное, хотите посмотреть форум?» – покривив душой, ответил: «Там ведь от классической эпохи почти ничего не сохранилось, а то, что там, для меня уже модерн».
– А Колизей?
– Он такой могучий, что кажется новостройкой. Очень хорошей новостройкой, вызывающей искреннее уважение, но, глядя на него, никакого Марциала я не вспоминал.
– О чем была Ваша первая курсовая?
– На первом курсе курсовые мы почему-то по русскому языку писали. Наверное, это было разумно, потому что – чтó мы могли? На втором, по-моему, это было курсе – сопоставление структурного, или системного, строения (только тогда этих слов еще не было) комедии Аристофана и «Мистерии-буфф» Маяковского.
– Но Вы тогда уже читали комедии Аристофана по…
– Избави боже! По-гречески мы до них дошли на четвертом курсе, и то не больше одного семестра. Радциг263 их, по-видимому, просто не очень любил.
– У Вас был один преподаватель греческого в течение пяти лет?
– Нет, с отклонением. Греческих авторов с нами читал Попов264, автор учебников латинских, Мейер265 (ничего не автор, но преподаватель замечательный). В параллельной группе латинских авторов читала Жюстина Севериновна Покровская, вдова академика266, а кто с нами греческих читал, не помню, может быть, Радциг. После третьего курса отделение поредело, собралось в одну группу, и там я уже затрудняюсь сказать, почему там с нами читал Аристофана Радциг.
– Ваши преподаватели как-нибудь повлияли на то, что Вы стали больше изучать латынь, специализироваться на Риме?
– Нет, я думаю, это только степень моих способностей-неспособностей. Понятно, что латинский язык легче, а греческий – труднее. Поэтому я рано привязался к пути наименьшего сопротивления, латинских авторов для собственного удовольствия понемножку читал, а от греческих уклонялся. Ничего хорошего не вышло.
– А у Вас был курс средневековой латыни?
– Нет, начисто.
– Разве не было понятия «медиевистика»? В истории ведь должно быть? Или как тема она была запрещена?
– Этим стали в следующие годы интересоваться, когда много стал преподавать энергичный и нескучный человек Федоров267. Нам он еще не преподавал, считалось, что молод. Он тогда латынь для неклассиков вел.
– А он ведь возродил семинар разговорной латыни? Вы бы смогли что-нибудь говорить по-латыни?
– Нет. И даже среди тех младших, с кем я был знаком, только один человек научил себя активно писать по-латыни. Потом это была Васильева, ее статья о Лукреции, написанная по-латыни, в сборнике памяти Соболевского напечатана268. Но на всякий случай она дала себя отредактировать Боровскому269.
– Сейчас мы можем брать в библиотеках зарубежных авторов, зарубежную критику. У Вас была такая возможность?
– Кажется, из общего зала Ленинской библиотеки можно было, если знаешь библиографию и тому подобное, выписывать книги из фонда. Но тут мне повезло, так как я в студенческие годы прирабатывал в Ленинской библиотеке, в том отделе, где сочинялись печатные карточки на выходящую литературу для районных, областных, городских библиотек, и мне – как будто бы сотруднику библиотеки – выписали билет в научный зал. На третьем курсе я, кажется, был и к тому же ориентировался легче. Но вообще уровень наших преподавателей был замечательный, что видно из того, что отделение не разбежалось, когда ему была предоставлена такая возможность, – но что такое наука, они представляли так же плохо, как и большинство филологического факультета. Что такое L’Année philologique, я узнал по чистой случайности. В предисловии какой-то иностранной книжки, которую я читал, было написано: «Сокращения в ссылках делаются по системе L’Année philologique», – и я подумал: «Вот какой, оказывается, журнал существует, а я о нем не знаю». Пошел в Горьковскую библиотеку выписывать этот журнал, меня переслали в справочный отдел, тут я только и узнал, что такое L’Année philologique270.
– Наши библиотеки получали его каждый год?
– Да. И в Ленинке, и в Горьковке был полный комплект. Кажется, Ленинка продолжала получать его и после, даже когда перестала выписывать многие журналы по классической филологии.
– Нынешние иностранные языки Вам преподавали на классическом отделении или это была личная инициатива?
– Обязательными на первых двух курсах был у одной группы немецкий, у другой – французский. Дальше только по собственной инициативе. Один раз мы просили дать нам преподавателей итальянского, другой раз – новогреческого, но и на то, и на другое энтузиазма хватило на один семестр. Итальянский дальше я учил самостоятельно, а новогреческого так и не знаю. По словарю разгадываю в трагических случаях.
– Как Вам кажется, итальянский больше похож на латынь или новогреческий – на древнегреческий?
– Спросите что-нибудь полегче.
– Греческий и латынь Вы тоже потом сами доучивали или все-таки Вас доучили в университете?
– До какой степени в университете можно обучить и способного, и среднеспособного, и неспособного, вы представляете так же хорошо, как и я. После университета самостоятельно по-латыни я читал, а по-гречески только при необходимости.
– Сейчас многие ученые считают, что темы античности уже во многом исчерпаны. Про Вергилия, про Горация так много написано. Вы согласны с этой точкой зрения? Античность очень активно используют в компаративистике: «античные традиции там-то и там-то».
– Я начал отходить от античности как раз тогда, когда в наших библиотеках стали появляться книги с нетрадиционными к ней подходами. Иная с политическим, иная с психоаналитическим и так далее. Такие подходы мне ни на каких материалах особенно не нравились, а если бы книжки со структуралистическими подходами мне бы попались, может быть, я уцепился бы за них и продержался при античности дольше, но почти не попадались. Одна, пожалуй, попалась – сборник статей о структуре греческой трагедии под редакцией Вальтера Йенса, за это удовольствие я «спасибо» ему написал в примечании, но это было исключение271.
– Скажите, в семье, где Вы выросли, интересовались античностью?
– Нет.
– А в Вашей нынешней?
– Дочь осталась равнодушной, а сын неравнодушный, мифологию он помнит лучше, чем я, хотя я вроде бы специально ею занимаюсь, и Аполлодора перевел, и от него танцую. Я бы сказал, что если, не зная языков, по переводам можно что-то знать, то он довольно хорошо знает традиционалистические литературы, включая и восточные, – что или о чем переводилось, я у него консультации беру.
– Как Вы относитесь к идее возрождения классического образования? Открылась гимназия, некоторые школы пытаются по крайней мере латынь ввести. Например, проще ли, по-Вашему, учить современные европейские языки, если знаешь латынь и греческий?
– А по-Вашему?
– По-моему, да. Древние языки дают как систему, и это помогает потом у себя в голове организовывать другие языки как систему.
– Понятно, я согласен. Только чтобы это производило ту пользу, о которой Вы говорите, желательно и новые языки, и другие науки учить немного по-другому, чем у нас учат. Сколько терминов античного происхождения в любой из элементарных школьных наук, мы все знаем, но чтобы этот термин объяснялся хотя бы двумя словами в скобках, я не то что в учебниках – в научно-популярной литературе на русском языке ни разу не видел. Внучке о трудных словах я говорю, чтó это слово значит буквально, – у нее озарение на лице. Может быть, я слишком оптимистично на этимологию надеюсь.
– Но существует мнение, что латинский язык – что-то такое страшное, такое сложное, и на общем отделении люди не могут преодолеть барьер предвзятости, и в итоге им это ничего не дает.
– Но он, если будет оторван от всего остального, разумеется, станет таким же ненавистным, как в толстовских гимназиях272, и никаким внедрением в особые гимназии этому не помочь. Перед самой Первой мировой войной и революцией у нас сформировалась хорошая программа для гимназического образования, настолько, что, как вы знаете, гимназический учебник Зелинского до сих пор впору в учебные библиографии вставлять. С тех пор никакой преемственности, кажется, не то что у нас, и на Западе не сохранилось. Американский учебник латинского языка для, как я сказал бы, начальных школ случайно мне в Ленинке в новых поступлениях попался лет сорок, наверное, назад. Он был интересный: там латинские девизы под гербами разных штатов разбирались, каламбуры использовались. Мне показалось – что без сползания в «желтые» развлекательства.
– Скажите, этимология – перевод с латинского языка или даже славянского и так далее – помогает Вам лучше понять, например, смысл поставленного вопроса?
– Конечно. При случае обратите внимание на автора, который пользуется этим систематически – американский писатель Исаак Азимов. У нас он известен главным образом как фантаст, это любителям виднее, но главным образом, просто по его продукции, – он научный популяризатор, и насколько я могу позволить себе судить – гениальный. У него ни один термин ни по одной науке без этимологического разъяснения не проходит.
– А в связи с этим Вам обычно больше интересны вопросы литературоведения или языкознания? Язык Вам интересен? Кроме этимологии, например, история языка?
– Нет. Преподавали нам историю языка скучно и равнодушно, книги были Эрну и Нидерман273, по их априорной сжатости это все равно что по энциклопедии учиться. Так у меня и не получилось, завидую тем, кто мог шире читать.
– А сейчас среди того спектра тем, которые есть в античной науке, какие темы, Вы считаете, хорошо бы развивать?
– Я не такой «всеобъемлющий». Чем бы я стал заниматься, если бы мне дали десять или двадцать лет жизни и обязали бы заниматься классической филологией, не отлынивая, за себя мог бы сказать, но это без претензий на общую интересность.
– А что бы Вы назвали?
– А сколько вы мне назначите, десять или двадцать лет?
– Двадцать.
– Ну, за двадцать лет я бы весь комплекс наук по классической филологии прошел бы по третьему разу, тогда бы сделал ответственный выбор, так что это не лучшая с вашей стороны постановка вопроса. Лучше я попробую перечислить, что я начинал или хотел начать, но не кончил и уже не надеюсь. Самое главное, о чем я больше всего жалею, – это мифология. Я хотел, начал даже делать большой, компилятивный, разумеется, комментарий к Аполлодору. То, в каком виде Аполлодор в «Литпамятниках» вышел, меня, при всем уважении к Боруховичу274, очень огорчило. Я решил перевести Аполлодора заново и приложить к нему конспект исполинского комментария Фрезера. Перевел, сделал конспект комментария и вдруг увидел, что, при всей его огромности, там у Фрезера есть пробелы, так что после большого-большого сокращения комментария пришлось заняться постепенным-постепенным расширением комментария. Форму для этого я нашел такую, что если довести работу до конца, то получилось бы что-то вроде мифологической энциклопедии, только не в алфавитном, а в логическом порядке, но сделать эту работу я успел до середины первой книги и боюсь, что дальше уже не успею. Ну вот, если бы мне было дано…
– А Вам никогда не хотелось вернуться к занятиям античностью?
– Да вот доделать хотя бы эту работу мне каждый день хочется. Некогда.
– А вот когда Вы читаете какой-нибудь русский перевод латинского автора, Вам никогда не хочется перевести по-своему?
– Сплошь и рядом. Если сейчас продается под моей фамилией книжка под названием «Экспериментальные переводы», там есть перевод начала «Punica» Италика прозой. Я хотел попробовать: может, при переводе прозой поэтический стиль будет выпуклее. Вроде бы да, выпуклее, но не настолько разительно, чтобы русской культуре осваивать новый тип перевода, каким за границей часто пользуются, – однако, начав, довести до конца мне хотелось бы.
– А бывает чувство, когда переводите текст: ну не передается это на русский! Бывает так, что руки опускаются, или все-таки в большинстве случаев получается?
– В каждом месте, в общем, я могу дать отчет, до какого уровня желательности удалось дотянуть, до какого – не удалось. Соответственно, и к своим переводам отношение то лучше, то хуже.
– А какой Ваш самый любимый перевод? Есть какой-нибудь текст, про который Вы считаете: лучше всего получилось?
– Боюсь, что тут побочные факторы на моих пристрастиях сказываются. Больше всего я привязан к двум авторам, которые, ненаучно выражаясь, меньше всего похожи на меня: Пиндар и Овидий.
– Вы участвовали когда-нибудь в конгрессах по античности?
– Нет, только в тех, которые мы скромно называли «конференциями античников стран социалистического лагеря», они в шестидесятых-семидесятых годах бывали, а в восьмидесятых уже я от них отбился.
– Можно ли сказать, что в России, в Москве или в Петербурге, есть своя школа?
– Отдельные ученые – да, школа – не было у меня такого впечатления. Старшие отдельные ученые казались более крупными и законченными. Аристид Иванович Доватур, например, в следующем поколении – Зайцев275. Об Аверинцеве не говорю, его интересы назвать классическими слишком узко было бы. А дальше уже теряюсь, просто не вижу, что происходит сейчас.
– Вы сейчас совсем не пытаетесь следить, что нового выходит в этой области?
– Нет.
– А у Вас есть свои ученики?
– Нет, я же не преподаю – отчасти по причине заикания, которое вы слышите…
– А не хотелось преподавать?
– У меня нет способности к импровизации. Когда мне приходилось читать небольшие спецкурсы, уже не по античности, почти целиком приходилось записывать то, что я хочу читать, и исполнять это, читая по бумажке, что категорически противопоказано педагогу. Того, что называется «контакт с аудиторией», у меня совершенно не было.
…Это записывалось – то, что я говорил? Я вам искренне сочувствую. Когда нужно будет это обрабатывать, дайте мне распечатку, я это письменно перескажу получше.
Беседу вели Ю. Вольфман и А. Пастушкова
СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ 276
«ИСТОРИЯ – НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТАЯ…»
Михаила Леоновича Гаспарова все хорошо знали как ученого (античника и стиховеда), блестящего переводчика и автора популярных книг для детей и взрослых – «Занимательной Греции» и «Записей и выписок», но почти никому не было известно, что он не только исследовал и «считал», как он выражался, чужие стихи, но изредка позволял себе сочинять и собственные. Он их почему-то стеснялся, всегда подчеркивая, что он – ученый, а не поэт, никогда не публиковал (за исключением одного – напечатанного в студенческой газете Тартуского университета и приведенного позже в «Записях и выписках») и даже, кажется, не записывал, а только иногда читал самым близким.
Эти несколько стихотворений нашлись почти случайно. Дело в том, что наш сын, когда был подростком, «издавал» домашний альманах под названием «Общая тетрадь». В основном он заполнял его собственными произведениями под самыми разными псевдонимами, но для разнообразия иногда привлекал родителей и друзей. Вот в этих «Общих тетрадях» и обнаружились шесть стихотворений Михаила Леоновича.
Пять из них объединены в цикл «К Светонию» и, вероятнее всего, были написаны в начале 1960‐х годов, когда Михаил Леонович переводил книгу римского историка конца I – начала II века н. э. Гая Светония Транквилла «Жизнь двенадцати цезарей», впоследствии не раз переиздававшуюся. Совершенно очевидно, что речь в них идет не только о светониевском Риме, но и о бурных перипетиях нашей собственной «послекультовской» истории. Как ни странно, но они сохраняют свою актуальность и сегодня – через полвека после написания и через два тысячелетия после Светония.
Шестое стихотворение – очень личное: о стихах, которые всю жизнь приходили к нему в гости и которые он знал «до запятых».
А последнее стихотворение можно было бы, наверное, и не публиковать. Такие или похожие стихи, вероятно, во все времена писали почти все семнадцатилетние влюбленные. Но мне оно, конечно, очень дорого.
А. З.-Г.
СТИХИ К СВЕТОНИЮ
1
2
3
4277
5
* * *
(Из домашнего альманаха «Общая тетрадь»)
ИЗ РАННИХ СТИХОВ
1952
О ЛЮДЯХ В НАУКЕ
О «КРАТКОЙ, НО ДОСТОВЕРНОЙ ПОВЕСТИ О ДВОРЯНИНЕ БОЛОТОВЕ» В. Б. ШКЛОВСКОГО279
Год назад, в конце 2004 года, я собрался с духом спросить у Михаила Леоновича Гаспарова совета по поводу переизданий В. Б. Шкловского. Михаил Леонович сразу предложил переиздать «Болотова» и сказал, что, когда пересказывал Геродота280, книга Шкловского была для него образцом. Мне это показалось очень большим комплиментом, потому что Геродота Михаил Леонович пересказал замечательно: все, что запоминаешь из многократных перечитываний, что повторяешь и пересказываешь из большущего тома Геродота – все находишь в крошечной книжечке, и при этом не упущена ни одна подробность, не засохло ни одно живое движение, которое сохраняешь, как строчку любимого стихотворения. После «Рассказов Геродота» по-настоящему чувствуешь, что Михаил Леонович действительно мог переводить стихи с русского на русский.
Через несколько недель Михаил Леонович не только прислал мне текст Предисловия для публикации, но и договорился о ней в издательстве «Согласие». Текст был еще раз изменен, потому что Михаил Леонович предложил напечатать «Житие архиерейского служки» вместе с «Болотовым» и перечитал книгу (перечитывать «Болотова» для этого Предисловия необходимости у Михаила Леоновича не было). В январе 2005‐го от Михаила Леоновича пришло письмо: «Найти потерянное „не“ или что-то подобное мне будет, наверное, так же сложно, как Вам, – только внимательным перечитыванием. У меня просьба: перелистайте „Служку“ еще раз, там на полях несколько раз стоят мои очень бледные карандашные кружки: это я отмечал какие-то мои сомнения, но, к сожалению, не все, потому что не решался портить книгу. Простите!»
Простите, Михаил Леонович, неспособность выполнить никакие Ваши просьбы! И пока «перекрещение социальных связей», которое, как Вы чувствовали, было Вашей личностью, еще так близко и ощутимо, пока расхождение этих линий еще не нарушило строй приходящих иногда электронных писем, сказать281 Вам вслед, что тексты, которые Вы оставили, не просто интересны, но способны «наводить» смысл в читателе, даже в читателе близком к отчаянию, когда «De trop» берет его за горло. А Вы нашли «этому страшному чувству веселую иллюстрацию» и оправдали, а может быть, и спасли многих. Виктор Борисович Шкловский был бы не менее доволен, чем халиф282.
* * *
В начале XVIII века в истории произошло удивительное событие. После долгой медлительности сильно ускорился прирост населения на земле, и человечество не поняло, конечно, но почувствовало, что оно выстояло в многотысячелетней борьбе с природой, что оно не будет сметено случайным мором или мировым похолоданием, что оно твердо стоит на своих ногах и может обращать свои взоры не в небо, а вокруг себя и в себя. В это время всем известный Дефо написал «Робинзона Крузо» – деловито-конкретный, полный практических подробностей рассказ об этой самой победе человека над природой один на один; а его современник, чиновник адмиралтейства Пипс283 стал вести бесконечный «Дневник Пипса», весь заполненный такими же прозаическими мелочными подробностями повседневной лондонской жизни – и это оказалось не менее интересно, чем тропическая экзотика Дефо. Обжитой, обыденный быт – быт, а не события! – стал предметом переживаний и описаний. И это чувство было настолько массовым и повсеместным, что передовой Англии Дефо и Пипса всего лишь через несколько десятилетий откликнулась отсталая Россия «Записками» Болотова.
Андрей Тимофеевич Болотов прожил почти сто лет: 1738–1833. Вся эта его жизнь была именно бытом, а не событиями: ничем не замечательная жизнь ничем не замечательного человека, воплощение золотой середины, умеренность и аккуратность. Среднепоместный дворянин, смолоду – на военной службе, с 24 лет – в своем тульском имении, с 36 лет – управляющий одной, а потом другой волостью государственных крестьян, с 60 лет – опять на покое в своем поместье, непрерывная сельская жизнь с редкими выездами в Москву и одним-единственным в Петербург. Из многих тысяч своих товарищей по дворянскому сословию он выделялся только одним качеством: он был графоман.
Все сочинения его никогда не были собраны – так их много. Подавляющая часть их – деловые статьи по хозяйству: он был деятельным членом Вольного экономического общества, при Екатерине II старавшегося об усовершенствовании крепостной экономики. Его упражнения в стихах, драмах и в том, что тогда называлось в России «философией», не выходят за пределы просвещенного дилетантства. Но питательной основой всего им написанного был дневник, который он вел, по-видимому, всю жизнь. На основе этого дневника он в старости стал писать свои «Записки» – «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков», в условной форме «писем к другу». Они огромны: 300 «писем», 29 рукописных томов, писанных в 1789–1816 годах и обрывающихся на описании 1795‐го («Первый день сего 1795 года, который был 20539 днем моей жизни, провел я в кругу моего семейства…»); потом отыскались черновики и более поздних частей. Впервые напечатаны они были только в 1871–1873 годах в приложении к журналу «Русская старина», охотно публиковавшему такие бытовые материалы, в четырех больших томах. То, что извлек из них Виктор Шкловский для своей «Краткой, но достоверной повести о дворянине Болотове» (1929), – это приблизительно одна двадцатая часть написанного Болотовым в «Записках».
Почему Шкловский заинтересовался Болотовым? Отношение молодой советской культуры этих лет к русскому XVIII веку было двойственным. С одной стороны, это, конечно, был век крепостнических ужасов, век Салтычихи и Пугачева, материал для изобличения проклятого прошлого. С другой стороны, это был не только закат русского крепостничества, но и восход – хотя и оборванный – русской буржуазной культуры; а на восходные периоды истории прежних классов новый восходящий пролетарский класс оглядывался охотно и удовлетворенно, видя в них залог собственного дальнейшего расцвета.
В переломные эпохи всегда хочется пересмотреть прошлое под новым углом зрения – в данном случае классовым. Приятно было представить, что оды и трагедии XVIII века, которые проходили в гимназиях, – это далеко не вся литература того времени, а только ее верхний пласт, «литература придворного дворянства», а под ним лежит пласт массовой литературы, питающей мелкое дворянство и мещанство, а еще ниже – пласт фольклора, питающий крестьянство. (Потом, при Сталине, это будет считаться вульгарным социологизмом.) Шкловский с его всегдашней жаждой нового и с его природным демократизмом бросился изучать именно эту массовую литературу. Он выпустил о ней две книги: «Матвей Комаров» (1929, об авторе «Английского милорда») и «Чулков и Левшин» (1933). Научными событиями они не стали: привычек к научной работе у Шкловского не было, и собственные ученики деликатно обличили его в таких фантастических небрежностях (статья Г. Гуковского в «Звезде», 1930. № 1), что Шкловский, не любивший признавать поражений, молча прекратил свои занятия XVIII веком.
Однако за время этих занятий он успел перечитать очень много книг XVIII века и среди них, конечно, «Записки» Болотова. И они оказались очень нужным материалом для раздумий о вопросе, который был для Виктора Шкловского главным всю жизнь: что делает литературу литературой, что придает ей «литературность»? Шкловский отвечал: необычность, «остранение», подача материала под непривычным углом зрения. Как только необычность станет привычной, она перестает ощущаться, и нужна новая смена раздражителей, «деавтоматизация». Все приемы, которыми делалась «литературность» дореволюционной литературы, приелись, надоели и лишь мешают восприятию нового материала советской революционной действительности. Нужна новая «литература факта» и новые приемы, не отвлекающие вымыслом, а помогающие непосредственному и свежему восприятию факта.
С этой точки зрения «Записки» Болотова были замечательным образцом именно такой литературы факта. Никакого вымысла, описывается реальная жизнь реального человека; и описывается в таких мельчайших бытовых подробностях, что видно: они воспринимались как художественно интересные. Может ли такая книга быть интересна современному читателю? Помехой был прежде всего объем: даже среди специалистов-историков не всякий читал Болотова от начала до конца. Значит, требовалось сокращение. Далее, помехой был язык: для читателя ХX века он ощущался как устарелый и затрудненный. Наконец, помехой была тема: можно ли ждать, что современному (особенно рабоче-крестьянскому) читателю интересны и понятны заботы помещика и управляющего екатерининскими волостями? Здесь требовалось более сложное решение: нужно было сами эти трудности представить как занимательную экзотику, не отбивающую, а усиливающую интерес к книге. Для этого у Шкловского было средство, которого не было у читателя XVIII века: историческая дистанция, возможность смещать точку зрения, видеть болотовский текст как бы стереоскопически – одновременно глазами Болотова и глазами современного читателя. Нужно было суметь этим средством воспользоваться.
Как это делается, видно на первой же странице книги Шкловского. Мы читаем: «Дворянин Андрей Тимофеевич Болотов родился в 1738 году. Отец его был армейский полковник и мелкий землевладелец». Кто это говорит? Наш современник, объективный историк, заинтересованный в социологической точности. Читатель понимает, что из записок самого Болотова извлечь такую фразу было нельзя. Это то, что называется «авторская речь», речь Виктора Шкловского. Сам Болотов начинает говорить лишь несколько фраз спустя, и читатель об этом предупреждается особо: «Вы ведаете, – писал потом Болотов по чужим рассказам, – как старухи обыкновенно молятся. Где-то руку заведет, где-то на плечо положит… (и т. д.) Повитуха отправляла свой поклон, и попади крест ее в щель на полу между рассохшихся досок и так перевернись ребром, что его вытащить никак было не можно… И между тем барахтается на полу руками (и т. д.)». Кавычек вокруг этих фраз Шкловский не ставит, но это действительно подлинная выписка из первой части «Записок» Болотова, лишь немногие слова пропущены или заменены. Читатель сразу получает представление о приметах болотовского языка: «ведаете», «не можно», «где-то руку заведет», «и попади ее крест, и перевернись», «барахтается на полу руками» – наш современник так бы не написал. Это то, что называется «прямая речь персонажа», речь Болотова. А промежуточные фразы? «Рождение дворянина Болотова осложнено было следующим способом. Принимала его бабка Соломонида, и роды приключились около полуночи». Видно, что это не собственные болотовские слова, но и видно, что слог здесь не отстраненно-исторический. «Роды приключились» мог бы сказать и автор XVIII века, а вот «рождение осложнено было следующим способом» кажется скорее ироническим оборотом автора ХX века. Это то, что называется «несобственно-прямая речь»: она подается как авторская, но точка зрения в ней совпадает с точкой зрения персонажа, и она насыщена стилистическими оборотами, характерными для речи персонажа.
Вот эта несобственно-прямая речь и является основой повествования в «Повести о дворянине Болотове», а от нее легко делаются отступления как в сторону авторской речи – в необходимых исторических комментариях, – так и в сторону речи персонажа – в приводимых для яркости цитатах (их немного). Читая текст фраза за фразой и задаваясь вопросом «кто это говорит?», мы легко уловим все эти «шаг влево, шаг вправо» от основного тона; но, даже не сосредоточиваясь на этом, мы будем чувствовать эту двоящуюся точку зрения и ее стереоскопический эффект.
Шкловский с его острым чувством слова легко подбирает эти словесные и синтаксические вкрапления, открывающие нам перспективу стиля, эти обороты, которые современный русский читатель еще понимает, но уже сам не употребляет. «Колесница везена была цугом коней», «все приглашены были в дом и трактованы были столом», «тапливали печь дворовые бабы и таскивали всякий день вязанки хвороста» (гл. 2), «цветники великолепствовали» (гл. 16), «варенье Андрюша поприбрал к себе и понемногу от скуки жустарил» (гл. 2), «принималась она его ругать и пилить или, как тогда говорили, тазать – была нравная и легкая на гнев» (гл. 3), «получивши долговременное упражнение в танцевании, так он наторел и наблошнился…» (гл. 10), «началось ужасное скакание, гоньба адъютантов и ординарцев, и началось военное замешательство», «тут сделалось тогда наиужаснейшее смятение и белиберда» (гл. 7). Более банальные приметы времени, вроде словечек «сей» и «оный», оставляются для немногочисленных прямых цитат: «С коликим смущением и горечью вошел я в оную канцелярию, с толиким обрадованием вышел я…» (гл. 4). Большинство этих стилистических крупиц – из собственного болотовского лексикона, однако среди них мелькают и сочиненные Шкловским; они трудноразличимы, контрастами автор здесь не играет. Лишь изредка мы читаем (когда Болотов из Кенигсберга беспошлинно посылает в Петербург подорожавшие там флер и креп): «Это показывает нам, до какого высокого градуса Андрей Тимофеевич был человек для своего времени передовой» (гл. 11: ирония, напоминающая Зощенко).
На эту стилистическую стереоскопичность уже без труда опирается стереоскопичность идейная. Болотовская точка зрения – консервативность, религиозность, довольство и самодовольство – в подчеркивании не нуждалась, она вырисовывалась из его текста в любом пересказе. Чтобы ее оттенить, достаточно было сохранить и подчеркнуть те мотивы социального и нравственного неблагополучия, которые у Болотова терялись в пространности его повествования.
Прежде всего это, конечно, крепостное право. Для русского читателя 1930 года (как и нынешнего) это было отвлеченное понятие из учебника. Цель Шкловского – представить его конкретно и вещественно: это будет ново, а стало быть, «остраненно», художественно выразительно. Вот здесь и начинает работать весь арсенал любовно выписанных болотовских бытовых подробностей: они перестают быть самоценными (и безразличными нынешнему читателю), они становятся неожиданно зримыми и осязаемыми приметами общественного строя. Пока Болотов в изысканных деталях украшает сады и парки в своем и чужих поместьях, это лишь причуда, и даже симпатичная, а когда всякий раз при этом напоминается, как ради этих работ отрывается от дела все крестьянство, это перестает быть только причудой. «Изобретения» для сада Болотов делает по замыслам садовника Сереги Косого, а записки для Экономического общества – по опыту своего приказчика. Смерть крепостной кружевницы болотовского соседа (гл. 18) служит поводом сказать: Болотов предпочитал наказывать людей «менее убыточным способом», соленой рыбой без питья (гл. 24) или поркой в рассрочку (гл. 29). И, конечно, все эпизоды социальных столкновений, от деревенских ругателей до московского чумного бунта и пугачевщины, пересказываются почти без сокращений. А пролог к этой теме задан в первой же главе – о неуютном детстве смирного героя: «Но не жалейте преждевременно Андрея Тимофеевича, в жизни своей он больше бивал, чем его били».
Фон крепостного права окружен фоном других картин старого мира – не столько жестоких, сколько нелепых. (Это реакция на эстетское умиление пред милым XVIII веком, модное перед революцией.) Болотов в своих «Записках» не подчеркнуто, но устойчиво и наивно религиозен – у Шкловского он, получив первый чин, «молился Высшему Существу таким, каким он мог себе его представить, т. е. более чем полным генералом» (гл. 4). О духовенстве сказано, что в московскую чуму оно «отличалось корыстолюбием, переходящим даже в мужество» (гл. 20). Полк на походе не может заночевать в попутной крепости, потому что комендант в ссоре с полковником и не пускает его в крепость, «как в свой огород» (гл. 2). Деньги за большую волость платят серебром и отвешивают целый день из княжеской кладовой (гл. 23). «Генерал Корф, хотя и немец, по полицейской своей должности глубоко понимал русскую душу» – как это помогло в считаные часы расчистить пол-Петербурга, пусть читатель сам посмотрит в главе 12. С особенным вкусом описывается бестолковщина военных действий, оказавшихся победой при Гросс-Егерсдорфе: это глава 7, самая длинная; опытный читатель заметит, как она перекликается с описанием Ватерлоо у Стендаля. (Впрочем, «а потом, не сделав ничего, а только сожегши одну деревню, повели войска обратно в лагерь» – это уже не по Стендалю, а по Щедрину.) Где материал сам собой не складывается в нелепость, там этому помогает композиция: в главе 20 рассказ о московской чуме соединен с рассказом об игрушечном чертике, а в главе 23 главная тема – большие деньги, но осмысляются они как божья благодать, а глава называется «Описание красот природы».
К концу книги стилистические изыски ослабевают, пересказ становится более сжатым. Но и на последней странице Болотов думает «о тех затеях, которыми он намеревался еще испестрить сей ривир», а кругом «играли музыканты на флейт-реверсах дуэты, и птички пели, аккомпанируя оным», и цитируются его старческие стихи, – динамическое повествование расплывается в статике, книге конец.
Книга Шкловского о Болотове оказалась удачей. Вернейший показатель: откликаясь на ее журнальную публикацию, целых два издательства выпустили очень сокращенные издания подлинных «Записок» Болотова (надолго оставшиеся единственными). Шкловский попробовал повторить свой успех в этом жанре: в 1931 года он выпустил еще один пересказ мемуаров XVIII века, «Житие архиерейского служки». Оригиналом были записки Г. И. Добрынина (1752–1824) «Истинное повествование, или Жизнь Гавриила Добрынина, им самим описанная», впервые напечатанные в той же «Русской старине» в 1871 году. Как записки Болотова открывали русскому читателю среднепоместный мир XVIII века, так записки Добрынина – мир духовного сословия и провинциального чиновничества. Записки Добрынина были написаны изощреннее, с претензией на беллетристичность, и это парадоксальным образом навредило работе Шкловского. Играть художественной двуплановостью старинных записок и их современной переработки оказалось невозможным: вместо сокращенного парафраза, из-под которого просвечивает старинный оригинал, получилась самостоятельная биографическая повесть на материале записок и с добавлением обильного стороннего материала. Образ смирного трудолюбца Болотова, отпечатлевшийся в его записках, оказался глубже и интересней, чем образ карьериста Добрынина, старательно вырисованный им самим: читатель больше следит за его начальниками и спутниками (Флиоринским, Пассеком, Полянским), чем за повествователем. Той стереоскопичности, которая была в «Болотове», не получилось.
Формалисты утверждали, что в литературном произведении содержание – это часть стиля, а идейные советские критики настаивали, что стиль – это производное от содержания. Здесь, в очередном литературном эксперименте вождя русских формалистов, формалистическая точка зрения печальным образом подтвердилась: меньше было возможностей игры со стилем, содержанию оказалось не на что опереться и архиерейский быт – казалось бы, более экзотический для русского читателя, чем среднепоместный – получился гораздо менее выразительным. Сказалось качество словесного полуфабриката: Болотов лучше писал, чем Добрынин, и Болотов лучше получился у Шкловского, чем Добрынин.
Отношение русского читателя к Болотову менялось. Дореволюционные публикаторы любовались в нем частным человеком: «чистое сердце», «необыкновенная искренность», «любовь к правде и к отечеству». При советской власти в нем видели помещика-крепостника, человека, ни на шаг не «опередившего свое время» (что могло бы послужить ему оправданием), не заслуживающего включения в официальную историю русской литературы. После советской власти, кажется, иные начинают видеть в нем идеал русского духа, героизм смиренного простодушия, образец того добросовестного обывателя, на котором держится и для которого строится вся мировая культура. И то, и другое, и третье может быть обосновано – но читатель легко заметит, что у Шкловского Болотов ни то, ни (даже) другое и ни третье. В сокращенном и упрощенном парафразе он оказывается едва ли не сложнее, чем в полном своем тексте. Пусть читатель сам вынесет ему оценку (если это нужно), а писателя Виктора Шкловского поблагодарит за этот мост, перекинутый между двумя веками русской культуры.
К 60-ЛЕТИЮ К. Ф. ТАРАНОВСКОГО 284
В июне 1971 года исполняется 60 лет одному из виднейших современных стиховедов-славистов – Кириллу Федоровичу Тарановскому, автору фундаментальной монографии «Руски дводелни ритмови», которая уже много лет является настольной книгой для всех изучающих русскую метрику и ритмику.
К. Ф. Тарановский родился в семье известного русского правоведа, профессора Юрьевского (ныне Тартуского) университета. Проживая на территории Эстонии, семья оказалась за пределами СССР. Филологическое образование он получил в Югославии, под руководством крупного специалиста Александра Белича. Здесь, в Белградском университете, в 1941 году он защитил как докторскую диссертацию свою работу о ритмике русских двухсложных размеров. В 1953 году она вышла отдельной книгой. С середины 1950‐х годов К. Ф. Тарановский работает в Америке, сперва в Беркли, потом в Гарварде; американская славистика многим обязана его деятельности. Его статьи последних лет печатались во многих американских и европейских журналах и сборниках, в том числе и в СССР («XVIII век», сб. 7).
Для того чтобы оценить значение основного исследования К. Ф. Тарановского, нужно вспомнить, в каком состоянии находилось русское стиховедение в 1930‐х годах, когда спала первая волна стиховедческих исследований, начало которым было положено Андреем Белым. С одной стороны, имелись образцовые по точности статистические исследования ритма отдельных размеров у отдельных авторов, очень немногочисленные (главным образом в работах Б. Томашевского); с другой стороны, имелась общая концепция фонологической основы русских стихотворных размеров, разработанная Р. Якобсоном и Н. Трубецким, но не проверенная на достаточно большом статистическом материале. Книга Тарановского перекидывала мост между этими двумя достижениями русского стиховедения. То, что сделал Томашевский для нескольких десятков тысяч стихов 4- и 5-стопного ямба Пушкина и его современников, то сделал Тарановский для 300 000 стихов всех ямбических и хореических размеров от Ломоносова до Фета. В результате этой исполинской работы стало возможным наполнить конкретным статистическим содержанием введенные Якобсоном и Трубецким понятия ритмической константы, доминанты и тенденции; стало возможным сформулировать два основополагающих закона ритмики русских двусложных размеров: закон акцентной регрессивной диссимиляции (чередования сильных и слабых стоп от конца стиха к началу) и закон восходящего зачина (стабилизации первого икта после первого слабого времени в стихе). Это было решением той проблемы метра и ритма, которая неотступно стояла перед русским стиховедением ХX века. Все современные исследования ритмики русских двухсложных размеров не могут не исходить из понятий, установленных Якобсоном и Трубецким, и из законов, установленных Тарановским.
Продолжением основной работы К. Ф. Тарановского были его статьи о 4-стопном ямбе начала ХX века в «Южнословенском филологе» (1955–1956), о метрике Мандельштама и о ритмике ямба А. Белого в «Международном журнале по славянской лингвистике и поэтике» (1962 и 1966), о семантике 5-стопного хорея в русской поэзии после Лермонтова («Американские доклады на V конгрессе славистов», 1963). Эти работы подводят к другой краеугольной проблеме современного стиховедения – к проблеме «стих и смысл», к проблеме семантики метров и ритмов. Анализ «семантического ореола» 5-стопного хорея, связанного, благодаря лермонтовскому «Выхожу один я на дорогу», с мотивом «пути», как реального, так и метафорического, и анализ семантических ассоциаций «традиционного» и «нетрадиционного» ритма в 4-стопном ямбе Белого открывают дорогу для изучения научными объективными методами, через исторический анализ пресловутого вопроса о взаимосвязи «формы» и «содержания».
Другой ряд работ К. Ф. Тарановского последних лет был посвящен вопросам фоники стиха. Здесь, в традиционной области наименее научных и наиболее импрессионистических наблюдений, он делает то же, что делал в области ритмики: подводит под традиционные стиховедческие понятия обоснование, предлагаемое современной лингвистикой, рассматривает enjambement в свете теории синтагм (статья в «Международном журнале…», 1963), а звукопись – в свете теории фонологических дистинктивных признаков (там же, 1965). Его работы и здесь соприкасаются с проблемами семантики – на этот раз с проблемой семантики фонем, разрабатываемой И. Фонадем.
Наконец, необходимо напомнить, что исследования К. Ф. Тарановского никогда не ограничивались русским стихом, как это часто бывает у русских стиховедов. Он исследовал просодию и цезуру сербского стиха; одна из самых интересных его работ посвящена взаимосвязи украинского и русского ямба («Южнословенский филолог», 1954–1955); эта статья легла в основу книги об украинском стихе, над которой автор работает в настоящее время; наконец, целый ряд многообещающих направлений исследования намечен им в программной статье «Основные задачи статистического изучения славянского стиха», напечатанной в варшавском сборнике «Поэтика» (т. 2, 1966) и хорошо известной советским ученым.
Редакция и авторский коллектив «Трудов по знаковым системам» рады приветствовать заслуженного ученого в год его юбилея.
КИРИЛЛ ФЕДОРОВИЧ ТАРАНОВСКИЙ 285
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
19 марта 1991 года исполнилось 80 лет Кириллу Федоровичу Тарановскому – видному слависту, крупнейшему специалисту по русскому и славянскому стиховедению и поэтике, многолетнему руководителю кафедры славистики в Гарвардском университете.
К. Ф. Тарановский родился в городе Юрьеве (Тарту), где профессором истории права был его отец (ученик А. Л. Блока, отца поэта). Февральская революция застала семью в Юрьеве, Октябрьская – в Харькове; в эмиграции Тарановские оказались в Белграде, К. Ф. Тарановский закончил сербскохорватскую гимназию, потом два факультета Белградского университета, учителями его были Рад. Кошутич и Ал. Белич; два года он занимался в Праге, где его руководителем и другом стал Р. Якобсон.
Докторская диссертация К. Ф. Тарановского называлась «Русские двудольные ритмы», она была защищена в Белграде в 1941 году, в дни фашистского вторжения, и вышла книгой в 1953-м: 376 страниц, 16 огромных статистических таблиц, в них просчитаны 300 000 строк русских ямбов и хореев от Тредиаковского до Фета и от Пушкина до П. Вейнберга. (Краткое авторское резюме ее – статья «О ритмической структуре русских двусложных размеров» в сборнике «Поэтика и стилистика русской литературы», Л., 1971.) Вспомним: к концу 1930‐х годов в нашей науке о стихе имелись, с одной стороны, образцовые исследования ритма отдельных размеров у отдельных авторов, но они были единичны; с другой стороны, имелась общая концепция фонологической основы русской метрики (Р. Якобсон, Н. Трубецкой), но она была не проверена на достаточном статистическом материале. Книга Тарановского перекидывала мост между этими двумя достижениями русского стиховедения. В результате его исполинской работы стало возможным наполнить конкретным статистическим содержанием нововозникшие понятия ритмической константы, доминанты и тенденции; стало возможным сформулировать два основополагающих закона ритмики русских двусложных размеров: закон акцентной регрессивной диссимиляции и закон восходящего зачина. Это было решением той проблемы метра и ритма, которая неотступно стояла перед русским стиховедением со времен Андрея Белого. Все современные исследования ритмики русских двухсложных размеров не могут не исходить из понятий, установленных Якобсоном и Трубецким, и из законов, сформулированных Тарановским.
В 1959 году К. Ф. Тарановский по приглашению Р. Якобсона переезжает в США, преподает в Лос-Анджелесе, потом в Гарварде, где работает почти двадцать лет на кафедре славистики. Тематика его стиховедческих работ расширяется: наряду с ритмикой в нее входят фоника, звуковая символика, синтаксис и прежде всего семантика стиха. В блестящей статье 1966 года о 4-стопном ямбе Андрея Белого он показывает, как в одном и том же размере у одного и того же поэта сосуществуют два разных ритма, более традиционный и более новаторский, и первый сопровождает тему покоя, а второй – тему надлома. Семантизируется не только ритм, но и метр: в 1963 году появляется его статья «О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики», открывшая новую эпоху стиховедческих исследований – изучение семантических ореолов стихотворных размеров. «Выхожу один я на дорогу…» Лермонтова, «Вот иду я вдоль большой дороги…» Тютчева, «Выхожу я в путь, открытый взорам…» Блока, «Гул затих. Я вышел на подмостки» Пастернака: случайно ли во всех этих стихотворениях сосуществуют 5-стопный хорей и тема пути, дорожного и жизненного? Несомненно, нет: перед нами – семантическая традиция (точнее, одна из семантических традиций) стихотворного размера. Исследовать разветвление и сплетение таких традиций увлекательно и сложно: семантика поддается формализации нелегко. Но первые шаги в новом направлении, открытом К. Ф. Тарановским, уже делаются, и результаты очень интересны: «драматическая история отдельных семантических ореолов блестяще прослеживается… и буквально взывает к обобщению и осмыслению в духе лотмановской культурологии» (Ю. И. Левин).
Но, конечно, такая «память метра» есть лишь часть «памяти текста» – системы средств, которыми поэт сознательно или бессознательно вызывает у читателя ассоциации с другими стихотворными текстами и тем придает новым своим стихам особенную смысловую глубину. Реминисценции и автореминисценции писателей давно были предметом внимания филологов; но К. Ф. Тарановский один из первых показал, как они складываются в единую сложнейшую систему смыслообразующих элементов поэтического текста. Успех этих его исследований во многом объясняется счастливым выбором материала – поэзии русского акмеизма, сплошь рассчитанной на «ученого» читателя, знатока и любителя старой и новой поэзии. В 1967 году появилась первая из его статей о поэтике О. Мандельштама, в 1977 году его «Essays on Mandel’stam» вышли отдельной книгой (в 1982-м – сербский перевод, сейчас готовится переработанное русское издание). Первая глава имела подзаголовок «Проблема контекста и подтекста» – «контекстом» была названа система автореминисценций, «подтекстом» – система реминисценций из других авторов, оба понятия оказались в высшей степени плодотворны и прочно вошли в терминологический арсенал мандельштамоведения. Широкие перспективы применения нового метода были отлично намечены в большой статье-рецензии в журнале «Russian Literature» (1978. Т. 6. № 2), написанной Г. А. Левинтоном и Р. Д. Тименчиком («мои незаконные ученики», в шутку говорил о них Тарановский). Последствия подтвердили их прогноз: сейчас, в юбилейный мандельштамовский год, можно с уверенностью сказать, что все лучшее в области изучения поэтики Мандельштама и акмеистов за последние пятнадцать лет было достигнуто на путях, намеченных К. Ф. Тарановским. Московское Мандельштамовское общество недаром посвятило 80-летию ученого одно из своих недавних заседаний.
Уже двадцать лет назад заслуги К. Ф. Тарановского были отмечены международным сборником «Slavic Poetics» (Гаага, 1973), украшенным лучшими филологическими именами. Целый ряд статей Тарановского публиковался в советских изданиях. Он сотрудничал в области стиховедения с А. Н. Колмогоровым и А. В. Прохоровым, его ученик Дж. Бейли вводит «русский метод» статистических подсчетов в американское стиховедение. Из гарвардской школы Тарановского вышли О. Ронен, С. Бройд, Г. Баран и другие ученые, имена которых хорошо известны исследователям русской поэзии начала ХX века. Его единомышленниками в этой области по праву считают себя Ю. И. Левин, Д. М. Сегал, Ю. Л. Фрейдин, Т. В. Цивьян и многие другие; к ним решается причислить себя и автор этих строк.
КАК БУДТО С БЛОКОМ СТИХИ ПИСАЛА 286
Двадцать с лишним лет назад в Коломне была конференция по русской поэзии и поэтике. Здесь я впервые увидел и услышал Зару Григорьевну Минц. То, что она говорила, было так же интересно, как то, что она писала, а когда это были ответы на вопросы после доклада, то, пожалуй, еще интереснее. Но подойти к ней с разговором я не решался: что я могу сказать, разве я специалист по Блоку?
После конференции в тесной комнате был так называемый банкет. У меня были вопросы к Л. Я. Гинзбург, и я сел за тот конец стола, где сидели и она, и Б. Я. Бухштаб, и Зара Григорьевна. Чтобы снискать доверие, я сказал Л. Я., что читал и такую не очень известную ее книгу, как «Агентство Пинкертона» (Молодая гвардия, 1930). Она заулыбалась, но без удовольствия. (А сбоку раздался полуиронический-полуобиженный голос Б. Я. Бухштаба: «А мою повесть „Клеточников“ в „Еже“ не читали?» Мне стало стыдно – и поделом, повесть оказалась прекрасная.) Зато кто неожиданно оживился, так это Зара Григорьевна: «Я ведь по детской литературе защищала кандидатскую диссертацию». Я об этом не знал; и непредусмотренный разговор на неожиданную тему получился очень увлекательным.
Мне так и не случилось прочитать то, что когда-то писала Зара Григорьевна о детской литературе. Но с тех пор я часто вспоминал об этом и над ее работами о Блоке и его эпохе. У этих двух областей в нашей науке до 1960 года был один общий признак: нетронутость. О Пясте и Ремизове знали не больше, чем об «Агентстве Пинкертона» или «Клеточникове». Поднимать и упорядочивать материал приходилось одинаково по-целинному, и опыт шел на пользу. Статьи З. Г. о частных вопросах поэтики Блока казались лучами, с разных сторон просвечивавшими толщу огромной историко-культурной проблемы, и проблема прояснялась. Приходилось оперировать понятиями трудноопределимыми, как стихии: темное начало, светлое начало, страшный мир, новая жизнь. Обычно когда так пишут, то читать неинтересно: да, из стихии можно сделать такой-то вывод, но можно, наверное, и противоположный. А у Зары Григорьевны и самые аморфные интуитивные категории вели себя по безукоризненным правилам логики и прояснялись в несомненные выводы.
Она замечательно умела слушать собеседника: ей во всем было интересно находить новые и новые подробности для возникающей картины русского символизма. Она не боялась, что иные из них могут повлечь перестройку картины, и голос у нее в разговоре всегда был удивленно-радостный.
Старая античница Мария Евгеньевна Грабарь-Пассек (уроженка Юрьева, частая гостья Тарту, добрая знакомая Лотманов – «Лётманов», как по-старинному произносила она) говорила об академике М. М. Покровском, у которого она училась: «как будто с Цицероном чай пил». О Заре Григорьевне иногда хотелось сказать: как будто с Блоком стихи писала.
Женщины в нашем «трудном» обществе несут двойные тяжести. У Зары Григорьевны была не только наука и не только преподавание, но и дом, и семья, и быт, и болезни близких. В русской былине, где Добрыня усмиряет Алешу, есть строчка: «За бухканьем не слышно охканья». Зара Григорьевна пришла от нее в восторг: «точь-в-точь мы с нашими сыновьями». Когда один из этих сыновей стал специализироваться по стиховедению, она тревожно спрашивала меня: «Ну как?» Потом вместе с ним она написала свою последнюю книжку – учебное пособие по литературе русского модернизма, которое мы еще не успели оценить по-настоящему. Чтобы так просто говорить о сложных предметах (кажется мне), ей тоже пригодился опыт работы с детской литературой.
Она не любила культа личности в науке. Я тоже его не люблю. Но для всех, кто ее знал, блоковедение без нее будет уже не то, что при ней.
О ДРАМЕ Б. И. ЯРХО287
Автор публикуемой драмы, Борис Исаакович Ярхо (1889–1942), неширокому кругу читателей известен только как литературовед и переводчик. Он перевел «Сагу о Вольсунгах» (изд. 1934), «Песнь о Роланде» (изд. 1935; не переиздавалась, но исправно поминалась как образец пагубного буквализма в переводе), «Песнь о Сиде» (изд. посмертно, в 1959 году, в вольно отредактированном виде и без огромной статьи и комментариев переводчика), «Рейнеке-Лиса» Гете, «Мюнхгаузена» Иммермана (не перепечатывались с 1932 года), антологию латинских средневековых «видений» (лишь частично издана в Сборнике «Восток – Запад» в 1989 году), антологию поэзии Каролингского возрождения IX века (ждет публикации до сих пор). Из его литературоведческих работ вышли отдельными книжечками исследование «Юный Роланд» (1926) и «Метрический справочник к стихотворениям Пушкина» (1934, в соавторстве с И. Романовичем и Н. Лапшиной). На страницах малодоступных журналов и сборников остались его диссертация «Сказание о Сигурде и его отражение в русском эпосе» («Русский филологический вестник», 1913–1916), «Мансанг: любовная лирика скальдов» («Сборники Московского Меркурия». 1917. Вып. 1); в 1920‐х годах были напечатаны несколько статей по стиховедению и по методике литературного анализа288. Остались в рукописях большие историко-литературные исследования с теоретико-литературными выводами: «Рифмованная проза драм Хротсвиты», «Комедии и трагедии Корнеля», «Распределение речи в пятиактной трагедии» и, наконец, итоговый труд его жизни «Методология точного литературоведения» – монография, написанная в ссылке в 1935–1936 годах. Лишь в последние годы появились в печати некоторые его стиховедческие работы и небольшие отрывки из «Методологии» (в тартуской «Семиотике», IV, 1969, с большой обзорной статьей о его наследии; в «Контексте-1983»; предисловие-исповедь к «Методологии», со статьей М. И. Шапира – в «Известиях АН СССР. Отделение литературы и языка», 1990, № 3).
За этой безотрадной судьбой литературного и научного наследия стоит безотрадная судьба ученого и человека. Две черты поражали современников в Борисе Исааковиче Ярхо: феноменальная эрудиция и фантастическая энергия и работоспособность в самых малоприспособленных условиях. Когда брат его, Г. И. Ярхо, переводил «Гаргантюа и Пантагрюэля» и вставал в тупик перед темными местами и трудными реалиями, то Б. И. из ссылки, без книг, посылал ему разъяснения, и даже с рисунками. После ссылки, обращаясь в Наркомпрос с просьбой предоставить ему работу, он перечислял свои специальности: средневековая литература латинская, французская, провансальская, немецкая, англосаксонская, староскандинавская; стилистика, метрика, поэтика, русский и славянский фольклор, сербская литература, история и теория драмы; «кроме того, я перевожу приблизительно с 20 (новых и старых) славянских, германских и романских языков». А когда однажды ему случилось найти совместную работу с У. Р. Фохтом и тот спустя некоторое время задал ему естественный вопрос: «Вы уже начали?» – то услышал в ответ: «Я уже кончил!» Работу в Наркомпросе Ярхо тогда так и не получил, а работа его, совместно с Фохтом, осталась неизданной.
Сын известного московского врача, он провел привольную молодость богатого студента, ездил на каникулы и на Принцевы острова, и в Тунис, после Московского университета год учился в Гейдельберге и Берлине. По-русски это называлось «белоподкладочник»; но люди, знавшие братьев Ярхо, с удивлением говорили: «Григория можно было так назвать, а Бориса – никому не приходило в голову». Готовясь к приват-доцентуре, он привез из‐за границы запас материалов для 18 (!) спецкурсов; разработан этот материал был так, что упоминавшиеся исследования «Мансанг» и «Юный Роланд» (каждое было новым словом в науке) представляли собой лишь по одному разделу из двух курсов. С 1915 года он преподавал в Московском университете – сперва приват-доцентом, потом профессором. Свой первый курс – по скандинавской литературе – он для верности записал заранее от слова до слова. Но в 1921 году филологический факультет был расформирован. С 1922 года он был членом московской Государственной академии художественных наук (ГАХН), заведовал там подсекцией всеобщей литературы, кабинетом теоретической поэтики и комиссией художественного перевода. То немногое, что он напечатал после революции, было напечатано в изданиях ГАХН. Но в 1930 году ГАХН был распущен. Это было нечто вроде клуба московской гуманитарной интеллигенции, зарабатывать приходилось на стороне. Ярхо преподавал языки и стилистику в быстро переименовывавшихся вузах того времени, работал в БСЭ, три года служил экономистом в ВСНХ. После последнего увольнения в 1933 году жил, по существу, только переводами. В 1935‐м был арестован по известному делу о Большом немецко-русском словаре, захватившему немалую группу московской интеллигенции. Приговор по тому времени был мягкий: три года ссылки в Омске. После этого – два года без работы, жизнь в 100 км от Москвы в памятном городе Александрове, тщетные попытки опубликовать «Методологию», в 1940–1941 годах – наконец-то место «исполняющего обязанности профессора» по кафедре всеобщей литературы в Курском пединституте, работа над незавершенным исследованием по сравнению поэтики «Слова о полку Игореве» с западноевропейскими эпосами. Здесь его застает война. Вместе с институтом он эвакуирован в Сарапул. Здесь, голодной и холодной поздней осенью 1941 года, за считаные месяцы до смерти, он пишет драму «Расколотые».
Это не первое его упражнение в драматической форме. Еще до революции он с братом писал комические пьесы для «Летучей мыши» и других театров малых форм. Две из них, «Вид из нашего окошка» и «Верный Иаков», были напечатаны в пражской «Воле России» (1924, № 6 и 1925, № 6–7) за подписью «Б. де Люнель»: этот же трубадурский псевдоним встал потом и над «Расколотыми». Сюжеты были библейские, действующие лица в «Виде…»: Адам, Ева, Лилит, ангелы, дьяволы, софистический искуситель; в финале – гром и молния, голос Божий («сразу со всех сторон»): «Адам, где ты?» Стилизаторское искусство Ярхо выработалось на переводах: еще в 1925 году он написал для группового подношения к юбилею М. Волошина десять блистательных стихотворных поздравлений от лица Калидасы, Эгиля Скаллагримссона, Гильена Аквитанского (NB), Спиридона Дрожжина и проч.289 Главная тема новой пьесы – откуда в мире зло? Вопрос естественный после такой жизни, какую пришлось ему прожить. Религиозен он не был, женат он не был («я не имею права жениться, пока не уверен, что прокормлю семью»), – выговариваться о Боге и о любви ему пришлось в первый раз. Просветленная концовка «Расколотых» после мрачного вступительного стихотворения – это преодоление душевным и умственным трудом тягот жестокого существования.
«Расколотый» мир между Богом, творцом всего духовного, и дьяволом-Сатанаилом, творцом всего плотского, – представление манихейское, сложившееся в христианстве под влиянием иранского дуализма. В VII веке оно жило у сирийских павликиан, в X веке перекинулось к болгарским богомилам, в XI веке стало распространяться в южной Европе; здесь, в южной Франции, приверженцы его получили прозвище «катары», «кафары» – по-гречески «чистые» (связь с catus, «кот» – народная этимология). Многие феодалы поддерживали в своих владениях катарство – аскетизм этих «еретиков» и отрешенность их от всего земного делали из них более удобных соседей, чем церкви и монастыри, крепко держащиеся за свои земли. Искоренить эту «ересь» удается только через сто лет – жестоким карательным походом из северной Франции в 1209–1213 годах. Покамест же Тимофей из «Расколотых» (лицо вымышленное), болгарин, провел молодость в придунайских степях («пустее»), учился в Софии (Средеце) у «дедеца», главы богомильской церкви, а в пору гонений, поднятых против богомилов константинопольским императором, уехал на Запад, принятый в свиту Гильеном Аквитанским, возвращавшимся из крестового похода.
Время действия пьесы – 1105 год. Только что кончился I крестовый поход, Иерусалим отбит у мусульман (1099), часть рыцарей осела на новозавоеванных местах, остальные разъезжались по домам. На другом фронте борьбы с неверными, в Испании, дела хуже: только что умер Сид (упоминаемый каталонкою-аббатисою), и христиане потеряли Валенсию. Действие пьесы – в Пуату, на луарской окраине огромного аквитанского герцогства. За пределы этих южных мест интересы действующих лиц почти не выходят. Там, в северной Франции («у французов» – для южан это другой народ), правил Филипп I, сын известной русскому читателю Анны Ярославны; в Англии Генрих I борется за власть с братом; в Германии, среди «зарейнских бургграфов», Генрих IV (тот, который ходил в Каноссу) борется за власть с сыном. На севере, в парижской школе только что появился ненадолго молодой диалектик Абеляр – ему двадцать шесть лет, но он уже привлек множество слушателей. На юге входит в славу Салернская медицинская школа, особенно после того, как там проездом излечился от сарацинской раны Роберт Нормандский. В самой Аквитании шумит двусмысленной славой новооснованное аббатство Фонтевро (1100): его основатель, аскет Роберт Арбриссельский, по рассказам, ради умерщвления плоти спал невинно со своими монахинями, но общество понимало это совсем иначе.
Анахронизмов в сочинении такого знатока, как Б. И. Ярхо, очень мало; некоторые сомнительные места он сам, работая без книг, отмечал квадратными скобками. Так, Абеляр в это время еще не написал своего знаменитого сочинения «Да и нет» (о противоречиях в Писании) и не был оскоплен за любовь к Элоизе; вряд ли уже была открыта (даже в Салерно) разница функций головного и спинного мозга; сдвинут возраст юного Маркабрюна – на самом деле он в это время, по-видимому, только что родился; арагонский король, выручивший из осады будущую аббатису, был, видимо, не Педро Рамирес, а Санчо Рамирес (1063–1094); и, наконец, по оплошности на сто лет сдвинуто мимоходное упоминание о знаменитой Алиенор Аквитанской, любвеобильной жене сперва французского, а потом английского короля, – на самом деле она приходилась Гильену IX внучкою.
И Гильен IX, «первый трубадур», и Гиларий, «первый вагант», и Маркабрюн – лица исторические. Гильену в момент действия тридцать четыре года (а наследнику, жизнью которого ему приходится клясться, – шесть лет); он действительно был разбит сарацинами в Палестине, едва избежал плена и только три года как вернулся на родину; он действительно не в ладах с церковью из‐за вольнодумства, бывал под отлучением, а среди нескольких сохранившихся его песен есть такие, которые за непристойность предпочитают не переводить. Гиларий – фигура более туманная, он автор религиозных песен и драм, а собственно вагантские стихи приписываются ему без достоверности; этот образ Ярхо пришлось домысливать больше всего. Низкое происхождение и женоненавистничество Маркабрюна засвидетельствованы биографическими легендами о нем, а в стихах своих (позднейших) он резко противопоставляет «высокую любовь» и «низкую любовь» – тема близкая основной проблеме пьесы Ярхо. Даже весконт Эбле II Вентадорнский историчен: он тоже один из первых трубадуров, хотя песни его не сохранились. «Песня ни о чем» действительно есть среди стихов Гильена Аквитанского (но с совершенно другим содержанием), а «Чин голиардский» – одно из самых популярных произведений анонимной вагантской поэзии (здесь он тоже переложен очень вольно). Некоторые дальнейшие подробности о вагантской и трубадурской культуре современный русский читатель может найти в двух томах известной серии «Литературные памятники»: «Жизнеописания трубадуров» (1993) и «Поэзия вагантов» (1975).
Симпатия Б. И. Ярхо к монастырской культуре и антипатия к приходящей вслед за ней городской, епископской чувствуются в драме очень заметно; таковы же они и в проспектах его курсов и спецкурсов. Этот клерикальный мир латиноязычен; поэтому Париж иной раз называется здесь по-латыни Лутецией, Пуатье – Пиктавием, Регенсбург – Ратисбоной. Автор охотно подчеркивает архаические черты изображаемой эпохи: кельтский облик мужика Гареля, тюркский облик болгарина Тимофея, ирландское происхождение клирика Фергуса (хотя ирландская эмиграция на материк к этому времени почти замерла), память графа Гильена о готской графине Дуоде (IX век), «первой поэтессе новой Европы», чьими стихами Ярхо занимался как филолог. Вставные стихотворные номера воспроизводят средневековые формы с идеальной точностью, в песне монахинь и в «Исповеди голиардской» передан даже силлабический стих.
Первое упоминание «Расколотых» появляется в письме Б. И. Ярхо из Сарапула в Самарканд к матери и брату 31 декабря 1941 года, за четыре месяца до смерти. До сих пор его письма были энергичны и ободрительны; но встает вопрос о его переезде в Самарканд, и приходится признаваться: сарапульское жилье его – 6 квадратных метров; лучшее, что о нем можно сказать, – это что соседи не воруют; у него несахарный диабет, он не подымет и пяти кило, как ехать? «О своей жизни не пишу: это огорчительно и бесполезно. Есть и светлые пятна: написал драму; усердно двигаю „Слово о полку Игореве“. Эти работы спасают меня от полного отчаяния… У нас морозы. Ты, вероятно, удивишься, как я от них до сих пор еще не сдох во всем летнем. Представь себе, что человек живуч: мучится, но не умирает». 10 января 1942 года: «…Мое тело беспомощно, душа истрепана семью годами лишений. А планов, научных идей, драматических проектов – уйма: так и роятся в голове… Мне кажется, что я могу написать бесконечно много. Обидно погибать в самом расцвете умственной потенции. Но выхода не вижу». 7 февраля 1942 года: «…У меня такая болезнь, что я теряю в день больше жидкости, чем принимаю; проще сказать, я весь высох, как Кумская сивилла… Если это может тебя утешить, то знай, что… у меня… новая, во всяком случае, очень оригинальная трагедия „Расколотые“, где главным действующим лицом является трубадур граф Гильен ду Пуатье (1105 г.). Вся она полна трубадурских и вагантских тем в очень отделанной форме. Действие начинается in medias res и идет со все нарастающим напряжением и оригинальными ситуациями. Комических мотивов там – множество. Кроме того, ты знаешь, что мои мотивы никогда не трафаретны…». 10 февраля 1942 года: «…в здешнем театре… мне очень сочувствуют… Может быть, на днях я буду в кругу избранных артистов читать свою трагедию „Расколотые“. Практических результатов это иметь не может (все единогласно говорят, что это слишком несовременно), но мне это служит некоторой моральной поддержкой, укрепляет меня в сознании, что из меня еще может выйти недурной драматург».
Чтение состоялось; историк Е. А. Миллиор, занесенная в Сарапул прихотью эвакуации, тридцать лет спустя помнила песенку: «…Вот так будет молочко!» 20 марта 1942 года Ярхо пишет: «…Скучно мне нигде не будет… я всегда что-нибудь пишу, а люди хвалят, но последнее неважно…». 16 марта: «Зачем нам Самарканд? Зачем нам библиотеки? Разве нам еще надо учиться? Я вот – один из образованнейших людей в Союзе, а ничего, кроме горя, от этого не вижу… Вчера я справил седьмую годовщину своих скитаний. Пора отдохнуть на земле или в могиле». 26 марта ему исполняется пятьдесят три года. 28 марта он оглядывается на жизнь: «В жалком теле – жалкая душа… О чем мне, в самом деле, еще осталось мечтать после крушения всей жизни, после неудачи во всех начинаниях, после разрушения физического организма? Только немного покоя! Немного тепла физического и морального. Вот зачем я обращаюсь к вам, дорогие мои… Пожалейте меня, как я вас жалею. – Боря». Последнее письмо – карандашом, неровными строчками, из больницы: «Помимо общего истощения, у меня, должно быть, что-то серьезное… Пролежу, надо думать, долго… В больнице кормят отлично. Уход внимательный, отношение сердечное…». Это – 27 апреля 1942 года. Диагноз был – милиарный туберкулез. 3 мая 1942 года Б. И. Ярхо умер.
Пьеса «Расколотые» печатается по рукописи, хранящейся в РГАЛИ (ф. 2186, оп. 1, ед. 164): карандашный автограф в четырех ученических тетрадях, беловой, почти без поправок. Цитированные письма – там же, ед. 174.
СЕМИНАР А. К. ЖОЛКОВСКОГО – Е. М. МЕЛЕТИНСКОГО 290
ИЗ ИСТОРИИ ФИЛОЛОГИИ В МОСКВЕ 1970–1980‐Х ГОДОВ
Эта заметка – попытка рассказа об одном филологическом семинаре – или кружке, – который работал в Москве в 1970‐х годах и был одним из маленьких центров неофициальной науки в неблагоприятные для нее годы.
Собственно, к истории университетской науки в буквальном смысле слова этот семинар вряд ли имеет отношение. Из участников его лишь немногие преподавали в Московском университете. Университетская наука в СССР находилась под особенно строгим присмотром, потому что она имела возможность распространять свои мысли в непосредственном общении с учащимися. Академической науке с ее малотиражными учеными изданиями было немного легче. А многие талантливые филологи вынуждены были работать не по специальности или иметь в запасе вторую специальность.
(Виктор Шкловский в 1920‐х годах учил молодых писателей не специализироваться на литературе слишком рано и сохранять специальность близкую к жизни. В русской филологии последних советских десятилетий происходило то же самое, но, как говорится, не от хорошей жизни. Когда уже в перестроечное время было затеяно академическое собрание сочинений О. Мандельштама, то среди его подготовителей-мандельштамоведов самого высокого класса оказались ученые с дипломами географа, инженера, психиатра, хирурга; и даже те двое, которые имели филологические дипломы, по образованию были специалистами не по русской литературе, а по менее надзираемой античной.)
Семинар по семантической поэтике, занимавшийся главным образом анализом поэтического языка и текста, собирался в 1976–1979 годах на квартире у А. К. Жолковского (сейчас – профессор в Университете Южной Калифорнии, США) и в 1979–1983 годах на квартире у Е. М. Мелетинского (сейчас – руководитель Института высших гуманитарных исследований в Москве). Но этим годам предшествовало приблизительно столько же лет любопытной предыстории.
Этот семинар интересен главным образом как одна из ветвей развития московско-тартуской семиотической школы. Эта заслуженная школа уже стала достоянием истории, трудам ее посвящены не только антологии, но и воспоминания-ретроспективы291. Центрами московско-тартуской школы были сектор структурной типологии славянских языков Института славяноведения АН СССР в Москве (под руководством Вяч.Вс. Иванова) и кафедра русской литературы Тартуского университета (под руководством Ю. М. Лотмана). Работа начала организовываться в Москве в конце 1950‐х годов, быстро была заглушена, и в 1964–1974 годах центр ее переместился в Тарту, где местные условия складывались более благоприятно («более благоприятно» – далеко не значит «благоприятно»292). Там с 1964 года собирались летние научные школы (пять раз) и выходили «Труды по знаковым системам». После 1974 года летние школы прекращаются, тартуская кафедра и московский сектор работают раздельно, встречаясь на непериодических конференциях. К этому времени и формируется семинар Жолковского – Мелетинского.
Тарту, благодаря Ю. М. Лотману, был центром литературоведческих интересов московско-тартуской школы; Москва, благодаря Вяч. Вс. Иванову и В. Н. Топорову, – центром интересов лингвистических (хотя, разумеется, реальный круг интересов и там, и здесь был гораздо более широк). Та часть московских филологов со структуралистскими вкусами, которым литературоведение было ближе, чем лингвистика, и образовала состав семинара Жолковского – Мелетинского. Многие его участники работали в секторе Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова, но с литературоведческими докладами приходили сюда, зная, что найдут заинтересованных слушателей и собеседников.
Однако зерно, вокруг которого выкристаллизовался этот семинар, было неожиданно инородным. Удавшийся семинар по анализу текста сложился на развалинах неудавшегося семинара по анализу стиха.
Изучение стихосложения с помощью точных методов статистики и отчасти теории вероятностей было когда-то гордостью русской науки 1910–1920‐х годов. Потом почти на тридцать лет оно прекратилось: для официальной идеологии это был вредный формализм. Возродилось оно около 1960 года сразу в двух очень непохожих местах и направлениях. Одно – группа Л. И. Тимофеева в московском Институте мировой литературы АН СССР. Здесь собрались выжившие ветераны московского стиховедения 1920‐х годов, а вокруг них – молодые литературоведы, интересовавшиеся возрожденной наукой; точные методы здесь не преследовались, но и не приветствовались. Другое – группа академика А. Н. Колмогорова, математика с мировым именем, работавшего на механико-математическом факультете МГУ. Серия его статей о стихе появилась в 1963–1968 годах293. Здесь, наоборот, точные методы исследования были в центре внимания: задачей была точность определений, строгость описаний, коррекция статистических подсчетов и вероятностных моделей, использовавшихся в старом формалистическом стиховедении. Здесь участниками были почти исключительно математики; филологи (такие, как Вяч.Вс. Иванов или А. А. Зализняк) появлялись лишь время от времени. Эти два стиховедческих круга почти не пересекались.
Имя А. Н. Колмогорова привлекло внимание ученых весьма далеких и от стиховедения, и от точных методов в филологии. В московском Институте иностранных языков (место, пожалуй, еще более идеологически бдительное, чем Институт мировой литературы) заведующим английской кафедрой был И. Р. Гальперин (редактор Большого англо-русского словаря), человек старый, осторожный и тщеславный. На его кафедре работала Марина Тарлинская – одна из немногих молодых ученых, всерьез продолжавших статистическое стиховедение 1920‐х годов (сейчас – профессор в Сиэтле, США, автор трех монографий, впервые внесших статистические методы в изучение английского стиха). Она обратила внимание шефа на область филологии, которой интересуется Колмогоров. Гальперину было выгодно привлечь внимание большого ученого: он организовал при Инязе группу по лингвистической поэтике. Официальным руководителем сделался А. А. Леонтьев, специалист по (только что начинавшей разрабатываться в СССР) психолингвистике.
Это было в конце 1967-го, юбилейного года советской власти; один из первых докладов сделал Леонтьев – о советских исследованиях поэтической речи за пятьдесят лет. Затем были действительно два-три доклада по статистическому анализу стиха, а больше – с традиционно-импрессионистическими характеристиками техники стиха и перевода; большинство докладчиков были не из Иняза, а со стороны. Все ждали Колмогорова. Колмогоров приехал, выступил в большой аудитории с докладом о направлениях и результатах своих исследований, ответил на не очень разумные вопросы, но от постоянного сотрудничества с инязовской группой решительно отказался. Интерес начальства к лингвистической поэтике тотчас упал до нуля. Сборник статей по стиховедению и смежным темам, составленный с большим трудом, остался неизданным. Группа сократилась до немногих (не больше десятка) участников, действительно активно заинтересованных лингвистической поэтикой, в Инязе не служивших (за одним-двумя исключениями) и собиравшихся в его мелких аудиториях уже без начальственного присмотра. Это и оживило, и перенаправило ее работу.
Среди оставшихся оказались А. К. Жолковский, в это время одновременно занимавшийся машинным переводом и структурной семантикой совместно с И. А. Мельчуком и порождающей поэтикой совместно с Ю. К. Щегловым (сейчас – профессор в Висконсине, США); Д. М. Сегал (сейчас – заведующий кафедрой славистики в Иерусалиме); Ю. И. Левин, математик, тогда – автор первых образцовых анализов (конечно, рукописных) стихотворений Мандельштама294. Оставались и стиховеды – как М. Тарлинская, как С. И. Гиндин (теперь – едва ли не лучший в Москве специалист по теории текста), как я. Но их было меньше, и центр тяжести интересов группы стал смещаться на лингвистическую поэтику. Что это такое, было не совсем ясно, и каждый из участников, кажется, представлял ее по-своему. Но хорошо было то, что отвлеченные методологические вопросы здесь не обсуждались; вместо этого предлагались (чаще всего) анализы конкретных стихотворений на всех уровнях их строения (образы и мотивы, стиль, стих) с заботой о точности и структурной систематичности описания, и здесь у всех находился общий язык. Стихотворения брались сложные (особенным вниманием пользовался Мандельштам), разборы делались очень детальные, иногда доклады с обсуждениями затягивались на два заседания. Я помню, как впервые позволил себе выйти за рамки моей стиховедческой специальности: Жолковский предложил интерпретацию последовательности образов в стихотворении Мандельштама «Я пью за военные астры…»; эта интерпретация показалась мне более артистичной, чем убедительной, и я предложил немного другую, стараясь следовать его же, непривычным для меня правилам; мне казалось, что я его пародирую, но он отнесся к этому серьезно и попросил разрешения сделать ссылку на меня. Так я стал осваивать жанр анализа поэтического произведения.
Эти малолюдные заседания под кровом Иняза продолжались два года и имели характерный для своего времени конец. В 1970 году в Москве был на стажировке Джеймс Бейли (Bailey), американский стиховед, ученик Р. Якобсона и К. Тарановского. Его пригласили сделать на очередном заседании доклад о стихе Йейтса (W. B. Yeats). Руководителей от начальства на заседаниях группы, как сказано, не было; однако начальство тотчас узнало об этом намерении и в последний момент категорически запретило устраивать в помещении Иняза доклад буржуазного ученого. Участники уже собрались; пришел Бейли; мне пришлось выйти ему навстречу и сказать в лицо, что его доклад отменяется. Он не очень удивился, повернулся и пошел прочь. Никогда не забуду этого стыда. Доклад свой он все же сделал в другом прибежище неофициальной науки – в лаборатории структурной типологии языков при МГУ, где главным лицом был Б. А. Успенский, ближайший сотрудник Лотмана (сейчас – профессор в Неаполе), и где выступали с докладами и Лотман, и Вяч. Вс. Иванов.
После этого Институт иностранных языков перестал пускать под свой кров неблагонадежную группу, тем более что члены ее, кроме разве Тарлинской, и не были сотрудниками института. Наступил период бездомности. Несколько раз собирались в Институте русского языка АН, где ее работой заинтересовался В. Д. Левин, занимавшийся стилистикой и историей художественного языка (дядя Ю. И. Левина, потом профессор в Иерусалиме); здесь Д. Сегал делал ювелирный анализ мандельштамовского «Сестры – тяжесть и нежность…». Стиховедение еще дальше отступило на второй план; С. И. Гиндин пишет о своем докладе «Стихотворный метр как конечный язык и задание метров порождающей грамматикой»: «…помню, как крякнул при таком заглавии В. Д. Левин». Но Левин сам был в плохих отношениях с начальством своего института и вскоре был вынужден эмигрировать; еще раньше эмигрировал Д. Сегал. В 1976 году заседания возобновились наконец на квартире у А. К. Жолковского. Ю. И. Левин пишет: «Поразительно, что потребовалось четыре года, чтобы прорезалась наконец идея, что можно собираться безо всякой „крыши“, официальной или полуофициальной, просто дома». Видимо, действовало подсознательное различение: собираться «просто дома» для «кухонных» разговоров о политике – естественно, наука же, даже неофициальная, имеет право на бóльшую публичность. Заседания продолжались до весны 1979 года, когда пришлось эмигрировать уже самому Жолковскому, а вскоре потом и Щеглову.
За четыре года состоялось около сорока пяти заседаний (обычно – каждые две недели, с перерывом на лето). Самыми постоянными участниками оставались А. К. Жолковский, Ю. К. Щеглов, Ю. И. Левин; их доклады звучали чаще всего. Столь же часто присутствовали (но с докладами выступали редко) Е. М. Мелетинский, фольклорист с международной известностью, и его жена И. М. Семенко, исследовательница Мандельштама, Жуковского и Батюшкова. Из лингвистов с литературоведческими интересами чаще всего приходили Т. В. Цивьян, О. Г. Ревзина ([ее темой была] лингвистическая поэтика Цветаевой) и Т. М. Николаева; однажды сделал доклад Б. А. Успенский.
Выступали с докладами Ю. Л. Фрейдин, мандельштамовед; О. А. Седакова (очень известная поэтесса, тогда аспирантка Института славяноведения); С. Ельницкая (сейчас – в Вермонте, США).
На интересовавших их докладах появлялись лингвист и культуролог В. М. Живов, романист (и знаток Вл. Соловьева и начала ХX века) Н. В. Котрелев, фольклорист С. М. Толстая, лингвист А. Я. Шайкевич, античница Н. В. Брагинская, а один раз, по особой просьбе хозяина, «знаменитый своим отшельничеством В. Н. Топоров» (выражение А. К. Жолковского). Когда в Москве оказывались ленинградцы или прибалтийцы, они тоже приходили на заседания, иногда с докладами: Б. М. Гаспаров (сейчас в Нью-Йорке), И. А. Паперно (сейчас в Беркли), Г. А. Левинтон, М. Б. Мейлах, Р. Д. Тименчик (сейчас в Иерусалиме), И. А. Чернов, Е. А. Тоддес, киновед Ю. Цивьян; несколько раз приходил Ю. М. Лотман.
Из иностранных гостей самым долгим был К. Тарановский (он провел в Москве несколько месяцев в 1976 году; только что вышла его первопроходческая книга о поэтике Мандельштама); с докладом о Хлебникове выступал его ученик Х. Баран; бывали М. Марцадури, Т. Лангерак, J. M. Meijer, Э. Браун и другие.
А. К. Жолковский и Ю. И. Левин сохранили записные тетради, по которым можно восстановить даты и содержание докладов. Вот, например, перечень заседаний в сезоне 1976/77 года:
15.11.1976: О. Г. Ревзина, анализ стихотворения Цветаевой «Та, что без видения спала…»; 29.11: И. М. Семенко, интерпретация эпиграммы Батюшкова «Три Пушкина в Москве…»; 13 и 20.12: А. К. Жолковский, о том же стихотворении Мандельштама «Я пью за военные астры…»; 10.1.1977: М. Л. Гаспаров, по поводу книги: S. Broyde. Mandelstam and his age (1975) – контринтерпретации нескольких стихотворений; 7.2: Т. В. Цивьян, семиотика французского языка в «Подростке» Достоевского; 28.2: Ю. И. Левин, «О типологии непонимания текста»; 14.3: Б. А. Успенский, «Имяславие у Мандельштама» (имяславие – ересь в православии начала ХX века, перекликавшаяся с трактовкой слова в мировоззрении Мандельштама); 29.3: М. Л. Гаспаров, «Дериваты русского гексаметра»; 4.4: О. Г. Ревзина, «Некоторые особенности поэтического синтаксиса Цветаевой»; 18.4: М. Л. Гаспаров, «Семантический ореол 3-стопного ямба»; 16.5: А. К. Жолковский, «Прием „затемнения“ и его место в детских рассказах Толстого».
Много лет спустя в ретроспективном обзоре идей и быта русской семиотики 1960–1970‐х годов295 А. К. Жолковский писал:
Культурная позиция, стоявшая за деятельностью московско-тартуской школы, представляла собой целый комплекс установок, в который, наряду с собственно теоретическими исследованиями, входили также: реабилитация запретных литературоведческих школ (формалистской и других) и запретных авторов (Цветаевой, Мандельштама и других); и, наконец, непосредственное изучение русской литературы, официальной и неофициальной, которое было задержано сталинизмом и могло быть теперь продолжено с применением как вновь обретенных старых, так и разрабатываемых новых теоретических средств. Это культурное предприятие часто вынуждено было прибегать к эзоповому языку…296 и т. д.
Все это относится и к работе описываемого семинара, но в разной степени. Меньше всего в нем было «эзопового языка». Так Жолковский называет специфически усложненную структуралистскую терминологию («дискурс», как теперь принято говорить), которая делала печатаемые статьи совершенно непонятными для цензоров – но вместе с этим и для многих потенциальных читателей. Здесь, где обсуждение было устным и оглядки на цензуру не требовалось, и доклады, и обсуждения звучали гораздо понятнее, чем публикации (иногда – статей по этим докладам) в «Трудах по знаковым системам» тех же лет.
«Собственно теоретические исследования» – это не значит «абстрактные, отвлеченные». Структуралистов и семиотиков упрекали в том, что для них конкретные анализы – лишь подсобный материал для проверки универсального метода. Здесь этого не было, скорее наоборот: конкретные анализы нащупывали пути к общим закономерностям. Философского обоснования методов не было, слово «герменевтика» не произносилось.
Ю. И. Левин справедливо писал, что это была реакция на то половодье идеологии, которое разливалось вокруг. Пожалуй, единственный ряд докладов, похожих на «проверку универсального метода», – это доклады самого А. К. Жолковского по генеративной поэтике, которую они в это время разрабатывали с Ю. К. Щегловым297. Речь идет об инвариантной теме/идее, присутствующей во всех без исключения произведениях Толстого (или Пастернака, или Пушкина), и о ряде приемов и сочетаний приемов, конкретизирующих эту тему до текста отдельного произведения. Один из таких приемов – упомянутое в перечне докладов «затемнение» между кульминацией и развязкой («раздался выстрел; когда дым рассеялся, то все увидели…»). Единством темы и методики был объединен и ряд докладов пишущего эти строки о семантике русских стихотворных размеров (как гексаметра и 3-стопного ямба, так и других), но здесь никакой универсальной теории не было, она нащупывалась в процессе работы298.
«Реабилитация запретных филологических школ» вряд ли была целью изучения: работы русских формалистов 1920‐х годов – Шкловского, Эйхенбаума, Тынянова – были для участников уже выученной азбукой. Другое дело – ознакомление с современными направлениями филологического структурализма на Западе. В воспоминаниях о московско-тартуской школе много и верно говорится об ощущении культурного единомыслия между русскими и, скажем, французскими структуралистами 1960‐х годов; но в практической работе семинара Жолковского это не чувствовалось. Были попытки докладов с общеознакомительными обзорами недавних западных книг: А. К. Жолковский делал обзор работ Dan. Laferriere’а, где структурный анализ скрещивался с психоанализом (это никому не понравилось), Ю. К. Щеглов и я реферировали книгу J. Culler’а о структурализме, и это почти все. Было ощущение, что уже накопленный опыт русского и западного (якобсоновского) структурализма настолько обширен, что еще нужно много труда, чтобы превратить его в четко работающую систему аналитических приемов, и поэтому гнаться за модой просто нет времени. Кроме того, не нужно забывать, что русские научные вкусы всегда на шаг отставали от западных: во время расцвета московско-тартуского структурализма во Франции уже шумел ранний постструктурализм, отношение к которому в кружке было скорее осторожно-недоверчивое. А. К. Жолковский потом блестяще овладел и его приемами299, но в работах других участников этого семинара трудно заметить постструктуралистские влияния.
Зато «реабилитация запретных авторов» много значила для всех сотрудников. Одним из первых докладов на квартире у Жолковского был блестящий и подробнейший анализ образной структуры «Мастера и Маргариты» М. Булгакова, сделанный приехавшим из Тарту Б. М. Гаспаровым и растянувшийся на два заседания (плюс третье, с содокладом Ю. К. Щеглова): темы «Москва», «пожар», «деньги» и т. д.300 Доклады о стихах Мандельштама с политическими (по книге С. Бройда) или религиозными («имяславие») мотивами и о «Я пью за военные астры…» уже упоминались; к ним можно добавить подробнейший анализ самого трудного стихотворения Мандельштама («Стихи о неизвестном солдате», 1937), сделанный Ю. И. Левиным, и обобщающий доклад Ю. Л. Фрейдина о контекстах и подтекстах у Мандельштама (в присутствии К. Тарановского, начинателя подтекстного анализа). Сам К. Тарановский сделал доклад не о главном своем герое, Мандельштаме, а о Пастернаке: интерпретация двух его стихотворений, малопонятного и (внешне) понятного301. Еще один анализ его позднего и внешне понятного стихотворения принадлежал Ю. И. Левину; Пастернаку же – в неожиданном сопоставлении – был посвящен доклад Жолковского «Тема и вариации у Пастернака и Окуджавы», о выявлении той инвариантной темы, с которой начинается построение порождающей поэтики. Аналогичный анализ инвариантной и вариантных тем Ахматовой сделал Щеглов; об одном из ее устойчивых образов («одно в другом») – О. А. Седакова; об одном из ее частных мотивов (память, пепел, табак – с их мифопоэтическими истоками, что в общем было нехарактерно для интересов кружка) – М. Б. Мейлах302. Цветаева была в центре внимания О. Г. Ревзиной (преимущественно на языковом уровне)303 и С. Ельницкой (преимущественно на образном уровне)304. О докладе Х. Барана с интерпретацией темных стихотворений Хлебникова уже упоминалось305. О поэтике обэриутов (техника абсурда у А. Введенского) рассказывал М. Б. Мейлах, исследователь и издатель их текстов. Характерно, что Маяковский ни разу не стал предметом доклада: официальный культ этого поэта (по-советски препарированного, конечно) вызывал у большинства участников молчаливое психологическое отталкивание.
«…И, наконец, непосредственное изучение русской литературы, которое могло быть теперь продолжено с применением как вновь обретенных старых, так и разрабатываемых новых теоретических средств», – оно, конечно, было фоном для всего этого исследования поэтики начала ХX века, но предметом специальных докладов становилось реже. Проблемы ставились те же, но материал был лишен привкуса запретного плода. Характерной была реакция на доклад Б. М. Гаспарова и И. А. Паперно (перед самой их эмиграцией) о революционно-демократическом романе Чернышевского «Что делать?», со школьных лет опостылевшем каждому советскому человеку. Авторы, привлеченные замечательной главой о Чернышевском в «Даре» В. Набокова, решились подойти к этому роману не как к идейному, а как к чисто литературному явлению и открыли в нем интереснейшую систему приемов сюжетной иронии – главным образом восходящих к Стерну.
После доклада наступила минутная тишина, а потом чей-то неуверенный голос: «Так вы хотите сказать, что „Что делать?“ – хорошая книга?» – и почти извиняющийся ответ Б. М. Гаспарова: «Пожалуй, да». В научном кружке, где в рассуждениях принципиально не допускалось никакой оценочности, это звучало почти трогательно.
Пушкин был предметом обсуждения в докладе О. А. Седаковой о диалектике образов в «Медном всаднике»; Лермонтов (его стихотворение «Есть речи – значенье / Темно иль ничтожно…») – исходной точкой доклада Т. М. Николаевой об инвариантной теме небесных звуков, внушающих поэту его песни306; стихотворения Фета, состоящие из безглагольных предложений, – материалом для анализа композиции на всех уровнях (М. Л. Гаспаров). О разборе техники комического в эпиграмме Батюшкова уже говорилось; аналогичным образом доклад Ю. К. Щеглова об одной эпиграмме Дмитриева назывался «Фрагмент теории эпиграммы». Материал иностранных литератур привлекался тоже нечасто: Щеглов и Жолковский исследовали строение латинской «Исповеди» Архипииты (Archipoeta) и одного хрестоматийного стихотворения Гюго (как всегда, оказавшегося более интересным, чем кажется); Ю. И. Левин демонстрировал технику «рассказа в рассказе» на материале новелл Борхеса (тогда почти неизвестного в России; «идет впереди моды», сказал кто-то); единственный доклад Е. М. Мелетинского был о структуре японского «Гэндзи-моногатари»307. (Основная специальность Е. М. Мелетинского – фольклор, Т. М. Николаевой – славянская фонетика, пишущего эти строки – стихосложение и античная литература; можно видеть, как сходились в этом семинаре интересы самых разных специалистов.) Наконец, доклад Г. А. Левинтона назывался «Поэтический билингвизм, межъязыковое влияние и перевод», и речь в нем шла об иноязычных созвучиях, в качестве подтекстов присутствующих за русскими словами текста: например, когда Мандельштам пишет «Фета жирный карандаш» – и держит в уме слово fett, или пишет «Есть блуд труда, и он у нас в крови» – и держит в уме слово Blut.
Особого упоминания заслуживает тематика докладов Ю. И. Левина: «О типологии непонимания текста» (локальное, глобальное, синтаксическое, семантическое…), «Логико-семиотический эксперимент в фольклоре» (о пословицах-парадоксах), «Семиотика советских лозунгов» (лозунги как магические формулы, воздействующие на действительность даже при невольном их прочтении, и т. д.)308. Они не анализируют отдельные конкретные тексты, а держатся более высокого уровня структурных обобщений, намечая тот путь, по которому автор в дальнейшем придет к построению «инвариантов философского текста» Вл. Соловьева и Л. Шестова.
«Но этот пир сотрудничества происходил на фоне и в преддверии нового расставания <…> – отъезда многих в эмиграцию, – пишет Жолковский. – Подав летом 1978 года заявление о выезде, я оповестил об этом участников семинара, с тем чтобы они решили, продолжать ли заседания на отныне неблагонадежной квартире (к М. Л. Гаспарову я обратился с машинописным посланием в латинской транслитерации, призванной буквально эмблематизировать мое решение). Но никто не дрогнул, и семинар просуществовал еще год – до моего отъезда – в том же виде и на той же территории, а в дальнейшем, насколько я знаю, перебазировался к Мелетинским»309.
Да, это было именно так: в июне 1979 года прошло последнее заседание у Жолковского, в октябре 1979‐го состоялось первое заседание у Мелетинского. Забавная параллель (кажется, ненамеренная): когда-то первым докладом «на территории» Жолковского в 1976 году был мой, «Первый кризис русской рифмы», теперь первым докладом «на территории» Мелетинского оказался тоже мой, «Последний кризис русской рифмы». Здесь собирались еще четыре сезона, хотя немного реже, чем раньше; было около двадцати пяти докладов.
Елеазар Моисеевич Мелетинский был ученым старшего поколения – лет на двадцать старше среднего возраста других участников семинара. Недавно к его 80-летию был выпущен том его работ под заглавием «Избранные статьи; воспоминания» (М., 1998). В «Воспоминаниях» две части – «Моя война» и «Моя тюрьма»: в тюрьме и концлагере он побывал дважды, один раз – девять месяцев, другой раз – пять лет, вышел только после смерти Сталина. По образованию филолог-германист, он специализировался на изучении мифа в фольклоре и в литературе – без модных мифопоэтических крайностей, на твердой структуралистской позиции Леви-Стросса и Дюмезиля. Начальство его не любило (и кандидатскую, и докторскую диссертацию ему пришлось защищать дважды), а молодые ученые ценили: он воспитал нескольких прекрасных учеников-фольклористов. Став «хозяином» семинара, он вел себя так же, как прежде: внимательно слушал, мало говорил, сам докладов не предлагал. Состав участников и тематика сообщений стали обновляться, появились темы по фольклористике: «Потусторонний мир как мир наизнанку» (Б. А. Успенский), «Обряд и нарратив в сибирском шаманизме» (Е. Новик), «Эскимосские сказки» (Г. А. Левинтон); замечательно красочный рассказ об этнографической экспедиции к староверам в сибирскую Туву произнесла С. Е. Никитина. Даже Ю. К. Щеглов в последнем своем докладе перед отъездом в эмиграцию взял тему «Принципы изучения поэтики формул» (по Парри и Лорду), использовав материал африканских языков – одной из своих старых специальностей. Под конец своего существования семинар сам собой разделился на две секции: «малый семинар» с преимущественно фольклористической тематикой и «большой», державшийся прежнего круга материала.
Стали чаще появляться ученые старшего поколения из круга друзей Мелетинского. Почти на всех заседаниях сидел и внимательно слушал, но никогда не выступал арабист И. М. Фильштинский, друг его еще по северному концлагерю. Два доклада сделал Г. А. Лесскис, в это время повернувшийся от изучения языка литературы к изучению мировоззрения писателя; он был автором замечательных исследований по статистике языковых форм в русской классической прозе, здесь же первый его доклад назывался «Синтагматика и парадигматика художественного текста» (почему художественный текст многозначен?), а второй – «Пушкин и христианство»310. Для участников семинара это было не совсем ожиданно. Более вписывался в установившуюся тематику доклад почетной гостьи из Ленинграда Л. Я. Гинзбург, начинавшей еще в 1920‐х годах: ее доклад был «К вопросу о поэтической символике» и развивал темы ее не раз переиздававшейся книги «О лирике» («от символа к предмету» у символистов, «от предмета к символу» – у Анненского, Ахматовой, Пастернака).
Вяч.Вс. Иванов (у Жолковского бывавший редко) сделал доклад об инвариантной структуре поздних романов Достоевского: о группировке героев в любовные треугольники и в идейные треугольники («чорт – Иван – Смердяков»). Подобным же образом Н. В. Брагинская рассказывала об инвариантах древнегреческих эпитафий, а пишущий эти строки – об инвариантной композиции цикла стихов Бенедикта Лившица о Петрограде.
Бинарные оппозиции в «Слове о полку Игореве» (русские – половцы, человек – природа, свет – тьма…) стали предметом анализа в докладе Т. М. Николаевой311. Попыткой интерпретации очень темного поэтического текста был мой доклад о «Поэме Воздуха» Цветаевой (запоздалая полемика с идеями С. Ельницкой на семинаре Жолковского). О не менее темном стихотворении Мандельштама был доклад «Черновые варианты „Грифельной оды“» И. М. Семенко, жены Е. М. Мелетинского, много работавшей над архивом Мандельштама с вдовой поэта312.
Самым обобщенно-теоретическим докладом за эти годы был, как кажется, доклад С. И. Гиндина «Текст как единица в лингвистике и семиотике». Приближался к этому уровню абстракции доклад польской гостьи Т. Добжинской (Dobrzynska) о метафоре в отношении к связности текста, но участникам он не показался удачным: более старая работа Ю. И. Левина о метафоре (1965) была интереснее.
Семинар прекратил заседания летом 1983 года. Ощущения внутренней исчерпанности не было: казалось, что он не закончил, а оборвал работу. Много лет спустя Е. М. Мелетинский объяснил это просто: в 1982 году умер Брежнев, к власти пришел Ю. Андропов, человек из КГБ, и Мелетинский с его жизненным опытом почувствовал беспокойство за судьбу несанкционированных собраний. Он перестал собирать семинары, не дожидаясь, чтобы ему это приказали официально.
На самом деле, как это ни может показаться странным, никакой политики в разговорах собиравшихся не было. Советскую власть не любил никто, но об этом не разговаривали или разговаривали в других местах. Скорее всего, здесь действовало просто невольное стремление к соблюдению чистоты научного жанра. Кроме научных интересов, объединяли вкусы: свидетельство – общий интерес к поэзии начала ХX века, видный из выбора обследуемого материала. Но опять-таки крайности избегались: докладов не было не только о Маяковском, которого большинство недолюбливало, но и о Набокове, которым большинство восхищалось. (О Набокове в те годы я помню лишь один доклад – на открытой конференции, где даже имя эмигрантского писателя не имело права звучать. Доклад молодого М. Ю. Лотмана назывался «О поэзии Ф. Годунова-Чердынцева» и делался так невозмутимо, что мне нужно было усилие, чтобы вспомнить, что это – персонаж набоковского «Дара».) Не было не только атмосферы политического сообщества, но и атмосферы дружеского круга (какую с такой ностальгией вспоминают все участники тартуских летних школ): все участники были между собой на «вы» (кроме разве старых дружеских пар, вроде Жолковского и Щеглова). О том, чтобы, например, на каком-нибудь заседании сфотографироваться на память, не могло быть и мысли: если бы кто заговорил об этом, все подумали бы, что это – для КГБ.
После заседаний неизменно подавался чай с большим кексом, но и за чаем разговоры и воспоминания шли не об общественной, а о научной и, меньше, о литературной жизни. Те из участников, которые посещали заседания нерегулярно, замечали в обстановке «элементы ритуала»: постоянные участники, например, сидели обычно на одних и тех же местах, кто у большого стола, кто у стены на диване. Но никакой авторитарности не было никогда: открытость, внимательность, ощущение возможности общего языка – это лучшее, что осталось в памяти.
Какое место занимал этот семинар в расплывчатой истории московско-тартуской школы, чем он был похож и непохож на знаменитые летние школы, которые считаются полосой ее расцвета? Т. В. Цивьян, участвовавшая и там, и здесь, говорит приблизительно так:
В тартуских летних школах собирали как можно больше разных участников и как можно больше разных тем, чтобы можно было скрестить разнородный материал на одинаковых методиках подхода. Потом нужна была пауза, чтобы переварить в голове услышанное. Поэтому летние школы и прекратились на десятом году – а не только потому, что начальство заставило. Лотман не стал возобновлять их, даже когда явилась к тому возможность. В диалогах на летних школах присутствовало «безответственное придумывание», грозившее обернуться дилетантизмом, это тревожило Лотмана. Под конец стали выясняться некоторые общие базы научной работы: для филологов, для лингвистов, для фольклористов. Для филологов это была теория текста. Ее и начали обсуждать на московских семинарах – глубже и профессиональнее: не хор коротких выступлений, которыми с трудом дирижировал Лотман, а монологические доклады на заранее интересные темы, с подробным обсуждением, все вокруг анализа текста, с освоением техники и методики такого анализа. Тут и оказались удобной затравкой, во-первых, генеративная поэтика «от темы к тексту» Жолковского и Щеглова, а во-вторых, теория контекстов и подтекстов, подхваченная от Тарановского Левинтоном и Тименчиком. Хотя многим из нас генеративная схематика не очень нравилась. Не все работали на всех уровнях анализа, но внимательны были все ко всем, без эгоцентризма.
Семинар Жолковского – Мелетинского был не единственным местом в Москве тех лет, где можно было обменяться мнениями по семантической поэтике; но он был, пожалуй, самым долгодействующим (не считая, конечно, сектора структурной типологии Вяч.Вс. Иванова и В. Н. Топорова), остальные были по большей части недолгими конференциями. В записной тетради Ю. И. Левина, по которой здесь восстанавливается история семинара, вперемежку с записями о его заседаниях идут записи докладов в других местах. При начале, в 1976 году, когда в Москве был Тарановский, в доме у Е. Б. Пастернака и Е. В. Пастернак собирался семинар по поэтике Бориса Пастернака со многими интересными докладами. Сектор структурной типологии каждую весну устраивал конференцию «Ревзинские чтения» памяти И. И. Ревзина, одного из начинателей семиотики в России. Потом возникли, но, кажется, ненадолго, Реформатские чтения памяти А. А. Реформатского, ветерана еще Московского лингвистического кружка 1920‐х годов. В 1982‐м в секторе структурной типологии было заседание памяти Р. Якобсона. Випперовские чтения, памяти известного искусствоведа, происходили каждый год в Музее изобразительных искусств на очень широкие темы (например, «Время и пространство в искусстве»), позволявшие далеко выходить за пределы искусствоведения. Были конференции в ВИНИТИ (Всесоюзный институт научной и технической информации), были в Информэлектро (затрудняюсь расшифровать это название, хотя, кажется, сам выступал там на конференции)313: эти места были дальше от идеологического начальства. Можно было услышать интересный доклад даже на отделении структурной и прикладной лингвистики в МГУ («…научное гетто внутри филологического факультета», – сказала одна коллега); о лаборатории структурной типологии языков при МГУ314 уже упоминалось. Все это было небезразлично для выживания науки в последние десятилетия советской власти; подробная история этого научного быта, несомненно, еще будет написана. «В нависшей застойной атмосфере 1970‐х годов у этих встреч была какая-то функция подтверждения самоидентификации», – вспоминает одна из коллег по семинару Жолковского – Мелетинского.
Эти заметки по истории одного из московских филологических объединений времен брежневского застоя не могли бы быть написаны без записей, сохранившихся у А. К. Жолковского и Ю. И. Левина, без консультаций с С. И. Гиндиным, Т. В. Цивьян, О. Г. Ревзиной, М. Г. Тарлинской. За все вероятные ошибки, конечно, несу ответственность только я. Библиографические ссылки ни в коей мере не притязают на полноту: почти каждый из докладов, прозвучавших на семинаре, рано или поздно попадал в печать (чаще всего в тартуских «Трудах по знаковым системам»); здесь указывались только книжные публикации.
К 75-ЛЕТИЮ ДЖЕЙМСА БЕЙЛИ315
Фольклористы знают: в русской фольклористике есть область, которую изучают уже двести лет, если не больше, и которая все остается загадочной. Это русское народное стихосложение. Тредиаковский считал, что русский народный стих складывается из стоп, Востоков считал, что из ударных слов и словесных групп, Корш считал, что из музыкальных тактов, к которым подбираются слова. У каждого из них были свои последователи, которые иногда обставляли тезис основоположника такими оговорками, в которые могло укладываться что угодно, а иногда, наоборот, заостряли настолько, что в разбираемых текстах оказывалось больше исключений, чем правил. Обсуждался преимущественно эпический, былинный стих. Песенный, лирический стих – особенно в старых, ненадежных записях – казался таким бесформенным, что филологи предоставляли разбираться в нем музыковедам, а музыковеды – филологам.
Десять с лишним лет назад в этой темной области произошел переворот, мало кем замеченный, кроме узких специалистов. Вышла книга Джеймса Бейли «Три русских народно-песенных размера»316. Автор отважно взялся за предмет с самого трудного конца – с лирического, песенного стиха. Автор сам затруднил свою задачу, запретив себе апелляцию к музыке: для него в песне первичен словесный текст, а напевы налагаются на него, как разные декламаторские манеры налагаются на литературные ямбы и хореи. Автор еще более затруднил свою задачу, отказавшись от сравнительного материала других славянских языков: им можно пользоваться, только если знаешь, как эти разноязычные формы стиха развились из гипотетических размеров общеславянского стиха, а этого мы не знаем – это область ненадежных реконструкций. Джеймс Бейли – ученик Р. Якобсона, который прославился именно реконструкцией общеславянского прастиха как отводка общеиндоевропейского прастиха; но он твердо отстранился от теорий своего учителя, потому что это гипотезы, а наука должна опираться только на факты. Книга Бейли – демонстрация строго позитивистского подхода, запрещенного наукой XIX века: сухого, но неопровержимого.
Ограничив себя со всех сторон, Бейли остался лицом к лицу с материалом: с сотнями публикаций, с тысячами текстов русских народных песен, от Кирши Данилова до последних журналов и сборников и часто до архивных фондов, еще ждущих обнародования. Я был в его рабочем кабинете в Висконсинском университете (Мэдисон, США): все четыре стены, от пола до потолка, щетинились с полок страницами оттисков и ксероксов. Вот здесь ученый не позволял себе никакого ограничения материала: никаких искусственных выборок, тексты должны быть обследованы во всей полноте. В его монографии список использованных публикаций занимает 20 страниц, а вся библиография – 60 страниц. Всякий фольклорист понимает, какой за этим стоит исполинский труд. «Обследовать тексты» – это значит прежде всего выделить в них основной словесный текст, сплошь и рядом загроможденный в записях частностями, характерными только для распевной манеры. А затем – главное: разметить в этих текстах каждую строчку, подсчитать все слоги и ударения, выявить и рассортировать ритмические вариации, определить частоту каждой для каждой группы текстов. И уже потом искать обобщенные определения для просвечивающих сквозь эти цифры стихотворных размеров. Мы привыкли, что естественные науки пользуются подсчетами на каждом шагу; мы еще не привыкли, что гуманитарные науки тоже не могут обойтись без точных методов. В русском стиховедении точные подсчеты впервые применил Андрей Белый, мистик с образованием естественника; тому скоро будет сто лет. Русское стиховедение до сих пор далеко опережает западное в применении этих единственно надежных подсчетов. «Русским методом» называют этот подход на Западе; этот термин ввел в употребление именно Джеймс Бейли.
«Три русских народно-песенных размера», которым посвящена его книга, хорошо известны каждому. Это 4-стопный хорей: «Отставала-то лебедушка…». Если он теряет слог в середине, он становится 2-стопным анапестом: «Отставала лебедушка…». Если он наращивает слог в середине, он становится «двойным пятисложником», 5+5: «Отставала ли та лебедушка…». Если строки всех этих типов свободно сочетаются в одной песне, он становится двухударным акцентным стихом: «Отлетала лебедушка / От той стады лебединое…». Певец в зависимости от своих предпочтений всегда может перевести песню из одного размера в другой, то вставляя, то убирая наполнительные частицы «то», «ли», «да» и т. п., то используя переакцентуацию или стяженные формы слов; как он это делает, в книге тщательнейшим образом исследовано. При этом между текстами, правильно выдерживающими тот или иной размер, появляются переходные случаи: все ступени этих переходов тоже тщательно исследованы. Постороннему человеку может показаться, что ничего особенного в этом открытии нет: что-то такое смутно ощущал каждый, кто чутко прислушивался к народным песням. И только специалист способен оценить, какая это радость: сквозь хаос переходных и деформированных ритмов увидеть очертания правильных размеров, складывающихся в связную систему. Книга Бейли важна не только для не слишком многочисленных исследователей народной песни, она важна для всех исследователей народной поэзии тем, что она расчищает поле их работы, оттачивает методику и дает редкий по убедительности образец и ориентир.
В этом году Джеймсу Бейли, заслуженному профессору Висконсинского университета, исполняется 75 лет. Тридцать лет из них он положил на изучение русского народного стиха. Но это не единственная его тема: он писал и о русском литературном стихе, и об английском стихе (с подсчетами по «русскому методу»), выпустил антологию русских былин в английском переводе. Он всегда работал в тесном сотрудничестве с русскими стиховедами и фольклористами-музыковедами, хотя обстановка последних советских десятилетий мало этому благоприятствовала и в России он бывал реже, чем хотелось. Только в последние годы он стал постоянным участником наших международных стиховедческих конференций, и его работы открылись для русского читателя, любящего поэзию и народное творчество. В 2001 году вышла его книга «Избранные статьи по русскому народному стиху» (М.: Языки русской культуры, 2001) – он нарочно хотел, чтобы русские читатели ознакомились прежде всего не с итоговой его монографией, а с подготовительными и параллельными к ней статьями, позволяющими проникнуть в лабораторию исследователя, присмотреться к его методике и перенять его приемы, полезные для собственной работы. А в 2004 году вышла вторая, параллельная его книга: «Избранные статьи по русскому литературному стиху» (М.: Языки славянской культуры, 2004). Русским коллегам хотелось бы, чтобы это издание было знаком их уважения и благодарности к большому американскому ученому, посвятившему свою жизнь русскому стиху, русской поэзии и русской народной культуре.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗБРАННЫМ СТАТЬЯМ И. Ю. ПОДГАЕЦКОЙ 317
Эту книгу Ирина Юрьевна Подгаецкая не успела написать. Ей всегда интереснее было не писать, а думать и узнавать. Области интересов ее всегда лежали дальше, чем она сама предлагала, – с перелетом. Пятьдесят лет назад она пришла поступать на филологический факультет МГУ, на русское отделение. На собеседовании она по близорукости подошла не к тому собеседователю и оказалась поступившей не на русское, а на романо-германское отделение. Она не стала исправлять недоразумение, она специализировалась на французской литературе, занималась поэзией XVI века, учителями своими считала Д. Р. Михальчи и Ю. Б. Виппера. Но когда после университета она стала служить в Институте мировой литературы Академии наук, то оказалась не в отделе западной литературы, а в отделе теории. И опять не стала оттуда переводиться: здесь можно было узнать больше, чем на размеченных участках западной литературы. Разумеется, не столько по институтским планам, сколько по своим собственным. В свои последние десять лет она занималась больше всего поэтикой заглавий, поэтикой черновиков и поэтикой Пастернака. Ничто из этого в круг забот отдела теории ИМЛИ не входило. Плановые статьи она писала без большой охоты, сочинять книги и не думала, кандидатскую диссертацию защитила, только когда директор института, прочитав ее статьи, приказал ей взять отпуск и не возвращаться без диссертации.
Рассеянные по научным журналам и сборникам за тридцать с лишним лет ее статьи собраны здесь впервые. Они составили три раздела, как три ступени ее пути: «Русская литература», «Французская литература», «Теория литературы». И только после этого стало ясно, что все они находятся между собой во внутренней логической связи, складываются в очертании единого целого – той книги, которую Ирина Юрьевна Подгаецкая не написала и даже, кажется, не собиралась писать. Во всяком случае, ни с кем из друзей и коллег она об этих сквозных мыслях ее работы не разговаривала.
Этих сквозных мыслей было две. Одна – очень несовременная: что такое поэзия? Наперекор нашим романтическим привычкам – «поэтическое произведение есть акт интуитивного самовыражения, индивидуальный и неповторимый» – она всю жизнь напоминала о традиционализме и рационализме поэзии, о наборе общих мест, на фоне которых только и может ощущаться ее новаторство, о том, что даже самая авангардная поэзия гораздо традиционалистичнее, чем хочет казаться. Другая мысль, наоборот, очень современная: в чем специфика русской поэзии, ее истории, ее устойчивых и ее сменяющихся качеств? Прямо этот вопрос ставится только в одной статье, но именно к нему, прямо или косвенно, восходит проблематика всех или почти всех статей этой книги. Если читатель хочет понять их связь, пусть начнет чтение со статьи «„Свое“ и „чужое“ в поэтическом стиле. Жуковский – Лермонтов – Тютчев».
Здесь говорится: русская поэзия есть европейская поэзия. (Собственно, это очевидно, но ради неразумных фанатиков самобытности это приходится повторять.) Среди других европейских поэзий русская выделяется своим ускоренным развитием. От Симеона Полоцкого до Пушкина прошло полтораста лет – в других литературах на такой путь уходило лет по триста. Но путь был одинаковый. Сперва ученичество у иноязычных образцов: точно так же когда-то французская поэзия училась у итальянской, итальянская – у латинской, а латинская – у греческой. Затем – создание первых собственных образцов, начинается ученичество у них, но западные образцы не уходят, а продолжают сквозь них просвечивать, то слабее, то ярче. А затем – периодическое обновление этих образцов, все больше и больше углубляющее эту перспективу прошлого. Оно неизбежно, потому что образцов в прошлом и настоящем накапливается все больше, подражать всем сразу невозможно, становится необходим отбор. Стратегию этого отбора вырабатывает для себя каждый поэт, в том числе и перечисленные в заглавии Жуковский, Лермонтов, Тютчев. Эти стратегии складываются в борющиеся тенденции к усвоению традиции и к отталкиванию от нее, а поэзия развивается по равнодействующей между ними.
Далее на примерах описываются подробности этого универсального процесса. Как совершается освоение иноязычных образцов, виднее всего на эволюции переводов в разных литературах (статья «Перевод в системе исторической поэтики»). Как совершается освоение и отталкивание от своеязычных, непосредственных предшественников, можно видеть даже на современном материале, на том, чем отличалась поэзия 1970‐х годов от поэзии 1960‐х (статья «Историзм лирики»), хотя современное всегда кажется особенно пестрым и разобраться в его тенденциях особенно трудно. Как западные образцы просвечивают сквозь отечественные образцы, тому замечательный пример – Пастернак (статья «Пастернак и Верлен»): в одном своем стихотворении он опирается одновременно на Верлена и на Фета (который даже не знал о существовании Верлена), а за Фетом и Верленом в далекой перспективе маячит трубадурская поэтика весны (хотя Пастернак пишет не о весне, а о творчестве).
Здесь – важная подробность. Как к иноязычным и своеязычным образцам, так поэт относится и к собственным уже написанным стихам, и к первоначальным вариантам пишущихся стихов – вбирая достигнутое и отталкиваясь от достигнутого, стараясь быть верным себе, но не повторяться (статьи «Генезис поэтического произведения» и «Variantes textuelles et l’étude méthodologique des styles poétiques individuels»). Процесс творчества не так иррационален, как представляют романтики: это показывают те счастливые случаи, когда мы можем проследить ход работы поэта по его сохранившимся черновикам. Это направление исследования развилось во Франции во главе с Л. Робелем, И. Ю. Подгаецкая с ним сотрудничала, присматривалась, как случайные слова на листке, на котором пишется черновик, могут подсказать поэту поворот темы или как определить понятия «ранний, зрелый и поздний стиль» автора. Но изучение процесса не отменяет изучения результата: это только сами поэты настаивают на том, что творчество важнее сотворенного, чтобы сделать вид: «а я хотел еще лучше, чем получилось».
Как совмещаются и взаимодействуют тенденции к усвоению традиции и к отталкиванию от нее, показывается в статье «Поэтика Плеяды». Это здесь сказано, что при становлении равнодействующей этих двух тенденций «путь „золотой середины“, синтез старых и новых принципов может произойти лишь при максималистской установке на новое». Пример нерезкого отталкивания от традиции – поэзия Л. Лабе (статья «Луиза Лабе, Прекрасная Канатчица»), прививающая к французской итальянскую поэтическую традицию, но не забывающая о национальной. Она шла по пути эволюции, а не революции. А перспективнее оказался путь Плеяды – желание начать с нуля, не компромисс с национальной традицией, а вызывающий отказ от нее. Маро и Себиле были осторожными французскими Кантемирами, а путь проложили Ронсар и дю Белле, французские Ломоносовы. Но полный отказ от национальной традиции оказывается фикцией, и постепенно литературные революционеры сами канонизируются, сами вызывают отталкивание у потомков-классицистов, и начинается новый круг литературной эволюции.
Так складывается национальная традиция и все более крепнет и подавляет. Это никоим образом не противопоставляет ее другим национальным традициям, наоборот: именно в те моменты, когда национальная традиция, как считается, полнее всего выразила себя (это так называемая «классика»), национальная литература полнее и органичнее всего входит в мировую литературу (статьи «К понятию „классический стиль“» и «О французском классическом стиле»). Но специфика национальных традиций очень видна при сопоставлении одинаковых жанров в разных литературах. Во французской литературе классического XVII века лирическая поэзия уже насчитывала за собой не меньше трех веков развития, а в русской литературе пушкинского времени – только век. Басня – жанр не лирический, однако судьба ее оказалась определена этой ролью лирики в двух литературах (статья «Поэтика жанра и национальное своеобразие»). Русская басня сложилась под влиянием французской басни – Крылов даже свой пресловутый житейский образ строил по образцу Лафонтена (об этом Ирина Юрьевна рассказывала очень интересно, но в статье написать не пожелала). Однако результаты оказались различные: французская басня в своем пути эволюционировала от морали к лиричности, а русская басня – от сюжетной части к эпичности и драматичности. Не надо считать это национальной самобытностью, это не природа, а история. В эволюции басни чередуются волны морализма и эстетства, а для русского эстетства у Дмитриева еще не накопилось языковых средств, поэтому он оказался преждевременным и уступил место Крылову. А сто лет спустя, когда, наоборот, русская литература влияла на французскую в области революционной гражданской поэзии (статьи «Поэтика гражданственности» и «Эхо образов»), точно так же оказалось, что гражданская поэзия у Элюара – лиричная, книжная (но от этого не менее действенная), хотя у Маяковского она была публицистической, площадной. Не надо забывать и о том, что национальная традиция никогда не бывает единой, она расслаивается на высокую и низовую, на Гюго и Беранже (статья «Соотношение „народного“ и „национального“ в поэтическом стиле»), которые решают одинаковые задачи разными средствами, и Гюго оказывается неожиданно созвучен с Некрасовым, а Беранже – любимым поэтом Льва Толстого. Это небезразлично для сегодняшнего соперничества русских авангардистов с почвенниками.
На фоне этого национального стиля и во взаимодействии с ним поэт вырабатывает наконец свой индивидуальный стиль. Традиция дает в его распоряжение накопившийся набор привычных образов и приемов – как фольклорные клише, общие места. Поэт делает из этого отбор и новые комбинации. Как делается индивидуальный отбор излюбленных мотивов, показывается в статье «Поэтический образ и действительность». Как этот отбор выступает общим знаменателем так называемой личности автора, неожиданным образом становится особенно видно в поэзии на случай (к которой относится и гражданская поэзия) – об этом статья «Стилевые формы общения с массовой аудиторией». В поэзии на случай задача поэта – увести читателя от конкретного случая на искусственно созданную эстетическую дистанцию к своим и общим идеям; именно это по-своему делают такие разные мастера поэзии на случай, как Пиндар, Маяковский, Гете, Некрасов, Элюар. Но для индивидуального стиля еще важнее, чем отбор, – комбинация элементов. Об этом статья «„Свое“ и „чужое“ в индивидуальном поэтическом стиле». Индивидуальный стиль – это не столько добавление нового в поэтический арсенал, сколько реорганизация старого; это показывается главным образом на Пушкине, но также и на Гюго и на Бодлере. Из одного и того же запаса образов, мотивов, общих мест стиля своей эпохи разные поэты формируют разные индивидуальные стили. Чтобы оценить индивидуальность автора, нужно представлять фон эпохи, иначе возникают аберрации. С течением времени этот фон забывается, и тогда или общность мотивов и приемов становится заметнее (Корнель и Расин для современников были антиподы, а нам кажутся близнецами), или, наоборот, общее кажется индивидуальным (и мы хвалим Грибоедова за то, за что следовало похвалить Шаховского). Восстановление реальной ощутимости литературных явлений – цель и оправдание существования науки филологии, этим она ограничивает произвол сотворчества потомков, считающих, будто все в прошлом написано только для них и только они все воспринимают правильно. В наши постмодернистские дни это особенно актуально.
Индивидуальная переработка общего запаса приемов, перетасовка и переструктурирование мотивов постепенно все более усложняются; отталкиваясь от предшественников во все более убыстренном темпе новейшего времени, поэзия доходит до непонятности, часто намеренной. Ярче всего это видно у сюрреалистов (статья «Поэтика сюрреализма»). Над такими стихами у читателя возникает элементарный, но вполне законный вопрос: «о чем это?» Филология не имеет права уклоняться от этого вопроса («поэт хотел быть непонятным – мы не вправе ему мешать»). Отсюда необходимость расшифровки стихов, например, Пастернака – вплоть до простейшего, как в школе, «пересказа своими словами»; об этом одна из последних статей И. Ю. Подгаецкой «Четыре стихотворения из „Сестры моей – жизни“: сверка понимания». Не нужно стесняться этой элементарности – для филологии это все та же работа по восстановлению фона понятности для ощущения непонятности, а для филолога это нелишний экзамен на исследовательское понимание.
Таковы очертания той книги о стиле в поэзии, которую Ирина Юрьевна так и не написала. По складу своего характера она предпочитала работать для других и за других. В отделе теории ИМЛИ она была ученым секретарем: обычно на эту должность идут ради карьеры или из-под палки, она пошла ради людей – чтобы большому и беспорядочному сектору легче было работать. (Это несмотря на то, что ей нравилось далеко не все, что писалось в секторе.) Она писала бумаги и уламывала начальство, директор ей говорил: «У вас нет чувства дистанции». Ей было шестьдесят, когда ее институт затеял академическое собрание сочинений Пастернака, и было ясно, что это будет еще беспорядочнее, чем отдел теории. Она никогда не занималась Пастернаком специально, но пошла туда, чтобы наладить работу: придумывала новый тип комментария, унифицировала то, что писали разные авторы на разный лад, доделывала чужие недоделки. У нее не было иллюзий ни о ком и ни о чем, но своих и чужих аспирантов она выхаживала с редкой заботой, будь они из Литвы или из Алжира: ее бывшие литовские аспиранты до сих пор удивляются ее редкой начитанности в литовской поэзии XX века (это чувствуется на некоторых страницах этой книги). Те, кому посчастливилось жить и работать с ней рядом, никогда не забудут этого неповторимо хорошего человека. А те, кому это не было дано, пусть почувствуют в этой книге хорошего, надолго хорошего ученого.
ПАМЯТИ СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА 318
21 февраля 2004 года в неполных 67 лет, после долгой и тяжелой болезни умер академик Сергей Сергеевич Аверинцев, историк и филолог.
Конечно, он был гораздо больше, чем филолог. На нынешнем языке следовало бы сказать: культуролог. Но это слишком нынешнее слово, и Аверинцев его не любил. Не в последнюю очередь потому, что в нем не было той этимологии, которая есть в слове «филология». Филология значит любовь к слову. Из всех русских «-логий» это единственная, в которой есть корень «любовь». Это и придает этой науке особое измерение – человеческое, о котором Аверинцев всегда помнил и много раз писал.
Любовь – опасный соблазн: когда этимология разрешает человеку что-то любить, он тотчас ищет в этом права чего-то не любить. Мало того: когда разрешено любить, то кажется, что разрешено и внушать, навязывать свою любовь своим ближним и дальним. Этого соблазна Аверинцев умел избегать. В предисловии к книге «Поэты», к десяти замечательным признаниям в любви к писателям от Вергилия до Честертона, он писал: «Я надеюсь, что читатель не причтет меня к числу заклинателей и гипнотизеров от гуманитарии – хотя бы потому, что у меня нет той нечеловеческой уверенности в себе, которая обличает последних». Это не случайные слова: молодые слушатели, стекавшиеся на его выступления, радовались оказаться именно под таким гипнозом. Но сам он совсем не был этому рад. Он говорил: «Заканчивая лекцию, мне всегда хочется сказать: а может быть, все совсем наоборот».
Любить – это большая ответственность. У каждого любящего возникает в сознании образ «мой Пушкин» (и т. п.), но не каждый умеет помнить, что настоящий Пушкин больше и важнее этого «моего». В том же предисловии к «Поэтам» он писал: «Мне хотелось не столько сделать их „моими“, сколько самому сделать себя – „их“». Не так важно, нравится ли Вергилий нам; важнее, понравились бы мы Вергилию. Причастность культуре требует от нас смирения, а не самоутверждения. Филология – это служба общения культур; но она не притворяется диалогом. Прошлые культуры не имели в виду нас и не разговаривают с нами. Филолог – не собеседник прошлой культуры, а скромный переводчик при ней, пересказывающий слова, не к нему и не к нам обращенные. Он намечает для нас общие очертания доступного ему фрагмента человеческой культуры, переводит в нем на наш язык то, что ему легче дается, и приглашает нас самих так же перевести то, что легче дается нам. Аверинцев об этом говорил: «Моей целью было – ввести мою субъективность в процесс познания, но так, чтобы она в этом процессе умерла». И цитировал Мандельштама: «Я забыл ненужное „я“». Не каждый из нас мог бы (или даже хотел бы) так сказать.
Склад его характера был закрытый, монологический, даже с кафедры не наставляющий, а подающий пример для самостоятельной мысли. «Мысль не притворяется движущейся, она дает не указание пути, а образец поступи. Хорошо, когда читатель дочитывает книгу с безошибочным ощущением, что теперь он не знает больше, чем не знал раньше». Но добиться этого ощущения у читателей – и особенно у слушателей – ему решительно не удавалось: наоборот, всех переполняло ощущение окрыляющего понимания. Он очень хорошо говорил – так, как только и можно при таком ощущении ответственности перед словом. «При советской власти так хорошо говорить уже было диссидентством», – писал младший современник. В толпе слушателей и слушательниц его лекции были понятны лишь немногим, но ощущение причастности к большой науке и большой культуре было у всех. Он не радовался такому эффекту, но понимал, что это нужно людям. Он писал: «История литературы – не просто предмет познания, но одновременно шанс дышать „большим временем“, вместо того чтобы задыхаться в малом». Вот это ощущение дыхания большого времени передавалось аудитории безошибочно. Всем казалось, что это главное. Но для Аверинцева, для филолога, для толмача мировой культуры, это все-таки не было главным.
Слово – это мысль, любовь к слову – это чувство. У Аверинцева было редчайшее качество, которое знали только близкие собеседники: он точно знал во всякий момент, говорит ли он как человек мыслящий, с доказательствами, или как человек чувствующий, с убеждением. В публичных выступлениях оно терялось. Его аудитория, утомленная позднесоветской догматичностью, пленялась иррациональной одушевленностью и пропускала мимо слуха рациональную строгость. «К нему приходили за универсальной духовностью», – было сказано в одной статье. Это так. Но лозунговое слово «духовность» если и попадается в его книгах, то очень редко. Потому что Духовность раскрывается нам только через Словесность. И понять слово, несущее духовность, можно только через склонения риторики и спряжения поэтики. Их недостаточно чувствовать: им нужно учиться. Не случайно он положил так много сил на реабилитацию риторики: рационалистическая традиция европейской риторики была для него залогом человеческого взаимопонимания. Выражаться иррационально, пользоваться словом для заклинания и гипноза – это значит употреблять слова не по настоящему назначению. Он говорил: «Нынче в обществе нарастает нелюбовь к двум вещам: к логике и к ближнему своему» – это вещи взаимосвязанные.
Он закончил классическое отделение филологического факультета МГУ, работал в Институте истории и теории искусств АН СССР (1965–1971), потом много лет в Институте мировой литературы (1971–1991), заведовал там сектором античной литературы. С 1991 года он заведовал отделением Института истории мировой культуры при МГУ и преподавал там на философском факультете, с 1994 года был профессором в Институте славистики Венского университета. Круг его занятий непрерывно расширялся. Его кандидатская диссертация вышла под заглавием «Плутарх и античная биография: к вопросу о месте классика жанра в истории жанра» (1973), докторская – «Поэтика ранневизантийской литературы» (1977), третья книга называлась «От берегов Босфора до берегов Евфрата» (1987) – о христианском культурном интернационале I тысячелетия н. э. Параллельно, как что-то саморазумеющееся, раскрывалась Европа, от Юнга, Шпенглера и Хёйзинги и до Брентано и Си-Эс Льюиса, и Россия, до Мандельштама и Вячеслава Иванова. Малая часть этих статей о самоопределении европейской культуры составила сборники «Риторика и истоки европейской литературной традиции» (1996) и «Поэты» (1996). Длинный ряд его переводов начинался гимнами Каллимаха, продолжался «Тимеем» Платона и кончался книгой Иова, стихами Ефрема Сирина и синоптическими Евангелиями. Только за три года до смерти он позволил себе напечатать маленький сборник своих стихов: «Духовные стихи» (2001).
Он не ограничивался научной деятельностью. В годы перестройки он был депутатом последнего Верховного Совета СССР, в последние свои годы он выступал с проповедями на религиозные темы. Для тех, кто читал и слушал его в 1970–1980‐е годы, он остался больше чем ученым – учителем мысли и учителем жизни. Те, кто пришел позже, уже отвергают его как последнее воплощение отошедшего прошлого. Но для науки эти сменяющиеся моды безразличны. Сергей Сергеевич Аверинцев был и остается большим ученым – классиком той филологии, которая обязана быть человечной наукой о человеческой культуре.
Филологов много, Аверинцев был один. Потому что сейчас больше ни у кого между нами нет такого целомудренного ощущения человеческого измерения филологии – связи между человеком и тем, что больше человека: словом и Словом.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН К 1–6 ТОМАМ
Аббон Сен-Жерменский II
Аббон Флёрийский II
Абельская Н. А. III
Абеляр II
Абрамов Н. VI
Абрамов Ф. VI
Абрамович-Блэк С. И. IV
Аванесов Р. VI
Аввакум VI
Август (Октавиан Август) I; II; III; V; VI
Августин II; IV; V
Авдеев М. В. VI
Аве Л. I
Авербах Л. Л. VI
Аверинцев С. С. I; II; III ; V ; VI
Авессалом Сен-Викторский II
Авиан I; II; V; VI
Авиен II
Авит II
Авл Геллий II; V; VI
Авл Цецина II
Аврелиан II; V
Авсоний (Децим Магн Авсоний) II; III; V; VI
Автономова Н. С. III; V; VI
Авторханов А. Г. VI
Авфидий Басс II
Агафий Миринейский I
Агафон I
Агесий Сиракузский I
Агид I
Агобард (архиепископ Лионский)II
Агриппа (Марк Випсаний Агриппа) II
Агриппа д’Обинье VI
Агриппа Постум (Марк Випсаний Агриппа Постум) II
Агриппина Старшая II
Агриппина Младшая I; V
Адалис А. VI
Адальберт Самаритан II
Адам Бременский II
Адам Сен-Викторский II
Адамович Г. В. I; III; IV; V; VI
Адельгейда (Аделаида) II; V
Адельманн Люттихский II
Адельхард, аббат Корбийский II
Адемар Шабаннский II
Адмони В. Г. VI
Адриан I; II; V
Адриан Марий II
Ажаев В. VI
Азимов А. VI
Азиний Поллион II
Айвазян К. В. V
Айзенберг М. Н. VI
Айтматов Ч. VI
Аквилий Нигер II
Акимова М. В. VI
Акинфиева С. VI
Аккурсий (Бон Аккурсий) I; II
Аксаков И. С. III; IV
Аксаков К. С. III; VI
Аксаков С. Т. VI
Аксенов И. А. III; VI
Акторий Назон II
Акулов Г. Г. III
Акунин Б. (Чхартишвили Г. Ш.) VI
Акций (Луций Акций) II; V
Алан Лилльский II; V
Аларих II
Алданов М. А. IV; VI
Александр I VI
Александр II VI
Александр III VI
Александр Вилладейский II
Александр Галльский II
Александр из Вильдье II
Александр из Эшби II
Александр Македонский I; II; III; V; VI
Александр Неккам II
Александр Север V
Александр Этолийский I; II
Александров Ю. VI
Алексеев В. А. IV
Алексеев В. М. VI
Алексеев М. П. II; V
Алексеева Е. В. III; V
Алексеева Л. А. III
Алексей Михайлович VI
Алексид I; II; VI
Алешковский Юз VI
Алигер М. И. III
Алиенора Аквитанская V
Алкей I; II; V
Алкивиад I
Алкифрон I; II
Алкман I
Алкуин I; II
Алмазов Б. Н. III; V
Алпатов М. В. VI
Алтаузен Д. М. III
Альберик Монтекассинский II
Альберт Эвфрений II
Альберти Р. VI
Альбертино Муссато II
Альбинован Педон II
Альбов М. Н. VI
Альбрехт М. Г. II; VI
Альбрехт Э. II
Альвинг (Смирнов) А. А. III; IV
Альтман И. В. III; VI
Альтман М. С. V; VI
Альтман Н. И. III; VI
Альтшуллер И. VI
Альфан Салернский II; V
Альфонсов В. Н. III
Альфьери В. IV; VI
Альциат (Альчати) Андрей II
Амаларий Трирский II
Амари (Цетлин М. О.) III
Амарций Галл Пиосистрат II
Амвросий (Амбросий) Медиоланский II; IV; V
Амио Ж. II
Аммиан Марцеллин II; V
Амусин И. Д. V
Амфитеатров А. V
Анакреонт (Анакреон) I; II; V; VI
Анаксагор I; II; III; V; VI
Анаксимандр I
Анаксимен I; II; V
Анастасий Библиотекарь II
Ангильберт II
Андай М. Дж. VI
Андерсен Г. Х. III; VI
Андерсон М. III
Андреев А. Л. VI
Андреев В. Л. IV
Андреев Л. Н. III; VI
Андреев М. Л. V
Андреева М. Ф. VI
Андреевский С. А. III; VI
Андрес А. VI
Андроникова С. VI
Андропов Ю. В. VI
Анибал (Аннибал) Б. А. III; VI
Анисимов И. И. VI
Анисимов Ю. П. III
Анита из Тегеи I
Анненкова А. И. VI
Анненский В. И. см. Кривич В. И.
Анненский Ин. Ф. I; III; IV; V; VI
Ансельм Безатский II
Ансельм Кентерберийский II; V; VI
Ансельм Луккский II
Антимах Колофонский I; II
Антипатр Сидонский I
Антипатр Фессалоникийский I; II
Антифонт II; V
Антокольский П. Г. III; IV; VI
Антоний (Марк Антоний) II; III; V
Антоний Диоген II
Антоний Оратор (Марк Антоний) II
Антоновская А. А. III
Аполлинер Г. VI
Аполлодор I; V; VI
Аполлоний Дискол II
Аполлоний Молон II
Аполлоний Родосский I; II; V
Аполлоний Тианский I; VI
Аполлоний Эйдограф I
Аппельрот В. Г. V
Аппиан II
Аппий Клавдий Слепой (Аппий Клавдий Цек) II; III; VI
Аппулей Сатурнин (Луций Аппулей Сатурнин) II
Апт С. К. IV
Апулей I; II; IV; V; VI
Апухтин А. Н. III; IV; VI
Аракчеев А. А. III; VI
Арат из Сол I; II
Аратор II
Арбенина О. Н. III
Арбогаст V
Арброний Силон II
Арбузов Л. II
Арго А. М. VI
Ардов М. В. VI
Аретино П. VI
Арий Дидим II
Арион I
Ариосто Л. III; IV; V; VI
Аристарх Самосский I
Аристарх Самофракийский I; II
Аристид I; V
Аристид Милетский I; II
Аристон Хиосский I
Аристотель I; II; IV; V; VI
Аристофан I; II; III; IV; V; VI
Аристофан Византийский I
Аркесилай I; II
Арним Г. фон I; II
Арнольд Брешианский II
Арнульф II
Арриан II
Арсенева (Арсеньева-Букштейн) К. С. III
Арсеньев В. К. VI
Арский П. А. III
Арто А. VI
Артюшков А. В. II; IV; V
Архангельский А. Г. III; VI
Архаров И. П. VI
Архий (Авл Лициний Архий) I; II
Архилох I; II; III; V; VI
Архимед I; III
Архипиита Кельнский II; IV
Архиппов Е. Я. III; VI
Архиппова М. (Э.) В. III
Асеев Н. Н. III; IV; VI
Асклепиад Самосский I
Аскольдов С. II
Асмений II
Ассаргадон III; V
Ассельт А. ван IV; V
Астахова А. М. III; IV
Астидамант I; V
Аттик (Тит Помпоний Аттик) II
Афиней I; II; III; V; VI
Афтоний I
Ахилл Татий I; II
Ахмадулина Б. А. III
Ахманов А. С. VI
Ахманова О. С. VI
Ахматова А. А. III; IV; V; VI
Ашукин Н. С. III
Бабель И. Э. VI
Бабёф Г. VI
Бабрий (Валерий Бабрий) I; II; V; VI
Бабст И. К. VI
Багрицкий Э. Г. III; IV; V; VI
Баевский В. С. III; IV; VI
Бажан Н. П. VI
Баженов А. Н. IV
Баженов В. И. VI
Базанов В. Г. VI
Баиф Ж. А. де II
Байбаков А. Д. III
Байкова Н. В. VI
Байрон Дж. I; III; IV; V; VI
Бакунин М. А. VI
Бакштейн И. VI
Балашов Н. И. V; VI
Балли Ш. VI
Балтрушайтис Ю. К. III; IV; VI
Бальдерик Бургейльский II; V
Бальдерик Утрехтский II
Бальзак О. де III; IV; V; VI
Бальмонт Е. К. см. Цветковская Е. К.
Бальмонт К. Д. I; III; IV; V; VI
Бамдас М. М. VI
Банвиль Т. де VI
Банделло М. IV
Баран Х. VI
Баранов А. VI
Баратынский (Боратынский) Е. А. II; III; IV; V; VI
Барбаросса Ф. II
Барбарус Й. III
Барбье О. III
Барбюс А. III
Барвик К. II
Бардо Б. VI
Барков И. С. III; VI
Барон Брамбеус (Осип Сенковский) VI
Барсов Е. В. IV
Барсова И. А. V
Барсуков Н. П. VI
Бартелеми Ж.-Ж. VI
Бартель М. III
Бартенев П. И. VI
Барто А. Л. III; IV
Барыкова А. П. III; IV
Батеньков Г. С. VI
Баткин Л. М. VI
Батюшков К. Н I; III; IV; V; VI
Бахарева Е. П. VI
Бахрах А. В. VI
Бахтерев И. В. VI
Бахтин И. И. IV
Бахтин М. М. III; VI
Беда Достопочтенный I; II
Бедный Д. I; III; IV; VI
Беззубов А. Н. III; IV
Безыменский А. И. III; IV; VI
Бейли Дж. III; IV; V; VI
Бейлис М. М. VI
Бек Ж. IV
Бек Т. А. VI
Бекет Т. II
Беленсон А. Э. (псевдоним А. Лугин) III
Белецкий А. А. VI
Белецкий А. И. III; V; VI
Белинков А. В. VI
Белинский В. Г. III; VI
Белич Ал. VI
Белкин В. П. VI
Белкина М. И. VI
Бел-Конь-Любомирская Н. А. (Городецкая А. А.) IV
Белло Р. II
Белоголовый Н. А. VI
Белоногов Г. Г. III; IV
Белоусов И. А. III; VI
Белох К. Ю. VI
Белый А. (наст. имя Б. Н. Бугаев) II; III; IV; V; VI
Белькинд В. С. VI
Бельская Л. Л. III
Бенар Н. В. VI
Бене Флорентийский II
Бенедикт Анианский II
Бенедикт Нурсийский V
Бенедиктов В. Г. III; IV; VI
Бенкендорф А. Х. VI
Бенн Г. VI
Бенсерад И. де IV
Бенуа А. Н. I; VI
Бенуа де Сент-Мор II
Беньямин В. V
Беранже П.-Ж. де III; V; VI
Берберова Н. Н. VI
Берг А. VI
Берг М. VI
Берг Ф. Н. III
Берггольц О. Ф. IV
Бергсон А. III; V; VI
Берджи Р. IV; V
Бердяев Н. А. III; VI
Березовский А. И. VI
Березовский Б. А. VI
Беренгарий Турский II
Беренс Э. II; V
Берестов В. Д. VI
Берк Э. V
Беркли Дж. V; VI
Берков П. Н. IV; V; VI
Берлин И. VI
Берлин П. А. VI
Берлиоз Г. VI
Бернард Клервоский II; III
Бернард Сильвестр II; V
Бернет А. IV
Бернс Р. VI
Бернштейн С. И. IV; VI
Бертон Р. VI
Бертран А. III
Беруль VI
Бёрне Л. VI
Бессонов П. А. IV; V
Бестужев (Марлинский) А. А. III; IV; VI
Бетховен Л. ван V; VI
Бехер И. Р. VI
Биант Приенский I; V
Биббиена (кардинал; Бернардо Довици) VI
Бибул (Луций Кальпурний Бибул) II
Бион Борисфенский I
Бион Смирнский I
Бирс А. VI
Бирт Т. II
Бисмарк О. фон VI
Битов А. Г. VI
Бицилли П. М. VI
Благинина Е. А. VI
Благовещенский Н. М. II
Благой Д. Д. VI
Блок А. А. I; II; III; IV; V; VI
Блок А. Л. VI
Блок Г. П. VI
Блуменау Л. I; V
Блюмауэр А. II
Блюменфельд Ф. М. III
Блюхер В. К. VI
Боборыкин П. Д. VI
Бобров С. П. II; III; IV; V; VI
Бовшек А. Г. VI
Богатырев П. Г. VI
Богатырева T. Н. IV
Богданович И. Ф. II; III; IV
Богомолов Н. А. III; V; VI
Богораз В. Г. VI
Богословская (Боброва) М. П. VI
Боде А. А. III
Бодлер Ш. I; III; IV; V; VI
Божидар (Гордеев Б. П.) III; VI
Божнев Б. Б. IV
Бозио А. III
Бойль Р. V; VI
Боккаччо Дж. II; III; IV; V; VI
Бокль Г. Т. VI
Боков В. Ф. IV
Болдырев Ю. Л. VI
Болотов А. Т. VI
Большаков К. А. III
Бомарше П. VI
Бонавентура II
Бонди С. М. III; IV; VI
Бонифаций II
Бонкомпаньо да Синья II; V
Бор Н. VI
Борецкий М. И. III; VI
Борисов Л. И. VI
Борисова М. И. III
Борисова Ю. К. VI
Боровский Я. М. III; V; VI
Бородаевский В. В. III; IV; VI
Борухович В. Г. II; VI
Борхес Х. Л. V; VI
Боске А. V; VI
Ботт М.-Л. VI
Боцу П. V
Боэтий (Аниций Манлий Северин Боэций) II; V; VI
Брагинская Н. В. VI
Брамс И. III
Брандт П. VI
Браун Кл. III; V; VI
Браунинг Р. III; IV; VI
Бреаль М. VI
Брежнев Л. И. VI
Брейгель П. VI
Брем А. VI
Брентано Ф. VI
Брехт Б. I; V; VI
Бриджс Р. V
Брик Л. Ю. VI
Брик О. М. III; IV; VI
Британник (Тиберий Клавдий Цезарь Британник) I
Бродский И. А. III; IV; V; VI
Бройд С. III; VI
Бройтман С. И. III
Брольи А. де V
Брукс Кл. VI
Брунон Кёльнский II
Брут II; V
Брюсов В. Я. I; II; III; IV; V; VI
Брюсова И. М. V; VI
Брюсова Н. Я. VI
Буайансэ П. II
Буало Н. II; III; IV; VI
Буассье Г. II; V; VI
Бубер М. VI
Будагов Р. А. VI
Будберг М. VI
Букин Н. И. III
Буковский В. К. VI
Булаховский Л. А. IV
Булгаков В. Ф. VI
Булгаков М. А. III; V; VI
Булгаков С. Н. VI
Булгарин Ф. В. VI
Бунин И. А. III; IV; V; VI
Бунина А. П. IV
Буренин В. П. III; VI
Буркхардт Я. II; VI
Бурлюк В. Д. III
Бурлюк Д. Д. III; VI
Бурлюк Н. Д. III
Буслаев П. III; IV
Бутурлин П. Д. III
Бухарин Н. И. III
Бухштаб Б. Я. III; IV; VI
Буш В. II; IV
Бьюкенен Дж. VI
Бэкон Р. II
Бюргер Г. А. IV
Бюхнер К. II
Бялик X. Н. IV
Вавилов С. И. V
Вагинов К. К. III; VI
Вагнер Р. IV; VI
Вазари Дж. III
Вазон Люттихский II
Вайда А. VI
Вайль П. VI
Вайнхебер Й. VI
Вайнштейн О. Б. VI
Ваксель О. А. III
Вакхилид I; II; V
Валахфрид Страбон II
Валентиниан I II; V
Валентинов Н. В. VI
Валерий Анциат II
Валерий Катон (Публий Валерий Катон) II
Валерий Максим II; V; VI
Валерий Мессала (Марк Валерий Мессала Корвин) II
Валерий Флакк II; V
Валерий Эдитуй II
Валишевский К. VI
Вальгий Руф V
Вальдес М. IV
Вальтер фон дер Фогельвейде IV
Вальтер Шатильонский II; V
Вамбери А. VI
Ван Гог В. VI
Ван Дейк А. VI
Ван дер Нот IV
Ван Лерберг Ш. V; VI
Вандель И. I
Ваншенкин К. Я. III; IV; V
Варий (Луций Варий Руф) II
Варрон Атацинский (Публий Теренций Варрон) II; V
Варрон Реатинский (Марк Теренций Варрон) II; VI
Варфоломей Английский II
Василенко С. В. III; V
Василий Кесарийский II; VI
Васильев П. Н. III; VI
Васильев С. А. III; IV
Васильева Т. В. II; V; VI
Вахтель М. III; V; VI
Вахтеров К. В. VI
Вахтин Б. Б. VI
Вацуро В. Э. V; VI
Введенский А. И. III; VI
Вегин П. В. VI
Вейдле В. III; V; VI
Вейнберг П. И. III; VI
Вейранк Ж. IV
Векерлин (Векхерлин) Г. Р. II; IV
Веклейн Н. II
Величко В. Л. VI
Веллей Патеркул II
Веллек Р. VI
Вельтман А. Ф. III; IV; V; VI
Венанций Фортунат II
Венгеров С. А. IV
Веневитинов Д. В. III; IV
Вензель Е. П. III
Венцлова Т. V; VI
Вербицкая Л. А. VI
Верга Дж. IV
Вергилий I; II; III; IV; V; VI
Верди Дж. VI
Вересаев В. В. I; III; IV; V; VI
Верещагин В. В. III
Верлен П. III; IV; V; VI
Вермеер Я. VI
Вермель С. М. III
Вермель Ф. М. (Варравин Д.) III; IV
Верн Ж. VI
Вернер З. III; VI
Веррес (Гай Веррес) II
Веррий Флакк (Марк Веррий Флакк) II
Верхарн Э. III; IV; V; VI
Верховский Ю. Н. III; IV
Веселовский А. Н. IV; VI
Веспа II
Веспасиан I; II; V; VI
Ветрова Е. И. VI
Ветцель Ф.-Г. III
Вёльфлин Г. VI
Вида М. И. II
Видукинд Корвейский II
Викери В. III; IV; VI
Викулов С. В. III
Виламовиц-Меллендорф У. фон I; II; V; VI
Виланд К. М. IV
Виленкин В. Я. VI
Виллардуэн II
Виллон Г. III
Виллон Ф. (Вийон) III; VI
Вильгельм I VI
Вильгельм II VI
Вильгельм Желлонский II
Вильгельм Майнцский (архиепископ) II; V
Вильгельм Мендский II
Вильдганс А. IV
Вилькина Л. Н. III
Вильсон Дж. III; V; VI
Вильям Мальмсберийский II
Виндт Л. I
Винерт В. I
Виноград Е. А. III
Виноградов А. К. IV
Виноградов В. А. IV; VI
Виноградов В. В. II; III; IV; VI
Виноградов Г. С. III
Винокур Г. О. IV; VI
Винокуров Е. М. III; IV
Винцент из Бовэ II
Виньи А. де VI
Випон (Випо) Бургундский II; V
Виссова Г. II
Витгенштейн Л. VI
Вителлий (Авл Вителлий) I; VI
Витженс Г. VI
Витковский Е. В. V; VI
Витрувий V; VI
Витте К. II
Виттлин Ю. IV
Витынский С. IV
Вишневский К. Д. III; IV; VI
Вишняк М. В. VI
Владимир Святославич VI
Власова З. И. IV
Воейков А. Ф. IV; VI
Вознесенский А. А. III; IV; V; VI
Вознесенский А. С. (Бродский) III; VI
Войно-Ясенецкий В. Ф. (архиепископ Лука) VI
Волгин К. III
Волкаций Седигит II
Волков С. М. VI
Волконская З. А. III; IV; VI
Вологез I; V; VI
Володин А. М. VI
Волохова В. В. IV
Волошин М. А. III; IV; V; VI
Волошинов В. Н. VI
Волузий II
Волховской Ф. В. III
Волчек Г. Б. VI
Волынский А. VI
Волькенштейн В. М. III
Вольперт Л. И. VI
Вольтер I; II; III; IV; V; VI
Вольфман Ю. VI
Вольфрам Эшенбахский II
Вордсворт У. III
Вормс Н. А. III
Воровский В. В. V
Воронихин А. Н. VI
Воронский А. К. V; VI
Воронцова Е. К. VI
Ворт Д. С. III; IV
Воскресенский В. А. IV
Востоков А. Х. IV; V
Вроон Р. III; IV
Вуатюр В. IV
Вуд Г. I
Вудхауз П. Г. VI
Вулих Н. В. II; III; VI
Вульф А. Н. III; IV
Вургун С. VI
Высоцкая И. Д. III
Высоцкий В. С. III; IV; VI
Вышеславцев Н. Н. III; VI
Вьеле-Гриффен Ф. V
Вяземский П. А. III; IV; V; VI
Габричевский А. Г. III; VI
Гаврилов А. К. V; VI
Гагарин С. С. VI
Гадаев В. А. III
Гайдар А. VI
Гайнуллина Ф. А. III
Галахов А. Д. VI
Гален I; VI
Галенковский Я. А. IV
Галилей Г. I; III; IV; V; VI
Галич А. А. III; VI
Галл (Гай Корнелий Галл) II
Гальперин И. Р. VI
Гальфред Винсальвский II
Гальфрид Монмутский V
Галятовский И. VI
Гамзатов Р. Г. VI
Гамильтон Р. I
Гаммерлинг Р. III
Гамсун К. VI
Ганнибал I; II; III; V; VI
Гарибальди Дж. III; V; VI
Гарсиласо (Гарсиласо де ла Вега) IV
Гарсиа Лорка Ф. VI
Гарсия Толедский II
Гаршин В. М. VI
Гас Брюле V
Гаспаров Б. М. IV; VI
Гаспаров В. М. III; VI
Гассенди П. VI
Гатов А. Б. III; VI
Гауптман Г. IV
Гацак В. III
Гачев Г. Д. VI
Гвиберт Ножанский II
Гвидо де Колумна II
Гвидо Фаба II
Гвидон Аретинский II
Гвидон Базошский II
Ге Н. Н. VI
Геббель Ф. VI
Гебель И. П. III; VI
Гебль П. VI
Гегель Г. В. Ф. VI
Гегесий I; II
Гедил I; V
Гейм Г. V; VI
Гейне Г. I; II; III; IV; V; VI
Гекатей Милетский I
Геккерен Л. VI
Гелинанд II
Гелиодор II
Гелланик Митиленский (Лесбосский) I
Геллер М. Я. VI
Геллерт Х. Ф. III; V
Гельд Г. Г. V
Гельмгольц Г. Л. Ф. VI
Гельперин Ю. М. III
Гельти Л. К. Г. IV
Гелюх Д. И. IV
Гемин I
Генрих II II, V
Генрих III II; V
Генрих IV II; V; VI
Георгиевский М. А. IV
Гераклид Понтийский I; V
Гераклит Эфесский I; II; III; V
Герасимов А. М. III
Герасимов К. С. III
Герасимов М. П. III
Герасимова В. VI
Гербель Н. В. III
Герберга II; V
Герберт Орильский (Реймсский; папа Сильвестр II) II
Гервасий Мельклейский II
Гердер И. Г. III; IV; V; VI
Гермагор Темносский I; II
Герман Увечный II
Герман Ю. П. VI
Германик II; V
Гермесианакт I; II
Гермоген Тарский I; II
Гермольф Лангрский II
Гернет Н. VI
Герод Аттик II; V
Геродот I; II; V; VI
Герцен А. И. III; VI
Герцык А. К. III
Гершензон М. О. II; III; IV; VI
Гершкович З. И. IV
Герштейн Э. Г. III
Гесиод I; II; V; VI
Гете И. В. фон I; II; III; IV; V; VI
Гетцингер М. IV
Гельдерлин Ф. V; VI
Гиацинтова С. В. VI
Гиббон Э. V; VI
Гидаш А. VI
Гиерон Сиракузский I; V
Гизебрехт В. II
Гизела, королева V
Гизульф Салернский V
Гиласий II
Гиль Р. III
Гильдебранд см. Григорий VII
Гильдебрандт-Арбенина О. Н. VI
Гильельма Провансский II
Гильем Пуатевинский V
Гильфердинг А. Ф. IV
Гиляров-Платонов Н. П. VI
Гимерий I
Гиндин С. И. II; III; IV; VI
Гинзберг А. VI
Гинзбург Л. В. V; VI
Гинзбург Л. Я. II; III; VI
Гинс Г. VI
Гинцбург Н. I; II
Гиппий Элейский I; II
Гиппиус З. Н. III; IV; VI
Гиппонакт I; II
Гиральд Камбрийский II; V
Гирдзияускас Ю. VI
Гиро П. V
Гиршман М. М. III; VI
Гитлер А. III; VI
Главкон I; II; III
Гладков А. К. VI
Гладков Ф. В. VI
Гладстон У. VI
Глебова-Судейкина О. А. VI
Глейзаров Н. В. III
Глейм И. В. Л. III
Гливенко И. И. V
Глинка Ф. Н. III; IV; VI
Глюк К. В. III
Глюк Э. IV
Гнедич Н. И. I; II; III; IV; V; VI
Гнедич Т. Г. V
Гнедов Василиск III
Говоров Л. А. VI
Гоголь Н. В. I; III; IV; V; VI
Годескальк II
Годин Я. В. III; IV
Годунов Борис VI
Гозвинский Ф. К. IV
Голенищев И. Н. VI
Голенищев-Кутузов А. А. III; IV
Голицын А. Н. III
Голицын С. Г. VI
Голицын С. М. VI
Голлидэй С. Е. III; VI
Головин А. Я. III
Головин Б. Н. IV
Головин К. Ф. VI
Головина А. С. IV
Голодный М. С. III; IV; VI
Голосовкер Я. Э. III; IV; V; VI
Голохвастов Д. П. IV
Голсуорси Дж. VI
Гольдберг Л. V
Гольденвейзер А. Б. VI
Гольцмиллер И. И. III
Гомер I; II; III; IV; V; VI
Гонгора Л. де IV
Гончаров Б. П. III; IV; VI
Гончаров И. А. VI
Гончарова Н. С. III; VI
Гор Г. С. VI
Гораций (Квинт Гораций Флакк) I; II; III; IV; V; VI
Горбаневская Н. Е. V; VI
Горбачев М. С. VI
Горбачева Р. М. VI
Горбовский Г. Я. III
Горбунов И. Ф. VI
Горгий I; II
Гордеев Д. П. VI
Гордон Я. Л. IV
Горелов А. А. IV
Горка Л. IV
Горнунг Б. В. VI
Городецкий С. М. III; IV; VI
Городницкий А. М. VI
Горохов П. Г. III
Гортензий II
Горчаков Д. П. III; IV
Горький А. М. (Максим Горький) III; IV; V; VI
Госидий Гета II
Готфрид Страсбургский II; IV
Готшед И. Х. IV; VI
Готье Т. III; IV; VI
Гоуэр Дж. IV
Гофман Э. Т. А. VI
Гофман В. В. III; IV; VI
Гофман М. Л. III; VI
Гоццано Г. IV
Гоцци К. III; IV
Грааль-Арельский (Петров) С. С. III; VI
Грабарь В. Э. V
Грабарь-Пассек М. Е. I; IV; V; VI
Граббе К. Д. VI
Грабовский П. А. III; VI
Гракхи, братья II; VI
Гране Ф. М. VI
Грасиан Б. V
Грасс Г. VI
Граццини А. Ф. IV
Гребенка Е. П. III; IV
Грег Ф. V
Грегори А. V
Грегоровиус Ф. V
Грей Т. III
Грейвс Р. VI
Грейнц Р. III
Грессе Ж. Б. III; IV
Грецин II
Греч Н. И. IV; VI
Гречанинов А. Т. VI
Гречишкин С. С. IV
Гржебин З. И. V
Грибачев Н. М. III
Грибоедов А. С. III; IV; VI
Григорий I Великий (папа римский) II
Григорий VII (папа римский) II; V
Григорий Назианзин (Богослов) I; II; IV; V
Григорий Нарекаци VI
Григорий Турский V; VI
Григорьев А. Д. IV
Григорьев Ап. А. II; III; IV; VI
Григорьев В. П. III; IV; VI
Григорьев И. Н. III
Григорьева А. Д. IV
Грильпарцер Ф. VI
Гримальд (аббат Санкт-Галленский) II
Гримм В. и Я. II; V; VI
Грифцов Б. А. VI
Гриц Т. С. III
Гройс Б. VI
Гросс К. VI
Гроссман В. С. VI
Гроссман Л. П. III; VI
Грот Н. Я. VI
Грот Я. К. III
Гроций Г. VI
Грушка А. А. V
Грэм С. VI
Губайловский В. А. IV
Губанов Л. Г. III
Губастов К. А. VI
Губер Э. И. III; VI
Гуд Т. III
Гудзенко С. П. III; IV
Гудиашвили Л. VI
Гуковский Г. А. III; IV; VI
Гуль Р. Б. VI
Гумилев Н. С. I; III; IV; V; VI
Гунтер Пэрисский II
Гунцо Новарский II
Гурвич А. Г. III
Гуревич А. Я. II; VI
Гурлянд И. Я. VI
Гуро Е. Г. III; VI
Гус Ян VI
Гусев В. М. III; IV; VI
Гусев Н. Н. VI
Гусейнов Г. Ч. VI
Гусовский Н. III
Густав Адольф Ваза VI
Гуттен У. фон II
Гюго В. III; IV; V; VI
Гюйгенс Х. V; VI
Гюйо Ж. М. VI
Гюнтер И. Х. IV; VI
Давыдов Д. В. III; IV
Давыдов И. И. VI
Дакуорс Дж. IV
Даламбер Ж. Л. VI
Даль В. И. III; VI
Дальманн Г. II
Данилевский Н. Я. VI
Даниэль Ю. М. VI
Д’Аннунцио IV
Данте Алигьери II; III; IV; V; VI
Дантес Ж. Ш. VI
Данхем (Данэм) Э. Б. VI
Даран Д. VI
Дардан III
Дарио Р. IV
Дацкевич Н. Г. III
Дашевский Г. М. VI
Де Кок П. VI
Де Лоренци А. I
Де Сад VI
Дезидерий Монтекассинский V
Дедекинд Ф. V
Декарт Р. VI
Делабарт Ж. V
Деларю М. Д. III; IV
Деллавос О. Л. VI
Дельвиг А. А. III; IV; V; VI
Демад I; II
Дементьев А. Г. VI
Дементьев А. Д. III
Деметрий Византийский I; V
Деметрий Вифинский I
Деметрий Фалерский I; II; V
Демокрит I; II
Демосфен I; II; V
Демурова Н. М. V
Денисьева Е. А. IV
Дератани Н. Ф. I; II; V; VI
Державин Н. С. VI
Державин Г. Р. II; III; IV; V; VI
Деррида Ж. VI
Деусдедит II
Дефо Д. IV; VI
Джеймс Г. IV
Джойс Дж. III; VI
Джолитти Дж. VI
Джонсон Б. III; V
Джонсон С. VI
Джордж Г. VI
Джусти Дж. IV
Дидим Александрийский I; II
Дидро Д. VI
Диккенс Ч. III; IV; V
Дикуйл II
Димитрий Ростовский IV
Диоген I; II; III; VI
Диоген Лаэртский (Лаэрций) I; II; V; VI
Диодор Крон VI
Диодор Сицилийский I; II
Диоклециан V
Дион Кассий II
Дион Хрисостом (Златоуст) I; II; V
Дионисий Ареопагит II
Дионисий Галикарнасский I; II
Дионисий Колофонский I
Дионисий Скитобрахион I
Дионисий Фракийский I; II
Диоскорид I
Дифил I
Длуска М. VI
Дмитриев И. И. III; IV; VI
Дмитриев М. А. II; III; IV; VI
Дмитриев О. М. III
Дмитриев-Мамонов М. VI
Добжинская Т. VI
Добрицын А. А. IV
Добролюбов А. М. III; IV; VI
Добролюбов Н. А. (псевд. Капелькин Ап.) III
Добрынин Г. И. VI
Доватур А. И. VI
Довлатов С. Д. VI
Доводчиков К. А. III
Дозорец Ж. А. III; IV
Долгорукая Н. Б. VI
Долгоруков (Долгорукий) И. М. III; IV
Долинин А. А. VI
Долинов М. А. III
Долматовский Е. А. III; IV
Дольчино VI
Домин Х. V
Доминик (святой) II; IV
Домициан I; II; VI
Домиций Корбулон II
Дон Аминадо IV
Донат (Клавдий Донат) II
Донат (Элий Донат) II
Донн Дж. IV; V; VI
Доризо Н. К. III
Дорофеев А. Е. VI
Дорошевич М. В. IV; V; VI
Достоевский М. М. IV
Достоевский Ф. М. I; III; IV; V; VI
Драконтий (Блоссий Эмилий Драконтий) I
Драммонд В. II
Дробиш М. В. IV
Дрожжин С. Д. III; IV; VI
Дроздов А. М. IV
Дрохва-Тетерников Ф. И. VI
Друнина Ю. В. V
Друскин Л. С. VI
Дрэпер Дж. У. VI
Ду Фу VI
Дубельт Л. В. VI
Дубницкая Ю. VI
Дубнова С. С. III
Дубровская Г. А. VI
Дуганов Р. В. VI
Дудин М. А. III; IV
Дунгал II
Дунс Скот И. II
Дуода (готская графиня) II; VI
Дурид Самосский I; II; V
Дурнов М. А. III
Дуров А. Л. VI
Дуров С. Ф. III
Дурылин С. Н. III; VI
Дутли Р. VI
Душенко К. В. VI
Дымко Д. V
Дымов О. VI
Дьяконов М. М. VI
Дю Белле Ж. II; IV
Дю Мериль Э. II
Дюамель Ж. III
Дюмезиль Ж. VI
Дюпон П. III
Дюрер А. V
Дюрренматт Ф. VI
Дюрюи В. V
Евгений (император) V
Евдокс I
Евклид I; V; VI
Евреинов Н. Н. III
Еврипид I; II; III; IV; V; VI
Евстратий Печерский IV
Евтихиев (Чуков) А. IV
Евтушенко Е. А. III; IV; V; VI
Егоров Б. Ф. VI
Егунов (Николев) А. VI
Ежов Н. И. III
Екатерина II III; V; VI
Елагин И. В. III; VI
Елеонская Е. Н. IV
Елизавета Английская VI
Елизавета Петровна IV; V; VI
Ельницкая С. И. VI
Ельцин Б. Н. VI
Емельянов-Коханский А. Н. III; VI
Епифаний Премудрый III
Еремин И. П. IV
Ермилов В. В. VI
Ермилова Е. В. VI
Ермолов А. П. VI
Ершов П. П. IV
Есенин С. А. II; III; IV; V; VI
Есенин-Вольпин А. С. VI
Ефименко Т. П. III
Ефимов И. С. VI
Ефремов П. А. IV
Жаботинский В. Е. III; IV; VI
Жадовская Ю. В. III
Жадовский П. В. III; VI
Жакоб М. III
Жанен Ж. VI
Жаров А. А. III; VI
Жаров Д. Е. VI
Жданов И. Ф. V
Жебелев С. А. V; VI
Жевержеев Л. И. VI
Жемчужников А. М. III; IV; VI
Живов В. М. IV; VI
Жигулин А. В. III
Жид А. VI
Жильбер Н.-Ж.-Л. III; IV; VI
Жириновский В. В. VI
Жирмунский В. М. III; IV; V; VI
Житков Б. С. III; V; VI
Жовтис А. Л. IV; VI
Жолковский А. К. I; III; VI
Жордания С. Д. IV
Жорж Санд V; VI
Жуанвиль Ж. де II
Жуков Г. К. VI
Жуковский В. А. I; II; III; IV; V; VI
Жуковский Д. Е. III
Жулев Г. Н. III
Журавлева А. Н. VI
Журовский Ф. IV
Заболоцкий Н. А. III; IV; V; VI
Завадская Н. Вс. VI
Завал Е. Я. IV
Завалишин Д. И. VI
Загорский М. П. IV
Зайлер Ф. V
Зайцев А. И. IV; VI
Зайцев Б. К. VI
Зайцев П. Н. VI
Зак Л. В. III
Зализняк А. А. IV; VI
Замятин Е. И. VI
Западов В. А. IV; VI
Захаров И. IV
Заяицкий С. С. VI
Збарский Б. И. VI
Збарский Ф. Б. VI
Званцев К. III
Звегинцев В. А. VI
Зееман К. Д. III
Зейгарник Б. В. VI
Зейдель Э. V
Зейме И. Г. III
Зелинский К. Л. VI
Зелинский Ф. Ф. I; II; III; IV; V; VI
Зенкевич М. А. III; IV; VI
Зенодот I; II
Зенон I; II; V; VI
Зерчанинов А. А. III
Зиновьев А. А. VI
Зиновьева-Аннибал Л. Д. III
Зинон (архимандрит) VI
Зиссерман Ф. VI
Златоустова Л. В. VI
Золотусский И. П. VI
Золотухин Г. И. III
Зольден Г. V
Золя Э. V; VI
Золян С. Т. IV; VI
Зорин А. Л. VI
Зорин Л. Г. VI
Зоркая Н. М. III
Зотова-Гаспарова А. М. IV; V; VI
Зощенко М. М. VI
Зубакин Б. М. V; VI
Зубарев Г. Д. III
Зубов В. П. VI
Зубов П. А. VI
Зюганов Г. А. VI
Ибсен Г. VI
Иван IV Грозный III; VI
Иванников М. Д. VI
Иванов Вяч. Вс. III; IV; VI
Иванов Вяч. И. I; III; IV; V; VI
Иванов Г. В. II; III; IV; V; VI
Иванов Е. П. VI
Иванов С. Н. IV
Иванова Н. Н. IV
Иванов-Классик А. Ф. III
Иванов-Разумник Р. В. III; VI
Иваск Ю. П. III; V
Ивик I; V; VI
Ивнев Р. III
Ивон Шартрский II
Игнатьев (Казанский) И. В.III
Иенс В. I
Иенсен (Йенсен) Хр. I; II
Иероним II
Иехуда бен Илаи VI
Измайлов А. Е. III; IV; VI
Икрами Дж. V
Иларион (Алфеев Г. В.) VI
Ильф И. III; VI
Илюшин А. А. IV
Иммерман К. Л. VI
Иммиш О. II
Инбер В. М. III; IV; VI
Инге Ю. А. III
Иннокентий III (папа римский) II
Иноземцев П. И. III; IV
Иоанн (аббат Горзы) II
Иоанн (Ян) Секунд II; V
Иоанн Безземельный II
Иоанн Боккаций Цертальдский см. Боккаччо Дж.
Иоанн Бонфоний II
Иоанн Гарландский II
Иоанн Геометр IV; V
Иоанн Дантиск (Ян Дантышек) II
Иоанн Дуза II
Иоанн Златоуст II
Иоанн Лернуций II
Иоанн Лидиец II
Иоанн Пекам (архиепископ Кентерберийский) II
Иоанн Секунд II; III; V
Иоанн Солсберийский II; V; VI
Иоанн Стобей I
Иоанн Флерийский II
Иоанн Хоуденский II
Иоанн Цец IV
Иоаннисиян И. М. V
Ион Самосский I
Ион Хиосский I; V
Иосиф Флавий I; V
Ириарте и Оропеса Т. V
Ирнерий II
Иртеньев И. М. IV
Исаакян Ав. V
Исаковский М. В. III; IV; V; VI
Исаченко А. В. IV; VI
Исей II
Исидор Севильский II; VI
Искандер Ф. А. VI
Исократ I; II
Йейтс У. Б. V; VI
Йенс В. VI
Кавальери-Манни Э. де III
Кавальканти Г. III
Кавафис К. III; V; VI
Каверин В. А. VI
Каган М. И. VI
Казакова Р. Ф. III
Казакова С. VI
Казанский И. В. см. Игнатьев И. В.
Казанский H. Н. I
Казанский Б. В. II; V
Казин В. В. III; VI
Кайсаров А. С. VI
Калигула I; II; V; VI
Калидаса VI
Калинин П. IV
Калинников И. Ф. III
Каллимах I; II; IV; V; VI
Каллиппид I
Калмыкова В. VI
Кальвино И. V; VI
Кальдерон П. IV
Камбек Л. Л. III
Каменев Г. П. III; IV
Каменев Л. Б. V; VI
Каменский В. В. III
Камерон А. VI
Камилл V
Камоэнс Л. де IV
Кампанелла Т. V; VI
Камю А. VI
Кан Г. V
Каннегисер Л. И. III
Кант И. VI
Кантемир А. Д. III; IV; V; VI
Канья Р. V
Капеллан А. V
Капиев Э. М. VI
Каплинский В. Я. II
Капнист В. В. III; IV
Каравашкин А. В. VI
Караджич В. С. IV; V
Каракалла III; V
Каракозов Д. В. VI
Карамзин Н. М. III; IV; V; VI
Карамзина Е. А. VI
Каратыгин П. А. III
Караулов А. В. VI
Кардуччи Дж. III; IV; V
Карин V
Каркин I
Карл I Великий II; VI
Карл V II
Карл Лысый II
Карл Мартел II
Карлейль Т. VI
Карлинский С. VI
Карнеад I; II
Карпов П. И. VI
Карсавин Л. П. VI
Карташев А. В. III
Каспар Бартий II
Кассий Пармский II
Кассий Север II
Кассиодор (Флавий Магн Аврелий Кассиодор Сенатор) II
Касьянов И. IV
Катаев В. П. III; VI
Катаева-Лыткина Н. И. VI
Катенин П. А. III; IV
Катилина IV; VI
Катков М. Н. VI
Катон (Публий Валерий Катон) II
Катон Младший (Марк Порций Катон Младший Утический) I; II ; V; VI
Катон Старший (Марк Порций Катон Старший Цензор) I; II; V
Катулл (Гай Валерий Катулл Веронский) I; II; III; IV; V; VI
Кауэр П. II
Кафка Ф. VI
Кац Б. А. III
Кац Б. Г. III
Кацис Л. Ф. III; VI
Качалов В. И. VI
Качуровский Иг. VI
Кашин Д. IV
Кашкин И. А. IV; V; VI
Квашнин-Самарин П. А. IV; V
Квилихин Сполетский II
Квинт Корнифиций II; V
Квинт Смирнский II; V
Квинтилиан (Марк Фабий Квинтилиан) I; II; III; VI
Квятковский А. П. III; IV; VI
Кеведо Ф. де IV
Кедрин Д. Б. III; IV
Кекконен У. VI
Келлерман Б. VI
Келли К. VI
Кембол Р. III; IV; V
Кеплер И. I
Керенский А. Ф. III; VI
Кернер К. Т. VI
Кестнер Л. IV
Кибиров Т. Ю. III; V; VI
Кизеветтер А. А. VI
Кинг Э. V
Кингсли Ч. IV
Кино Ф. VI
Кинтана Х. IV
Киплинг Дж. Р. V; VI
Киреевский И. В. VI
Киреевский П. В. IV
Кириллов В. Т. III; IV
Киркегор (Кьеркегор) С. VI
Киркоров Ф. Б. VI
Киров С. М. VI
Кирсанов С. И. II; III; IV; V; VI
Кирша Данилов IV; VI
Киселев Е. А. VI
Киселев Н. П. IV
Киселева Л. Н. VI
Киссин (Муни) С. В. III; IV
Кисслинг А. II
Клавдиан II; V; VI
Клавдий I; II; V; VI
Клари Р. де II; V
Клаудиус М. III; VI
Клаузевиц К. фон VI
Клаф А. IV
Клеанф II; VI
Клеванов А. V
Клейн Л. С. VI
Клейнмихель М. Э. VI
Клейст Э. Х. фон III; V; VI
Клеопатра III; V
Клеофонт I
Климова М. VI
Клингнер Ф. II; VI
Клопшток Ф. Г. IV; V
Клушин А. И. IV
Клычков С. А. III
Клюев Н. А. III; IV; VI
Ключевский В. О. VI
Кнабе Г. С. VI
Книпович Е. Ф. VI
Кнут Д. III; VI
Княжнин Я. Б. III; IV
Князев В. В. III; IV; VI
Кобзев И. И. VI
Кобзон И. Д. VI
Ковалева И. И. III
Ковалевский В. А. III
Коваленская А. Г. IV
Коваль-Волков А. И. III
Коган К. VI
Коган П. Д. VI
Коган Ф. И. III
Кожевников Ю. А. VI
Кожевникова Н. А. III
Кожинов В. В. IV
Козаков М. М. VI
Козегартен Л. III
Козлов И. И. III; IV; V; VI
Козлов П. А. V
Козловский Я. А. IV; VI
Козодавлев О. П. IV
Козырев М. Я. VI
Козьма Прутков III; IV; V; VI
Кокорин П. М. III
Кокошкин Ф. Ф. VI
Кокто Ж. VI
Колас Я. VI
Колеров М. А. VI
Колесса Ф. VI
Колмогоров А. Н. III; IV; V; VI
Коломийцов В. П. III
Колумб Х. VI
Колумелла (Луций Юний Модерат Колумелла) II
Колуф V
Колуций Пиерий V
Колуций Салютати V
Кольридж С. Т. IV; V; VI
Кольцов А. В. III; VI
Комаров П. С. III
Комаровский В. А. III; V; VI
Комлев Н. Г. VI
Коммодиан IV
Кон Ю. Г. VI
Конан Дойль А. VI
Кондратов А. М. IV; VI
Кондратьев А. А. III
Кондратьев С. П. II
Коневской (Ореус) И. И. III; IV; V; VI
Кони Ф. А. III; IV; VI
Конисский А. Я. VI
Конон Бетюнский V
Конрад II II
Конрад из Гиршау II
Конрад Н. И. III
Консентий II
Констан Б. V
Константин I Великий I; II; V; VI
Константин Кефала I
Константин Павлович (великий князь) VI
Конфуций VI
Коперник Н. I; VI
Коппе Ф. III
Корак II
Корбьер Т. III
Корбюзье (Ле Корбюзье) III
Корвин-Пиотровский В. Л. IV
Коржавин Н. М. III; VI
Коринна из Танагры I; VI
Коринфский А. А. III
Кормилов С. И. IV; VI
Корнелий Непот II
Корнелий Север (Публий Корнелий Север) II
Корнель П. IV; V; VI
Корнель Т. VI
Корнилов Б. П. III
Корнут (Луций Анней Корнут) II
Коровкин Ф. П. VI
Короленко В. Г. I; III; VI
Кортасар Х. VI
Корчак Я. VI
Корш Ф. Е. II; IV; VI
Костенко Н. В. III; IV; VI
Костецкий А. VI
Костомаров Н. И. VI
Костров Е. И. III; IV; V; VI
Костюкович Е. А. V
Костюшко Т. VI
Котельницкий А. М. IV
Котляревский И. П. II; VI
Котова М. Л. III
Котрелев Н. В. III; VI
Котта Максим II
Кохановский Я. IV
Коххафе Н. V
Коцебу А. III; VI
Кочетков А. С. III
Кошечкин С. П. VI
Кошутич Рад. VI
Краевский А. А. III
Крандиевская Н. В. III
Красноперова М. А. IV; VI
Красов В. И. III; VI
Красс (Луций Лициний Красс) II; V
Красс (Марк Лициний Красс) II; VI
Крассиций Панса II
Кратет Малльский I; II
Краузе В. М. IV
Краус К. VI
Кребильон П. VI
Крестовский Вс. В. III
Кретьен де Труа V
Кречетов С. (Соколов С. А.) III
Кржижановский С. Д. VI
Кривич (Анненский) В. И. III; VI
Кривулин В. Б. V
Кривцова А. В. V
Кринагор I
Кристева Ю. VI
Кристи А. VI
Критий I; II; V
Кролль В. II; VI
Кроль Н. И. III; IV
Кромвель О. VI
Кроник А. А. VI
Кропивницкий Е. Л. III
Круазе А. и М. V
Кругликова Е. С. VI
Круглов А. В. III
Кружков Г. М. VI
Крузиус О. I
Крученых А. Е. III; VI
Крылов А. Н. VI
Крылов И. А. I; II; III; IV; V; VI
Крэг Э. Г. III
Крюгер Г. II
Крюков А. П. IV
Крючков Д. А. III
Ксенофан Колофонский I; II; V
Ксенофонт I; II; V; VI
Ксенофонт Эфесский II
Ктесий Книдский I
Кублановский Ю. М. III
Кублицкий-Пиоттух Ф. Ф. VI
Куделин А. Б. VI
Кудрейко А. III
Кудрявский Д. Н. V
Кудрявцев П. Н. VI
Кузен В. V
Кузин Б. С. III
Кузмин М. А. III; IV; V; VI
Кузнецов Ю. П. III; VI
Кузнецова С. А. III
Кузьмина-Караваева Е. Ю. III
Кузьмин-Караваев Д. В. VI
Кукольник Н. В. III; IV; VI
Кулакова М. В. VI
Кульбин Н. И. III; V; VI
Кульчицкий М. В. VI
Кумпан К. А. III
Кун Н. А. V; VI
Куняев С. Ю. III; VI
Купайуоло Ф. II
Куприн А. И. VI
Кур де Жебелен А. VI
Куракин А. Б. VI
Курбатов В. Я. III
Курганов Н. Г. VI
Курдюмов В. В. III; IV; VI
Куриаций Матерн II
Курион (Гай Скрибоний Курион) II
Курицын В. М. III
Курлов Е. Е. III
Курочкин В. С. III; IV; V; VI
Курций Руф (Квинт Курций Руф) II
Курылович (Курилович) Е. IV
Кусиков А. Б. III; VI
Кусков И. С. VI
Кусков П. А. III
Кутузов М. И. VI
Кучер Г. IV
Кушлина О. Б. III; VI
Кушнер А. С. III
Кэрролл Л. VI
Кэстльри (Каслри) Р. С. V
Кюхельбекер В. К. III; IV; VI
Лаберий (Децим Лаберий) II
Лабиен (Тит Лабиен) II
Лабрюйер Ж. де VI
Лаврентий Аквилейский II
Лавров А. В. III; IV
Лавров В. В. VI
Лавуазье А. Л. III; IV; V; VI
Лайамон IV
Лакида А. Г. III
Лактанций (Луций Цецилий Фирмиан Лактанций) II
Ламарк Ж. Б. III; VI
Ламартин А. III; V; VI
Ламберт У. Г. VI
Лангерак Т. III; VI
Лангош К. V
Ландсберг Л. Э. III
Ланн Е. V; VI
Лансере Е. Е. III
Ланской П. П. VI
Ланской А. Д. VI
Ланфранк (архиепископ Кентерберийский) II
Ла Пенна А. I; II
Лапин Б. М. III; IV; VI
Лаппе К. IV
Лапшина Н. В. IV; VI
Ларионов М. Ф. VI
Ларошфуко Ф. де VI
Лас Гермионский I
Латини Б. III
Лаусберг Г. II
Лаутербах И. V
Лафар Ш.-О. IV
Лафарг П. VI
Лафонтен Ж. I; II; III; V; VI
Лафорг Ж. III
Ле Шан Э. VI
Лебедев А. А. VI
Лебедева С. Д. III
Лебедев-Кумач В. И. III
Лев III (папа римский) II
Лев Х (папа римский) VI
Леверье У. VI
Левидов М. Ю. VI
Левик В. В. VI
Левин В. Д. VI
Левин М. П. III
Левин Ю. И. III; IV; V; VI
Левина Т. М. III
Левинтон Г. А. IV; VI
Левинэ Е. VI
Леви-Стросс К. VI
Левитанский Ю. Д. III; VI
Левкович Я. Л. V
Левый И. IV
Легран Б. В. III
Леже П. II
Лейбниц Г. В. VI
Лекманов О. А. III; VI
Леконт де Лиль Ш.-М. I; III; IV; V
Лелевель И. VI
Лелий (Гай Лелий Мудрый) II
Лем С. VI
Лемминг Клара (псевдоним М. Л. и В. М. Гаспаровых) см. Гаспаров В. М.
Ленау Н. III
Ленгленд У. IV
Ленин В. И. III; V; VI
Ленский (Абрамович) Вл. Я. III; V
Ленский Д. Т. III
Ленцман Я. А. I
Лео Ф. II
Леонардо да Винчи VI
Леонид Александрийский I
Леонид Тарентский I
Леонидзе Г. Н. III; VI
Леонов Л. М. III; VI
Леонов М. Л. III
Леонтьев А. А. VI
Леонтьев К. Н. III; VI
Леопарди Дж. IV
Лермонтов М. Ю. I; II; III; IV; V; VI
Лернер Н. О. III; VI
Лернуций И. II
Лесков Н. С. VI
Лессинг Г. Э. III; IV; V; VI
Лесскис Г. А. VI
Лефевр Ж. Б. V
Ли Бо VI
Либаний I; II; V; VI
Ливанова Т. Н. IV
Ливий Андроник II
Лившиц Б. К. III; IV; VI
Лигачев Е. К. VI
Лиддл-Харт Б. Г. VI
Ликофрон I; II
Лилли И. III; VI
Лимонов Э. В. VI
Линдберг Ч. III
Линдер М. III
Липкин С. И. III; VI
Липпи Ф. III
Липскеров К. А. III; V
Лисий I; II; V; VI
Лисипп I; V
Лиснянская И. Л. IV; VI
Лист Ф. VI
Листьев Вл. Н. VI
Лиутпранд II
Лихачев Д. С. III; IV; V; VI
Лихачев И. А. VI
Лициний Архий (Авл Лициний Архий) II
Лициний Кальв (Гай Лициний Кальв) II; V
Лициний Макр (Гай Лициний Макр Кальв) II
Логвин А. VI
Логвин И. Г. VI
Логинова О. VI
Лозина-Лозинский А. К. III
Лозинская Е. VI
Лозинский М. Л. III; IV; V; VI
Лозэн (герцог де Лозён) III; IV
Лойтер С. М. VI
Локс К. Г. III; VI
Ломан Н. Л. III
Ломинадзе С. В. VI
Ломоносов М. В. II; III; IV; V; VI
Ломоносова Р. Н. III
Лонг II
Лонги П. III
Лонгфелло Г. IV
Лопатин Г. А. VI
Лопатто М. И. III
Лопе де Вега III; IV
Лопиталь М. V
Лорд А. II; IV; VI
Лосев А. Ф. I; V; VI
Лосев Л. В. III; IV
Лотман М. Ю. III; IV
Лотман Ю. М. II; III; IV; V; VI
Лотреамон III
Лоттих П. V
Лохвицкая М. А. III; VI
Лохвицкая-Бучинская Н. А. см. Тэффи
Луговской В. А. II; III; IV
Лужков Ю. М. VI
Лукан (Марк Анней Лукан) I; II; IV; V; VI
Лукиан I; II; III; IV; V; VI
Лукницкая В. К. VI
Лукницкий П. Н. III
Луковникова Т. А. VI
Луконин М. К. III; IV; VI
Лукреций (Тит Лукреций Кар) I; II; V; VI
Луксорий II
Лукулл (Луций Лициний Лукулл) II
Луначарский А. В. III; VI
Лундберг Е. Г. VI
Лунин М. С. VI
Луппол И. К. III; VI
Лурье С. Я. V; VI
Лутаций Катул (Квинт Лутаций Катул) II
Лысенко Т. Д. VI
Лысогорский О. VI
Львов Н. А. III; IV
Львова Н. Г. III; IV
Льдов К. Н. III
Льюис К. С. VI
Лэндор У. С. VI
Лэттимор Р. I
Любимов Н. М. V; VI
Любимов Ю. П. VI
Любошиц Ф. VI
Люгер К. VI
Людвих А. IV
Людовик VII V
Людовик XIV VI
Людовик XVII III
Людовик Благочестивый II
Люксембург Р. VI
Люмьер О. VI
Лютер А. Ф. VI
Лютер М. IV; V
Ляпин С. Е. IV
Ляскоронский В. Г. IV
Маворций II
Магнет I
Магомедова Д. М. III
Маевский Е. VI
Мазуркевич В. V
Майерс Д. III
Майзельс Д. Л. III
Майков А. Н. III; IV; VI
Майков В. И. III; IV
Май-Маевский В. З. VI
Маймонид VI
Майстер Э. V; VI
Маканин В. С. VI
Макаров С. О. III
Макинцян П. V
Маккавейский В. Н. III; VI
Маковельский А. О. V
Маковицкий Д. П. VI
Маковский С. К. III; VI
Макробий (Амвросий Феодосий Макробий) I; II; V; VI
Максим Тирский I; II
Максимиан II
Максимов Д. Е. VI
Максимова Т. Ю. III; VI
Малевич К. С. VI
Малевич О. VI
Малеин А. И. V
Малерб Ф. де IV
Малларме С. III; V
Маллер Л. М. III
Малмстед Дж. III; IV
Малюта Скуратов VI
Мамардашвили М. К. VI
Мамин-Сибиряк Д. Н. VI
Мамуна Ив. V
Мандельштам Н. Я. III; IV; V; VI
Мандельштам О. Э. II; III; IV; V; VI
Мандельштам Ю. В. III
Мандзони А. III; IV; V; VI
Манегольд Лаутенбахский II
Манилий (Марк Манилий) II; IV; V; VI
Манин Ю. И. VI
Манициус М. II
Манн Г. VI
Манн Т. IV; V; VI
Мар-Аксенова С. V
Марат Ж. П. VI
Марбод Реннский IV
Мариенгоф А. Б. III; IV; V; VI
Марий (Гай Марий) II
Марин С. Н. IV
Маринетти Ф. Т. III
Марино Дж. III; IV
Мария Феодоровна (императрица) VI
Мария Шампанская V
Мария-Терезия VI
Марк Аврелий I; II; V; VI
Марк Аргентарий I
Марко Поло VI
Марков А. В. IV; VI
Марков В. Ф. III; IV; VI
Маркович М. V
Маркс А. Ф. VI
Маркс К. V; VI
Марлинский см. Бестужев А. А.
Маро К. V
Марр Н. Я. VI
Мартин Датский II
Мартов Эрл(а) (Бугон А. Э.) III
Мартов (Цедербаум) Ю. О. VI
Мартынов И. V; VI
Мартынов Л. Н. III; IV; VI
Марцадури М. VI
Марциал (Марк Валерий Марциал) I; II; III; V; VI
Марциан Капелла II; VI
Маршак Б. И. III
Маршак С. Я. III; IV; V; VI
Масарик Т. VI
Маслов Г. В. III
Маслович В. Г. VI
Матвеева Е. VI
Матвеева Н. Н. III; VI
Матвей Вандомский II; V
Матвей Влачич (Флакций Иллирик) II
Матвей Парижский II
Матий II
Матисс А. III
Маттисон Ф. фон III
Матусовский М. Л. III; IV; VI
Матюшин М. В. III
Матяш С. А. VI
Маха К. Г. III
Махно Н. И. VI
Махов А. Е. III
Махтумкули III
Мачадо М. VI
Машкин Н. А. II; V
Машков И. И. VI
Маяковский В. В. III; IV; V; VI
Медведев С. III; IV; VI
Медичи Л. III
Меднис Н. Е. III
Межиров А. П. III; IV
Мей Л. А. III; IV; VI
Мейе А. IV
Мейер А. III
Мейер В. II; IV
Мейер К. Ф. III; VI
Мейербер Дж. VI
Мейерхольд Вс. Э. III; VI
Мейлах М. Б. III; VI
Меланиппид I
Мелеагр Гадарский I; II; V
Мелетий Смотрицкий IV
Мелетинский Е. М. I; II; VI
Меликова-Толстая С. В. II
Мелисс II
Мельгунов Н. А. VI
Мельников-Печерский П. И. VI
Мельчук И. А. VI
Меммий (Гай Меммий) II; V
Менандр I; II; IV
Менений Агриппа (Агриппа Менений Ланат) I; VI
Менипп Гадарский I; II; VI
Менкен Г. VI
Меншиков А. Д. VI
Меньшикова М. Г. IV
Мережковский Д. С. I; III; IV; V; VI
Мерзляков А. Ф. III; IV; VI
Мерике Э. IV
Мериме П. IV; V; VI
Меркурьева В. А. III; IV; V; VI
Мерлин В. В. III
Меробавд (Флавий Меробавд) V
Мерриль С. V
Месс-Бейер И. III
Метастазио П. III; IV
Метерлинк М. III; V
Метнер Н. К. IV; VI
Метнер Э. К. VI
Мец А. Г. III; V
Мецаренц М. V
Меценат (Гай Цильний Меценат) II
Меццофанти Дж. VI
Мещевский А. И. III
Мещерский В. П. VI
Мещерский Н. А. V
Микаэлян К. V
Микеланджело Буонарроти I; VI
Миклошич Ф. VI
Микон из Сен-Рикье II
Микушевич В. Б. III; IV; VI
Милашевский В. А. VI
Милиоти Н. Д. III
Милица (Дзигановская Е. А.) III
Миллей Э. С.-В. V
Миллер Т. А. I; II; V
Миллер Ф. Б. III
Миллиор Е. А. VI
Милова Т. В. IV
Милонов М. В. III; V
Милош Ч. VI
Мильвуа Ш. Ю. III; IV
Мильтиад I
Мильтон Дж. III; IV; V; VI
Мимнерм II; III
Минаев Д. Д. III; IV; VI
Минералов Ю. И. IV
Минский Н. М. III; IV; V
Минц З. Г. IV; V; VI
Минь Ж. П. VI
Минье Ф. VI
Мирабо О. Г. Р. II; III
Мирон I
Миропольский А. Л. (Ланг А. А.) III; IV; VI
Мирский (Святополк- Мирский) Д. П. III; V; VI
Митрофанов П. П. VI
Михайлов А. В. VI
Михайлов А. Д. V
Михайлов М. Л. III; IV
Михайловский Н. К. VI
Михалков С. В. III; IV; VI
Михеев М. Ю. VI
Мицишвили Н. И. III
Мицкевич А. III; IV; V; VI
Мищенко Ф. Г. V; VI
Модзалевский Б. Л. IV
Модзалевский Л. Н. III
Мозен Ю. III
Моклер К. V
Молинари Г. де VI
Молок Ю. А. III
Мольер I; II; IV; VI
Мольцер Я. V
Моммзен Т. II; V; VI
Монах Иаков V
Мондриан П. К. VI
Моне К. III
Моносзон Л. И. VI
Монтень М. де VI
Монферран О. III
Мопассан Г. де VI
Мор Т. II; VI
Мор Я. Г. VI
Моратин Н. IV
Моргенштерн Хр. III; V; VI
Мордвинов А. Б. III
Мордяков Н. VI
Мореас Ж. III; V; VI
Морев Г. А. III
Морель д’Амбрён V
Мориц Ю. П. III; VI
Морозов А. А. III; IV; VI
Морозов М. М. V
Морозов Н. А. III; VI
Морозова М. К. VI
Моруа А. VI
Морунген Г. фон IV
Морфи Дж. Дж. II
Москвин И. М. VI
Мосх Сиракузский I
Моцарт В. А. III; V; VI
Мочалов П. С. V
Мочалова О. В. IV; VI
Муадвин (Модоин) II
Мунэн Ж. VI
Мур М. III; IV
Муравьев А. Н. IV
Муравьев М. Н. III; IV; VI
Муратов П. П. III
Муредду Д. V
Муромцева-Бунина В. Н. VI
Муртол Г. II
Мусатов В. В. III
Мыльников А. IV
Мэро I
Мюллер В. III
Мюллер Ив. II
Мюллер Л. I; II
Мюссе А. де III; IV
Мятлев И. П. III; IV; VI
Набоков В. В. III; IV; VI
Набокова В. Е. VI
Навои А. IV
Навроцкий А. А. III; VI
Надеждин Н. И. VI
Надсон С. Я. I; III; IV; V; VI
Назимов В. И. VI
Найман А. Г. III; VI
Наполеон I Бонапарт III; IV; V; VI
Нарбут В. И. III; IV; VI
Наркирьер Ф. С. VI
Наровчатов С. С. IV
Нартов А. А. VI
Настопкене В. В. V; VI
Нахимов А. Н. III; IV
Нахов И. М. I
Неведенский С. (Щегловитов С. Г.) VI
Невзглядова Е. В. III
Невий (Гней Невий) II; VI
Негри П. VI
Недоброво Н. В. VI
Недович Д. С. V
Недогонов А. И. III; IV
Нейгауз Г. Г. III; VI
Нейгауз З. Н. см. Пастернак З. Н.
Нейффер Х. Л. IV
Неккер Ж. V
Неклюдов С. Ю. I; VI
Некрасов Вс. Н. III; VI
Некрасов Н. А. II; III; IV; V; VI
Некрасова К. А. III
Некрич А. М. VI
Нелединский-Мелецкий Ю. А. III; IV
Нельдихен С. Е. III
Немесиан II
Немирович-Данченко (Немирович) В. И. VI
Неоптолем Парионский I; II; VI
Непомнящий В. С. VI
Нерва II
Нерис С. V; VI
Нерлер П. М. III; V
Нерон I; II; V; VI
Нетушил И. В. II
Нечаев К. В. см. Питирим
Нечаев С. Д. IV
Нива Ж. VI
Нигелл Вирекер II
Нидерман М. VI
Никандр Колофонский I; II
Никедем Гераклейский I
Никита Евгениан V
Никитаев А. Т. III
Никитенко А. В. VI
Никитин И. С. II; III; IV; VI
Никитин Ф. IV
Никитина Е. Н. VI
Никитина С. Е. VI
Никифор Василаки V
Никифор Григора V
Николаев П. А. III; IV
Николаева Г. Е. VI
Николаева Т. М. VI
Николай I III; VI
Николай II III; VI
Николай Грудий II
Николай Дамасский II
Николев Н. П. III; IV
Никольская Т. Л. III
Никольский Б. В. IV
Николюкин А. Н. IV
Никонов В. А. VI
Никритина А. Б. VI
Никулин Л. В. (Сафьянова А.) III
Нилендер В. О. IV
Ницше Ф. I; II; III; V; VI
Новалис III; VI
Новик Е. С. IV; VI
Новосадский Н. И. IV
Новоселов С. К. VI
Нольде Б. Э. VI
Ноний Марцелл II
Нонн Панополитанский II; IV
Нордау М. III
Норден Э. II; IV
Носов Н. Н. III
Носсида I
Ноткер Заика II
Ноткер Немецкий (Ноткер Младший, Ноткер Лабеон) II
Ньютон И. I; VI
Нуньес (де) Бальбоа В. VI
Нюренберг А. М. VI
Обнорский С. П. IV
Оболдуев Г. Н. III; IV; V; VI
Обри П. IV; VI
Овидий (Публий Овидий Назон) I; II; III; IV; V; VI
Овсянико-Куликовский Н. Д. VI
Овчаренко О. А. VI
Овчинников А. IV
Огарев Н. П. III IV; VI
О. Генри VI
Одарченко Ю. П. IV
Оден У. Х. IV; V; VI
Одилон (клюнийский аббат) II
Одоевский А. И. III, IV
Одоевский В. Ф. III
Одоевцева И. В. III
Одон Клюнийский II
Одон Мёнгский II
Ожегов М. И. III; VI
Озеров Л. А. III; IV
Ознобишин Д. П. IV
Оказов И. (псевдоним) см. Гаспаров В. М.
О’Коннор К. Т. III
Оксман Ю. Г. VI
Октавиан см. Август
Окуджава Б. Ш. III; IV; VI
Окутюрье М. IV; V
Олденбарневелт Я. ван VI
Олейников Н. М. III; VI
Олеша Ю. К. VI
Олива II
Олимпов К. К. III
Ольдерогге Д. А. V
Омулевский И. В. III
Оношкович-Яцына А. И. VI
Опиц М. III; IV; VI
Оппиан II; V
Орешин П. В. III; VI
Орлицкий Ю. Б. IV; VI
Орлов В. Н. VI
Орлов С. С. III; VI
Орсини Ф. IV
Осипов Н. П. III; IV
Осоргин М. А. VI
Осповат А. Л. III; VI
Оссиан III; IV
Остин Дж. V
Остолопов Н. Ф. II; III; IV
Островой С. Г. III; VI
Островский А. Н. I; III; VI
Остроумов Л. Е. II; III; V
Остроумова-Лебедева А. П. VI
Отлох Эммерамский II
Отон II; VI
Отрих II
Оттон I Великий II; V
Оттон II II; V
Оттон III II
Отфрид Вейсенбургский II; IV
Оуэн Р. VI
Охитович Л. Е. VI
Оцуп Н. А. IV; VI
Ошанин Л. И. III; IV
Ошеров С. А. II; V; VI
Павано Дж. II
Павел I I; III; VI
Павел Диакон II
Павел Силенциарий IV
Павленко П. А. III
Павлик Морозов VI
Павлин (патриарх Аквилейский) II
Павлин Ноланский II
Павлов И. П. VI
Павлов М. С. III
Павлова К. К. III; IV
Павлович Н. А. VI
Павлычко Д. В. VI
Павсаний I; II; III; VI
Паганини Н. VI
Падучева Е. В. VI
Пайман А. VI
Пакувий (Марк Пакувий) II; V
Палей В. П. III
Пален К. И. IV
Палеолог Ж. М. VI
Палиевский П. В. VI
Паллад Александрийский I
Пальмин Л. И. III
Панаев И. И. IV; V
Панетий Родосский II
Панин В. Н. VI
Панноний Я. V
Панов М. В. IV
Панова Л. Г. III; IV; V
Панферов Ф. И. VI
Панченко А. М. VI
Панэтий II
Папаян Р. А. IV; VI
Паперно И. А. VI
Паперный З. С. VI
Парети Г. VI
Парини Дж. III; IV; V
Парменид I; V
Парнах В. Я. VI
Парни Э. III; IV
Парнис А. Е. III; IV; VI
Парнок С. Я. (Андрей Полянин) III; VI
Парри М. II; VI
Парфений II
Пархомовский Я. М. V
Парщиков А. М. VI
Паскаль Б. III; V; VI
Пасколи Дж. IV
Пассек Е. В. V
Пастернак Б. Л. I; III; IV; V; VI
Пастернак Е. Б. III; VI
Пастернак Е. В. III; VI
Пастернак З. Н. III; VI
Пастухов Н. И. VI
Паули А. II
Паунд Э. V; VI
Паус И.-В. IV
Паустовский К. Г. VI
Пац М. VI
Пеллико С. IV; VI
Пентадий II; V
Первомайский Л. IV; VI
Перельмутер В. Г. VI
Переплетчиков В. В. VI
Перетц В. Н. IV
Перикл I; II; V; VI
Перлина Н. VI
Пермяков Г. Л. VI
Перри Б. Э. I
Персий (Авл Персий Флакк) II; IV; V
Перцов П. П. III; IV
Пестель П. И. VI
Петерсон К. А. VI
Петников Г. Н. III
Петр I I; II; III; IV; V; VI
Петр III III; IV; V
Петр Блуаский II
Петр Бурманн II
Петр Дамиани II
Петр Корбейльский (архиепископ Сансский) II
Петр Кринит V
Петр Ломбардец II
Петр Пизанский II
Петр Пиктор V
Петрарка Ф. II; III; IV; V; VI
Петров А. А. VI
Петров В. Н. V
Петров В. П. III; IV; V; VI
Петров Е. П. III; VI
Петров Н. VI
Петровская Н. И. III; IV
Петровский А. С. VI
Петровский Ф. А. II; IV; V; VI
Петровых М. С. III
Петроний I; II; IV; V; VI
Петросян А. А. VI
Пешковский А. М. IV
Пигарев К. В. VI
Пиги Г. Б. IV
Пизоны, отец и сыновья II; V
Пий Сервьен VI
Пикассо П. III; VI
Пиксанов Н. К. VI
Пикуль В. С. VI
Пильняк Б. А. III
Пильский П. М. III
Пильщиков И. А. IV
Пиндар I; II; III; IV; V; VI
Пинес Д. М. IV; VI
Пинский Л. Е. VI
Пинус С. V
Пиньотти Л. V
Пионтек Х. V
Пиотровский А. И. I; II; III; IV; V; VI
Пипин Короткий II
Пипс С. VI
Пиранези Дж. Б. VI
Пири Р. III
Пирог Дж. III
Пирон VI
Пирр Эпирский I; II
Писарев Д. И. I; VI
Писемский А. Ф. VI
Писистрат I; II
Питирим (митрополит) VI
Пифагор I; II; III; V; VI
Плавт (Тит Макк (Макций) Плавт) I; II; III; IV; V; VI
Плануд (Максим Плануд) I; V
Платен А. фон III; IV; V
Платов Ф. Ф. VI
Платон I; II; III; V; VI
Платонов А. П. VI
Платонов К. К. VI
Платтен Ф. VI
Плетнев П. А. IV; VI
Плещеев А. Н. III; IV; VI
Плиний Младший (Гай Плиний Цецилий Секунд) II; VI
Плиний Старший (Гай Плиний Секунд) I; II; VI
Плотин II; V
Плутарх I; II; III; V; VI
Плюшар А. А. VI
Пнин И. П. IV
По Э. III; V; VI
Победоносцев К. П. VI
Погодин М. П. VI
Подгаецкая И. Ю. III; VI
Подолинский А. И. III; VI
Подосинов А. В. VI
Подшивалов В. С. III
Пожарский Д. М. IV
Позднеев А. В. IV
Покровская Ж. С. VI
Покровский Б. А. VI
Покровский И. Г. VI
Покровский М. М. V; VI
Покровский М. Н. VI
Полевой Н. А. III; V
Полежаев А. И. III; IV; V
Полемон (Антоний Полемон) I; II; V
Поленов В. Д. VI
Поленц М. II
Полибий I; II
Поливанов Е. Д. III; IV
Поливанов И. VI
Поливанов К. М. III; VI
Поливанов Л. И. IV; VI
Полигнот I
Полиид I; V
Полициано (Полициан) А. II; III; V
Поллак Н. III
Полонская К. П. II; VI
Полонский Я. П. IV; VI
Поляков В. Л. III
Полякова Н. М. III
Полякова С. В. III; VI
Померанц Г. С. VI
Помпей (Гней Помпей Магн) I; II; III; V
Помпей (Секст Помпей Магн) II; III
Помпей Макр II
Помпей Трог (Гней Помпей Трог) I; II
Помяловский Н. Г. VI
Пономарев С. И. IV
Понтий Леонтий II
Понтий Провансский II
Поп (Поуп) А. VI
Поплавский Б. Ю. III; VI
Попов А. Н. VI
Попов М. И. III
Попова Л. С. VI
Поповский Н. Н. IV
Попугаев В. В. IV
Порфирий I; II
Порфирий Оптатиан (Публилий Оптациан Порфирий) II; V
Порфирион II
Порфиров П. Ф. III
Порций Лицин II
Посидипп I; VI
Посидоний II; V
Посошков И. Т. VI
Поспелов Г. Н. VI
Поспелов Н. С. IV
Постоутенко К. Ю. III; IV; VI
Поступальский И. С. V
Потапенко И. Н. VI
Потебня А. А. III
Потемкин П. П. III; VI
Потемкин Г. А. VI
Прач И. Г. IV
Преловский А. В. IV
Пригов Д. А. III; V; VI
Примас Орлеанский (Гугон) II; IV; V
Приска де Ландель V
Присманова А. С. IV
Присциан II
Пришвин М. М. VI
Проба (Фальтония Проба) II
Продик I; II
Продром (Феодор Продром) IV; V
Прозоровский А. А. IV
Прокл I; II
Прокофьев А. А. III; IV; VI
Проперций (Секст Проперций) I; II; V
Пропп В. Я. I; VI
Проскурин О. А. VI
Протагор I; II
Проханов А. А. VI
Прохоров А. В. IV; VI
Прохоров Н. IV
Пруденций II
Пруст М. V; VI
Псевдо-Альберик см. Альберик Монтекассинский
Псевдо-Анакреонт см. Анакреонт
Псевдо-Ангильберт см. Ангильберт
Псевдо-Деметрий II
Псевдо-Еврипид см. Еврипид
Псевдо-Каллисфен I
Псевдо-Лонгин II
Псевдо-Плутарх см. Плутарх
Птолемей I; II; III; VI
Птохо-Продром см. Продром
Публилий Сир II
Пугачев Е. И. VI
Пугачева А. Б. VI
Пульчи Л. II; IV
Пумпянский Л. В. III; IV
Пунин Н. Н. VI
Пурхард II
Пуссен Н. III
Путилова Е. О. VI
Пушкин А. С. I; II; III; IV; V; VI
Пушкин В. Л. III; IV
Пушкин Л. С. IV
Пушкин Л. А. VI
Пушкина (Гончарова) Н. Н. VI
Пчельникова А. А. III
Пшавела В. III; V
Пшибыльский Р. III
Пшибышевский С. III
Пщоловска Л. VI
Пыжова О. И. VI
Пыльдмяэ Я. Р. VI
Пыпин А. Н. VI
Пяст (Пестовский) В. А. III; IV; V; VI
Пятигорский А. М. VI
Рабинович Е. Г. VI
Рабинович Е. Я. II; III; V
Рабирий (Гай Рабирий) II
Рабле Ф. I; II; III; V; VI
Равель М. VI
Радек К. Б. III
Радимов П. А. IV
Радищев А. Н. III; IV; VI
Радлов С. Э. III; IV; VI
Радлова А. А. III; IV; V; VI
Радульф Глабр II
Радциг С. И. VI
Раевская М. Н. VI
Разин Ст. VI
Разоренов А. Е. III; VI
Райт Т. II
Райх Г. VI
Райхин Д. Я. III
Рамэн Г. II
Ранчин А. М. III
Расин Ж. I; IV; V; VI
Раскольников Ф. Ф. III
Ратгауз Г. И. V; VI
Ратгауз Д. М. III
Ратхер Веронский-Люттихский II
Рафалович С. Л. III
Рафаэль Санти I; III; V; VI
Рахманинов С. В. VI
Рахманов Л. VI
Ревзин И. И. IV; V; VI
Ревзина О. Г. III; VI
Регинальд Анжерский II
Регистан Г. Г. III
Рейн Е. Б. III
Рейно Э. V
Рейнольдс Э. III
Рейсер С. А. III; VI
Рейснер Л. М. III; IV
Рейфилд Д. III
Рельштаб Л. III
Рембо А. III; V; VI
Рембрандт III; VI
Ремигий Оксеррский II; V; VI
Ремизов А. М. IV; VI
Ренан Э. VI
Ренанский А. Л. VI
Ренар Ж. VI
Ренуар П. О. VI
Ренье А. де IV; V 1; VI
Репин И. Е. VI
Репосиан II
Ресовский (Тимофеев-Ресовский) Н. В. VI
Ржевский А. А. III; IV; VI
Ржига В. Ф. IV
Ривароль А. VI
Ривкин Г. А. (Н. И.) III
Рид Дж. VI
Ризнич А. VI
Рикорд П. И. VI
Рильке Р. М. III; IV; V; VI
Рипеллино А. М. III
Риттер Ф. II
Рифтин Б. Л. VI
Рихер Реймский II
Ричард Львиное Сердце II
Ричард Тетфордский II
Ричардсон С. VI
Ришар из Пуатье II
Ришелье А. Ж. VI
Роберт II V
Роберт Базворнский II
Роберт Гискард V
Роберт Гроссетест II
Робеспьер М. VI
Рогов В. В. V; VI
Роде Э. VI
Роденбах Ж. V
Родионов И. Д. III
Родиславский В. И. VI
Родченко А. М. VI
Рождественский Вс. А. III; V
Рождественский Р. И. III; IV; VI
Роже П. М. VI
Рожков Н. А. VI
Розанов В. В. III; VI
Розанов И. Н. III; VI
Розанов М. Н. III; V
Розен Г. (Е.) Ф. IV
Розенбаум А. Я. VI
Розенгейм М. П. III
Розенцвейг В. Ю. V
Ройтерштейн М. И. IV
Рокко Ханни VI
Роллен Ш. VI
Романов К. IV
Романович И. К. IV; VI
Ромашко С. Н. VI
Ромен (Ромэн) Ж. V
Ромм А. И. IV; VI
Ромул V
Ронен О. III; IV; VI
Ронсар П. де II; III; IV; V; VI
Роршах Г. VI
Рославлев А. С. III; VI
Россиус А. А. VI
Ростаньи А. I; II
Ростовцев М. И. VI
Ростопчина Е. П. III
Ротшильд М. А. VI
Ру С.-П. V
Рубан В. Г. II
Рубенс П. П. VI
Рубик Э. VI
Рубина Д. И. VI
Рубинштейн Л. С. III; V; VI
Рубинштейн С. Л. VI
Рубцов Н. М. III; VI
Рудаков С. Б. III
Руди С. VI
Руднев В. П. III
Руднев П. А. IV; V; VI
Рузина Е. Г. II
Рукавишников И. С. III; IV; VI
Румер О. II; IV
Руперт Санкт-Лоренцский II
Русанов Н. С. VI
Руссо Ж.-Б. IV
Руссо Ж.-Ж. IV; VI
Руссо Л. IV
Руст М. VI
Рутилий Намациан (Клавдий Рутилий Намациан) II
Рыбинцев Г. И. III
Рыбников П. Н. IV
Рылеев К. Ф. III; IV; V; VI
Рыленков Н. И. III; IV
Рыльский М. VI
Рыскин С. Ф. III
Рюккерт Ф. IV
Рюрик VI
Рютбёф II; V
Рябинин Т. IV
Рязанов Э. А. VI
Саади VI
Сабанеев Л. П. VI
Сабашников М. В. V
Сабуров А. А. VI
Савватий (справщик) IV
Савинков Б. В. VI
Савостин Н. С. III
Садовский П. М. VI
Садовской Б. А. III; IV; VI
Саккетти Ф. IV; V; VI
Сакс Г. III; V; VI
Салимбене Пармский II; V
Саллюстий (Гай Саллюстий Крисп) II; IV; VI
Салмазий (Клавдий Салмазий, Клод Сомэз) II; VI
Салтыков-Щедрин (Щедрин) М. Е. I; III; V; VI
Сальваторе Р. III
Сальери А. III
Самарин Р. М. VI
Самарин Ю. Ф. VI
Самойлов Д. С. III; IV; VI
Сандберг К. VI
Сандрар Б. VI
Саннадзаро Джакопо (Якопо) II
Санников Г. А. III; VI
Сапгир Г. В. III
Сапогов В. А. VI
Сапфо (Сафо) I; II; III; V; VI
Сарри (Суррей) Г. Г. IV
Сартр Ж.-П. VI
Сарьян М. С. III
Сатуновский Я. III
Саука Л. VI
Саути Р. IV; V
Сафарова А. С. IV
Сафонов С. VI
Сахаров А. Д. VI
Саша Черный (Гликберг А. М.) III; IV; VI
Саянов В. М. III; IV; VI
Саят-Нова V
Свасьян К. А. VI
Сведенборг Э. III
Светличная Е. И. V
Светлов М. А. III; IV; VI
Светоний (Гай Светоний Транквилл) I; II; V; VI
Свиридов Г. В. VI
Свифт Дж. I; II; III; IV; V; VI
Святополк-Мирский см. Мирский Д. П.
Сгаллова К. IV
Север (Публий Корнелий Север) II
Северянин Игорь (Лотарев И. В.) II; III; IV; VI
Сегал Д. М. I; III; VI
Седакова О. А. III; V; VI
Седулий (Целий Седулий) II
Седулий Скотт II
Седых Г. И. III; VI
Секст Эмпирик II
Сельвинский И. Л. II; III; IV; V; VI
Семенко И. М. III; V; VI
Семенов-Тян-Шанский А. П. II; VI
Сементковский Р. И. VI
Семпроний Азеллион II
Сенека (Луций Анней Сенека Младший) I; II; V; VI
Сенека Старший (Луций Анней Сенека Старший) I; II
Сент-Бёв Ш. III; V; VI
Сент-Дьердь А. VI
Сент-Экзюпери А. де. VI
Сервантес М. де IV; VI
Серват Луп (аббат Ферьерский) II
Сервий II
Сервий Сульпиций Руф II
Сергеев-Ценский С. Н. VI
Сергеенко М. Е. VI
Серебряный С. Д. VI
Серлон Вильтонский II; V
Серов А. Н. III; VI
Сеферис Й. V; VI
Сеше А. VI
Сивцев-Поромский И. IV
Сигеберт из Жамблу II
Сигер Брабантский II
Сигерий из Куртрэ II
Сидни Ф. IV
Сидоний (Гай Соллий Аполлинарий Сидоний) II
Сидоров А. А. IV
Сидоров Ю. А. III; IV; VI
Сикорская Т. С. III
Сикорский В. В. III
Силий Италик II; V; VI
Сильман Т. И. VI
Симаков В. И. VI
Симеон Полоцкий III; IV; V; VI
Симмах V
Симони П. К. III; IV; VI
Симонид Кеосский I; II; V; VI
Симонов К. М. III; IV; VI
Симфосий II
Синани Б. Б. III; VI
Синг Дж. V
Синегуб С. С. III
Синесий VI
Синявский В. С. VI
Синякова К. М. III
Синяковы, сестры VI
Сиповский В. В. IV
Сирон II
Скабичевский А. М. VI
Скалдин А. Д. III
Скаррон П. II
Скобелев М. Д. VI
Сковорода Г. С. VI
Скотт В. III; VI
Скотт С. II
Скрябин А. Н. III; VI
Скулачева Т. В. IV; V; VI
Скультеций II
Скуфейкин Д. V
Славнин И. К. IV
Славская К. А. VI
Слащев Я. А. VI
Слезкин Ю. Л. VI
Слоним А. Г. VI
Слоним М. Л. VI
Слонимский М. Л. VI
Слотердайк П. VI
Слуцкий Б. А. III; IV; VI
Случевский К. К. III; IV; V; VI
Смарагд Сент-Михиельский II
Смеляков Я. В. III; IV; VI
Смиренский В. В. VI
Смирин В. М. (псевдоним) см. Гаспаров В. М.
Смирнов А. А. V
Смирнов В. И. VI
Смирнов Н. С. III; IV
Смирнов С. В. III
Смирнова В. В. V; VI
Смит Дж. III; IV; VI
Смола О. П. III
Смоленский Б. М. IV
Смыка О. В. I; VI
Сниткин А. П. III
Собакин М. Г. IV
Собаньская К. А. VI
Соболева Л. VI
Соболевский С. А. III; IV; VI
Соболевский С. И. I; V; VI
Соболь М. А. VI
Соколов А. Н. III
Соколов В. Н. III; VI
Соколов Н. III
Соколов Н. М. VI
Соколов С. А. см. Кречетов С.
Соколов-Микитов И. С. VI
Соколовский В. И. III
Соколовы Б. М. и Ю. М. IV
Сократ I; II; V; VI
Солженицын А. И. VI
Соллогуб В. А. IV; VI
Солнцев В. М. VI
Соловьев Вл. С. II; III; IV; V; VI
Соловьев С. М. (поэт) II; III; IV; V; VI
Соловьев С. М. (историк) VI
Соловьева-Аллегро П. С. III
Сологуб (Тетерников) Ф. К. III; IV; V; VI
Соломон (аббат Санкт-Галленский) II
Солон Афинский I; II; VI
Солонович Е. М. VI
Солоухин В. А. V
Сорокин А. IV
Сорокин В. В. VI
Сорокин В. Г. VI
Соррилья Х. IV
Соснора В. А. II; III; IV
Соссюр Ф. де III; IV; V; VI
Софокл I; II; IV; V; VI
Спасский С. Д. III; IV
Спендер Ст. VI
Спенсер Г. VI
Сперанский М. Н. III; IV; VI
Срезневский И. И. VI
Сталин И. В. III; VI
Станевич В. О. VI
Станиславский К. С. VI
Станкевич Н. В. III
Старикова Е. В. VI
Стасов В. В. VI
Стасюлевич М. М. VI
Стахович А. А. III; VI
Стаций (Публий Папиний Стаций) II; V
Стеллецкий В. И. VI
Стендаль VI
Стенич В. И. VI
Степанов Г. В. V
Степун Ф. А. VI
Стерн Л. IV; VI
Стесихор I
Стефан Бурбонский II
Стефан Лэнгтон (архиепископ) II
Стефанард Вимеркатский II
Стехин Ю. К. IV
Стилон (Луций Элий Стилон) II
Стобей И. VI
Столица Л. Н. III; VI
Столович Л. VI
Столыпин П. А. VI
Столяров М. VI
Страбон I; II
Стравинский И. Ф. VI
Стражев В. И. III
Стратановский С. Г. V
Строганов С. Г. VI
Строцци-отец (Строцци Тито Веспасиано) II
Строцци-сын (Строцци Эрколе) II
Струве А. Ф. VI
Струве Г. П. III; V
Струве М. А. III
Струве Н. А. III; VI
Стругацкие А. Н. и Б. Н. III; VI
Студенская Е. М. III
Суворов А. В. VI
Суинберн А. Ч. I; III; VI
Сулейменов О. О. IV
Сулима Н. М. VI
Сулина Т. К. V
Сулла (Луций Корнелий Сулла) I; II
Сульпиция II
Сумароков А. П. III; IV; V; VI
Суражевский Д. VI
Сурат И. З. VI
Сурдин II
Суриков И. З. III; IV
Сурикова Д. IV
Сурков А. А. III; IV; VI
Суффен II
Сухово-Кобылин А. В. VI
Сухозанет И. О. VI
Сухотин П. С. VI
Сучков Б. Л. VI
Сушков Д. П. III
Схеней А. V
Сцевола (Гай Муций Сцевола) II
Сцевола (Квинт Муций Сцевола) II
Сципион Азиатский (Луций Корнелий Сципион Азиатский) I
Сципион Африканский Старший (Публий Корнелий Сципион Африканский Старший) I; II; V; VI
Сципион Эмилиан Африканский (Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший) II; VI
Сы Кун-ту VI
Сырейщикова Е. А. III
Сыркин А. Я. VI
Сьенфуэгос Н. А. де IV
Сэндберг К. V
Сюлли-Прюдом V
Сюрже Ф. VI
Тальман де Рео Ж. V
Тальман П. III
Тальяд (Тайад) Л. V
Тан-Богораз В. Г. III
Тарановский К. Ф. III; IV; VI
Тарасенков А. К. III; VI
Тарасов А. VI
Тарковский А. А. III; IV; V
Тарлинская М. Г. IV; VI
Тарловский М. А. VI
Таруашвили Л. И. VI
Тассо Т. III; IV; VI
Татаркевич В. II
Татиан I
Татищев В. Н. VI
Тауфер И. VI
Тахо-Годи А. А. I; II; VI
Тацит (Публий Корнелий Тацит) I; II; V; VI
Твардовская М. И. VI
Твардовский А. Т. III; IV; V; VI
Твен М. VI
Теден А. V
Тейф М. VI
Теккерей У. М. IV
Теннисон А. III; IV; VI
Теодульф (епископ Орлеанский) II
Тепляков В. Г. II; III; IV; V; VI
Тер-Григорян О. III
Тереза Авильская VI
Теренций (Публий Теренций Афр) I; II; III; IV; V
Терещенко А. В. VI
Терпандр I; IV
Террас В. III
Терян В. III; V
Тескова А. III
Тестов И. Я. VI
Тиберий I; II; V; VI
Тибулл (Альбий Тибулл) II; III; V; VI
Тибуртин V
Тигеллий Гермоген II
Тик Л. V
Тиле Г. I
Тимей Сицилийский I; II; V
Тименчик Р. Д. III; IV; VI
Тимокреонт I; V
Тимофеев А. В. IV
Тимофеев Л. И. III; IV; VI
Тимофей Милетский I
Тинторетто III
Тиняков А. И. III; VI
Типот В. Я. VI
Тиртей I; II; V
Тит II; VI
Тит Ливий II; VI
Титмар Мерзенбургский II
Тито И. Б. VI
Тихон (Беллавин В. И.; патриарх) III
Тихонов Н. С. III; IV; V; VI
Тихонова М. К. VI
Тициан III; V
Тицида V
Тоддес Е. А. III; VI
Тодоровский И. VI
Тойнби А. V; VI
Толстая С. М. IV; VI
Толстая Т. Н. VI
Толстой А. К. III; IV; VI
Толстой А. Н. III; VI
Толстой И. И. V
Толстой Л. Н. I; III; IV; V; VI
Томас Д. III; IV
Томашевский Б. В. II; III; IV; V; VI
Томпсон Ф. V; VI
Тончи С. III
Топильский М. И. VI
Топоров А. М. VI
Топоров В. Н. III; VI
Торпусман Р. VI
Тракль Г. VI
Траут Г. V
Траян I; II; V
Тредиаковский В. К. II; III; IV; V; VI
Тренин В. В. III; IV
Третьяков С. М. III; VI
Трефолев Л. Н. III; IV; VI
Тривус В. М. III
Триоле Э. VI
Трифиодор II; V; VI
Тришникова Т. IV
Тронский И. М. VI
Троцкий Л. Д. VI
Трубецкой Н. С. IV; VI
Туган-Барановский М. И. VI
Туманский В. И. IV
Туманян Ов. V
Туотилон II
Тургенев А. И. VI
Тургенев И. С. I; III; IV; V; VI
Тургенев Н. И. VI
Турков А. М. VI
Туфанов А. В. III
Тушнова В. М. III
Тхоржевский И. И. IV
Тынянов Ю. Н. III; IV; V; VI
Тычина П. VI
Тьер А. VI
Тэкэян В. V
Тэн И. VI
Тэффи III; VI
Тюменев И. Ф. III
Тюссо М. VI
Тютчев Ф. И. III; IV; V; VI
Уайет Т. IV
Уайльд О. III; VI
Уваров С. С. VI
Угланов Н. А. III
Удальрих Аугсбургский II
Уизер Дж. VI
Уитмен У. IV; V; VI
Уланд Л. III; V; VI
Ульянов Н. И. VI
Уолпол Г. VI
Уорт Д. С. III
Уорф Б. VI
Уоткинс К. III
Уотс Д. IV
Урицкий М. С. III
Урусов С. Д. VI
Усов Д. С. V; VI
Успенский Б. А. IV; VI
Успенский В. А. VI
Успенский Гл. И. III; VI
Успенский Л. VI
Успенский Н. В. VI
Устинов А. Б. V; VI
Уткин И. П. III; IV
Утченко С. Л. I; II; V
Ухтомский Э. V
Ушаков Д. Н. VI
Ушаков Н. Н. III; IV
Уэйли А. V; VI
Уэллс Г. Дж. VI
Уэсли Дж. VI
Фабий Кунктатор V
Фабий Пиктор (Квинт Фабий Пиктор) I; II
Фаворин Арелатский II; V
Фаворский В. А. III
Фадеев А. А. VI
Факкани Р. IV
Фален И. I; II
Фалес Милетский I; VI
Фатьянов А. И. III
Федин К. А. IV; VI
Федоров А. М. III
Федоров В. Д. III
Федоров И. VI
Федоров Н. А. VI
Федоров Н. Ф. III; VI
Федорченко С. З. III; VI
Федосеев П. Н. VI
Федотов А. Ф. IV
Федотов Г. П. VI
Федотов О. И. III; IV; VI
Федр I; II; III; IV; V; VI
Федченко С. М. VI
Фейхтвангер Л. VI
Феликс Урхельский II
Фемистий I; II
Фенелон Ф. III
Феогнид I; II
Феодект I
Феодосий I Великий II; V
Феодосий Печерский VI
Феокрит I; II; III; IV; V; VI
Феоктистов Е. М. VI
Феоктистов К. VI
Феопомп I; II
Феофан Прокопович III; IV
Феофраст I; II; V; VI
Ферреро В. VI
Феспид (Феспис) I; II
Фет А. А. I; II; III; IV; V; VI
Фигнер В. Н. III; VI
Фидлер Ф. V
Филарет VI
Филарх II
Филдинг Г. VI
Филемон I
Филет (Филит) I; II
Филипп Бероальд II
Филипп Гревский II
Филипп Фессалоникийский I
Филиппов Б. А. III; V
Филодем Гадарский I; II
Филоксен Киферский I
Филон Александрийский II; VI
Филон Ларисский (Ларисейский) II
Философов Д. В. VI
Филострат (Флавий Филострат) I; II; V
Фильштинский И. М. VI
Финли М. VI
Фирсов В. И. III
Фительберг Гж. III
Фихофф Г. IV
Фицджеральд Э. IV
Флегонт из Тралл V
Флейшман Л. С. VI
Флобер Г. III; VI
Флодоард Реймсский II
Флор (Луций Анней Флор) II
Флоренский П. А. VI
Флориан Ж.-П. V
Фляйшлин Ц. V; VI
Фокилид I; II
Фокин М. М. III
Фокина О. А. III; IV
Фолкнер У. VI
Фолькет из Генуи (Марсельский) II
Фолькман Р. II
Фома Аквинский II; IV; VI
Фома Челанский II
Фома Эрфуртский II
Фоменко А. Т. VI
Фонадь И. VI
Фонвизин Д. И. III
Фор П. V
Фортис А. III
Форш О. Д. VI
Фосс И. Ф. III; IV
Фотий I
Фофанов К. М. III;; V; VI
Фохт У. Р. VI
Франк Х. И. III
Франк-Каменецкий И. Г. VI
Франковский А. А. V
Франкон Люттихский II
Франс А. VI
Франц-Иосиф VI
Франциск Ассизский II; III
Фрасимах II
Фрезер Дж. VI
Фрейберг Л. А. V
Фрейд З. VI
Фрейденберг О. М. II; VI
Фрейдин Г. М. III
Фрейдин Ю. Л. III; V; VI
Фрейлиграт Ф. III
Фрелих О. VI
Френкель Г. VI
Фрид Э. V; VI
Фридлендер Г. М. VI
Фридрих II II
Фридрих Г. II
Фриних I; II
Фриче В. М. III; IV; VI
Фриш М. VI
Фролов Г. Д. III; IV
Фромантен Э. VI
Фронтон II
Фрост Р. VI
Фроумунд II
Фруг С. Г. III
Фругони К.-И. III
Фрэнк Т. II
Фукидид I; II; V
Фуко М. VI
Фулберт Шартрский II
Фурий Бибакул (Марк Фурий Бибакул) II; V
Фурманов Д. А. VI
Фьякки Л. V
Хагедорн Ф. фон V
Хайдеггер М. VI
Хайнце Р. II
Халле М. VI
Халтурин И. И. VI
Хан А. III
Хара В. VI
Харджиев Н. И. III; IV; V; VI
Харитон II
Хармс Д. И. III;; VI
Хаузен Ф. фон IV
Хаусмен А. Э. III; V; VI
Хаусрат А. I
Хафиз IV
Хвостов Д. И. VI
Хейнс (Гейнзиус) Д. IV
Хейрик Оксеррский II
Хейтон II
Хейфец Л. Е. VI
Хёйзинга Й. VI
Хелдт Б. VI
Хемингуэй Э. IV; VI
Хемницер И. И. III; IV
Херасков М. М. III; IV; VI
Херберт З. V
Херемон I
Хетцер А. IV
Хильдеберт Лаварденский II; V
Хинкмар (архиепископ Реймсский) II
Хитрово М. А. IV
Хлебников Велимир III; IV; V; VI
Хмарный И. IV
Ховельянос Г. М. де IV
Ходасевич В. Ф. III; IV; V; VI
Холенштейн Э. VI
Холин И. С. III
Холлэндер Дж. III
Холодковский Н. А. IV; V
Холшевников В. Е. IV; VI
Хольц А. V; VI
Хомяков А. С. III; IV
Хопкинс Дж. М. VI
Храбан Мавр (аббат Фульдский) II
Храповицкий А. В. VI
Храпченко М. Б. VI
Хрисипп I; II; VI
Христиан Майнцский V
Христодор I
Хротсвита (Гросвита, Росвита) Гандерсгеймская II; V; VI
Хрусталева О. VI
Хрущев Н. С. VI
Хукбальд Сент-Амандский II
Хэррис Дж. III
Цадкин Ж. III
Цвейг С. V
Цветаев И. В. VI
Цветаева А. И. III
Цветаева М. И. III; IV; V; VI
Цветков А. П. III
Цветковская Е. К. VI
Цедлиц Й. Х. фон III; VI
Цезарий Гейстербахский II
Цезарь (Гай Юлий Цезарь) I; II; III; V; VI
Цезарь Страбон (Гай Юлий Цезарь Страбон Вописк) II
Целан П. VI
Целий Антипатр II
Целий Руф II; VI
Цельс II
Цельтис К. II; V
Церетели Г. Ф. II; IV; V
Цертелев Д. Н. III
Цецилий Калактинский II
Цецилий Стаций II
Цецилий Эпирот II
Цзи Юнь VI
Цивьян Т. В. IV; VI
Цивьян Ю. Г. III
Циммерлинг В. И. III
Цинна (Гай Гельвий Цинна) II; V
Цинна (Луций Корнелий Цинна) II
Цинциннат V
Циолковский К. Э. VI
Цицерон (Марк Туллий Цицерон) I; II; III; V; VI
Цыбин В. Д. III; IV; VI
Цыганов Н. Г. III; IV
Цявловский М. А. VI
Цявловский Т. Г. VI
Чаадаев П. Я. III; VI
Чайковский П. И. VI
Чансес Э. VI
Чапаев В. И. VI
Чарли Чаплин VI
Чарская Л. А. VI
Чарушин Е. И. VI
Чарыг А. V
Че Гевара VI
Чекрыгин В. Н. VI
Чепуров А. Н. VI
Черашняя Д. И. III
Червенка М. III; IV; VI
Черемшанова (Ельшина) О. А. III
Черниговец-Вишневский Ф. В. VI
Чернов И. А. VI
Черномырдин В. С. VI
Чернышевский Н. Г. I; II; IV; V; VI
Чернявский Колау (Н. А.) VI
Чернявский М. Н. II
Черубина де Габриак (Васильева) Е. И. III
Черчилль У. VI
Честертон Г. К. VI
Чехов А. П. I; II; III; IV; V; VI
Чижевский Д. И. III
Чиладзе О. V
Чиннов И. В. IV
Чистов К. В. VI
Чистякова Н. А. I; II; V
Чичагов П. В. VI
Чичерин (Чьи!черин) А. Н. VI
Чосер Дж. II; IV; V
Чролли (Тарасов К. Ф) III
Чудаков А. П. VI
Чудакова М. О. VI
Чудовский В. А. III; IV; VI
Чуков А. IV
Чуковская Л. К. IV; VI
Чуковский К. И. III; IV; V; VI
Чуковский Н. К. III; VI
Чулков Г. И. III; V
Чулков М. Д. III; IV
Чурилин Т. В. III; VI
Чухонцев О. Г. III
Чхартишвили Г. Ш. см. Акунин Б.
Чюмина О. Н. III; VI
Шагинян М. С. VI
Шадевальдт В. I
Шайкевич А. Я. VI
Шаламов В. Т. III; VI
Шаляпин Ф. И. VI
Шамиль VI
Шамов И. В. III
Шампольон Ж.-Ф. VI
Шамфор С.-Р. Н. VI
Шанин Ю. В. VI
Шапир М. И. III; IV; VI
Шаров А. И. VI
Шатерников Н. И. II; VI
Шатобриан Ф. Р. де III
Шахвердов С. А. IV
Шахова Е. Н. III
Шаховская Л. Д. VI
Шаховской А. А. III; VI
Шваб Г. Б. V
Шварц Е. Л. VI
Шварцбанд С. М. III
Швейцер В. А. IV
Швоб М. VI
Шевченко Т. Г. III; V; VI
Шевырев С. П. III; IV; VI
Шекспир У. I; II; III; IV; V; VI
Шелер М. VI
Шеллер (Михайлов) А. К. VI
Шелли П. Б. III; V; VI
Шельвах А. М. III
Шемшурин А. А. VI
Шенберг А. VI
Шенгели Г. А. II; III; IV; V; VI
Шендерович В. А. VI
Шенталинский В. А. III
Шенье А. III; IV; V; VI
Шервинский С. В. I; II; III; IV; V; VI
Шернваль А. К. IV
Шершеневич В. Г. III; IV; V; VI
Шершеневич Г. Ф. V
Шершеневич И. Г. V
Шестаков Д. П. III
Шестов Л. И. VI
Шефнер В. С. III; IV
Шилейко В. К. III; VI
Шиллер Ф. I; III; IV; V; VI
Шилов А. В. III
Широков П. Д. III
Ширяевец (Абрамов) А. В. III
Шихматов С. А. IV
Шичалин Ю. А. VI
Шишмарев В. М. V
Шкапская М. М. III; V; VI
Шкловский В. Б. IV; V; VI
Шкловский-Корди Н. В. VI
Шкляревский И. И. III; IV
Шкулев Ф. С. III
Шлегель А. В. III; V
Шлегель И. Э. IV
Шмаков Г. Г. III
Шмелев И. С. VI
Шмеллер А. V
Шмеллер И. II
Шмид В. VI
Шмидт П. П. VI
Шнейдер Е. Ф. IV
Шнейдер О. I
Шнитке А. Г. VI
Шопен Ф. III
Шопенгауэр А. VI
Шор Р. VI
Шостакович Д. Д. VI
Шоу Б. V; VI
Шоу Дж. Т. IV; VI
Шпенглер О. III; V; VI
Шпет Г. Г. V; VI
Шредер Р. А. IV
Штаден Г. фон VI
Штаерман Е. М. I; II
Штайдле В. II
Штейгер А. С. III; VI
Штейн С. В. III; VI
Штейнберг А. А. IV; VI
Штейнер Р. VI
Штемпель Н. Е. III; VI
Штих А. Л. III; VI
Штокмар М. П. III; IV; VI
Штоль Г. В. V
Штрекер К. II
Штрогейм Э. фон VI
Штук Ф. фон III
Шуб Э. И. VI
Шуберт Ф. III
Шубин П. Н. III; IV; VI
Шульговский Н. Н. IV
Шульц Ю. Ф. IV
Шуман О. II; IV
Шуман Р. III; IV
Шумахер П. В. III
Шуплецов Б. В. VI
Шураки А. VI
Шютц Г. II
Щапов Я. Н. VI
Щеглов Ю. К. I; V; VI
Щеголев П. Е. VI
Щеголенок В. IV
Щедрин см. Салтыков-Щедрин М. Е.
Щепкин М. С. VI
Щепкина-Куперник Т. Л.III
Щерба Л. В. III; IV
Щербина В. Р. VI
Щербина Н. Ф. III; IV
Щербина Т. Г. III
Щипачев С. П. III; IV; VI
Эберхард Бетюнский II
Эберхард Немецкий II
Эвен I
Эгберт Люттихский II
Эдисон Т. А. VI
Эзоп I; II; V; VI
Эзрохи З. Е. III
Эйдельман Н. Я. VI
Эйзенштейн С. М. II; III; V; VI
Эйнхард II
Эйнштейн А. III; VI
Эйхенбаум Б. М. III; V; VI
Эйхендорф Й. фон VI
Эккехард IV II
Экман Т. IV
Эко У. V; VI
Экстер А. А. VI
Элиаде М. VI
Элиан (Клавдий Элиан) I; II; VI
Элий Аристид I; II; VI
Элиот Т. С. V
Эллиот Дж. VI
Эллис (Кобылинский) Л. Л. III; VI
Элс Дж. Ф. I
Эльсберг Я. Е. V; VI
Эльснер В. Ю. III; IV; VI
Элюар П. V
Эмбрихон Майнцский II
Эмерсон К. VI
Эмерсон Р. У. V
Эми Сяо VI
Эмилий Макр II
Эмилий Павел II
Эмин Г. V
Эмпедокл I; II; V
Энгельгардт Н. А. III; VI
Энгельс Ф. I; II; V; VI
Энг-Лидмейер Й. ван дер III
Энний (Квинт Энний) II; IV; VI
Энценсбергер Х. М. V
Эпиктет I; II; VI
Эпикур I; II 3; V; VI
Эпихарм I; II; V
Эразм Роттердамский II; V; VI
Эрастофен I
Эредиа Ж. М. де III
Эренбург И. Г. III; IV; V; VI
Эринна I
Эристов Д. А. III
Эриугена (Иоанн Скотт Эриугена) II; VI
Эрлих В. И. VI
Эрманн Л. I; II
Эрменрих Эльвангенский II
Эрмольд Нигелл II
Эрну А. VI
Эсамбаев М. А. VI
Эстерлен Т. II
Эсхил I; II; III; IV; V; VI
Эсхин I; II; V
Этвуд М. V
Эткинд Е. Г. IV; V; VI
Эфор I; II
Эфрон С. Я. III; VI
Эфрос А. М. VI
Ювенал (Децим Юний Ювенал) II; IV; V; VI
Ювенк II
Югов А. К. VI
Юлиан Египетский I
Юлиан Отступник I; V
Юлиан Шпейерский II
Юлий Сатурнин II
Юлий Флор II
Юлия Младшая II
Юлия Старшая II
Юнг К. VI
Юнгер Э. VI
Юркун Ю. И. V
Юрлов А. (Бобров С. П.) VI
Юрченко Т. Г. III
Юстиниан I; II
Юшневский А. П. VI
Язвицкий В. И. III
Языков Н. М. II; III; IV; VI
Якоби Ф. I
Якобсон Р. О. III; IV; VI
Яков Витрийский II
Яков Ворагинский II
Яковлев Н. В. III
Якопоне Тодди (да Тоди) II
Якубович Л. А. IV
Якубович П. Ф. (Якубович-Мельшин) I; III; IV; V
Якулов Г. Б. III
Ямвлих II; VI
Ямпольский И. Г. IV
Янакиев М. IV
Янечек Дж. IV
Яницкий К. V
Яновский В. С. VI
Ярковец А. Г. III
Ярославский Е. М. VI
Ярхо Б. И. I; II; III; IV; V; VI
Ярхо В. Н. I; V; VI
Ясинский И. И. VI
Яхонтов А. Н. III
Яхонтов В. Н. III
Яшин А. Я. III; IV
Ященко А. С. VI
Ящук Т. А. (лицо вымышленное)III
Abrioux Y. VI
Albrecht E. см. Альбрехт Э.
Allen Ph. S. II
Alton J. F. D. II
André J. М. II
Andrew J. III
Arbusow L. см. Арбузов Л.
Arnim H. von см. Арним Г. фон
Aschbach I. II
Atkins J. W. H. II
Baehr A. IV
Baehrens Aem. см. Беренс Э.
Bailey J. см. Бейли Дж.
Bandy E. L. I
Bardon H. I; II
Bartsch K. V
Barwick K. см. Барвик К.
Bear W. II
Bechthum M. II
Bely A. см. Белый А.
Bennett W. IV
Bertinetto P. M. IV
Bertschinger J. I
Beyer Th. R. IV
Biese A. II
Birt Th. см. Бирт Т.
Boissier G. см. Буассье Г.
Bonola A. III
Borgen W. II
Bornecque H. II
Bowra С. М. I
Boyancé P. см. Буайансэ П.
Breidert E. IV
Brewer J. S. II
Brik O. M. см. Брик О.
Brinkmann H. II
Brown C. см. Браун Кл.
Broyde S. J. см. Бройд С.
Brunet A. II
Buchholz K. II
Büchner K. см. Бюхнер К.
Burckhardt J. см. Буркхардт Я.
Burger M. IV
Burgi R. см. Берджи Р.
Bursill-Hall G. L. II
Burton R. W. B. см. Бертон Р.
Busch W. см. Буш В.
Caplan H. II
Cartault A. II
Cauer P. см. Кауэр П.
Causeret C. I; II
Červenka M. см. Червенка М.
Chambers Е. К. II
Charis K. I. I
Charland Th. M. II
Chiappelli F. IV
Christa B. IV
Ciaceri E. II
Cichorius C. II
Contini G. IV
Cordray J. M. II
Courbaud E. II
Cousin J. II
Crone A. L. III
Cruisius O. см. Крузиус О.
Cudini P. IV
Culler VI
Cumaniecki C. II
Cupaiuolo F. см. Купайуоло Ф.
Curcio G. II
Curtius E. R. II
Cvetaeva M. см. Цветаева М.
D’Olwer L. N. II
Dahlmann H. см. Дальманн Г.
Danielewicz J. II
Davie D. IV
De Ghellinck J. II
De Lorenzi A. см. Де Лоренци А.
De Valous G. II
Deltcheva R. VI
Desmouliez A. II
Dieterich A. II
Dihle A. II
Dłuska M. см. Длуска М.
Dobiache-Rojdestvensky O.II
Donlan W. I
Drobisch M. W. см. Дробиш М. В.
Dronke P. II
Du Méril Et. см. Дю Мериль Э.
Duchemin J. I
Duckworth G. E. см. Дакуорс Дж.
Duff J. W. H. II
Dümmler E. IV
Eagle H. IV
Eekman Th. см. Экман Т.
Elsworth J. IV
Elwert W. Th. IV
Eng-Liedmeier J. van der см. Энг-Лидмейер Й. ван дер
Etkind E. см. Эткинд Е. Г.
Faccani R. см. Факкани Р.
Fänkel E. II
Federzoni G. IV
Festa N. I
Fiske G. C. II
Fleishman L. см. Флейшман Л.
Fónagy I. IV
Fougnies A. II
Fraisse P. III
Franceschini E. II
Frank H. J. см. Франк Х. И.
Frank J. VI
Frank T. II
Fränkel H. см. Френкель Г.
Freidin G. см. Фрейдин Г.
Friedrich G. Q. см. Фридрих Г.
Frings Th. II
Gallo Е. II
Ganzenbuller W. II
Georgius H. II
Giammati A. B. IV
Giesebrecht W. см. Гизебрехт В.
Gildersleeve B. L. I
Gilferding A. F. см. Гильфердинг А. Ф.
Giuffrida P. II
Gleditsch H. II
Goethe J. W. von см. Гете И. В. фон
Goetz G. I
Golomb Н. IV
Götzinger M. см. Гетцингер М.
Grabener H. J. II
Grant M. A. II
Grimm J. см. Гримм Я.
Gross A. I
Grotjahn R. IV
Guillemin А. М. II
Gunning J. H. II
Gwynn A. II
Haenni J. II
Halle M. см. Халле М.
Hamilton R. см. Гамильтон Р.
Hansen-Löve A. A. III
Harmand J. VI
Harris J. G. III
Haskins С. Н. II
Hauréau J. D. II
Hausrath A. см. Хаусрат А.
Heinimann F. II
Heinrich A. II
Heinze R. см. Хайнце Р.
Hendrickson G. L. II
Herrmann L. I; II
Hesse P. III
Hetzer A. см. Хетцер А.
Heusler A. IV
Hüka A. II
Hofman Peerlkamp P. II
Holford-Strevens L. VI
Hollander J. см. Холлэндер Дж.
Hommel H. I
Hosius C. II
Hupperth W. II
Immisch O. см. Иммиш О.
Ivask G. см. Иваск Ю. П.
Jacoby F. см. Якоби Ф.
Jakobson R. см. Якобсон Р. О.
Janecek G. см. Янечек Дж.
Jarcho B. I. см. Ярхо Б. И.
Jens W. см. Иенс В.
Jensen Chr. см. Иенсен Хр.
Kabell A. IV
Kambylis A. I
Kastner L. см. Кестнер Л.
Kelly D. II
Kemball R. см. Кембол Р.
Keyser S. J. IV
Kleulens C. H. I
Klingner F. см. Клингнер Ф.
Knauer G. N. II
Koestler A. VI
Kohnken A. I
Kranz W. I
Kroll W. см. Кролль В.
Krüger G. T. A. см. Крюгер Г.
Kumaniecki K. II
Kuryłowicz J. IV
Kuryś T. IV
La Penna A. см. Ла Пенна А.
Laistner L. II
Latsch R. II
Lattimore R. см. Лэттимор Р.
Lauer R. VI
Laurand L. II
Lausberg H. см. Лаусберг Г.
Lawler T. II
Le Goff J. II
Lejay P. см. Леже П.
Lilly I. см. Лилли И.
Longfellow H. см. Лонгфелло Г.
Lord A. см. Лорд А.
Lot F. II
Ludwich A. см. Людвих А.
Ludwig W. I
Madyda L. II
Maffi M. II
Majmieskulow A. III
Malmstad J. E. см. Малмстед Дж.
Mandelshtam O. см. Мандельштам О. Э.
Manley J. М. II
Marache R. II
Marcovich M. см. Маркович М.
Mari G. II
Markov V. F. VI
Marrou H. I. II
Martin J. II
Martinez L. III
Martinon Ph. IV
Masson D. I. IV
Matheson W. Н. I
Mayenowа M. R. см. Майенова М. Р.
Meijer J. M. VI
Meillet А. см. Мейе А.
Meletinskij E. M. см. Мелетинский Е. М.
Menge R. III
Mengel S. IV
Metzger F. I
Meyer A. см. Мейер А.
Meyer W. см. Мейер В.
Michel A. II
Migliorini B. IV
Momigliano A. II
Mommsen Th. см. Моммзен Т.
Morier H. II; IV
Müller G. I
Müller L. см. Мюллер Л.
Munari F. II
Murphy J. J. см. Морфи Дж. Дж.
Navarro T. IV
Nestle W. I
Newman J. К. II
Nilsson N. A. III
Norberg D. II; IV; VI
Norden E. см. Норден Э.
Norwood G. I; II
О’Connor K. см. О’Коннор К. Т.
Oesterlen Th. см. Эстерлен Т.
Oganesova N. IV
Oltramare A. I
Oltramare Р. II
Oulmont С. II
Paré G. II
Pasquali G. II
Patin A. II
Pavano G. см. Павано Дж.
Peiper R. II
Perret J. II
Perry В. E. см. Перри Б. Е.
Peters J. III
Pfeiffer R. II
Philippson R. I
Pighi G. B. см. Пиги Г. Б.
Pinborg J. I
Pirog G. см. Пирог Дж.
Pohlenz M. см. Поленц М.
Polheim K. II
Polukhina V. P. III
Potthoff W. IV; V
Pozdnejev A. см. Позднеев А. В.
Przybylski R. см. Пшибыльский Р.
Pszczołowska L. IV
Puelma Piwonka М. II
Puhvel J. III
Quadlbauer F. II
Ramain G. см. Рамэн Г.
Rand E. К. II
Rashdall H. II
Reich H. II
Reid R. III
Reinhardt K. I
Reynolds R. W. II
Riese A. II
Ritter F. см. Риттер Ф.
Rockinger L. von II
Ronen O. см. Ронен О.
Rosenblum M. II
Ross D. О. II
Rostagni A. см. Ростаньи А.
Ruck C. A. P. I
Rudd N. II
Sassen H. von II
Schadewaldt W. см. Шадевальдт В.
Schanz M. II
Scheiber J. II
Schenkl C. II
Scherr B. P. IV
Schlittenbauer E. II
Schmale F. J. II
Schmeller J. A. см. Шмеллер И.
Schooneveld C. H. van III
Schulte H. K. II
Schumann O. см. Шуман О.
Sebeok Th. A. III; IV
Seemann K. D. см. Зееман К. Д.
Seth V. IV
Setschkareff V. V
Sgallova K. см. Сгаллова К.
Shaw J. Th. см. Шоу Дж. Т.
Shcheglov Y. K. см. Щеглов Ю. К.
Shmakov G. см. Шмаков Г. Г.
Shumann О. см. Шуман О.
Sihler E. II
Smith G. S. см. Смит Дж.
Smith R. E. II
Smith W. K. II
Spanke H. II
Steidle W. см. Штайдле В.
Steiner P. III; VI
Stemplinger E. II
Stephan B. IV
Stieren A. II
Strecker K. см. Штрекер К.
Strohm H. I
Struve G. см. Струве Г. П.
Suchier W. IV
Süssmilch H. II
Syme R. II
Symonds J. A. II
Taranovsky K. см. Тарановский К. Ф.
Tarlinskaja M. см. Тарлинская М. Г.
Tarn W. W. I
Tatarkiewicz W. см. Татаркевич В.
Terzaghi N. I
Thibault J. С. II
Thiele G. см. Тиле Г.
Thompson S. I
Thummer E. I
Tremblay P. II
Trubetzkoy N. S. см. Трубецкой Н. С.
Tsvetaeva М. см. Цветаева М. И.
Unbegaun B. IV
Unger H. II
Vandaele H. см. Вандель И.
Veyrenc J. см. Вейранк Ж.
Vinogradova V. IV
Vitale S. VI
Vlasov E. VI
Vogel L. E. III
Volkmann R. см. Фолькман Р.
Vroon R. см. Вроон Р.
Waddell H. II
Watkins C. см. Уоткинс К.
Webb J. VI
Wecklein N. см. Веклейн Н.
Weichert A. II
Weinreich О. II
Welzhofer K. II
West A. B. II
Whorf B. VI
Wickery (Vickery) W. см. Викери В.
Wiechers A. I
Wienert W. см. Винерт В.
Wifstrand A. IV
Wigodsky V. II
Wharf itz-Moellendorff U. von см. Виламовиц-Меллендорф У. фон
Williams G. II
Wimmel W. II
Wimsatt W. K. IV
Witte K. см. Витте К.
Wójcickiemu K. IV
Wood Н. см. Вуд Г.
Worth D. S. см. Ворт Д. С.
Wright Th. см. Райт Т.
Young D. C. I
Zachariane Th. I
Zeumer K. II
CORRIGENDA

1
Мильчин А. Э. Как надо и как не надо делать книги. Культура издания в примерах. М., 2002. C. 27–28.
(обратно)
2
Мильчин А. Э. Как надо и как не надо делать книги. С. 28.
(обратно)
3
Головкин Б. Н. О школьных годах М. Л. Гаспарова // Вечер памяти Михаила Леоновича Гаспарова: Сборник материалов. М., 2007. С. 68.
(обратно)
4
Представленная в первом томе нашего издания (с. 27–367).
(обратно)
5
«Любовь ко всякому слову» – с. 457–461 настоящего тома.
(обратно)
6
Иванов С. А. Страница в альбом Михаила Гаспарова // Итоги. 10 декабря 1996. С. 70.
(обратно)
7
Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
(обратно)
8
При ссылках на статьи из других разделов перед названием указывается номер раздела.
(обратно)
9
В настоящем издании см. также т. V, с. 36–41. – Прим. ред.
(обратно)
10
Все цитаты – по памяти, кроме немногих обозначенных. Прошу прощения у филологов.
(обратно)
11
В настоящем издании см. также т. V, с. 256–257. – Прим. ред.
(обратно)
12
В настоящем издании см. также т. V, с. 250. – Прим. ред.
(обратно)
13
В настоящем издании см. также т. V, с. 216–217. – Прим. ред.
(обратно)
14
В первом издании «Записей и выписок» я по памяти процитировал вместо «точно» – «словно», вместо «с тобой разгоним» – «с небес прогоним» и вместо «песню чистую споем» – «честную зальем». Он прислал мне обиженное письмо с поправками.
(обратно)
15
В настоящем издании см. также т. V, с. 243–244.– Прим. ред.
(обратно)
16
В настоящем издании см. также т. V, с. 194. – Прим. ред.
(обратно)
17
В настоящем издании см. также т. V, с. 15–22. – Прим. ред.
(обратно)
18
Напомню: лингвистические традиции Москвы существовали только для лингвистов. Я учился на литературоведа и поэтому за пять лет ни разу не слышал на лекциях имени Соссюра – только изредка в коридорах. У Пушкина альманашник говорит: «Руссо был человек ученый, а я учился в Московском университете». Эти слова мне не приходилось забывать ни на минуту.
(обратно)
19
В настоящем издании см. также т. V, с. 233–234. – Прим. ред.
(обратно)
20
В настоящем издании см. также т. V, с. 226. – Прим. ред.
(обратно)
21
В настоящем издании см. также т. V, с. 244–245. – Прим. ред.
(обратно)
22
Текст дается по изданию: Вопросы литературы. 1985. № 7. С. 192–199.
(обратно)
23
Вулих Н. В. Поэтика без поэзии (К опыту построения поэтики «Тристий») // Вопросы литературы. 1985. № 7. С. 176–191. – Прим. ред.
(обратно)
24
Klingner F. Humanität und humanitas // Römische Geisteswelt. 3 Aufl. München, 1956. S. 620–662.
(обратно)
25
Подосинов А. В. Овидий и Причерноморье: опыт источниковедческого анализа поэтического текста // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1983 год. М., 1984. С. 8–178; см. особенно с. 167.
(обратно)
26
Текст дается по изданию: Театральная жизнь. 1989. № 13. С. 25–27.
(обратно)
27
Текст дается по изданию: Дружба народов. 1990. № 6. С. 166–168.
(обратно)
28
Текст дается по изданию: Учительская газета. 1990. 9–16 октября.
(обратно)
29
Текст дается по изданию: Искусство Ленинграда. 1991. № 3. С. 8–9.
(обратно)
30
Текст дается по изданию: Литературная учеба. 1991. № 5. С. 114–117.
(обратно)
31
Текст дается по изданию: Вопросы литературы. 1991. № 11/12. С. 180–182.
(обратно)
32
Кормилов С. И. Российский лапидарный слог. Маргинальные метро-ритмические формы // Вопросы литературы. 1991. № 11/12. С. 182–205. – Прим. ред.
(обратно)
33
Текст дается по изданию: Вопросы философии. 1992. № 3. С. 131–133.
(обратно)
34
Текст дается по изданию: Arbor Mundi. 1992. № 1. С. 10.
(обратно)
35
Текст дается по изданию: Понятие судьбы в контексте разных эпох / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. М.: Наука, 1994. С. 215–226.
(обратно)
36
«Понятие судьбы в контексте разных культур», Москва, 1991 год.
(обратно)
37
Вариант продолжения: Мы уже колеблемся на грани. Единство склада – но какого? – Судьба! – Осмысленный склад. Но это и есть: образ. Судьба – (диалектический) образ, складывающийся в событиях, как характер – образ, складывающийся в свойствах.
(обратно)
38
Текст дается по изданию: Итоги. 1996. 10 декабря. С. 3–8.
(обратно)
39
Текст дается по изданию: Искусство. Приложение к газете «Первое сентября». 2001. № 20. С. 11.
(обратно)
40
См. с. 225–228 настоящего тома. – Прим. ред.
(обратно)
41
Текст дается по изданию: Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 324.
(обратно)
42
Текст дается по изданию: Одиссей: человек в истории. Слово и образ в средневековой культуре. М.: Наука, 2002. С. 342–345.
(обратно)
43
Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. Филология как нравственность: Статьи, интервью, заметки. О прошлом и будущем. Об интеллигенции. О культуре. О школе. О жизни / Сост. А. М. Зотова. М.: Фортуна ЭЛ, 2012. С. 158–162 (впервые опубликовано в: Новое литературное обозрение. 2003. № 62. С. 13–14).
(обратно)
44
Текст дается по изданию: Искусство. Приложение к газете «Первое сентября». 2003. № 12. С. 2–3.
(обратно)
45
Текст дается по изданию: Московские новости. 2004. 16–22 января. С. 19.
(обратно)
46
Текст дается по изданию: Вестник истории, литературы, искусства / Гл. ред. Г. М. Бонгард-Левин, И. Х. Урилов. М.: Собрание; Наука, 2005. Т. 1. С. 26–29.
(обратно)
47
Текст дается по изданию: Независимая газета. 1991. 24 января. С. 5.
(обратно)
48
Текст дается по изданию: Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 4–5.
(обратно)
49
Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. Ю. М. Лотман: наука и идеология // Ю. М. Лотман. О поэтах и поэзии. СПб.: Искусство–СПБ, 1996. С. 9–16.
(обратно)
50
Вопросы литературы. 1967. № 1. С. 90–100.
(обратно)
51
Текст дается по изданию: Выступление М. Л. Гаспарова // Н. С. Автономова. Открытая структура: Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров. М.: РОССПЭН, 2009. С. 224–229; впервые представлен в качестве доклада на VII Лотмановских чтениях (1999 г.).
(обратно)
52
Егоров Б. Ф. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М., 1999. С. 87.
(обратно)
53
Abrioux Y. Système sémiotique, système dynamique: note sur Lotman et Prigogine // Théorie. Litterature. Enseignement (TLE). 1995. № 13. P. 119. (Pour Iouri Lotman.)
(обратно)
54
Deltcheva R., Vlasov E. Lotman’s «Culture and Explosion»: a Shift in the Paradigm of the Semiotics of Culture // The Slavic and East European Journal. 1996. Vol. 40. P. 148–152.
(обратно)
55
До срока (лат.).
(обратно)
56
Текст дается по изданию: Искусство. Приложение к газете «Первое сентября». 1998. № 17. С. 4–5. В настоящем томе см. также с. 206–211.
(обратно)
57
Текст дается по изданию: Красные холмы. Альманах / Гл. ред. Н. Х. Исмаилова. М., 1999. С. 305–312. В настоящем томе см. также с. 202–211.
(обратно)
58
Волков С. В. Интеллектуальный слой в советском обществе // Красные холмы. Альманах. М., 1999. С. 277–292. – Прим. ред.
(обратно)
59
Текст дается по изданию: Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования / Отв. ред. Х. Баран, С. И. Гиндин. М.: Изд. центр РГГУ, 1999. С. 334–340 (впервые опубликовано в: Материалы Международного конгресса «100 лет Р. О. Якобсону». М., 1996. С. 39–40). Статья написана в соавторстве с Н. С. Автономовой.
(обратно)
60
Опубликована в: Slavische Rundschau. 1929. Jg 1. Nr. 8. S. 629–646. Однажды она частично была все же перепечатана на французском языке (Sur les perspectives actuelles de la slavistique russe). На русский язык переведена и печатается впервые (О современных перспективах русской славистики // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999. С. 21–37. – Прим. ред.).
(обратно)
61
Вероятно, Якобсон думал при этом не только о советских политических лидерах, но и о своем друге Маяковском с его пражским экспромтом 1927 года: «Не тратьте слова / на братство славян. / Братство рабочих – / и никаких прочих».
(обратно)
62
Параллель: так режиссерский театр пришел на смену актерскому, как фабрика – мануфактуре. О «трех метафорах» строения художественного произведения – «машина – организм – система» – см.: Steiner P. Russian Formalism: a Metapoetics. Ithaca; London, 1984. Соссюр еще предпочитал пользоваться метафорой игры с правилами.
(обратно)
63
Трубецкой отказался от статьи прежде всего по известной своей нелюбви к публицистической работе, во-первых, к обзорному пересказу чужих мыслей, во-вторых, и к славистике, по которой служил он в Вене, в-третьих; но не в последнюю очередь и потому, что именно в это время произошел раскол в евразийстве и отделение парижской просоветской группы, призывавшей скрестить Маркса и Федорова (открытое письмо Трубецкого от 5 января 1929 года с его отмежеванием от нового евразийства). Если Якобсон и разбирался во внутренней борьбе евразийцев, то ему, перечислявшему и марксизм, и федоровщину как характерные проявления русского антипозитивизма, как раз новое евразийство могло быть ближе.
(обратно)
64
Нет ли противоречия между Якобсоном-поэтологом, пришедшим в науку из творческого авангарда левой поэзии, и Якобсоном-лингвистом, сосредоточенным не на творческом, а на коммуникативном аспекте языка? Кажется, что нет: для той авангардной словесности, которая была близка Якобсону, творчество было не самовыражением, а средством воздействия на читателя. Законченную формулировку этой позиции дал Эйзенштейн: искусство – это средство сознательного манипулирования подсознанием зрителя.
(обратно)
65
Трубецкой, по его словам в известном письме к Якобсону (7 марта 1921 года), начал вырабатывать свою концепцию в 1909–1910 годах: против европоцентризма, за внимание к степной, туранской Азии. Именно в это время борьба Российской империи за Тихий океан вынужденно сменилась борьбой за Центральную Азию: в 1907–1912 годах Россия поделила с Англией сферы влияния в Персии и в Китае, англо-русский конфликт уладился, стала возможной тройственная Антанта, а за ней мировая война, а за ней революция, а за ней эмиграция. Когда к 1921 году эмиграция опомнилась от этих событий, одна из ее групп выстроила такую логику: в России произошла очень неприятная революция; она была следствием непосильной войны; война была следствием впутывания в европейскую политику – платежом за французские займы на русскую промышленность. Стало быть, нужно отвернуться от Европы, обратиться к более близкой Азии, а вместо промышленности развивать православие, народность и – вместо самодержавия – авторитарную идеократию. О том, что как раз с разделом Азии в 1907 году Россия покатилась к войне и революции, уже никто не помнил. Так сложилось классическое евразийство 1921–1927 годов. Трубецкой чувствовал себя скорее предшественником, чем единомышленником евразийцев и болезненно ощущал разницу между своим и их идеалами. Для него главной мыслью был релятивизм, относительность и равноправие духовных ценностей пестрых автаркических культур; а для евразийцев, чем дальше, тем больше, – мессианский абсолютизм, всепревосходство православных ценностей и ненависть к «латинству». Болезненно это было для него потому, что субъективно, иррационально он сам был предан тем же православным ценностям; отсюда – его тяжкая статья «Религии Индии и христианство», где идеальная картина радужного единства индивидуальных переливов равноправных культур оборачивается судорожным открещиванием от индийского «сатанизма».
(обратно)
66
Евразийцы, как известно, считали преимуществом России-Евразии то, что она не принадлежит ни Европе, ни Азии, а стоит на их границе и пользуется всеми выгодами внеположности. Якобсон тоже задумывался о культурной роли стран-пограничий, но в качестве образца выдвигал свою любимую Чехию («Страна-перекресток» называлась когда-то книга о Чехословакии не чужого Якобсону С. Третьякова). Х. Баран сообщил нам набросок Якобсона «The idea of Self-determination and other Czech medieval contributions to Western culture» (по-видимому, 1940–1950‐х годов). Это конспект статьи, которая должна была развить мысли статьи 1954 года на более углубленном анализе более конкретного объекта. Великая Моравия оказывается здесь византийским аванпостом в Западной Европе, а собственно Чехия – славянским аванпостом на пороге германского Запада; ключевая формулировка – «чешский оборонительный национализм» в противоположность германскому наступательному национализму. (О русском наступательном национализме умалчивается, но симметрия заставляет думать и о нем.) Таким образом, если в опубликованных статьях Якобсона 1953–1954 годов на первый план выдвигалась идея славянского интернационализма, то в этой – идея славянского национализма. Для борьбы за выделение науки славистики в Америке эта тема была менее актуальна, поэтому, вероятно, статья осталась ненаписанной.
(обратно)
67
Из доклада С. Руди «Jakobson under McCarthyism» стало известно, что ситуация была еще острей, чем может показаться: в 1953 году Якобсон был вызван в комиссию по антиамериканской деятельности и спасся лишь потому, что президент Эйзенхауэр помнил его по тем годам, когда был ректором Колумбийского университета. «Статья Якобсона в „The Review of Politics“ была смелым выступлением в скверное время: это был зов к объективной науке» (Материалы Международного конгресса «100 лет Р. О. Якобсону». М., 1996. С. 41).
(обратно)
68
Не забудем, что в «Поэзии грамматики и грамматике поэзии» (1961, раздел «Грамматика и геометрия») Якобсон невозмутимо цитирует Сталина рядом с Уорфом (B. Whorf). Как соотносятся теоретические высказывания Якобсона 1950–1960‐х годов с его личными планами возвращения или невозвращения в СССР, мы не решаемся судить.
(обратно)
69
Текст дается по изданию: Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 43.
(обратно)
70
Рец. на книгу: Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории русского стиха. М.: Гослитиздат, 1958. 415 с. Текст дается по изданию: Вопросы литературы. 1958. № 8. С. 208–213.
(обратно)
71
Рец. на книгу: Жовтис А. Л. Стихи нужны…: Статьи. Алма-Ата: Жизушы, 1968. 270 с. Текст дается по изданию: Вопросы литературы. 1969. № 4. С. 203–207.
(обратно)
72
Тимофеев Л., Гиршман М. Подготовка коллективной истории русского стиха // Вопросы литературы. 1968. № 12. С. 138–142.
(обратно)
73
Текст дается по изданию: Краткая литературная энциклопедия (КЛЭ) / Глав. ред. А. А. Сурков. В 9 т. М., 1962–1975. Т. 9. Стб. 723.
(обратно)
74
Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. От составителя // Тарановский К. О поэзии и поэтике. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 7–8.
(обратно)
75
Текст дается по изданию: Переписка К. Ф. Тарановского с В. Е. Холшевниковым (1969–1991) / Подгот. Е. В. Хворостьяновой // Acta linguistica Petropolitana. (Труды ИЛИ РАН. Т. 1. Ч. 3). СПб.: Наука, 2003. С. 374–379.
(обратно)
76
См. статью: Тарановский К. Ф., Прохоров А. В. К характеристике русского 4-стопного ямба XVIII в.: Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков // Russian Literature. 1982. Vol. 12. No. 2. Р. 145–194; в ней тоже средние показатели ритма Тредиаковского и Ломоносова оказываются складывающимися из разнородных величин.
(обратно)
77
См.: Гаспаров М. Л. Современный русский стих. М., 1974. С. 80–88.
(обратно)
78
См. его позднейшую брошюру «Русское стихосложение XVIII – начала XIX века (ритмика)» (Л., 1974).
(обратно)
79
Современная картина уточненной эволюции ритма русского ямба XVIII века представлена в статье: Гаспаров М. Л. Материалы о ритмике русского 4-стопного ямба XVIII в. // Russian Literature. 1982. Vol. 12. No. 2. P. 195–216.
(обратно)
80
См.: Холшевников В. Е. Стиховедение и поэзия. Л., 1991. С. 85–123.
(обратно)
81
О шекспировском бесконстантном стихе лучше всего см.: Tarlinskaja M. Shakespeare’s Verse: Iambic Pentameter and the Poet’s Idiosyncrasies. New York, 1987.
(обратно)
82
Ars poetica / Под ред. М. А. Петровского, Б. И. Ярхо. Вып. II. М., 1928. С. 37–71.
(обратно)
83
В предисловии к книге: Тредиаковский В. К. Стихотворения. Л., 1935.
(обратно)
84
См. теперь: Гаспаров М. Л. Русский силлабический 13-сложник // Избранные труды. Т. III. О стихе. М., 1997. С. 132–157 (в настоящем издании – т. IV, с. 137–162. – Прим. ред.).
(обратно)
85
Гаспаров М. Л., Скулачева Т. В. Ритмика русского силлабического 8-сложника // Słowiańska metryka porównawcza VIII: Krótkie rozmiary wierszowe / Pod red. Lucylli Pszczołowskiej a Doroty Urbańskiej. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2004. S. 32–44.
(обратно)
86
Многотомное издание: Poetyka: zarys encyklopedyczny. Dział 3: Wersyfikacja.
(обратно)
87
Jужнословенски филолог. 1953–1954. № 20. С. 143–190.
(обратно)
88
Текст дается по изданию: Тыняновский сборник. Первые Тыняновские чтения. Рига: Зинатне, 1984. С. 105–113.
(обратно)
89
Тарановский К. О взаимодействии стихотворного ритма и тематики // American Contributions to the 5th International Congress of Slavists. Vol. I. The Hague, 1963. P. 287–322.
(обратно)
90
Томашевский Б. В. Стих и язык. Л., 1958. С. 202–324.
(обратно)
91
См. в: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Изд. подгот. Е. А. Тоддес, А. П. Чудаков, М. О. Чудакова. М.: Наука, 1977. С. 18–27.
(обратно)
92
Тынянов Ю. Н. О пародии // Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. С. 284–310.
(обратно)
93
Там же. С. 291–292.
(обратно)
94
Тредиаковский В. К. Из книги «Три оды парафрастические Псалма 143» // Избранные произведения / Вступит. статья и подгот. текста Л. И. Тимофеева, примеч. Я. М. Строчкова. М.; Л., 1963. С. 421–424 (с. 421).
(обратно)
95
Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 8: Поэзия, ораторская проза, надписи, 1732–1764. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 1100.
(обратно)
96
Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. II. О стихах. М., 1997. С. 459–467 (впервые опубликовано в: Тыняновский сборник: Третьи Тыняновские чтения. Рига: Зинатне, 1998. С. 15–23).
(обратно)
97
Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. Статьи / Сост. Н. Степанов. М., 1965. С. 76.
(обратно)
98
Бобров С. П. Теснота стихового ряда (опыт статистического анализа литературоведческого понятия, введенного Ю. Н. Тыняновым) // Русская литература. 1965. № 3. С. 109–124.
(обратно)
99
Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. С. 28.
(обратно)
100
Там же. С. 68.
(обратно)
101
Там же. С. 98.
(обратно)
102
Ср. там же. С. 125.
(обратно)
103
Там же. С. 112–114.
(обратно)
104
О голосе Блока см. статью: Бернштейн С. И. Голос Блока // Блоковский сборник. Вып. II. Тарту, 1972. С. 454–525. О чтении Брюсова упоминания рассеяны по многим мемуарам и еще живы в памяти слушавших; я пользовался консультациями С. П. Боброва и С. В. Шервинского.
(обратно)
105
Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. С. 54.
(обратно)
106
Там же. С. 55, 67.
(обратно)
107
В настоящем издании – т. IV, с. 361–377. – Прим. ред.
(обратно)
108
Culler J. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and Study of Literature. London, 1975. Р. 219.
(обратно)
109
Брюсов В. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 381–383.
(обратно)
110
Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Изд. подгот. Е. А. Тоддес, А. П. Чудаков, М. О. Чудакова. М.: Наука, 1977. С. 230.
(обратно)
111
Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. С. 28.
(обратно)
112
Там же. С. 54–56.
(обратно)
113
Текст дается по изданию: Analysieren als Deuten: Wolf Schmid zum 60. Geburtstag / Hrsgg. von L. Fleishman, Chr. Gölz und A. A. Hansen-Löve. Hamburg, 2004. S. 85–95.
(обратно)
114
Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Статьи / Предисл. Н. Л. Степанова. М., 1965. Далее это издание цитируется в скобках в тексте статьи.
(обратно)
115
См.: Акимова М. В. Б. И. Ярхо в полемике с тыняновской концепцией стихотворного языка // Philologica. 2001/2002. Vol. 7. No. 17/18. P. 207–225 (материалы опубликованы там же, с. 227–244).
(обратно)
116
Гаспаров М. Л., Скулачева Т. В. Ритмико-синтаксические клише в четырехстопном ямбе (в настоящем издании – т. IV, c. 921–942). – Прим. ред.
(обратно)
117
Шемшурин А. Футуризм в стихах В. Брюсова. М., 1913.
(обратно)
118
Гаспаров М. Л. «Боемструй»: синтаксическая теснота стихового ряда // Поэтика. Стихосложение. Лингвистика. К 50-летию научной деятельности И. И. Ковтуновой / Ред. Е. В. Красильникова, А. Г. Грек. М., 2003. С. 349–360.
(обратно)
119
Текст дается по изданию: Тыняновский сборник: Шестые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения / Отв. ред. М. О. Чудакова. Рига: Зинатне; М.: Импринт, 1992. С. 142–150.
(обратно)
120
Труды и дни. 1912. № 2. С. 14–23.
(обратно)
121
Белый А. Символизм. Книга статей. М., 1910. С. 244.
(обратно)
122
Там же. С. 557.
(обратно)
123
Опубликована в его книге «О стихе» (Л., 1929); его полемика с «панметрическим» подходом позднего А. Белого к прозе – в газете «Жизнь искусства» (Пг., 1920. № 454. С. 458–460).
(обратно)
124
Статья 1922 года «Проблема стихотворного ритма», перепечатана в «О стихе».
(обратно)
125
Белый А. О символизме // Труды и дни. 1912. № 1. С. 10–24 (с. 13).
(обратно)
126
Белый А. О символизме // Труды и дни. 1912. № 1. С. 19.
(обратно)
127
Там же. С. 17.
(обратно)
128
Там же. С. 16.
(обратно)
129
Там же. С. 14–15.
(обратно)
130
Труды и дни. 1912. № 1. С. 25–35.
(обратно)
131
Напечатаны в «Аполлоне» (1910. № 8) под заглавиями «Заветы символизма» и «О современном состоянии русского символизма».
(обратно)
132
Пяст В. Нечто о каноне. С. 30, 31, 35.
(обратно)
133
Метнер Э. Мусагет. Труды и дни. 1912. № 1. С. 53–60 (с. 55).
(обратно)
134
Труды и дни. 1912. № 2. С. 23–27.
(обратно)
135
Там же. С. 25.
(обратно)
136
Там же. С. 26–27.
(обратно)
137
Гумилев Н. Хроника // Сочинения: В 3 т. М., 1991. Т. 3. С. 374.
(обратно)
138
Текст дается по изданию: Книжное обозрение. 1999. 2 февраля. С. 6.
(обратно)
139
В настоящем издании – т. V, с. 137–144. – Прим. ред.
(обратно)
140
Текст дается по изданию: Тыняновский сборник: Пятые Тыняновские чтения / Отв. ред. М. О. Чудакова. Рига: Зинатне; М.: Импринт, 1994. С. 323–328.
(обратно)
141
Одна из этих работ была опубликована К. Ю. Постоутенко в: Тыняновский сборник: Шестые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения / Отв. ред. Е. А. Тоддес. Рига; М., 1992. С. 269–300. – Прим. ред.
(обратно)
142
РГАЛИ. Ф. 2861. Оп. 1. Ед. 68. Л. 27; в дальнейших ссылках указываются только единицы хранения этого фонда.
(обратно)
143
Текст дается по изданию: Предисловие // Федченко С. М. Словарь русских созвучий. Около 150 000 единиц. М.: Русские словари, 1995. С. 3–6.
(обратно)
144
Текст дается по изданию: Предисловие // Лилли И. Динамика русского стиха. Пер. с англ. М.: ИЦ-Гарант, 1997. С. 4–8 (впервые опубликовано: [Рец.] Lilly I. The Dynamics of Russian Verse. Nottingham. 1995. XI, 118 p. // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1995. Т. 54. № 5. С. 86–89.).
(обратно)
145
Russian Verse Theory Newsletter. Aukland.
(обратно)
146
См., например: Language and Style. 1986. No. 19. Р. 338–368.
(обратно)
147
Текст дается по изданию: Словарь рифм А. А. Блока / Сост. Т. Ю. Максимовой // Российский литературоведческий журнал. 1997. № 9. С. 135–136.
(обратно)
148
Shaw J. T. Pushkin’s Rhymes: A Dictionary. Madison, 1974; Idem. Batjushkov: A Dictionary of Rhymes and a Concordance to the Poetry. Madison, 1975; Idem. Baratynskij: A Dictionary of Rhymes and a Concordance to the Poetry. Madison, 1975.
(обратно)
149
Рец. на книгу: Michael Wachtel. The Development of Russian Verse: Meter and Its Meanings. Cambridge: UP, 1998. XII. 323 p. Текст дается по изданию: Известия РАН. Серия литературы и языка. 1999. Т. 58. № 5/6. С. 58–61.
(обратно)
150
Текст дается по изданию: З листів Михайла Леоновича Гаспарова. Замість коментарю // Костенко Н. В. Українське віршування ХХ століття. навч. посібник / 2-ге вид., виправл. та доповн. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2006. С. 221–252.
(обратно)
151
Гаспаров М. Л. Современный русский стих: метрика и ритмика. М.: Наука, 1974. – Прим. ред.
(обратно)
152
Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. М., 1989. – Прим. ред.
(обратно)
153
Ир. Григ. Логвин, англистка. – Прим. Н. В. Костенко.
(обратно)
154
Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. А. Н. Колмогоров в русском стиховедении // Колмогоров А. Н. Труды по стиховедению / Ред.-сост. А. В. Прохоров. М.: МЦНМО, 2015. С. 10–20 (для настоящего издания текст статьи предоставлен А. В. Прохоровым, черновой вариант этой статьи был опубликован в: Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. IV. Лингвистика стиха. Анализы и интерпретации. М., 2012. С. 503–513).
(обратно)
155
Колмогоров А. Н. Труды по стиховедению. М., 2015. С. 109–135. – Прим. ред.
(обратно)
156
Там же. С. 181–215. – Прим. ред.
(обратно)
157
Колмогоров А. Н. Труды по стиховедению. С. 163–180. – Прим. ред.
(обратно)
158
Эту работу выполнил ученик Колмогорова А. В. Прохоров.
(обратно)
159
Колмогоров А. Н. Труды по стиховедению. С. 47–61. – Прим. ред.
(обратно)
160
Колмогоров А. Н. Труды по стиховедению. С. 37–46. – Прим. ред.
(обратно)
161
Там же. С. 21–36. – Прим. ред.
(обратно)
162
Там же. С. 136–155. – Прим. ред.
(обратно)
163
Колмогоров А. Н. Труды по стиховедению. С. 93–108. – Прим. ред.
(обратно)
164
Там же. С. 86–92. – Прим. ред.
(обратно)
165
Текст дается по изданию: Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973. С. 130–132.
(обратно)
166
Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. II. О стихах. М., 1997. С. 494–496 (впервые опубликовано в: Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979. С. 111–114).
(обратно)
167
Текст дается по изданию: Русская литература XX–XXI веков: Проблемы теории и методологии изучения. Материалы международной научной конференции 10–11 ноября 2004 г. М.: Издательство Московского университета, 2004. С. 8–10 (впервые опубликовано в: Вестник гуманитарной науки. 2003. № 6. С. 94–99).
(обратно)
168
Рец. на книгу: Сильман Т. И. Заметки о лирике. Л.: Советский писатель, 1977. 223 с. Текст дается по изданию: Вопросы литературы. 1978. № 7. С. 263–269.
(обратно)
169
Текст дается по изданию: Труды по знаковым системам ХХ. (Ученые записки ТГУ. Вып. 746). Тарту, 1987. С. 3–7.
(обратно)
170
Текст дается по изданию: Тыняновский сборник: Четвертые Тыняновские чтения / Отв. ред. М. О. Чудакова. Рига: Зинатне, 1990. С. 12–20.
(обратно)
171
Наиболее яркое исключение – П. Г. Антокольский (Знание и вымысел // Воспоминания о Ю. Тынянове. Портреты и встречи / Сост. В. А. Каверин. М., 1983. С. 248–256 (с. 253–254)): «Обычно пишущие о Тынянове… утверждают спаренность этих двух сил в писателе, спаренность двух мышлений: художника и ученого. Я решительно не согласен с ними. У Тынянова, как у многих до и после него, наличествует открытая антиномия между точной наукой (в данном случае – историей) и поэтическим творчеством. Отсюда – трудность, необычность его пути, имманентный ему драматизм самого творческого процесса». И далее: «Свое расхождение с точным знанием он переживал как драму, как нарушение дисциплины в исследовании. Двойное дарование ложилось ему на плечи двойной тяжестью».
(обратно)
172
Каверин В. А. Юрий Тынянов. Жизнь и работа // Звезда. 1987. № 2. С. 135–136.
(обратно)
173
Тоддес Е. А. Неосуществленные замыслы Тынянова // Тыняновский сборник: Первые Тыняновские чтения / Отв. ред. М. О. Чудакова. Рига: Зинатне, 1984. С. 25–45 (с. 31).
(обратно)
174
О нем см.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Изд. подгот. Е. А. Тоддес, А. П. Чудаков, М. О. Чудакова. М.: Наука, 1977. С. 513 (ПИЛК).
(обратно)
175
Вопросы литературы. 1964. № 10. С. 99–101.
(обратно)
176
Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 506 (комментарий А. П. Чудакова).
(обратно)
177
«О литературной эволюции», 1927 (Там же. С. 273): «…изолированное изучение произведения есть… абстракция… По отношению к современным произведениям она сплошь и рядом применяется и удается в критике, потому что соответственность современного произведения с современной литературой – заранее предустановленный и только замалчиваемый факт». Мы мало изучаем Тынянова-критика. Кажется, не отмечено даже, что «Литературное сегодня» о прозе – это собственно критика, индукция, наблюдения, а «Промежуток» о поэзии – уже попытка приложения теории к современному материалу («движение» в противоположность «сгусткам»): за это «Промежуток» и попал в «Архаистов и новаторов». А критические фельетоны вообще остаются вне поля зрения исследователя. Ближе всех подошел к этому вопросу В. А. Каверин (Юрий Тынянов. Жизнь и работа. Окончание // Звезда. 1987. № 3. С. 48–52).
(обратно)
178
«…Выручает иногда афористический ход мысли. У меня, к сожалению, этого нет; есть беспокойство в осмыслении материала» (Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 396). Слова об афористическом ходе мысли – это, конечно, отмежевание от Шкловского; ср., однако, у Каверина (Звезда. 1987. № 2. С. 148): «Юрий Николаевич всегда с легкостью понимал его: для единомышленника стремительный перелет через пропасти вел – что было удобно – к лаконичному мышлению».
(обратно)
179
Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 484.
(обратно)
180
Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 255.
(обратно)
181
Ср.: Каверин В. А. Литератор. Л., 1988. С. 54.
(обратно)
182
Гацерелиа А. Встречи в Тбилиси // Воспоминания о Ю. Тынянове. С. 199–209 (с. 203).
(обратно)
183
Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 396.
(обратно)
184
Гинзбург Л. Я. Тынянов-ученый // Воспоминания о Ю. Тынянове. С. 147–172 (с. 148).
(обратно)
185
Чуковский К. Первый роман // Воспоминания о Ю. Тынянове. С. 138–146 (с. 140–143).
(обратно)
186
Ср. запись Н. В. Байковой (Там же. С. 281): «Когда я стал размышлять о Грибоедове, мне наконец стало ясно, что он вовсе сам не знал себя. И только поняв это, я мог написать роман».
(обратно)
187
Набросок статьи для сборника «Как мы пишем», цит. по: Знамя труда (Резекне). 1982. 29 мая.
(обратно)
188
Частично в: Левинтон Г. А. Источники и подтексты романа «Смерть Вазир-Мухтара» // Тыняновский сборник: Третьи Тыняновские чтения / Отв. ред. М. О. Чудакова. Рига: Зинатне, 1988. С. 6–14.
(обратно)
189
Юрий Тынянов. Писатель и ученый. Воспоминания. Размышления. Встречи / Под ред. В. А. Каверина (ЖЗЛ. Вып. 11 (426)) М., 1966. С. 197.
(обратно)
190
Там же. С. 20.
(обратно)
191
Если в интервью Тынянов и говорил, что «Пушкин» – это «эпос о рождении, развитии, гибели национального поэта» (Звезда. 1987. № 3. С. 84), то это было лишь официозной отговоркой. У самого Каверина сталкиваются противоположные суждения: «Если бы жизнь Тынянова сложилась иначе, роман был бы доведен до конца и… едва ли поместился бы в размер, который заняла „Война и мир“ (с. 87) – и «„Пушкин“ едва ли был бы дописан до конца, даже если бы преждевременная кончина не настигла автора» (с. 88). По той же причине, можно предположить, никогда не был бы закончен крупнейший научный труд о Пушкине, созданный современником Тынянова, – «Пушкин» Б. В. Томашевского, где тоже в первых главах собираются материалы к тому, что найдет отклик у Пушкина лишь много спустя.
(обратно)
192
Тоддес Е. А. Неосуществленные замыслы Тынянова. С. 36.
(обратно)
193
В. А. Каверин (Звезда. 1987. № 3. С. 66): «…жанр, в котором философия истории должна была скрещиваться с „собственно историей“».
(обратно)
194
Тоддес Е. А. Неосуществленные замыслы Тынянова. С. 45.
(обратно)
195
Текст дается по изданию: Тыняновский сборник: Седьмые Тыняновские чтения / Отв. ред. М. О. Чудакова. Рига; М., 1995–1996. С. 9–11.
(обратно)
196
М. Л. Гаспаров не дает ответов на пятый и двенадцатый вопросы анкеты: 5. «В каком состоянии находится поставленная формалистами проблема построения теоретически обоснованной истории литературы?»; 12. «Когда Вы впервые познакомились с прозой Тынянова? С его научными идеями? В чьем-то изложении или непосредственно с текстами? Помните ли Ваши впечатления?». – Прим. ред.
(обратно)
197
Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. II. О стихах. М., 1997. С. 468–484 (впервые опубликовано в: Труды по знаковым системам. Т. 4. (Ученые записки ТГУ. Вып. 236). Тарту: ТГУ, 1969. С. 504–514).
(обратно)
198
Они хранятся в РГАЛИ, фонд 2186, оп. 1, и цитируются далее по номеру единиц хранения.
(обратно)
199
Ярхо Б. И. Простейшие основания формального анализа // Ars poetica / Под ред. М. А. Петровского. Вып. I. М., 1927. С. 7–28.
(обратно)
200
Он же. Границы научного литературоведения // Искусство. 1925. № 2. С. 45–60; 1927. № 1. С. 16–38.
(обратно)
201
Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения (отрывки) // Контекст—1983. Литературно-теоретические исследования. М., 1984. С. 205–207.
(обратно)
202
«Рифмованная проза так наз. „Романа в стихах“» и «Свободные звуковые формы у Пушкина» в сборнике «Ars poetica» (1928. Вып. 2. С. 9–35 и 169–181); «Действо о десяти девах» в сборнике «Памяти П. Н. Сакулина» (М., 1931. С. 348–354); «Рифмованная проза русских интермедий и интерлюдий» в сборнике «Теория стиха» (Л., 1968. С. 229–279).
(обратно)
203
В начале войны 1941 года по московским научным учреждениям проходила волна конференций на патриотические темы. Ярхо вызвался сделать доклад о патриотизме «Слова о полку Игореве», изложил эти результаты и сказал: он признает свои ошибки, до сих пор он подсчитывал процент патриотической лексики по числу слов, а теперь подсчитывает по числу слогов и видит, что показатель патриотизма «Слова…» от этого еще выше. Доклад вызвал бурю негодования: ученым слушателям родина была дорога, но методологическая невинность еще дороже. (Об этом вспоминали Б. В. Горнунг и М. П. Штокмар.)
(обратно)
204
Напечатано по-немецки в 1935 году, см.: Ярхо Б. И. Соотношение форм в русской частушке // Проблемы теории стиха. Л., 1984. С. 137–167.
(обратно)
205
Напечатано по-сербски в журнале «Slavia» в 1924 году.
(обратно)
206
Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. Предисловие // Ю. М. Лотман и Тартуско-московская семиотическая школа / Сост. А. Д. Кошелев. М., 1994. С. 11–16.
(обратно)
207
Доклад для одноименной дискуссии на Тыняновских чтениях в Резекне в августе 2002 года. Текст дается по изданию: Новое литературное обозрение. 2003. № 59. С. 142–146.
(обратно)
208
Текст дается по изданию: Свой путь в науке: Коллективный портрет ИВГИ. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 44). М.: Издательство РГГУ, 2004. С. 5–9, 30–34.
(обратно)
209
Вопросы анкеты приводятся в сокращенном виде. – Прим. ред.
(обратно)
210
Текст дается по изданию: Программы и учебный план Отделения теоретической и прикладной лингвистики. М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 96–99.
(обратно)
211
Программа курса, прочитанного М. Л. Гаспаровым в Пизанском университете в октябре 1999. Рукопись («План» – раздаточный материал к лекциям) и авторская машинопись с дополнениями от руки («Лекция») из личного архива проф. С. Гардзонио.
(обратно)
212
Этот материал был представлен слушателям в рамках нескольких лекций. См. также «Метр и смысл», Заключение (в настоящем издании – т. III, с. 243–264). – Прим. сост.
(обратно)
213
Так в машинописи. – Прим. сост.
(обратно)
214
Пометка на полях: «Was ist weißes dort am grünen Walde? / Ist es Schnee wohl oder sind Schwäne?». – Прим. сост.
(обратно)
215
Пометка на полях: «О дела давно минувшие / О старинные предания / Князь Владимир Красно Солнышко / Во своей высокой горнице / С сыновьями правил пиршество». – Прим. сост.
(обратно)
216
Вычеркнуто. – Прим. сост.
(обратно)
217
Осень 1999 года, Италия. Машинопись из личного архива проф. С. Гардзонио. См. также статью «Сонеты Мандельштама 1912 года: от символизма к акмеизму» (в настоящем издании – т. III, с. 568–578).
(обратно)
218
Текст дается по изданию: Круг чтения. Календарь. М.: Политиздат, 1991. С. 22–23. См. также «Занимательная Греция», Аристотель, или Золотая середина (в настоящем издании – т. I, с. 260–262).
(обратно)
219
Текст дается по изданию: Круг чтения. Календарь. М.: Политиздат, 1991. С. 8–9.
(обратно)
220
Текст дается по изданию: Круг чтения. Календарь. М.: Политиздат, 1991. С. 9. См. также «Занимательная Греция», Перикл, первый среди равных (в настоящем издании – т. I, с. 159–161).
(обратно)
221
Текст дается по изданию: Круг чтения. Календарь. М.: Политиздат, 1991. С. 112–113.
(обратно)
222
Стихотворение печатается по тексту 1922 года; позднее были внесены некоторые изменения.
(обратно)
223
Текст дается по изданию: Русская словесность. 1993. № 1. С. 13.
(обратно)
224
Текст дается по изданию: Круг чтения. Календарь. М.: Политиздат, 1995. С. 120–121.
(обратно)
225
Текст дается по изданию: Топосы философии Наталии Автономовой. К юбилею / Отв. ред.-сост. Б. И. Пружинин, Т. Г. Щедрина. М.: Политическая энциклопедия, 2015. С. 671–675 (публикация Н. С. Автономовой).
(обратно)
226
Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. II. О стихах. М., 1997. С. 83–87.
(обратно)
227
Имеются в виду разборы стихотворений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета, А. К. Толстого и В. Я. Брюсова, напечатанные во II томе «Избранных трудов» М. Л. Гаспарова (с. 9–82), некоторые из которых приводятся в настоящем издании: «„Снова тучи надо мною…“: методика анализа» (т. III, с. 298–309); «„Когда волнуется желтеющая нива…“: Лермонтов и Ламартин» (т. III, с. 310–320); «Фет безглагольный: композиция пространства, чувства и слова» (т. III, с. 321–333); «„Рондо“ А. К. Толстого. Поэтика юмора» (т. IV, с. 680–686). – Прим. ред.
(обратно)
228
Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. Ясные стихи и «темные» стихи. Анализ и интерпретация. М.: Фортуна ЭЛ, 2015. С. 25–40 (впервые опубликовано: Гаспаров М. Л. «Осень» А. С. Пушкина: внимательное чтение // Русский язык. Приложение к газете «Первое сентября». 2003. № 21. С. 5–10).
(обратно)
229
Рец. на книгу: Григорьев В. П. Грамматика идиостиля: В. Хлебников. М.: Наука, 1983. 224 с. Текст дается по изданию: Вопросы языкознания. 1985. № 3. С. 124–126.
(обратно)
230
Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. II. О стихах. М., 1997. С. 416–433 (впервые опубликовано: Художественный мир писателя: тезаурус формальный и тезаурус функциональный (М. Кузмин. Сети. Ч. 3) // Проблемы структурной лингвистики – 1984. М.: Наука, 1988. С. 125–137).
(обратно)
231
В настоящем издании – т. VI, c. 699–715. – Прим. ред.
(обратно)
232
Левин Ю. И. О некоторых чертах плана содержания в поэтических текстах // Структурная типология языков. М., 1966. С. 199–215.
(обратно)
233
Борецкий М. И. Художественный мир и частотный словарь поэтического произведения (на материале античной литературной басни) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1978. № 4. С. 453–461; Он же. Художественный мир басен Федра, Бабрия, Авиана // Новое в современной классической филологии. М., 1979. С. 167–199; Борецкий М. И., Кроник А. А. Опыт анализа некоторых сторон социально-психологической атмосферы античной басни (Федр, Бабрий, Авиан) // Вестник древней истории. 1978. № 3. 157–168.
(обратно)
234
См.: Исхакова Д. К. Особенности семантической связности текстов английских лирических стихотворений XVI, XIX и XX вв. Автореф. канд. дис. М., 1983.
(обратно)
235
Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. М.; Л., 1972.
(обратно)
236
РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 77.
(обратно)
237
Рец. на книгу: Кржижановский С. Воспоминания о будущем. Избранное из неизданного. М.: Московский рабочий, 1989. 464 с. Текст дается по изданию: Октябрь. 1990. № 3. С. 201–203.
(обратно)
238
Текст дается по изданию: Новая жизнь. 2010. № 338 (июнь–июль). С. М. В настоящем томе см. также с. 263–265.
(обратно)
239
Текст дается по изданию: Неизвестная книга Сергея Боброва. [К<от> Бубера. Критика житейской философии. М.: Центрифуга, 1918]. Из собрания библиотеки Стэнфордского университета / Под ред. М. Л. Гаспарова. Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1993. (Stanford Slavic Studies. Vol. 6). С. IX–XII.
(обратно)
240
Markov V. Russian Futurism: A History. Berkeley; Los Angeles, 1968. Р. 228–275; Флейшман Л. История «Центрифуги» // Статьи о Пастернаке. Бремен, 1977; Lauer R. Das poetische Programm der Centrifuga // Text, Symbol, Weltmodel: Johannes Holthusen zum 60. Geburtstag. München, 1984. S. 365–375; Казакова С. Творческая история объединения «Центрифуга» (Заметки о ранних поэтических взаимосвязях Б. Пастернака, Н. Асеева и С. Боброва) // Russian Literature. 1990. No. 27. P. 459–482.
(обратно)
241
Текст дается по изданию: Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности. Инварианты – Тема – Приемы – Текст / Предисл. М. Л. Гаспарова. М., 1996. С. 5–8.
(обратно)
242
Текст дается по изданию: Кулакова М. О. Государственный заповедник. Н. Новгород, 1999. С. 3.
(обратно)
243
Текст дается по изданию: ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ: к 70-летию Владимира Николаевича Топорова. M.: Индрик, 1998. С. 623–634. См. также «Метр и смысл», гл. 2 (в настоящем издании – т. III, с. 40–53).
(обратно)
244
См.: Гаспаров М. Л. К семантике дактилической рифмы в русском хорее // Slavic Poetics: Essays in Honor of Kiril Taranovsky / Ed. by Roman Jakobson, C. H. van Schooneveld, Dean S. Worth. The Hague, 1973. Р. 143–150 (в настоящем издании см. также в составе монографии «Метр и смысл» (гл. 1): т. III, с. 28–39. – Прим. ред.).
(обратно)
245
Russian Literature. 1979. VII. P. 281–284.
(обратно)
246
Новое литературное обозрение. 1997. № 27. С. 271–273. Эта статья была по ошибке включена в 4 том «Избранных трудов» М. Л. Гаспарова (М.: Языки славянской культуры, 2012. С. 625–627). – Прим. сост.
(обратно)
247
Текст дается по машинописи из личного архива А. Устинова. Сокращенная версия комментария напечатана в: Комаровский В. Стихотворения. Проза. Письма. Материалы к биографии / Сост. И. В. Булатовского, И. Г. Кравцовой, А. Б. Устинова. СПб.: ИД Ивана Лимбаха, 2000. С. 482–484.
(обратно)
248
Текст дается по изданию: Новое литературное обозрение. 1998. № 34. С. 110–111.
(обратно)
249
Рец. на книгу: Таруашвили Л. И. Тектоника визуального образа в поэзии античности и христианской Европы. К вопросу о культурно-исторических предпосылках ордерного зодчества. М.: Языки русской культуры, 1998. 376 с. Текст дается по изданию: Октябрь. 1990. № 3. С. 201–203. Рецензия написана в соавторстве с Н. М. Соколовым.
(обратно)
250
Текст дается по изданию: Ошеров С. А. Найти язык эпох: от архаического Рима до русского Серебряного века / Сост. И. А. Барсова. М., 2001. С. 5–8.
(обратно)
251
В настоящем издании см. также т. V, c. 1080. – Прим. ред.
(обратно)
252
Рец. на книгу: Михеев М. Ю. В мир А. Платонова через его язык: предположения, факты, истолкования, догадки. М.: Изд. Московского университета, 2003. 408 с. Текст дается по изданию: Известия РАН. Серия литературы и языка. 2003. Т. 62. № 6. С. 58–59.
(обратно)
253
Текст дается по изданию: Eternity’s Hostage. Selected Papers from the Stanford International Conference on Boris Pasternak, May 2004. In Honor of Evgeny Pasternak and Elena Pasternak / Ed. L. Fleishman. Pt. 1, 2. (Stanford Slavic Studies. Vol. 31. Nos. 1, 2). Stanford, 2006. P. 68–79.
(обратно)
254
Гаспаров М. Л. Идиостиль Маяковского (попытка измерения) // Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. II. О стихах. М., 1997. С. 383–415 (с. 406–409).
(обратно)
255
Текст дается по изданию: Блок А. Катилина / Сост. С. С. Лесневский, Б. Н. Романов. М., 2006. С. 121–130.
(обратно)
256
Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. О нем. Для него / Сост. М. Тарлинской. М.: НЛО, 2017. С. 315–327 (впервые опубликовано в: Кентавр. Studia classica et mediaevalia. 2006. № 3. С. 378–394). Вступительная заметка, подготовка текста и примечания Н. В. Брагинской.
(обратно)
257
Юля Вольфман (1984–2006) трагически погибла 20 октября.
(обратно)
258
Гаспаров М. Л. Научная щель // Свой путь в науке: Коллективный портрет ИВГИ. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 44). М.: РГГУ, 2004. С. 30–34.
(обратно)
259
Сергей Иванович Соболевский (1864–1963).
(обратно)
260
См. статьи «Композиция „Поэтики“ Горация»; «Две редакции „Поэтики“ Горация» (в настоящем издании – т. II, с. 349–403 и 404–414. – Прим. ред.).
(обратно)
261
A History of European Versification / Transl. by G. S. Smith, M. Tarlinskaja, ed. by G. S. Smith, L. Holford-Strevens. Oxford: Clarendon, 1996.
(обратно)
262
См.: Holford-Strevens L. Aulus Gellius. London, 1988; Idem. Aulus Gellius: an Antonine scholar and his achievement. Oxford; NY, 2003; Авл Геллий – римский ученый-антиквар, эрудит, II век н. э., автор «Аттических ночей», где собраны заметки по самым разным областям знания.
(обратно)
263
Сергей Иванович Радциг (1882–1968).
(обратно)
264
Александр Николаевич Попов (1881–1972).
(обратно)
265
Константин Рудольфович Мейер, годы жизни не установлены.
(обратно)
266
Жюстина Севериновна Покровская, вдова академика М. М. Покровского (1869–1942), годы жизни не установлены.
(обратно)
267
Николай Алексеевич Федоров (1925–2016) – учитель практически всех ныне здравствующих классиков, студентов МГУ и РГГУ.
(обратно)
268
Татьяна Вадимовна Васильева (1942–2001). Михаил Леонович ошибся: статья – в сборнике в честь 80-летия Ф. А. Петровского «Античность и современность» (М., 1972. С. 307–309). В книге Т. В. Васильевой «Комментарии к курсу истории античной философии» (М., 2002), опубликованной после ее безвременной смерти, латинская статья «Lucretiani carminis quarti prooemium duplex an non?» перепечатана вместе с изысканным гаспаровским переводом ее на русский: «Удвоено ли вступление в IV песни Лукреция?» (с. 403–406 и 407–410).
(обратно)
269
Яков Маркович Боровский (1896–1994).
(обратно)
270
«Année philologique» – не журнал, а наиболее авторитетная международная аннотированная библиография по всем разделам науки об античном мире, издаваемая ежегодно с 1914 года.
(обратно)
271
Ссылки на книги этого ученого (W. Jens) и цитаты из его работ см. в статье М. Л. Гаспарова «Сюжетосложение греческой трагедии» (в настоящем издании – т. I, с. 511–544. – Прим. ред.).
(обратно)
272
Д. А. Толстой (1823–1889) – министр образования, создатель системы из классических гимназий и реальных училищ, просуществовавшей с 1872 года до начала ХX века, а с некоторыми изменениями и до революции.
(обратно)
273
«Историческая морфология латинского языка» Альфреда Эрну (1950) и «Историческая фонетика латинского языка» Макса Нидермана (1949) были переведены для студентов в период возвращения латыни в школу.
(обратно)
274
Владимир Григорьевич Борухович (1920–2007), филолог-классик, переводчик, историк античности, работал в Саратовском университете, в 1972 году подготовил для «Литературных памятников» «Мифологическую библиотеку» Аполлодора.
(обратно)
275
Александр Иосифович Зайцев (1926–2000).
(обратно)
276
Текст дается по изданию: Новое литературное обозрение. 2006. № 82 (6). С. 291–295. Публикация и вступительная заметка А. М. Зотовой-Гаспаровой.
(обратно)
277
В настоящем томе см. также с. 368–369. В газете «Alma mater» (Тарту. 1990. № 2) опубликовано под названием «Калигула» с авторским комментарием: «Я не пишу стихов: может быть, десяток за всю взрослую жизнь. Это – отход от филологического производства: тогда я переводил Светония. Я забыл о нем и вспомнил, только когда мой товарищ С. С. Аверинцев, народный депутат, сказал мне, что оно кажется ему сейчас еще жизненнее, чем тогда». – Прим. сост.
(обратно)
278
«Айпетрат» (ранее – «Армгосиздат») – издательство в Ереване; в этом издательстве, в частности, выходили сборники армянской поэзии в переводах В. Я. Брюсова (1956, 1963). – Прим. А. М. Зотовой-Гаспаровой.
(обратно)
279
Текст дается по изданию: Вопросы литературы. 2006. № 2. С. 79–87. Вступительная заметка и публикация Н. Шкловского-Корди.
(обратно)
280
Гаспаров М. Л. Рассказы Геродота о Греко-персидских войнах и еще о многом другом. М., 2001.
(обратно)
281
Sic. – Прим. ред.
(обратно)
282
См.: Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М.: НЛО, 2000. С. 233–234 (в настоящем томе – с. 246–248. – Прим. ред.).
(обратно)
283
Сэмюэл Пипс (1633–1703) был современником не Дефо, а его героя – Робинзона Крузо. – Прим. Н. Шкловского-Корди.
(обратно)
284
Текст дается по изданию: Труды по знаковым системам V. (Ученые записки ТГУ. Вып. 284). Тарту, 1971. С. 545–546.
(обратно)
285
Текст дается по изданию: Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1991. Т. 50. № 5. С. 491–492.
(обратно)
286
Текст дается по изданию: Alma mater. (Спецвыпуск памяти З. Г. Минц). 1991. Январь.
(обратно)
287
Текст дается по изданию: Де Люнель Б. [Ярхо Б. И.] Расколотые. Действо о розе / Публ. и вступит. статья М. Л. Гаспарова // Новое литературное обозрение. 1996. № 18. С. 5–8.
(обратно)
288
Главные: Границы научного литературоведения // Искусство. 1925. № 2. С. 45–60; 1927. T. III. Кн. 1. С. 16–38; Простейшие основания формального анализа // Ars poetica / Под ред. М. А. Петровского. Вып. I. М., 1927. С. 7–28.
(обратно)
289
Образцы – в антологии: Русская литература ХX века в зеркале пародии / Сост. О. Б. Кушлиной. М., 1993.
(обратно)
290
Текст дается по изданию: Новое литературное обозрение. 2006. № 1 (77). С. 113–125.
Статья написана по просьбе Марии-Луизы Ботт для готовившегося под ее редакцией тематического выпуска ежегодника по университетской истории, посвященного истории университетов в Восточной Европе. См.: Gasparov M. L. «Wissenschaft hat ein Recht auf größere Öffentlichkeit». Die Hausseminare bei A. K. Žolkovskij und E. M. Meletinskij: Aus der Geschichte der Philologie in Moskau 1976–1983 // Jahrbuch für Universitätsgeschichte. 2001. Nr. 4. S. 243–256. О подготовке этой статьи см. письма М. Л. Гаспарова к М.-Л. Ботт («Читать меня подряд никому не интересно…» : Письма М. Л. Гаспарова к Марии-Луизе Ботт, 1981–2004 гг. // Новое литературное обозрение. 2006. № 1 (77). С. 219–221, 225). – Прим. «НЛО».
(обратно)
291
См.: Московско-тартуская семиотическая школа / Сост. и ред. С. Ю. Неклюдова. М., 1998; Из работ московского семиотического круга / Сост. и вступ. ст. Т. М. Николаевой. М., 1997; с обширной библиографией.
(обратно)
292
О трудностях этого времени см., например: Егоров Б. Ф. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М., 1999. С. 117–152.
(обратно)
293
О стиховедческой деятельности А. Н. Колмогорова см. публикацию В. А. Успенского (Предварение для читателей «Нового литературного обозрения» к семиотическим посланиям Андрея Николаевича Колмогорова // Новое литературное обозрение. 1997. № 5 (24). С. 121–245).
(обратно)
294
Часть их вошла теперь в его большой том «Избранные труды: поэтика, семиотика» (М., 1998).
(обратно)
295
Жолковский А. К. Ж/Z-97 // Московско-тартуская семиотическая школа. М., 1998. С. 175–209; об описываемом семинаре – с. 205; ср.: Он же. Из истории вчерашнего дня // Россия/Russia. 1998. № 1. С. 135–152.
(обратно)
296
Жолковский А. К. Ж/Z-97. С. 181.
(обратно)
297
Сейчас эти работы уже дважды изданы: Shcheglov Y. K., Zholkovsky A. K. Poetics of Expressiveness: A Theory and Applications. Amsterdam; Philadelphia, 1987; Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности. М., 1996.
(обратно)
298
См.: Гаспаров М. Л. Метр и смысл: об одном из механизмов культурной памяти. М., 1999; с послесловием Ю. И. Левина (в настоящем издании – т. III, с. 19–283. – Прим. ред.).
(обратно)
299
См. его книги «Блуждающие сны» (М., 1992), «Инвенции» (М., 1995).
(обратно)
300
См.: Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы: очерки русской литературы ХX века. М., 1994.
(обратно)
301
Работа вошла в его посмертную книгу «О поэзии и поэтике» (М., 2000).
(обратно)
302
Некоторые из перечисленных работ вошли в книгу: Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Мир автора и структура текста: статьи о русской литературе. Tenafly, 1986.
(обратно)
303
Итог ее работ – в статье «Марина Цветаева» (сб. «Очерки истории языка русской поэзии ХХ в.: опыты описания идиостилей» – М., 1995).
(обратно)
304
Итог – в ее книге «Поэтический мир Цветаевой: конфликт лирического героя и действительности» (Wiener slawistischer Almanach. Bd. 30. 1990).
(обратно)
305
Вошел в его книгу «Поэтика русской литературы начала ХX века» (М., 1993).
(обратно)
306
Вошел в сборник «Из работ московского семиотического круга» (М., 1997).
(обратно)
307
Вошел в его книгу «Средневековый роман» (М., 1983).
(обратно)
308
Вошли в его «Избранные труды» (1998).
(обратно)
309
Жолковский А. К. Ж/Z-97. С. 205.
(обратно)
310
Основная тема его будущей книги – «Пушкинский путь в русской литературе» (М., 1993).
(обратно)
311
См.: Николаева Т. М. «Слово о полку Игореве» – поэтика и лингвистика текста; «Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты. М., 1997.
(обратно)
312
Сейчас – в кн.: Семенко И. М. Поэтика позднего Мандельштама: от черновых редакций к окончательному тексту. М., 1997.
(обратно)
313
Всесоюзный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований в электротехнике. – Прим. «НЛО».
(обратно)
314
Вероятно, имеется в виду одноименный сектор Института славяноведения. – Прим. «НЛО».
(обратно)
315
Текст дается по изданию: Живая старина. 2004. № 4. С. 50.
(обратно)
316
Bailey J. Three Russian Folk Song Meters. Columbus (Ohio), 1993.
(обратно)
317
Текст дается по изданию: Подгаецкая И. Ю. Избранные статьи / Сост. П. А. Гринцера, Н. П. Гринцера. М., 2009. С. 7–12.
(обратно)
318
Текст дается по изданию: Любимая Россия. 2005 № 1. С. 14–15. В настоящем томе см. также с. 126–130.
(обратно)