| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Люди против нелюди (fb2)
 - Люди против нелюди 1802K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Николай Михайлович Коняев
- Люди против нелюди 1802K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Николай Михайлович Коняев
НИКОЛАЙ КОНЯЕВ
ЛЮДИ ПРОТИВ НЕЛЮДИ
Исторические
и
историко-литературные очерки

*
© Н. М. Коняев, 1999
«В ВЕЧНОСТИ ВРАТАХ…»
Господь явил умирающему Пушкину
особую любовь
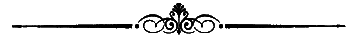
«Исполнить последний долг христианина…»
В истории всякого православного храма можно отыскать такие мгновения, когда все напряжение духовной жизни России сосредоточивается в его стенах или возле них. Иногда подобные мгновения неприметны для рассеянного взгляда, иногда — растягиваются на длительное время, и даже погруженные в житейскую суету люди ясно видят, что здесь вершится неземная история нашей страны. В истории санкт-петербургского храма во имя Спаса Нерукотворного Образа, что на Конюшенной площади, такими мгновениями стали февральские дни 1837 года.
1 февраля (по старому стилю), ночью, сюда принесли тело Александра Сергеевича Пушкина…
1
Тот, кому доводилось бывать в этом храме, не мог не заметить: каким бы пасмурным ни выдался день, за время, пока идет служба, забываешь о промозглой и слякотной погоде. Архитектор В. П. Стасов так спроектировал освещение храма, что из верхнего окна над алтарем все время льется яркий, подобный солнечному свет. Тут все понятно… В вышину, где нет никаких теней, вынесено застекленное желтым стеклом окно. Поразительно только, как точно рассчитаны архитектором расстояния, чтобы создать эффект живого солнечного света в храме. Но когда идет церковная служба, забываешь рационалистические объяснения, невольно воспринимаешь струящийся из алтаря солнечный свет как часть того великого чуда, которое творится во время литургии.
Таким же солнечным светом была освещена церковь Спаса на Конюшенной и 1 февраля 1837 года.
Пушкина должны были отпевать не здесь…
Сразу после кончины Пушкина появилось объявление:
Наталья Николаевна Пушкина, с душевным прискорбием извещая о кончине супруга ее, Двора Е. И. В. Камер-Юнкера Александра Сергеевича Пушкина, последовавшей в 29-й день сего января, покорнейше просит пожаловать к отпеванию тела в Исаакиевский собор, состоящий в Адмиралтействе, 1-го числа февраля в 11 часов до полудня.
Исаакиевский собор в Адмиралтействе (не надо путать с нынешним, не достроенным тогда Исаакиевским собором) был выбран по той простой причине, что он был приходской церковью семьи Пушкиных. Но по дороге туда похоронная процессия неизбежно должна была пройти мимо дома на Невском, где жил нидерландский посол Геккерн, и, чтобы не омрачать похоронное шествие эксцессами, император приказал провести отпевание в придворной Конюшенной церкви.
Как это ни банально звучит, но воля монарха тут явно совпадала с Божиим промыслом. Храм Спаса Нерукотворного Образа возникает в судьбе Пушкина задолго до императорского повеления. Еще 27 января, когда врачи первый раз осмотрели рану, решено было позвать священника.
— За кем прикажете послать? — спросил у Пушкина доктор И. Т. Спасский.
— Возьмите первого ближайшего священника, — ответил умирающий поэт.
«Ближайшим священником» оказался протоиерей Петр Песоцкий, настоятель храма во имя Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади.
2
Петр Дмитриевич Песоцкий был сыном священника, окончил курс Александро-Невской духовной семинарии, во время Отечественной войны 1812 года участвовал в походе в звании благочинного над духовенством С.-Петербургского и Новгородского ополчений. Награжден бронзовым крестом на Владимирской ленте, орденом св. Анны 2-й степени. Возведен с потомством в дворянское достоинство.
Как свидетельствуют очевидцы (княгиня Е. Н. Мещерская, князь П. А. Вяземский), отец Петр вышел от умирающего поэта со слезами на глазах. С трудом сдерживая волнение, он заговорил о благочестии, с коим исполнил свой христианский долг Пушкин, о необыкновенной силе его покаяния.
По-видимому, свидетельство это было встречено с недоверием. Причин тому несколько. Собравшиеся в квартире Пушкина люди принадлежали к высшему свету, а там к Православию относились достаточно формально. Все православные обряды исполнялись, но непосредственные проявления веры в Бога считались едва ли не дурным тоном. Второе обстоятельство — сама пушкинская дуэль. Церковь строго осуждала поединки, вызванные мотивами личного самолюбия.
Так или иначе, но смущение присутствующих не укрылось от священника.
— Я стар, — сказал он. — Мне уже недолго жить, на что мне обманывать? Вы мне можете не верить, когда я скажу, что я для себя самого желаю такого конца, какой он имел.
Напомним, что священник Петр Песоцкий прошел с русской армией всю войну 1812 года и смертей — самых разных — повидал на своем веку достаточно.
3
Сорок шесть часов, что жил Александр Сергеевич Пушкин после смертельного ранения на дуэли, вмещают в себя такое невероятное количество событий, что порою кажется, их могло бы хватить на целую жизнь. После рокового выстрела Дантеса Пушкин упал и несколько мгновений лежал головой в снегу. Секунданты бросились было к нему, но тут Пушкин зашевелился, опираясь левой рукой, приподнялся.
— Подождите… — сказал он. — Я имею еще силы, чтобы сделать мой выстрел.
И он выстрелил. Пуля пробила Дантесу руку и, ударившись о пуговицу двубортного конногвардейского мундира, контузила его. Дантес упал.
— Браво! — сказал Пушкин и отбросил свой пистолет.
И снова потерял сознание, а придя в себя, спросил у д’Аршиака:
— Убил ли я его?
— Нет, — ответил тот. — Вы его ранили.
— Странно, — сказал Пушкин. — Я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет. Впрочем, все равно. Как только мы поправимся, снова начнем.
Эти мгновения роковой дуэли запечатлены в многочисленных воспоминаниях, воспеты в стихах и изображены на картинах. И мы приводим их сейчас только потому, что первые после смертельного ранения минуты жизни Пушкина как-то удивительно точно совпадают с записанными в минуту уныния горестными стихами:
В. А. Соллогуб вспоминал, как читал ему Пушкин письмо, которое собирался отправить Геккерну: «Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения».
В раненом Пушкине в первые минуты после дуэли продолжает жить Пушкин, которого увидел Соллогуб… Впрочем, этот Пушкин оставался за сараем и гумном на огородах Комендантской дачи на Черной речке…
Оставался и еще жил Пушкин, который писал:
4
Сохранившиеся свидетельства показывают, в каком невообразимом вихре меняются настроения Пушкина, когда его наконец привезли на Мойку.
— Мы не все кончили с ним… — говорит Пушкин вслед саням, увозящим противника.
— Я боюсь, не ранен ли я так, как Щербачев… — жалуется через мгновение Данзасу.
— Грустно тебе нести меня? — спрашивает у камердинера.
— Не входите! — кричит жене. — У меня люди!
Рану Пушкина осматривали врачи Карл Задлер и Вильгельм фон Шольц.
— Скажите мне… — спросил Пушкин у Шольца. — Рана смертельна?
— Считаю долгом вам это не скрывать… — с трудом подбирая русские слова, ответил Вильгельм фон Шольц. — Но услышим мнение Арендта и Саломона, за которыми послано…
— Благодарю вас… — сказал Пушкин. — Вы действовали в отношении меня как честный человек. Я должен устроить мои домашние дела.
И снова хаотическая смена мыслей и ощущений…
— Мне кажется, что много крови идет…
Шольц осматривает рану и спрашивает, не хочет ли Пушкин увидеть кого-либо из близких приятелей.
— Прощайте, друзья… — говорит Пушкин, глядя на книжные полки. И сразу: — Разве вы думаете, что я часа не проживу?
Все происходит очень быстро.
В семь часов вечера у постели умирающего уже И. Т. Спасский, домашний врач Пушкиных. Он и уговаривает поэта послать за священником.
Исповедь и причащение Святых Тайн — переломный момент в духовном состоянии Пушкина. Физические страдания возрастают, боли усиливаются, но «необыкновенное присутствие духа», как вспоминает И. Т. Спасский, не оставляет умирающего.
— Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском… — говорит о жене.
Когда Арендт, прощаясь, объявляет, что по должности своей обязан доложить о случившемся государю, Пушкин просит передать просьбу не преследовать Данзаса за участие в дуэли.
Сразу же после отъезда Арендта делается первое распоряжение Пушкина по завещанию. («Все жене и детям!») Довольно длительное время затем Пушкин беседует наедине с Данзасом.
Известно, что он попросил передать шкатулку, достал бирюзовое колечко и, отдавая Данзасу, сказал:
— Возьми и носи это кольцо. Мне его подарил наш общий друг Нащокин. Это талисман от насильственной смерти.
Из воспоминания П. А. Вяземского известно, что Данзас спросил Пушкина, не поручит ли Пушкин чего-нибудь, в случае смерти, касательно Геккерна.
— Требую, — ответил поэт, — чтобы ты не мстил за мою смерть; прощаю ему и хочу умереть христианином.
5
Незадолго до полуночи фельдъегерь привез Арендту пакет. В пакете — письмо, которое велено прочитать Пушкину.
«Я не лягу и буду ждать…» — написано в сопроводительной записке царя.
Не теряя времени, Арендт едет к умирающему Пушкину и читает письмо императора:
Если хочешь моего прощения [1] и благословения, прошу тебя исполнить последний долг христианина. Не знаю, увидимся ли на сем свете. Не беспокойся о жене и детях; я беру их на свои руки.
Это был воистину царский подарок. И не только потому, что долги Пушкина были чрезвычайно велики, а состояние расстроено. Монаршей милостью Пушкин освобождался от суетных забот и скорби по поводу будущего своей семьи. Он мог уже не задумываться о житейских проблемах, преуготовляясь душою к встрече с вечностью.
Как вспоминает П. А. Вяземский, Пушкин был чрезвычайно тронут словами государя и просил Арендта оставить письмо, но тот сказал, что велено его вернуть.
— Передайте государю, — попросил Пушкин, — что жалею о потере жизни, потому что не могу объявить ему мою благодарность…
Как только Арендт ушел, Пушкин приказал достать из ящика стола написанную его рукою бумагу. Она была тут же по его настоянию сожжена. После этого Пушкин начал диктовать Данзасу свои долги, на которые не было ни векселей, ни заемных писем. Твердой рукою подписал реестр…
6
Между тем ночью боли невероятно усилились.
Это была настоящая пытка… — вспоминал И. Т. Спасский. — Физиономия Пушкина изменилась, взор его сделался дик, казалось, глаза готовы были выскочить из своих орбит, чело покрылось холодным потом, руки похолодели, пульса как не бывало. Больной испытывал ужасную муку.
И возникло искушение прервать адскую боль.
Пушкин велел слуге передать ему ящик письменного стола, где хранились пистолеты.
Искушение было чрезвычайно сильным. Хотя Пушкина и наблюдали лучшие русские врачи того времени — из известных хирургов его не консультировал только Н. И. Пирогов, который был в то время в Дерпте, — но болеутоляющих средств никто не предложил умирающему…
И тем не менее Пушкин сумел преодолеть соблазн. Он как-то легко и охотно позволил Данзасу отобрать пистолеты. И разве не слова государя: «Прошу тебя исполнить последний долг христианина» — помогли Данзасу разжать пальцы Пушкина на рукояти пистолета? Разве не эти слова помогли великому русскому поэту удержаться от греха самоубийства?
Было это в три часа ночи, а к четырем боли в животе усилились до такой степени, что Пушкин не мог сдерживать стонов.
Крики были столь громкими, что княгиня Вяземская и Александра Николаевна, дремавшие в соседней комнате, вскочили от испуга. Наталья Николаевна, к счастью, криков не слышала, спасительный полуобморочный сон сковал ее, и она проснулась, когда Пушкин вскрикнул в последний раз. Наталье Николаевне объяснили, что это кричали на улице…
Приехал срочно вызванный Н. Ф. Арендт. Обследовав Пушкина, он понял, что начинается перитонит, назначил «промывание» и опий — для утоления боли.
Скоро опий начал действовать и боль стихла.
Пушкин попросил позвать детей, чтобы проститься с ними. Их привели и принесли к нему полусонных. Молча Пушкин клал руку на голову каждого, крестил и так же молча отсылал от себя: Марию — 4 года 8 месяцев… Александра — 3 года 6 месяцев… Григория —1 год 8 месяцев… Наталью — ей было всего несколько месяцев…
В. А. Жуковский сказал, что сейчас уезжает и, может быть, увидит государя. Надо ли что передать?
— Скажи ему, — ответил Пушкин, — что мне жаль умереть… Был бы весь его.
7
К полудню 28 января Пушкину стало легче. Он даже немного повеселел. Шутил с заступившим на дежурство у его постели доктором Далем. Поскольку болезнь перешла в другую фазу, чтобы уменьшить жар и снять опухоль живота, начали ставить пиявки.
Больной наш, — вспоминал В. И. Даль, — твердою рукою сам ловил и припускал себе пиявок и неохотно позволял нам около себя копаться.
— Вот это хорошо, бот это прекрасно… — говорил он, потом вздохнул и сказал, что жаль, нет здесь ни Пущина, ни Малиновского — легче было бы умирать…
Во второй половине дня Пушкин начал слабеть, иногда проваливаясь в забытье.
Говорить ему было трудно, но он попросил княгиню Е. А. Долгорукову «на том оснований, что женщины лучше умеют исполнить такого рода поручений, ехать к Дантесам и сказать, что он прощает им».
Е. А. Долгорукова поручение исполнила.
— Я тоже ему прощаю! — ответил Дантес и засмеялся.
8
— Я был в тридцати сражениях, — сказал 29 января Н. Ф. Арендт. — Я видел много умирающих, но мало видел подобного.
Об этом же и свидетельство В. И. Даля, не отходившего последние часы от постели Пушкина:
Пушкин заставил всех присутствовавших сдружиться со смертью, так спокойно он ее ожидал, так твердо был уверен, что роковой час ударил.
Так много людей находилось в последние дни в квартире Пушкиных, столько литераторов, что не оставалось не зафиксированным для потомков ни одного движения поэта, ни одного его слова и вздоха.
Поэтому — пробелов тут не может быть — и поражает сосредоточенная немногословность последних пушкинских часов. Это воистину запечатленная в десятках воспоминаний картина подлинного исполнения последнего долга христианина.
Никакой патетики, никаких театральных, предназначенных для публичного оглашения откровений, только самые необходимые распоряжения, только самое главное…
— Носи по мне траур два или три года. Постарайся, чтобы забыли про тебя. Потом опять выходи замуж, но не за пустозвона, — говорит он, прощаясь с женой.
Все короче становятся фразы…
— Боже мой, Боже мой! Что это?
— Скажи, скоро ли это кончится? Скучно!
— Смерть идет.
— Опустите сторы, я спать хочу.
В 2 часа 40 минут пополудни 29 января Пушкин попросил морошки. Наталья Николаевна опустилась на колени у изголовья и начала кормить мужа с ложечки. Пушкин съел несколько ягод и сказал:
— Довольно!
— Кончена жизнь… — спустя пять минут сказал он. — Теснит дыхание.
Это — последние слова…
Всеместное спокойствие разлилось по всему телу. Руки остыли по самые плечи, пальцы на ногах, ступни, колена — также. Отрывистое, частое дыхание изменялось более и более в медленное, тихое, протяжное; еще один слабый, едва заметный вздох — и пропасть необъятная, неизмеримая разделила уже живых от мертвого. Он скончался так тихо, что предстоящие не заметили смерти его… — писал В. И. Даль.
9
Воистину величественная, достойная любого православного христианина кончина.
Современник А. С. Пушкина святитель Игнатий Брянчанинов написал такие строки:
Эти стихи — стихи-предостережение.
В. А. Жуковский, разумеется, не мог их знать, но как удивительно перекликается с ними его описание первых посмертных минут Пушкина:
Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это было не сон и не покой! Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтическое! Нет! Какая-то глубокая, 10 удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: что видишь, друг? И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я видел самое смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. Какую печать наложила она на лицо его и как удивительно высказала на нем и свою и его тайну! Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина.
Или, добавим от себя, такова была — а это одно и то же — встреча нашего Пушкина «в вечности вратах»…
«В вечности вратах»
Пушкин для России не только великий поэт.
Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа… — говорил Н. В. Гоголь.
Чудесным образом Пушкину удается соединить в своем творчестве высочайшую европейскую культуру, с ее культом самоценности человеческой личности, и русскую, возведенную на фундаменте Православия духовность, казалось бы, безвозвратно утраченную Россией после Петровских реформ. Исторически в поэзии Пушкина соединяются культура дворянская и культура народная, Святая Русь и Россия, выстроенная Петром и его преемниками.
1
…Пушкин первый своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом, — говорил Ф. М. Достоевский. — Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека, беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы ее не верующего… Он первый (именно первый, а до него никто) дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные.
К перечню созданных Пушкиным «художественных типов красоты русской», которые приводит Ф. М. Достоевский, в первую очередь необходимо добавить и образ героя лирических стихов Пушкина, который как «тип красоты русской» так до сих пор, невзирая на обилие исследований, и не изучен.
Стараниями либеральной и революционно-демократической критики Пушкин объявлен законченным атеистом, декабристом и вольнодумцем. В подтверждение приводятся пушкинские тексты, но при этом упускается тот существенный момент, что атеизм, и даже декабризм, с которым Пушкина связывали личные, дружеские отношения, всегда оставались для Пушкина лишь материалом, из которого воздвигались совершенно не отвечающие задачам этой идеологии произведения. Гоголь говорил, что Пушкин «видел всякий высокий предмет в его законном соприкосновении с верховным источником лиризма — Богом».
А Достоевский, завершая знаменитую речь, сказал удивительные слова: «Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, меньше недоразумений и споров, чем видим теперь».
Мысль очень глубокая и точная. Она справедлива не только для лета 1880 года, когда была высказана, но и для наших дней, конца второго тысячелетия.
Вот только в отличие от Достоевского мы уже не можем сказать, что Пушкин «бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну». Сейчас, когда опубликован весь Пушкин, мы видим то тут, то там заботливо и мудро расставленные вешки, ориентируясь по которым мы если и не постигаем саму тайну Пушкина, то видим, на отвержении каких усердно вдалбливаемых в наши головы лжеистин строится наполненный горним светом мир пушкинской поэзии.
Такие вешки находим мы и в беглом упоминании в письме к Чаадаеву — дескать, «русское духовенство до Феофана было достойно уважения: оно никогда не осквернило себя мерзостями папства и, конечно, не вызвало бы реформации в минуту, когда человечество нуждалось в единстве», — ив записи остроумного, на французском языке разговора с великим князем.
«Вы истинный член вашей семьи… — сказал Пушкин, — tous les Romanof sont revolutionnaires et niveleurs (все Романовы революционеры и уравнители)».
Подобных знаков, расставленных на пушкинских страницах, достаточно много, и мы останавливаемся на этих потому только, что именно они важны для дальнейшего повествования.
Феофан Прокопович из письма к Чаадаеву — видный деятель Петровской эпохи. Бывший иезуит, он составил по указанию Петра I «Духовный регламент», легший в основание учиненной Петром реформы Русской Православной Церкви. Отменой патриаршества — а заодно, по сути дела, и тайны исповеди — была сделана попытка подорвать саму основу, на которой стояла православная Русь.
Столь же существенно и замечание Пушкина по поводу революционности первых Романовых. Оно подчеркивает особую роль Николая I в прекращении этой самой революционности…
2
Отношения Николая I и Пушкина в нашем рассказе обойти невозможно. Тем более что как государственный деятель Николай I пытался исполнить в управлении страной ту же роль, что удалось исполнить Пушкину в литературе. Не всегда осознанно, но достаточно последовательно Николай I пытался соединить империю с допетровской Россией, выправить разлом, образовавшийся в общественном устройстве в результате Петровских реформ.
Первым из Романовых Николай предпринял действенные шаги к возрождению Православия в его прежнем для России значении. Первым начал ограничивать своеволие и себя как монарха, и своих подданных.
Пушкин был посвящен в эти замыслы монарха и, как это видно из многочисленных воспоминаний, вполне сочувствовал им. Вообще, сама первая встреча царя с поэтом, та долгая беседа в Чудовом монастыре, что состоялась после возвращения Пушкина из ссылки, произвела глубокое впечатление («…Нынче говорил с умнейшим человеком в России…») на императора. И на Пушкина. Встреча эта знаменует для Пушкина начало нового этапа жизни. И мы видим здесь зрелого, полностью освободившегося от юношеских мечтаний и заблуждений поэта.
Естественно, что приобретенное расположение государя породило немало завистников и врагов, число их увеличилось, когда стало понятно, что Пушкин окончательно порвал с вольтерьянскими и масонскими идеями. Клевета, сплетни, доносы обрушиваются на Пушкина. И это не странно, а закономерно, что люди, преследующие Пушкина, пытающиеся очернить его в глазах государя, противятся изо всех сил и осуществлению замыслов самого Николая I.
Разумеется, бессмысленно говорить о каком-то идеальном совпадении позиций царя и поэта, об отсутствии разногласий.
Строй политических идей даже зрелого Пушкина, — отметил Петр Струве, — был во многом не похож на политическое мировоззрение Николая I, но тем значительнее выступает непререкаемая взаимная личная связь между ними, основанная одинаково и на их человеческих чувствах, и на их государственном смысле. Они оба любили Россию и ценили ее исторический образ.
Возникновению недомолвок, недоумений немало способствовали преследователи Пушкина, «жадною толпой стоящие у трона» и одинаково враждебные — подчеркнем это еще раз! — и самому Николаю I.
И все же духовная связь остается.
Я перестал сердиться (на государя. — Н. К.), — пишет 16 июня 1834 года жене Пушкин, — потому что не он виноват в свинстве его окружающих…
Зная лично Пушкина, — говорит Николай I, — я его слову верю.
Такими же — пролетающими высоко над объятой бесовским возбуждением толпой — оказываются и слова последнего, заочного диалога Царя и Поэта: «Прошу тебя исполнить последний долг христианина…» — «Мне жаль умереть… Был бы весь его…»
3
В 1830 году А. С. Пушкин написал стихотворение «Бесы».
Это слова ямщика. Ямщик первым обращает внимание героя стихотворения на неладность происходящего. Первым и истолковывает смысл происходящего, и только тогда спадает пелена с глаз героя и он сам видит причину невольного страха, охватившего его:
Хотя по пушкинскому календарю — «Октябрь уж наступил — уж роща отряхает // Последние листы с нагих своих ветвей…» — время кружения листьев наступает ранее ноября, у нас не было бы никаких оснований выискивать дополнительный смысл в сравнении, если бы речь в стихотворении шла о явлении видимого, дневного мира. Но поскольку бесы и есть бесы и материализация их происходит лишь в человеческих поступках и отношениях, духовное зрение человека, осязающего бесовщину, расширяется и захватывает в себя образы как нынешней, так и будущей жизни. При этом — естественно! — сам человек этого не осознает, настолько смутны эти образы…
Однако если мы рискнем и все же соотнесем образы «Бесов», написанных в 1830 году, с событиями ноября 1836 года, то помимо разосланных в ноябре анонимных листов с гнусным пасквилем на Н. Н. Пушкину и самого А. С. Пушкина мы обнаружим и другие странные совпадения.
Екатерина Николаевна Гончарова, вышедшая замуж за Дантеса, разумеется, не была ведьмой, как не был домовым и сам Пушкин, но ведь не о домовом или ведьме открывшееся видение, а о мельтешении свивающейся в метельные столпы бесовщины…
Опять же если и рискованно наше сопоставление прозрения героя стихотворения «Бесы» с событиями последней пушкинской зимы, то еще рискованнее рассматривать его просто как путевую заметку, как описание некоего случая, приключившегося в дороге.
Все смутно и неявно в открывшемся сбившемуся с дороги герою стихотворения видении, кроме того, что предстоит испытать ему самому…
Как пишет Николай Скатов в статье «Пал, оклеветанный молвой», события последних месяцев жизни Пушкина уже мало зависели и от его воли, и от воли участвовавших в них лиц, мутным сделалось вдруг небо…
Притязания Дантеса на новом витке возобновились только через много месяцев, а именно, уже осенью 1836 года. За это время Наталья Николаевна совершенно удалилась от света и благополучно — в мае — родила дочь, Пушкин благополучно и, как никогда, успешно работал, а Дантес благополучно преуспел в «ловле счастья и чинов», очень упрочив свое положение, так как стал «законным» сыном «так называемого» отца. Это тоже подогревало уверенность и во всех отношениях прибавляло гонора и амбиций.
К тому же притязания эти становились все более наглыми, так как все более вписывались в общую кампанию лжи и травли, которая, нарастая, велась против Пушкина — поэта, историка, журналиста, государственного деятеля, центрального явления русской национальной жизни. П. А. Вяземский недаром, правда запоздало, говорил о жутком заговоре, об адских сетях и кознях. Над изготовлением густого, все время помешиваемого варева, где будут и сплетни, и анонимки, и спровоцированные свидания, трудились опытные повара высшей квалификации. Собственно, Дантес там был всего лишь способным поваренком. Острых приправ и специй, конечно, не жалели. Да и кухня была обширной. Уж где Геккерны нашли поддержку, сочувствие и содействие — так это у Нессельроде. Сама Мария Дмитриевна был агентом, и ходатаем, и доверенным, и поверенным. Если можно говорить, а это показали все дальнейшие события, об антирусской политике «австрийского министра русских иностранных дел», то ее объектом так или иначе, рано или поздно, но неизбежно должна была стать главная опора русской национальной жизни — Пушкин.
Именно в семье увидели возможность ударить безошибочно, точно и больно. «Супружеское счастье и согласие, — сказал сразу после гибели Пушкина Вяземский, — было целью развратнейших и коварнейших покушений… чтобы опозорить Пушкиных». Что касается Натальи Николаевны, то, видимо, полагали, что здесь следовало прежде всего во что бы то ни стало в ответ на притязания «любовника» добиться «взаимности». Началось подлинное преследование жены Пушкина с уговорами, угрозами и, наконец, прямым шантажом. Унизить и растоптать ее для того, чтобы превратить в посмешище его: сделать рогоносцем и ославить. В ход пошло все.
4
Описывая кончину Пушкина, мы рассказали о том, что происходило в кабинете, где лежал умирающий. Между тем этитлавные и прикровенные события как раз и оставались невидимыми. На глазах происходило нечто невообразимое.
С утра 28-го числа, — пишет В. А. Жуковский, — в которое разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, передняя была полна приходящих… Число их сделалось наконец так велико, что дверь прихожей (которая была подле кабинета, где лежал умирающий) беспрестанно отворялась и затворялась; это беспокоило страждущего; мы придумали запереть дверь из прихожей в сени, задвинули ее залавком и отворили другую, узенькую, прямо с лестницы в буфет, а гостиную от столовой отгородили ширмами… С этой минуты буфет был набит народом…
На следующее утро напор публики возрос до такой степени, что Данзас вынужден был обратиться в Преображенский полк с просьбою выставить у крыльца часовых. Толпа народа забила всю набережную Мойки перед входом, и трудно было пробиться в квартиру.
В учебниках литературы стечение петербуржцев к дому умирающего поэта принято трактовать как изъявление народной любви. Нет сомнения, что большинство петербуржцев привели на Мойку любовь к Пушкину, беспокойство и тревога за любимого поэта. Но все эти весьма похвальные чувства при смешении с толпой превращались в противоположное любви и состраданию любопытство, жажду каких-либо событий, смутное стремление протестовать.
П. И. Бартенев пишет, что граф А. Г. Строганов, приехав к Пушкиным, увидел там «такие разбойнические лица и такую сволочь, что предупредил отца своего не ездить туда».
Впечатление Строганова, разумеется, излишне категорично, но, с другой стороны, ни в чьих записках не найдем мы указания, что Пушкин испытывал хоть какое-то утешение от столь массового праздного и назойливого любопытства толпы.
Да и странно, противоестественно, если бы было иначе.
Границу между собой и толпою, жаждущей от поэта, чтобы он говорил на ее языке, на уровне ее понимания, Пушкин всегда проводил четко и решительно:
Тем более никакого дела до толпы не могло быть у Пушкина сейчас, когда душа его готовилась предстать у вечности в вратах. Все тайное и сокровенное, что происходило в эти минуты с Пушкиным, было бесконечно далеко от теснящихся на Мойке людей.
Мы уже говорили об искушениях, которым подвергался в последние часы жизни — после исповеди и после причастия! — Пушкин.
Преданный Данзас предлагает Пушкину себя в качестве мстителя Геккернам.
— Требую, — отвечает Пушкин, — чтобы ты не мстил за мою смерть; прощаю ему и хочу умереть христианином.
Было искушение — врачи позабыли назначить болеутоляющее! — избавиться от нестерпимой боли выстрелом из пистолета.
Но и этого несчастья, теперь уже с помощью Данзаса, удалось избежать.
Мы говорим только о явных, документально зафиксированных искушениях, которым подвергался Пушкин в последние часы жизни.
И вот — странное дело! — по мере того как отвергает Пушкин все предлагаемые ему образы искушений, необыкновенно возрастает волнение окружающих.
Забаррикадированная дверь из прихожей в сени — символ. Все труднее становится сдерживать злое нашествие… Странные, непривычные черты начинают проступать и в близких людях.
Все население Петербурга, а в особенности чернь и мужичье, волнуясь, как в конвульсиях, страстно жаждало отомстить Дантесу. Никто — от мала до велика — не желал согласиться, что Дантес не был убийцей. Хотели расправиться даже с хирургами, которые лечили Пушкина, доказывая, что тут заговор и измена, что один иностранец ранил Пушкина, а другим иностранцам поручили его лечить, — свидетельствовал доктор С. Моравский.
В этом свидетельстве тоже присутствует излишняя категоричность, но если сделать необходимую поправку, то настроение толпы будет передано верно.
Общее волнение нарастало конвульсивно и непредсказуемо, грозя вот-вот перевалить через критическую точку…
Князь Вяземский вспоминает, что, исполняя просьбу графа Ш. показать знаменитый портрет Кипренского, отворил дверь в соседнюю комнату и спросил у находящейся там графини Ю. П. Строгановой, можно ли исполнить просьбу. Вместо ответа Строганова побежала сообщить, что шайка студентов ворвалась в квартиру для оскорбления вдовы.
Юлия Петровна Строганова не ограничилась этим. Она написала записку графу Бенкендорфу, чтобы тот прислал жандармов для «охранения вдовы от беспрестанно приходивших студентов».
Волнение, путаница, растерянность и бестолковщина нахлестывали друг на друга, бесконечно усиливаясь порою и приобретая самые жуткие очертания.
Тело Пушкина решено было перенести в храм Спаса Нерукотворного Образа не днем, а в полночь…
После смерти Пушкина, — писал П. А. Вяземский, — я находился при гробе его почти постоянно до выноса тела в церковь, что в здании Конюшенного ведомства. Вынос тела был совершен ночью, в присутствии родных Н. Н. Пушкиной, графа Г. А. Строганова и его жены, Жуковского, Тургенева, графа Вельегорского, Аркадия Ос. Россети, офицера Генерального штаба Скалона и семейств Карамзиной и князя Вяземского. Вне этого списка пробрался по льду в квартиру Пушкина отставной офицер путей сообщения Веревкин, имевший, по объяснению А. О. Россети, какие-то отношения к покойному. Никто из посторонних не допускался. На просьбы А. Н. Муравьева и старой приятельницы покойника графини Бобринской (жены графа Павла Бобринского), переданные мною графу Строганову, мне поручено было сообщить им, что никаких исключений не допускается. Начальник штаба корпуса жандармов Дубельт в сопровождении около двадцати штаб- и обер-офицеров присутствовал при выносе. По соседним дворам были расставлены пикеты. Развернутые вооруженные силы вовсе не соответствовали малочисленным и крайне смирным друзьям Пушкина, собравшимся на вынос тела.
5
В храм на отпевание пускали только по билетам. Присутствовал весь дипломатический корпус, многие сановники. Служили архимандрит и шесть священников. Однако и тут не обошлось без конфузов. У князя Мещерского в давке надвое разорвали фрак.
Кстати сказать, А. И. Тургенев, сообщивший эту подробность в день отпевания в письме А. И. Нефедьевой, за несколько дней пути — он сопровождал тело Пушкина в Святогорский монастырь — успел переосмыслить ее и в Тригорском рассказывал Осиповым, что все полы сюртука Пушкина были разорваны в лоскутки и покойник оказался «лежащим чуть не в куртке».
После отпевания И. А. Крылов, П. А. Вяземский, В. А. Жуковский и другие литераторы подняли гроб и понесли его в склеп, расположенный внутри двора.
Со стороны это выглядело так:
Долго ждали мы окончания церковной службы; наконец на паперти стали появляться лица в полной мундирной форме; военных было немного, но большое число придворных. В черных фраках были только лакеи, следовавшие перед гробом… Гроб вынесен был на улицу посреди пестрой толпы мундиров и салопов… Притом все это мелькнуло перед нами только на один миг. С улицы гроб тотчас же вынесен был в расположенные рядом с церковью ворота в Конюшенный двор, где находился заупокойный подвал…
6
Пушкин уже скрылся в вратах вечности, а возле тела его все еще продолжалось какое-то беснование.
Резали у покойного волосы, вкладывали перчатки в гроб…
А дамы, — пишет в своих воспоминаниях М. Ф. Каменская, — так даже ночевали в склепе, и самой ярой из них оказалась тетушка моя, Агр. Фед. Закревская. Сидя около гроба в мягком кресле и обливаясь горючими слезами, она знакомила ночевавших с нею в склепе барынь с особенными интимными чертами характера дорогого ей человека. Поведала, что Пушкин был в нее влюблен без памяти, что он ревновал ее ко всем и каждому. Что еще недавно в гостях у Соловых он, ревнуя ее за то, что она занималась с кем-то больше, чем с ним, разозлился на нее и впустил ей в руку свои длинные ногти так глубоко, что показалась кровь. И тетка с гордостью показывала любопытным барыням повыше кисти видные еще следы глубоких царапин…
И тут, как и в воспоминаниях А. И. Тургенева о разорванном фраке, не так уж и важна точность деталей. Неважно, рассказывала ли А. Ф. Закревская над гробом именно эту историю или какую-то другую. Важно, что склеп храма Спаса Нерукотворного Образа превратился в эти дни в некий клуб, где бурлили над гробом Пушкина в отчаянном бесовском возбуждении неутоленные страсти и воспаленные самолюбия… И тем сильнее клубились они, что человек, на которого должны были обрушиться они, уже не доступен был им.
7
Среди многочисленных документов, связанных с похоронами Пушкина, кажется, только один стоит как бы в стороне от неприлично оживленной скорбной толкотни.
1. Заплатить долги. 2. Заложенное имение отца очистить от долга. 3. Вдове пенсион и дочери по замужество. 4. Сыновей в пажи и по 1500 р. на воспитание каждого по вступление на службу. 5. Сочинение издать на казенный счет в пользу вдовы и детей. 6. Единовременно Ют.
Император Николай.
И вроде и намека нет на живое чувство в намеренно суховатом перечне, но почему-то боли от невосполнимой потери, живого сострадания семье Пушкина здесь больше, чем в самых прочувствованных соболезнованиях.
Повторяю, что «записка» резко выделяется из бесчисленных воспоминаний и свидетельств о похоронах Пушкина. Такое ощущение, словно в недоступной высоте звучит голос императора, но уже некому откликнуться на него…
8
Пушкин завещал похоронить себя в Святогорском монастыре, где было приобретено им место.
И вот наконец готово было все, чтобы отправиться в неблизкий путь.
3 февраля в 10 часов вечера, — пишет В. А. Жуковский, — собрались мы в последний раз к тому, что еще для нас оставалось от Пушкина; отпели последнюю панихиду; ящик с гробом поставили на сани; сани тронулись; при свете месяца несколько времени я следовал за ними; скоро они поворотили за угол дома; и все, что было земной Пушкин, навсегда пропало из глаз моих…
В последний год жизни А. С. Пушкин написал знаменитое стихотворение, в котором, давая оценку своего творчества, подытоживая пройденный путь, окончательно определил и отношение к атеизму.
А начинается это стихотворение 1836 года строкою: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» Совпадение с названием храма, в котором вскоре будут его отпевать, — Спаса Нерукотворного Образа, случайное, но, как и все случайные совпадения у Пушкина, наполнено весьма глубоким и отнюдь не случайным смыслом.
Если же соотнести содержание третьей и четвертой строф с тем, что происходило на Конюшенной площади 1 февраля 1837 года, то обнаружатся и другие разительные совпадения, переходящие в некоторых воспоминаниях почти в цитаты из стихотворения. Опять же и Александрийский столп, выше которого возносится своей главою нерукотворный памятник, оказывается — он рядом с Конюшенной площадью! — еще и довольно точной географической координатой события. Все эти случайные совпадения обретают свою пророческую неслучайность, совмещаясь со «случайным» выбором священника для исповеди и последнего причастия, «случайным», продиктованным волею обстоятельств назначением храма для отпевания… И понятно, что происходить подобные «случайности» могут только в мире, где само вдохновение поэта подчинено Божией воле.
9
Завершая рассказ об отпевании А. С. Пушкина в храме во имя Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади, надо сказать и о дальнейшей судьбе храма, чудесным образом связанного с Пушкиным гораздо глубже, чем представляется рационалистическому сознанию.
В советское время, как раз на столетие своего освящения, в 1923 году, храм был закрыт, настоятель его отец Федор Знаменский арестован, а ключи от здания переданы отряду конной милиции.
Как рассказывает нынешний настоятель храма протоиерей Константин Смирнов, лихие кавалеристы шашками изрубили иконостас, сожгли архив церкви, а в самом храме устроили клуб для танцев.
Бесовщина, что смутно и невнятно бродила по толпам людей, собравшихся к квартире Пушкина в январские дни 1837 года, и побуждала к какому-то иррациональному протесту, обрела теперь материальную плоть.
Следы действия этой бесовщины нетрудно обнаружить на страницах многочисленных исследований и школьных учебников, посвященных Пушкину. Отменить Пушкина восторжествовавшая бесовщина не могла, но сделать его как бы похожим на самое себя — пыталась, и пыталась небезуспешно…
Говорят, что в 1937 году, когда уже сто лет жила Россия без Пушкина, клуб в храме закрыли и здесь в связи с перегруженностью ленинградских тюрем некоторое время работал «приемный пункт» ГУЛАГа. Люди заходили в храм, сдавали в окошечко документы и через алтарь уходили во внутренний двор… Кто на пять, кто на десять лет, а многие, чтобы уже не вернуться оттуда никогда…
После войны в самом храме разместился институт «Гидропроект», а прицерковные помещения заняло проектное бюро тюрем Управления внутренних дел. В алтаре и ризнице были размещены тогда туалеты…
К 12 июля 1991 года, когда храм Спаса Нерукотворного Образа был возвращен Русской Православной Церкви, здесь уже почти ничего не напоминало о храме…
И вот прошло восемь лет, и сейчас, когда входишь в храм, видишь, что все здесь так, как было 1 февраля 1837 года, когда предстал Пушкин «в вечности вратах»…
Сорок шесть часов он мучился, чтобы исповедоваться, причаститься и сказать, что хочет умереть христианином и прощает всех. Лермонтову не дано было, а Пушкину — дано. Я, как христианин, рад, что ему была дана эта возможность, которая является свидетельством особой любви Господа, — говорит в проповеди нынешний настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа протоиерей Константин Смирнов.
И каждый год 6 июня и 10 февраля совершаются здесь торжественные панихиды по А. С. Пушкину…
Последняя дорога
В Пскове не останавливались. Наскоро перекусили и тронулись в путь. Ракеев, жандармский капитан, торопился.
— Предписание государя! — кричал он на станциях, и смотрители вытягивались в струнку и долго еще стояли так, пока возок не скрывался вдали.
Крупно светили звезды. Морозный ветер продувал кибитку, и Тургенев ощущал, как медленно деревенеют пальцы рук, ноги. Нужно было соскочить, пробежать немножко, как это делали жандармы, но совершенно никакой возможности не было двинуться, и Тургенев деревенел и в этом странном перерождении как-то особенно легко и сладко думал о горе.
— Саша… Ах, Саша! — шептал он, и слеза замерзала льдинкою на ресницах. — Ах, Саша…
Он чуть подался вперед, продышал в ветровом стекле дырку… На дрогах, что шли впереди кибитки, скорбно сливаясь с гробом, чернел неподвижный Никита.
— Са-а-ша…
Тургенев закрыл глаза. Хотелось скрыться от этой темноты, казалось, навсегда спустившейся на землю.
Он кутался в шубу, но холод не проходил, не рассеивалась чернота, и в голове все так же неотвязно крутилась мысль, возникшая еще в Петербурге, или не мысль, просто слово:
— Саша… Ах, Са-а-аша…
И было этому слову уже двести пятьдесят шесть верст пути.
Откуда-то со стороны, из темного угла кибитки, донесся голос почтальона:
— Выпили бы, Александр Иванович… Ведь замерзнете, не шелохнетесь совсем…
«О ком это, — досадливо подумал Тургенев, — о ком?» — и тут же позабыл о почтальоне.
Почтальон осторожно и почтительно тронул его за локоть, но и локоть был чужим, как-то далеко было все: и стакан с зеленоватой водкой, и жандармы, их голубоватые шинели, длинные шашки.
— Выпейте, ваше превосходительство, — сочувственно сказал почтальон, и Тургенев, не снимая рукавиц, обеими руками сжал стакан.
Ускользая, мелькнула до неприличия суетная мысль: вот вернется в Петербург, будет рассказывать и о этой водке, и о почтальоне, и о жандармах…
Что-то неразборчиво крикнул скакавший впереди дрог Ракеев. Полетела в стекло ископыть. Ямщики, чуть-чуть приподымаясь над козлами, хлестали лошадей.
Взошла луна из-за облаков, и все призрачно осветилось. И черный гроб, и поникший Никита, и заледенелые рощи, и снеговые поля.
Тургенев чуть приоткрыл дверцу, и в лицо ударил колючий морозный ветер.
О, Боже! Неужели все это не сон? И рыдающая, заходящаяся в истерике Наталья Николаевна, и жандармы, и этот Ракеев, и этот дубовый, с медными ручками по бокам, гроб, завернутый в рогожу…
Лошади вязли в снегу. Ракеев, уже простуженный, кричал, торопил… И вдруг резанул ночь ямщиков голос:
«Ло-о-о», — глухо зазвенело эхо в перелеске, Тургенев захлопнул дверку, откинулся на мягком сиденье. От выпитой водки стало тепло и дремотно.
Сквозь дремоту скользили рассеянные мысли.
Снова и снова вспоминал Тургенев первые минуты после того, как прервалось дыхание Пушкина. Приехал Арендт… Жуковский послал за художником — снять маску… Слышно было, как плачет у себя в комнате Наталья Николаевна. Арендт говорил, что она не верит, все еще не верит, что муж умер… Между тем тишина уже нарушилась. Все говорили тихо, но все равно голоса резали слух. Ужасный для слуха шум… Этот шум говорит о смерти того, для коего все молчали… Как тихо… тихо умирал Пушкин! Ах, Саша…
«Неужели, — думал Тургенев, — все прекрасное должно кончаться вот так? Мраком? Зимней дорогой? Неужели даже самые великие… — Он плотнее запахнулся в шубу и помедлил несколько, подыскивая нужное слово. — Да, tomber dans l’erreur, да, да! Впасть в роковую ошибку. Неужели весь путь служения народу, отечественной словесности ведет к этому?»
Уже чудился ему камин. Вот он протянул к огню руки. В них книга. Бегут по поленьям языки пламени, сполохами играют на страницах книги. Тихо. Тепло…
Кибитка резко остановилась.
От сильного толчка Тургенев проснулся. Выглянул. Дроги встали поперек пути. Мимо проскакал жандармский капитан.
— Ракеев! — окликнул его Тургенев. — Что случилось?
Ракеев натянул поводья, сдерживая лошадь.
— Сволочи! — сказал он и погрозил ямщикам нагайкой. — Допелись!
Ямщики торопливо выпрягали упавшую пристяжную. Рядом, чтобы согреться, бегали жандармы. Волочились по суметам шашки.
— Пристяжная ногу сломала! — сказал Ракеев.
Тонкие усики его смерзлись в сосуЛьки, и он выковыривал сейчас лед, что-то обдумывая. Мерзлые глаза неприятно скользили по Тургеневу, по кибитке.
— Эй, ребята, — наконец крикнул он, — давай эту выпрягай! — и указал концом нагайки на почтовую пристяжную.
— Нельзя-с, ваше благородие! — пискнул из своего угла почтальон. — По чину-с почту на тройках возить положено…
— А пошел ты! — грубо сказал Ракеев и выругался.
— Позвольте, капитан! — смущенно сказал Тургенев. — Я вас не понимаю… А мы-то как?
— В Острове нагоните, — насмешливо ответил Ракеев.
Тургенев побагровел — мерзнуть лишний час?
И он крикнул во весь голос:
— Прочь от лошадей, мужичье!
Глаза Ракеева сузились.
— Вы… вы… — заикаясь от гнева, сказал он, — вы шутить изволите, Александр Иванович? Предписание государя: устранять все задержки в пути!
Тургенев бессильно опустился на сиденье.
«Зачем спорить? — подумал он. — Ссоры над гробом… И с кем? С жандармом… Ах, Са-а-аша!»
Он больше не разговаривал с Ракеевым. В Острове нанял тройку и один примчался в Тригорское. Привез Осиповым страшную весть.
А где-то на льду Великой, среди разгульного ветра, затерялся Ракеев, затерялись дроги, Никита…
Тургенев успел обогреться, напиться чаю, успел расспросить хозяев о Михайловском, успел рассказать, как отпевали Пушкина в Петербурге, и начал уже волноваться: не проехал ли поезд прямо в монастырь, но тут зазвенел во дворе колокольчик почтовой — прибыли.
Тургенев еще натягивал валенки, а в передней уже гремел простуженный голос капитана:
— Везу… камер-юнкера Пушкина тело… Предписание государя императора… — Ракеев замялся — А господин Тургенев уже здесь?
Схватившись за голову, запричитала Осипова:
— Убили… Убили Сашеньку…
Тут же приказала послать за священником, чтобы готовился отпевать.
— Я здесь, капитан, — выходя в переднюю, сухо сказал Тургенев, — я готов сопровождать гроб.
Не переставая дуть на озябшие пальцы, Ракеев стеснительно взглянул на него.
— Отпеть просят, — смущенно сказал он, — я думаю, большого нарушения не будет… — Он поморщился — больно заныли почуявшие тепло пальцы.
Тургенев пожал плечами:
— Я предписаний не получал. Вы здесь хозяин.
Скоро загудели колокола на Воронине. Над холмами, над Соротью сквозь мороз и ветер поплыл погребальный звон.
Достиг он и Михайловского, разбудил старика Архипа. Тот сел на полатях, зевнул, перекрестил рот и снова лег — нерасторопный Никита еще не успел добежать до села.
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВЕНИАМИН
Митрополит Петроградский
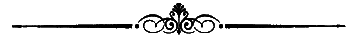
* * *
Это случилось в ночь на 1 января 1908 года.
В келье был полумрак, только перед иконой Божьей Матери теплилась лампада. Закончив вечернюю молитву, святой Иоанн Кронштадтский присел к столу отдохнуть. Вдруг послышался легкий шум. Кто-то легко коснулся правого плеча, и раздался ласковый голос:
— Встань, раб Божий Иван, пойдем со мною!
Иоанн Кронштадтский быстро встал. Дивный старец стоял пред ним — бледный, с сединами, в мантии, в левой руке четки. Смотрел он сурово, но глаза были ласковыми, добрыми. Старец перекрестил отца Иоанна, и ему сразу сделалось легко и радостно. Он тоже перекрестился. А дивный старец указал на западную стену кельи, и отец Иоанн Кронштадтский увидел на ней даты, начертанные посохом старца: 1914 год 1917 год 1922 год.
Потом дивный старец — стены не стало — вывел отца Иоанна Кронштадтского в зеленое поле, покрытое тысячами, миллионами крестов. Кресты были малые и большие, деревянные, каменные, железные, медные, серебряные и золотые.
— Что это за кресты? — спросил отец Иоанн.
— Это те, — ответил старец, — которые за Христа и за Слово Божие пострадали.
И реки крови увидел отец Иоанн, текущие в море, красное от крови.
— Что это крови так много пролито? — спросил он.
— Это христианская кровь, — ответил старец.
— Как же зовут тебя, чудный старче? — спросил Иоанн Кронштадтский. — Назови свое имя святое, святый Отче!
— Серафим, — тихо и мягко ответил старец. — Запиши и не забудь, ради Христа, все, что видел.
Иоанн Кронштадтский записал. Этой записью и открываются дневники последнего года земной жизни святого.
А через шесть лет пришел грозный 1914 год, началась первая мировая война и полилась кровь. И наступил 1917 год с двумя революциями, которые почему-то называют сейчас русскими, и еще гуще полилась кровь, но и это было только начало. И была гражданская война, и в каждом городе, в каждом селе, в каждой деревеньке щедро текла кровь, и так день за днем, месяц за месяцем, год за годом. И тогда перестала рожать земля, беспощадное солнце сжигало поля в хлеборобных губерниях, и пришел голод, и, как в первохристианские века, воздвигли власти страшные и злые гонения на Православную Церковь. И было это в 1922 году от Рождества Христова.
Часть первая
Глава первая
16 февраля 1922 года ВЦИК принял Постановление об изъятии церковных ценностей для помощи голодающим. Уже на следующий день Бюро Петроградского губкома РКП(б) решило проводить кампанию по изъятию «с особой осторожностью и тактом». Если мы перелистаем подшивку «Петроградской правды» — газеты, проводившей линию Г. Е. Зиновьева, то увидим, что этот план осуществлялся в Петрограде действительно «с особой осторожностью».
Можно предположить, что еще в конце 1921 года товарищ Зиновьев ничего не знал о предстоящей кампании. На торжественном заседании Петросовета под Новый год он говорил о перспективах мировой революции, а о голоде упомянул в общем контексте.
— Общее впечатление такое, что при всей нашей нищете мы все же сделали больше, чем могли… — сказал он.
Интересно, что в «Петроградской правде» рядом с изложением речи товарища Зиновьева крупным шрифтом набрано: «Президент Северо-Американских Соединенных Штатов пожертвовал 36 миллионов пудов хлеба для голодающих Поволжья». Если вспомнить, что Помгол на 1 февраля собрал чуть больше трех миллионов пудов продуктовых пожертвований, сообщение выглядело воистину сенсационным. И, конечно, деморализующим. Тридцатью шестью миллионами пудов хлеба, организовав доставку, можно было закрыть проблему поволжского голода.
Однако уже в ближайших номерах тон газеты меняется. Напечатанная 10 января статья «Мертвецы зашевелились» завершалась таким пассажем: «Если кто и виноват в голоде и разрухе России, то это церковно-монархический блок, который в течение веков «опекался» над трудящимися России, принуждая их к смирению, терпению и молитве, и ничего не делал, чтобы улучшить обработку земли и повышать производительность труда в промышленности».
Автор, скрывшийся за инициалами «И. П-ч», хотя и не совсем хорошо владел русским языком, но дело свое, безусловно, знал. И, очевидно, статья появилась не случайно. Начиналась кампания…
Обратим внимание на некоторые ее черты. С одной стороны» резко увеличилось число материалов об ужасе голода в Поволжье. Причем — это очень важно! — объективной картины авторам уже недоставало. Материалы наполняются истерическим криком, извергаемым с плохо скрываемым одесским акцентом: «Рабочий! Помни о голодающем Поволжье! Слушайте, какие ужасы голода и спешите на помощь! Как они страдают! Дети грызут ручки…»[3].
Другая линия — постоянные нападки на Церковь. Мысль публицистов газеты как бы все время бьется в напряженном раздумье. По отдельным полунамекам уже понятно, что выход есть… Еще немного, еще чуть-чуть — и он будет найден… Предчувствия не обманывают читателя. «Л.Н.» — автор статьи «Хлеб из золота» — делает поразительное открытие. Хлеб можно купить на Западе! Но Запад требует золота! Советская Россия, как скупой рыцарь, трясется над каждой золотой бляшкой!..
«И в то же время мы окружены золотом, бриллиантами, алмазами, рубинами, сапфирами, серебром! — восклицает Л. Н. — Где же эти богатства?»
Ну конечно в православных храмах… И как тут не вздохнуть, как не посетовать: «Житейская правда оскорблена. Никола Угодник, Иоанн Воин, Федор Стратилат купаются в золоте и роскоши, а Николаи, Иваны, Федоры дохнут, как мухи»[4].
А вот и вершина газетной кампании — огромная, публикуемая с продолжениями, статья Мих. Горева «Голод». Подзаголовок — «Золото для спасения голодающих есть: оно — в православных храмах».
Как известно, за псевдонимом Мих. Горев скрывался бывший священник Галкин, человек из окружения знаменитого Григория Распутина. Статья священника-расстриги воистину венец грязной газетной кампании.
«За несколько веков, — утверждает Горев-Галкин, — церковь скопила немыслимое количество золотых и серебряных ценностей. К примеру, возьмем одну только подмосковную Сергиевскую лавру. В Троицком соборе пятиярусный иконостас обложен серебром. В алтаре устроена серебряная сень. Серебра в ней, как показывает подпись, более шести с половиной пудов, чистого золота три фунта 49 золотников. На самом престоле тяжелая сереброкованая одежда с рельефными изображениями. За престолом серебряный семисвечник, веса в нем два пуда. Между семисвечником и престолом — дарохранительница в виде «сионской гробницы». Веса: 9 фунтов золота и 22 фунта серебра. На образе Троицы золотая тяжелая риза со множеством драгоценных камней. На ризе — цепь золотая царя Ивана Васильевича, да 120 золотых на серебряной проволоке. В соборе серебряная рака с сенью на четырех столбах. Весит рака более 25 пудов. Огромное, сплошь серебряное паникадило весит около 5 пудов. Три других паникадила и все лампады в Троицком соборе тоже серебряные. Кованые серебряные, местами золоченные царские врата в Никоновской церкви весят более 4 пудов. Одни только 9 серебряных лампад в Успенском соборе весят более 3 пудов».
Говорят, что во времена близости с Распутиным Горев-Галкин частенько бывал бит старцем. «Какой ты поп? — таская Галкина за волосы, говаривал Григорий Ефимович. — Торгаш из Одессы ты, а не поп».
Насколько верен этот анекдот, судить трудно. Однако, читая статью Горева-Галкина, почему-то вспоминаешь его как некий исторический факт. Такое ощущение, что сквозь грязноватый газетный шрифт проступают завистливые, все замечающие, все подсчитывающие глаза бывшего священника. Вроде и нет в статье ни одного грубого слова, а кажется, словно тебя всего в дерьме вывозили. Удивительно черной должна быть душа у человека, чтобы за блеском золота и мерцанием серебра сумел не увидеть он мощи святого Сергия Радонежского, «Троицу» Рублева… Даже и очень плохому православному немыслимо пересчитать их в фунтах золота и пудах серебра.
Статья «Голод», безусловно, выдающееся произведение, если рассматривать ее как пример саморазоблачения подобных Гореву-Галкину деятелей. Вероятно, точно так же кружились от подсчета немыслимых сокровищ Русской Православной Церкви головы у Троцкого, у Бухарина, у самого Владимира Ильича… С пеною на губах спорили они, по чьему ведомству пустить награбленное. Победил тогда Лев Давидович. Ему непосредственно и было поручено провести изъятие. Историки почему-то не обращают внимания на тот факт, что именно накануне этой кампании Троцкий отдал приказ о введении единой формы одежды в РККА. Начинать заново переодевать многомиллионную армию в то время, когда в Поволжье действительно вымирали целыми деревнями, только Лев Давидович и мог.
Ну а его микроскопический собрат Горев-Галкин, охваченный азартом жадного подсчета, выдал в конце своего труда истинный перл.
«У нас в России 4 лавры! — пишет он. — 700–800 богатейших монастырей и более 60 000 соборных, кладбищенских, приходских и домовых церквей. Подсчитано, что, если собрать все церковные ценности и нагрузить ими поезд, этот поезд протянулся бы на 7 верст!»[5]
Образ воистину сатанинский. И сейчас, встречая на плакатах той поры изображение черного поезда, спешащего якобы к голодающим Поволжья, вспомним, что художники изображали не вагоны с зерном, а вагоны с церковными ценностями.
Газетная кампания велась очень цинично и очень умело. Не успели завершить публикацию статьи Горева-Галкина, как посыпались отклики: «Не коммунисты, не социалисты, а просто ходоки от голодных крестьян Симбирской губернии Фомичев, Качалов и Денисов в своей жуткой слезнице пишут: в русских церквах и монастырях лежит без движения обильное множество разных драгоценностей, совсем ненужных для обрядов богослужения…»
И одновременно с этим периодически в газетах появляются другие, весьма странные сообщения.
«Текущий счет Губкомпомгола. На текущий счет губкомиссии Помгол на 1 февраля поступило денежных пожертвований 6 082 974 301 рубль. На помощь Татреспублике израсходовано 3 512 742 035 рублей. На помощь Башреспублике — 350 000 000 рублей. На помощь местным беженцам — 435 000 000 рублей. На 1 февраля денежных пожертвований осталось 782 518 266 рублей»[6].
Не нужно быть великим математиком, чтобы, проведя сложение и вычитание, убедиться: неведомо куда исчез 1 303 714 000 рублей.
Одну такую заметку можно объяснить недосмотром редактора. Но вот буквально через несколько дней другая…
«В президиуме ЦК Помгол ВЦИК. По вопросу об общественной помощи голодающим тов. Винокуров привел следующие цифровые данные. Получено продуктовых пожертвований на 1 февраля сего года 3 328 471 пуд. Отправлено в голодные места — 1 535 650 пудов. Осталось в голодающих местах — 329 721 пуд. Еще не отправлено — 551 000 пудов»[7].
Опять-таки складываем, вычитаем и обнаруживаем: неведомо куда исчез почти миллион пудов пожертвованных продуктов. Загадочная арифметика… Еще более загадочно, почему она выносится на страницы строго контролируемой партийной газеты. Пока в порядке гипотезы выскажем мысль, что недоверие к распределению Помголом пожертвований сеялось не по недосмотру, а с вполне определенной целью…
Вот так «с особой осторожностью и тактом» и развивалась газетная кампания накануне публикации Постановления ВЦИК об изъятии церковных ценностей для помощи голодающим. Принято это постановление было 16 февраля, а опубликовано в «Петроградской правде» только 19-го. Задержка с публикацией вроде бы и не заслуживает внимания, но ежели так точно организовывалась вся кампания, то и этому промедлению должно найтись объяснение. И действительно, 18 февраля «Петроградская правда» напечатала обращение священника Введенского к верующим, озаглавленное «Церковь и голод».
«С Поволжья приходят кошмарные вести, — писал будущий архипастырь обновленчества. — Жуть охватывает душу: в безумии голода матери убивают детей и пожирают трупики…
Плачет сердце слезами кровавыми…
Плачет сердце над ними, далекими, умирающими, забытыми. Кем забытыми? Христианским миром…
Я, христианский священник, бросаю это обвинение всему христианскому миру!»
Когда говорится о массовых страданиях людей, не принято обращать внимание на стиль. Однако сейчас, зная, кем оказался автор этой статьи, нарушим правило и вглядимся, как она написана.
Первым делом бросается в глаза удивительная схожесть стилей А. И. Введенского и штатных публицистов «Петроградской правды». Та же истеричность, те же картинные рыдания. Сравните: «Дети грызут ручки!» в «Петроградской правде» за 9 февраля, и матерей, которые убивают своих детей, чтобы съесть их «трупики». Да… Случаи людоедства действительно были в Поволжье, но авторам «Петроградской правды» уже недостаточно этого ужаса. Им нужны дети-«самоеды», матери-«детоеды». Нужно не изображение страдания, способное вызвать сочувствие в любом сердце, а нечто совсем противоестественное, ошеломляющее читателей, заставляющее потерять контроль над собой. И каким диссонансом рядом с этими озверевшими матерями, пожирающими своих детей, звучат пассажи: «Плачет сердце над ними, далекими, умирающими, забытыми». Воистину, как уже сказано было в «Петроградской правде», «жуткая слезница» получается.
Нормальный человек не может не сочувствовать чужому горю. Если же очерствело сердце, он сохраняет равнодушие. Но смаковать чужое горе — это уже не вполне человеческое занятие. Впрочем, ведь и бросить обвинение сразу «всему христианскому миру» тоже занятие не человеческое, а сатанинское.
Александр Иванович Введенский — один из главных персонажей нашего повествования, и нам нужно поближе познакомиться с ним.
В прекрасной монографии «Очерки по истории русской церковной смуты», авторы которой А. Левитин-Краснов и В. Шавров весьма сочувственно относятся к Александру Ивановичу, дается такой портрет вождя обновленчества:
«Он родился в городе Витебске 30 августа 1889 года в семье учителя латинского языка, вскоре ставшего директором гимназии. В честь Александра Невского, память которого празднуется в этот день, новорожденный назван был Александром. Будущий вождь обновленческого раскола был обладателем не совсем обычной родословной. Его дед Андрей был псаломщиком Новгородской епархии; по слухам, он был крещеным евреем из кантонистов. Человек порывистый и необузданный, Андрей к концу жизни стал горьким пьяницей и погиб при переходе ранней весной через Волхов… Его сын Иван Андреевич Введенский получил от своего отца противоречивое наследство: духовную фамилию Введенский и ярко выраженную иудейскую внешность; необузданно пылкий нрав и блестящие способности. Окончив Духовную семинарию, сын сельского псаломщика поступил на филологический факультет Петербургского университета и затем надел вицмундир гимназического учителя… Мать будущего обновленческого первоиерарха Зинаида Саввишна была обыкновенной провинциальной дамой среднего буржуазного круга, незлой и неглупой. Быт семьи директора витебской гимназии мало чем отличался от быта тысячи подобных провинциальных семейств, раскиданных по бесконечным русским просторам, все члены этой семьи были самыми обыкновенными средними интеллигентами, на этом фоне неожиданно, как метеор, сверкнула яркая, талантливая личность, в которой самым причудливым образом переплетались самые, казалось бы, несовместимые черты.
С недоумением смотрели на него родные и знакомые; все поражало их в странном мальчике. Наружность отдаленных еврейских предков неожиданно повторилась в сыне витебского директора в такой яркой форме, что его никак нельзя было отличить от любого из еврейских детишек, — которые ютились на витебских окраинах; он был похож на еврея не только больше, чем его отец, но и больше, чем сам его дед. Задумчивый и вечно погруженный в книги, он как-то странно выходил моментами из своего обычного состояния молчаливой замкнутости, чтобы совершить какой-либо эксцентрический, сумасбродный поступок…»[8]
Разумеется, в отличие от авторов монографии, нас абсолютно не интересует национальный состав крови, текшей в А. И. Введенском. Гораздо более заинтересовала бы нас, так сказать, справка о наличии в Александре Ивановиче сатанинской крови… Выделили же слова авторов монографии только для того, чтобы подчеркнуть, что и внешностью своей, и манерами он удивительно походил на тогдашних вождей Советской России, и если он и не был единокровен с ними, то, по крайней мере, мог им казаться таковым.
И тогда становится понятным, почему «Петроградская правда» задержала публикацию постановления ВЦИК. Выступление Введенского, обвиняющего весь христианский мир в лицемерии, эффектнее выглядело именно накануне постановления, оно не должно было затеряться в хоре газетных писак, натравленных на Русскую Православную Церковь. Для общего течения кампании это никакого значения не имело, но протоиерею Введенскому, по-видимому, уже тогда была определена особая роль, и первое выступление его в зиновьевской газете не должно было потеряться.
Как сообщается в «Очерках по истории русской церковной смуты», контакты у Григория Евсеевича Зиновьева с Александром Ивановичем Введенским были:
«Эти два человека уселись друг против друга в одном из кабинетов Смольного и в течение часа обсуждали перспективы развития Русской Церкви. Введенский предложил конкордат… Г. Зиновьев дал следующий ответ: «Конкордат в настоящее время вряд ли возможен, но я не исключаю его в будущем… Что касается вашей группы, то мне кажется, что она могла бы быть зачинателем большого движения в международном масштабе. Если вы сумеете организовать нечто в этом плане, то, я думаю, мы вас поддержим».
Отметим тут, что эту сцену разговора Введенского с Зиновьевым А. Левитин-Краснов снабдил примечанием: «Все сведения об этом периоде жизни А. И. Введенского и о его встрече с Зиновьевым я черпаю из тех очень откровенных бесед, которые я имел с А. И. Введенским во время нашей совместной жизни с ним в Ульяновске (1943 г.)»[9].
То есть о своих контактах с Зиновьевым Введенский рассказывал сам и рассказывал, когда рассказывать об этом было весьма опасно. Вряд ли он стал бы сочинять тогда такое для красного словца…
Листаешь пожелтевшую подшивку «Петроградской правды» за 1922 год, и возникает ощущение, что присутствуешь при начале некоего сатанинского действа. И заголовки, памятные еще по школьным учебникам истории: «Накануне конференции в Генуе», «Торжественное заседание рабочих организаций, посвященное памяти Карла Маркса и Розы Люксембург», «Упразднено ВЧК. Функции его переданы ГПУ при НКВД», «Нашими войсками в Северной Карелии занята Ухта» — не только не нарушают ритмику страшного действа, но как бы и усиливают ее.
Впрочем, увертюра уже сыграна. Главный герой выведен на сцену. Вглядимся еще раз в его лицо глазами другого современника: «Священник был очень худ, высок, слегка сутул… Красивое молодое нерусское лицо. Армянин, что ли, или грек? Острая постриженная бородка чрезвычайной черноты. Горбатый, изогнутый нос, очень тонкий. Смуглые щеки, большие зеленоватые глаза с необыкновенно ярким белком, в котором было что-то женственное и вместе с тем баранье. Черные длинные вьющиеся волосы из-под серой шляпы…
— Наша цель — конкордат, — сказал священник, — и на конкордат они пойдут»[10].
Что-то жуткое есть в этом портрете Введенского двадцатых годов. Такое же жуткое, как и в портрете юного Введенского, нарисованном А. Левитиным-Красновым. Но довольно вглядываться в нерусское лицо Александра Ивановича. Пора познакомиться и с другими героями предстоящей драмы…
Глава вторая
Пути от Костромы всего триста пятьдесят верст, а добирались до Москвы почти двое суток. Голодная земля жалась к железной дороге, забивалась на станции и полустанки, цеплялась за проходящие поезда, растекалась по всей России…
Когда профессор Юрий Петрович Новицкий вышел в тамбур, от мусорного бачка отпрыгнул покрытый лохмотьями мальчишка, испуганно вжался в угол, двумя руками запихивая в рот селедочную голову. Слышно было, как захрустели на зубах кости. Новицкий торопливо отвернулся к окну.
День был бессолнечный, тусклый… Расстилалось за окном покрытое снегом поле. Поезд замедлял ход, и чернеющая вдалеке деревня казалась неподвижной и вымершей. Нигде не видно людей, ни над одной избой не поднималось печного дыма… Медленно втащился поезд на железнодорожный мост, застучали на стыках колеса, за окном потянулись пролеты железнодорожных ферм. Открылась крутизна берега. Внизу, у кромки льда, полузасыпанные снегом лежали трупы…
Потемнело в глазах.
— Спаси, Господи, люди Твоя… — еле слышно, прижимаясь лбом к выстывшему вагонному стеклу, прошептал Юрий Петрович.
Вагон дернуло. Поезд начал медленно набирать скорость.
После Костромы Москва поразила своим шумом и обилием еды.
Выстроившись шеренгами, стояли на вокзале торговки пирожками. То там, то здесь раздавались мальчишечьи крики: «Ира» рассыпная! «Ява»! «Мурсал»!» Бойко шла торговля и на вокзальной площади. В бесчисленных кондитерских полки были завалены французскими булками и калачами. Выложенные бесчисленными рядами, устилали прилавки пирожные. Горы коробок с консервами, семга, черная икра, балыки, апельсины зазывали покупателей от витрин гастрономов. Огромные буквы извещали, что в продаже имеется двадцать восемь сортов заграничного вина. Всюду работали и промтоварные магазины. Пока Юрий Петрович добрел до Самотеки, он насчитал больше десяти одних только парфюмерных заведений, где рябило в глазах от причудливого стекла флаконов с лучшими французскими духами, галстуков и кружев, разноцветных коробок с пудрой.
С облегчением вздохнул он, когда, миновав ворота, вступил в засыпанное чистым снегом Троице-Сергиево подворье. Здесь монашек указал ему, куда идти к покоям Святейшего патриарха Тихона…
После, во время процесса, Ю. П. Новицкий скажет:
«В Москве я видел патриарха Тихона. Мы беседовали недолго, я попросил патриарха дать воззвание, которого у нас не было, а затем инструкции епархиальным архиереям. Патриарх сказал, что решил пожертвовать не только теми предметами[11], какие у него указаны в воззвании, но и священными сосудами».
Нужно сказать, что высокопрофессиональный юрист Юрий Петрович Новицкий и на допросах на следствии, и перед лицом ревтрибунала ответы давал предельно лаконичные, не уводящие от существа заданного вопроса.
Из показаний других подсудимых и свидетелей, членов правления Общества православных приходов, явствует, что помимо документов, предназначенных непосредственно для митрополита Вениамина, Ю. П. Новицкий привез от патриарха Тихона и благословение на деятельность Общества. Так что, по-видимому, и о работе правления тоже шел разговор во время встречи патриарха с Ю. П. Новицким. Но этим — увы! — и ограничиваются наши сведения о встрече, состоявшейся на Троице-Сергиевом подворье в конце масляной недели 1922 года.
Однако встреча эта чрезвычайно важна для дальнейшего хода событий, поэтому дополним рассказ хотя бы размышлениями, какой могла быть она. Во-первых, вспомним, кто были ее участники…
Итак: патриарх Тихон и профессор Юрий Петрович Новицкий. Одному — 57 лет, другому — 39. Один — глава Русской Православной Церкви, другой — мирянин. Патриарх Тихон — потомственный священнослужитель, Новицкий — потомственный дворянин, крупный ученый. Оба — в расцвете творческих сил. Деятельность патриарха Тихона в эти трудные для Церкви дни общеизвестна. Профессор Ю. П. Новицкий, помимо преподавательской работы в Петроградском университете, занимается устройством юридического факультета в Костроме. Еще он является председателем правления Общества православных приходов в Петрограде. Еще — завершает работу над фундаментальным исследованием «История русского уголовного права». Если добавить к сказанному, что и патриарх Тихон, и профессор Новицкий прославлены Русской Православной Церковью в лике святых, анкеты наших героев будут заполнены полностью.
О чем же могли говорить русские святые в эти страшные для Православной Церкви дни, в преддверии мученического подвига, который предстояло совершить им?
Они не обманывались, не тешили себя иллюзиями. Юрию Новицкому, еще не вполне пришедшему в себя от контраста задыхающихся от голода губерний и заваленной хлебом Москвы, как профессиональному юристу лучше других было понятно, что кампания по изъятию церковных ценностей, развернутая советской властью, одним только изъятием не ограничится. Согласно Декрету об отделении церкви от государства еще в 1918 году Православная Церковь была лишена всякой собственности. И здания храмов, и все, что в них находилось, было объявлено собственностью государства и только на правах временной аренды передано общинам верующих. Юридически власть согласно своему же декрету могла произвести какое угодно изъятие, не вступая в переговоры с властями церковными. Более того, вступление церковных властей в переговоры, обсуждение каких-либо условий передачи церковных ценностей было согласно тому же декрету деянием преступным…
Возможно, с юридической точки зрения патриарх Тихон и не осознавал так глубоко, как Новицкий, всего юридического бесправия Церкви, но суть проблемы для него была ясна. Он постиг ее на собственном опыте…
Еще летом 1921 года, когда только начинался голод в Поволжье, патриарх выпустил Воззвание о помощи голодающим.
К тебе, Православная Русь, первое слово мое! — писал он. — Пастыри стада Христова! Молитвою у престола Божия, у родных святынь исторгайте прощение Неба согрешившей земле. Зовите народ к покаянию: да омоется покаянными обетами и Святыми Тайнами, да обновится верующая Русь, исходя на святой подвиг и его совершая, — да возвысится он в подвиг молитвенный, жертвенный подвиг…
К тебе, человек, к вам, народы вселенной, простираю я голос свой: помогите! Помогите стране, помогавшей всегда другим!
Слово патриарха было услышано. И в самой России, и за пределами ее. На счет Всероссийского Церковного комитета помощи голодающим потекли пожертвования. Советские власти, однако, сочли его работу излишней. Комитет закрыли, а собранные средства пустили на текущие нужды правительства. Теперь Президиум ВЦИК снял этот запрет.
Внимательно прочитал Юрий Петрович Новицкий врученный ему экземпляр воззвания.
Среди тяжких бедствий и испытаний, обрушившихся на землю нашу за наши беззакония, величайшим и ужаснейшим является голод, захвативший обширное пространство с многомиллионным населением, — начиналось оно. Далее говорилось, как пыталась Церковь прийти на помощь голодающим в прошлом году…
Мы допустили ввиду чрезвычайно тяжких обстоятельств возможность пожертвования церковных предметов, не освященных и не имеющих богослужебного употребления. Мы призвали верующих чад Церкви и ныне к таковым пожертвованиям…
Закончив чтение отпечатанного на пишущей машинке воззвания, Юрий Петрович поднял глаза на патриарха. Это была их вторая встреча. Первый раз Юрий Петрович встречался с митрополитом Тихоном еще в 1915 году. Но тогда была официальная встреча, Тихон был в митрополичьем одеянии, в белом клобуке, а сейчас он сидел в простой рясе и совсем не похож был на сановника церкви. Он казался сейчас старше своих лет, глубокие складки сбегали по лицу, прячась в седой бороде.
— По поводу постановления ВЦИК я имел переписку с Калининым… — сказал патриарх. — Сейчас этот вопрос поставлен очень строго.
— У нас, в Петрограде, многие считают, что жертвовать священные сосуды не является нарушением канонов… — проговорил Новицкий.
Патриарх улыбнулся:
— Если у вас думает, что церкви Петрограда жертвуют и что эти пожертвования будут приняты, то я разрешаю жертвовать и то, что не указано в воззвании… Пусть митрополит Вениамин обратится ко мне, я дам разрешение;
Как свидетельствуют люди, близко знавшие святителя Тихона, он очень мало изменился, став патриархом. Спокойствие и чувство юмора никогда не покидали его. До конца жизни оставался он скромным и простым, обладал ясным умом и добрым сердцем. Еще говорили, что патриарх очень похож на Кутузова, каким его изобразил Л. Н. Толстой в «Войне и мире».
Наверное, таким и увидел патриарха Юрий Петрович Новицкий, сумевший в полной мере оценить юмор его ответа. Конечно же, можно было думать, что изъятие, которое собирается провести советская власть, является добровольной жертвой церкви… Правда, очень уж горьким был этот юмор.
— Что же теперь будет? — спросил Юрий Петрович.
— Будет то, на что будет воля Господня… — ответил патриарх. Потом, на процессе, Ю. П. Новицкому зададут прямой вопрос:
— О чем вы беседовали с патриархом?
И Новицкий, еще раз кратко пересказав свои вопросы и ответы патриарха, добавит, что спросил об отношении патриарха к тем новшествам, что появляются в некоторых церквах…
— Этот вопрос нас не интересует! — перебил Новицкого председатель суда.
Это, конечно, очень досадно. То, что не интересовало товарища Яковченко, нам узнать было бы совсем не лишним… Но, с другой стороны, так ли и правомерна наша досада?
В Петроград Юрий Петрович Новицкий привез благословение святителя Тихона и митрополиту Вениамину, и самому себе, как председателю Общества православных приходов. Благословение на мученический подвиг во славу Божию, во спасение Русской Православной Церкви… Что еще более важное могли бы узнать мы?
Впрочем, тогда, в конце февраля 1922 года, об истинном значении благословения святителя Тихона Юрий Петрович Новицкий, может быть, пока и не догадывался.
Протоиерей Сергий Булгаков говорил, что каждый ощущал радость в присутствии патриарха Тихона, так как тот не знал страха, даже когда был окружен постоянно грозящей опасностью. В нем была совершенно особая, царственная свобода с полным отсутствием страха за свою судьбу…
Наверняка и Юрий Петрович Новицкий, покидая Троице-Сергиево подворье, тоже ощущал эту радость, это бесстрашие…
Глава третья
В 1922 году масленица заканчивалась 26 февраля…
Мы знаем, что к Прощеному воскресенью Ю. П. Новицкий уже привез митрополиту патриаршее благословение. Великой силой обладало оно. Как-то само собою получилось, что как раз накануне Великого поста и выпало митрополиту Вениамину возвысить голос петроградской Православной Церкви.
После литургии, в Прощеное воскресенье, митрополит Вениамин обратился к своей пастве с речью. К сожалению, записи ее сделано не было, а сам митрополит, пересказывая на процессе выступление, существенно адаптировал его, применяясь к уровню слушателей и ситуации.
«Речь в Лавре я произнес в воскресенье, числа 25–26 февраля (26 февраля. — Н. К.) сего года. Я указал, что для верующих совершается такое печальное явление, как закрытие некоторых церквей. Изъятие церковных ценностей может быть произведено и некомпетентными лицами, следствием чего в церкви может не оказаться необходимых предметов для богослужения. Надо молиться, чтобы таких явлений не случалось».
В этом году владыке должно было исполниться 50 лет. Родился он в семье священника в Каргапольском уезде. В двадцать два года, будучи студентом третьего курса Санкт-Петербургской Духовной академии, принял монашеский постриг. Священнослужитель по призванию, он готов был, как утверждали однокурсники, вообще не покидать церковь. «Его не останови — он двадцать четыре часа в сутки будет служить».
Однако Господу было угодно направить молодого иеромонаха по другому пути. Будущий священномученик менее всего заботился о своей карьере, но карьера его складывалась самым блестящим образом. В двадцать четыре года иеромонаха Вениамина выпустили из академии с ученой степенью кандидата богословия. Около года он преподавал Священное Писание в Рижской Духовной семинарии, затем был назначен инспектором Холмской Духовной семинарии. В тридцать лет, когда Вениамин был уже инспектором семинарии в Санкт-Петербурге, его возвели в сан архимандрита и через несколько месяцев назначили ректором Самарской семинарии. Еще через три года мы видим Вениамина ректором Санкт-Петербургской семинарии, а в начале 1910 года Вениамин хоротонисан в епископы Гдовские и назначен четвертым викарием Санкт-Петербургской епархии. В 1911 году он становится третьим викарием, в 1913-м — вторым, в 1914-м — первым. 6 марта 1917 года епископ Вениамин вступил во временное управление столичной епархией, а 24 мая свободным голосованием клира и мирян был избран архиепископом Петроградским и Гдовским. 13 августа, почти накануне Октябрьского переворота, Вениамин возведен в сан митрополита. По свидетельству современников, он совершенно лишен был чванства, был простым и отзывчивым в общении.
— Я стою за свободу Церкви! — говорил новый митрополит. — Она должна быть чужда политики, ибо в прошлом она много от нее пострадала.
Говорят, что особенно любили митрополита Вениамина на рабочих окраинах… Таким был этот человек, который обратился к своей пастве в Прощеное воскресенье. Покаянное настроение праздника и определило характер наставления…
— Зовите народ к покаянию! — призывал патриарх Тихон. — Да омоется покаянными обетами и Святыми Тайнами, да обновится верующая Русь!
— Пришли печальные времена… — словно бы отвечая патриарху, говорил из Петрограда митрополит Вениамин. — Велик гнев Божий… Нужно молиться…
Произнесенную в Лавре речь услышали не только верующие, изложение ее попало в рабочие сводки ГПУ, зазвучало в коридорах Смольного…
В научных исследованиях, посвященных анализу петроградских событий начала 1922 года, существует устойчивый стереотип, согласно которому утверждается, что отношение Г. Е. Зиновьева к изъятию церковных ценностей было более сдержанным, чем в Москве. Утверждается, что петроградский Помгол якобы первоначально полагал, что речь идет действительно лишь о помощи голодающим, и в связи с этим в феврале — марте наблюдалось даже некоторое потепление в отношениях Церкви с петроградскими властями. К сожалению, вся эта концепция выстраивается на уровне введенных в фактологию заблуждений и гипотез и никакими документами не подтверждается. Не удалось нам обнаружить таких документов и в двадцатисемитомном деле № 36314. Более того, знакомство с материалами дела дает основание утверждать, что до выступления митрополита Вениамина в Лавре все попытки властей вступить в диалог с Церковью носили явно провокационный характер. Предполагалось, по-видимому, использовать результаты этих «переговоров» в набиравшей обороты газетной кампании.
Вел переговоры Семен Иванович Канатчиков, ректор университета имени тов. Зиновьева, поэтому ему и передадим слово.
«Я лично имел полное право вызвать митрополита в Смольный… — с нагловатой развязностью рассказывал он на процессе. — Но опять-таки, не желая вносить в это дело прямолинейность, решил отправиться в Лавру, чтобы объявить о том постановлении, которое состоялось в Смольном…»
Допрос Канатчикова на процессе длился целый день, и за это время Семен Иванович, путано повествуя о сорванных якобы по вине митрополита Вениамина переговорах, успел рассказать немало интересного и о себе самом. Он поведал, к примеру, о весьма странном устройстве собственной головы… «Я схематической памятью обладаю, у меня память на общие положения, но относительно деталей, так сказать, отдельных фактов, эпизодов, я их, повторяю, никогда не удерживаю в памяти»[12]. Существует определенная схема принципов, поэтому я этих фактов обыкновенно не стараюсь удерживать в памяти». С оруэлловскими персонажами Семена Ивановича Канатчикова роднит не только организация его мыслительного процесса, но и моральный облик, который тоже раскрылся во время процесса достаточно ярко. Свои показания ректор университета имени тов. Зиновьева менял, нисколько не затрудняя себя соображениями порядочности, в полном соответствии «с определенной схемой принципов». Так вот, этот оруэлловский персонаж и явился к митрополиту Вениамину для переговоров.
Первым делом Семен Иванович спросил у владыки, знаком ли тот с декретом ВЦИК.
Митрополит ответил, что о декрете слышал, но текста его не читал (декрет ВЦИК был опубликован только 26 февраля), никаких официальных уведомлений не получал.
— А воззвание патриарха Тихона, гражданин Казанский, вы получали?
— Официально мы не получали и воззвания… — ответил митрополит.
Уклончивость его ответов весьма огорчила Семена Ивановича.
«Затем, когда я предложил ему (митрополиту Вениамину. — Н. К.) содействовать нам по проведению декрета, не вызывая никаких конфликтов на этой почве, он на это весьма точно так же неопределенно заявил, что так как церковь теперь является демократической и так как я (митрополит Вениамин. — Н. К.) — лицо хотя и стоящее во главе, но не имеющее права самостоятельно действовать, то поэтому я (митрополит Вениамин. — Н. К.) обращусь к собранию районов. Для этой цели и попрошу вас (Канатчикова. — Н. К.) явиться на это заседание и тогда мы (духовенство. — Н. К.) совместно с вами обсудим эти вопросы»[13].
Судя по манере излагать свои мысли и обстоятельства дела, ректор университета имени тов. Зиновьева избытком культуры и образования не страдал. Трудно заподозрить его и в переизбытке ума. На процессе, хотя и готов был Семен Иванович дать самые невыгодные для митрополита показания, он не умел сделать это, все время путался. Расписывая «коварство» священномученика, он обличал только самого себя…
Нет! Митрополит не хитрил, не крючкотворствовал… У него действительно не было официально переданных ему документов, вступать же в обсуждение их, основываясь лишь на газетных пересказах, митрополит не мог себе позволить. Слишком серьезным был вопрос. Разумеется, владыка не стал объяснять этого Канатчикову. Во-первых, не счел необходимым, а во-вторых, едва ли Семен Иванович сумел бы понять его.
Что могло быть, если бы митрополит не уклонился от навязываемого обсуждения, видно из дальнейшего «диалога».
— Вы, гражданин Казанский, не стремитесь помогать советской власти… — горестно вздохнул Канатчиков. — А напрасно… Это не в интересах Церкви. Из-за недопонимания и происходят досадные нарушения…
— Да… — спокойно подтвердил митрополит. — С вашей стороны имеется много нарушений.
«Я попросил его указать, какие нарушения именно. На это он мне говорит, что нам (Церкви. — Н. К.) запрещают производить кружечный сбор в пользу голодающих, затем нас (Церковь. — Н. К.) травят в газетах, запрещают оказывать непосредственную помощь голодающим, кормить их, закрывают домовые церкви, не помню еще какие требования в этом смысле. Я (Канатчиков. — Н. К.) на это ответил, что с нашей стороны относительно нарушения декрета никаких не может быть разговоров относительно уступок. Я указал, что домовые церкви закрываются на основании декрета, и местная власть с этим запоздала. Она виновата, что до сих пор эти церкви не закрыты. Если закрывают, следовательно, поступают по праву, именно осуществляют декрет, который обязаны давным-давно осуществить. Что касается помощи голодающим, я (Канатчиков. — Н. К.) не уполномочен решать непосредственно, но я лично думаю, что никому не возбраняется оказывать эту помощь. Кроме того, он (митрополит. — Н. К.) заявил: нам запрещают преподавать Закон Божий в церкви, на это я ответил, что вообще декретом не предусмотрено преподавание Закона Божия в церкви. Претензия не основательна»[14].
Непроходимая тупость, как мы видим, очень удачно совмещалась в Семене Ивановиче с патологической ненавистью к Православной Церкви… Тем не менее митрополит слово сдержал. Через несколько дней Канатчиков был приглашен на заседание епархиальной комиссии помощи голодающим.
Любопытно, что на это заседание С. И. Канатчиков пришел вместе с протоиереем А. И. Введенским. «Введенский встретил меня во дворе и повел на — как они называются? — богословские курсы»[15].
Однако и при помощи вождя обновленцев раскачать «реакционеров» на обсуждение опубликованных в газетах выдержек из декрета ВЦИК не удалось. Вместо принципиальной дискуссии, которую можно было бы использовать в пропагандистской кампании, члены комиссии повели скучную беседу о конкретной помощи голодающим, чем, разумеется, очень сильно огорчили Семена Ивановича, и он вместе с Введенским покинул заседание.
Как свидетельствовал Новицкий, Канатчиков пригласил членов комиссии к себе, в Смольный. «Мы пришли в Смольный немного раньше трех часов. Там был Введенский… Мы сидели с трех часов и ждали Канатчикова до пяти часов вечера. Не дождались…»[16]
Более никаких переговоров вплоть до выступления митрополита Вениамина в Лавре не велось, так что говорить о каком-то, пусть и временном, потеплении в отношениях петроградских властей к Церкви не приходится. Возможно, и выступление митрополита также осталось бы незамеченным властями, но резонанс его значительно усилили события, произошедшие 25 февраля, как раз накануне Прощеного воскресенья, в домовой церкви консерватории.
«Рапорт члена Комиссии по Учету и Изъятию ценностей из церквей, комиссара Губчека С. Егорова. Когда, запечатав церковь, мы уходили в канцелярию, нас остановил священник Толстопятов и от имени Всевышнего Бога поодиночке проклял нас. В толпе начали кричать, что нас надо бить, но кто-то из администрации остановил и сказал, что надо свергнуть эту власть, т. к. это не советская власть, а хулиганская»[17].
Как явствует из материалов следствия, отец Анатолий (Толстопятов) заявил в канцелярии чекистам: «Я знаю, где все вещи находятся, но я вам этого не скажу и показывать не буду». А староста церкви композитор Сергей Михайлович Ляпунов, которого, по словам обвинителя Драницына, отец Анатолий «заразил таким преступным поведением», категорически отказался сдать церковные ключи.
«25 февраля церковь была опечатана и вслед за тем была произведена опись имущества ея, — рассказывал Сергей Михайлович на допросе. — Так как в протоколе по составлению описи было сказано, что церковь домовая, я отказался подписать протокол, потому что сам являюсь ктитором, выбранным от прихода. Ключи я отказался сдать, потому что они у меня получены от приходского совета, которому я только и могу их сдать».
От тюрьмы шестидесятитрехлетнего профессора консерватории С. М. Ляпунова спасла лишь мировая известность. По приговору Ревтрибунала он был осужден на шесть месяцев условно и вскоре после суда уехал за границу и умер в Париже…
Напомним также, что большевики усиленно готовились тогда к Генуэзской конференции, связывая с нею определенные надежды. Укреплять свой, уже устоявшийся имидж «хулиганской власти» в планы их не входило. Совокупность всех этих обстоятельств и обусловила то, что переговоры все-таки начались. Правда, и на этот раз вести их было поручено знакомому нам С. И. Канатчикову.
Роль ректора университета имени тов. Зиновьева во всем этом деле не вполне ясна. С одной стороны, очевидно, что Канатчиков обладал немалой властью и пользовался полным доверием Зиновьева, но с другой… Представители защиты тщетно допытывались на процессе, какой орган представляла та комиссия, где председательствовал Канатчиков — Помгол или исполком? Ответы Семен Иванович давал уклончивые. Из них следовало, что хотя и участвовали в переговорах секретарь губисполкома Н. П. Комаров и другие ответственные работники, но самой комиссии как бы и не было и никого она не представляла… Обстоятельство, что и говорить, весьма странное.
Странно и то, что С. И. Канатчиков, как видно из материалов дела № 36314, единственный персонаж, который поддерживал постоянные контакты и с Зиновьевым, и с работниками исполкома, и с руководством Помгола, и с органами ГПУ, и с группой Введенского — Боярского…
Воистину что-то зловещее есть в этом человеке, словно бы со страниц романа Оруэлла сошедшего в смольнинский коридор.
Этот человек и послал митрополиту Вениамину повестку с требованием прибыть в Смольный в 14.00, в понедельник, 6 марта 1922 года.
Глава четвертая
Накануне, в воскресенье, митрополит Вениамин совершал богослужение в Исаакиевском соборе. Сослужили ему около двадцати священников. Им в алтаре Исаакиевского собора и сообщил митрополит о предстоящем визите в Смольный.
«Сущность заявления от 6 марта я им не сообщал, — рассказывал он на процессе. — Я говорил, что мы сейчас переживаем очень серьезный момент и от меня, вероятно, будут просить ответа на поставленный вопрос. Какой ответ я дам — об этом я никому не сообщал, но указал, что моему ответу некоторые могут удивиться».
«На богослужении пятого марта… — подтверждая слова владыки, говорил протоиерей Михаил Чельцов, — митрополит просил нас молиться, чтобы Господь поддержал его в деле соглашения с советской властью и чтобы по этому поводу не было разномыслия среди духовенства»[18].
По-видимому, знаменитое письмо митрополита Вениамина, о котором было потом столько разговоров и в церковных кругах, и среди власть предержащих, было уже составлено владыкой.
Поскольку письмо это полно и точно отражает точку зрения митрополита Вениамина на изъятие церковных ценностей и на помощь голодающим, приведем его полностью:
Ввиду неоднократных обращений и запросов лично ко мне и выступлений в печати по вопросу об отношении Церкви к помощи голодающим братьям нашим, я в предупреждение всяких неправильных мнений и ничем не обоснованных обвинений, направленных против духовенства и верующего народа, в связи с делом помощи голодающим считаю необходимым заявить следующее.
Вся Русская Православная Церковь по призыву и благословению своего отца, Святейшего патриарха, еще в августе месяце 1921 года со всем усердием и готовностью отозвалась на дело помощи голодающим. Начатая в то же время и в петроградской Церкви работа духовенства и мирян на помощь голодающим была, однако, прервана в самом же начале распоряжением советской власти.
В настоящее время правительством вновь предоставляется Церкви право начать работу в помощь голодающим. Не медля ни одного дня, я, как только появилась возможность работы на голодающих, восстановил деятельность Церковного комитета помощи голодающим и обратился ко всей своей пастве с усиленным призывом и мольбой об оказании помощи голодающим деньгами, вещами и продовольствием. Святейший патриарх, кроме того, благословил духовенству и приходским советам с согласия общин верующих принести в жертву голодающим драгоценные церковные вещи, не имеющие служебного употребления.
Однако недавно опубликованный в «Московских известиях» (от 23 февраля) Декрет об изъятии на помощь голодающим церковных ценностей, по-видимому, свидетельствует о том, что приносимые Церковью жертвы признаются недостаточными.
Останавливаясь вниманием на таковом предположении, я, как Архипастырь, почитаю, священным долгом заявить, что Церковь Православная, следуя заветам Христа Спасителя и примеру великих Святителей, в годину бедствий для спасения от смерти погибающих всегда являла образ высокой христианской морали, жертвуя все свое церковное достояние вплоть до священных сосудов.
Но, отдавая на спасение голодающим самые священные и дорогие для себя, по их достоинству, а не материальному значению, сокровища, Церковь должна иметь уверенность:
1) что все другие средства и способы помощи голодающим исчерпаны;
2) что пожертвованные святыни будут употреблены исключительно на помощь голодающим;
3) что на пожертвование их будет дано благословение и разрешение высшей Церковной власти.
Только при этих главнейших условиях, выполненных в форме, не оставляющей никакого сомнения для верующего народа в достаточности необходимых гарантий, и может быть призван мною православный народ к жертвам Церковными Святынями. А самые сокровища, согласно святоотеческим указаниям и примерам древних архипастырей, будут обращены при моем непосредственном участии в слитки. Только в виде последних они и могут быть преданы в качестве жертвы, а не в форме сосудов, прикасаться к которым по церковным правилам не имеет права ни одна не освященная рука.
Когда народ жертвовал на голодающих деньги и продовольствие, он мог и не спрашивать и не спрашивал, куда и как пойдут пожертвованные им деньги. Когда же он жертвует священные предметы, он не имеет права не знать, куда пойдут его церковные сокровища, так как каноны допускают, и то в исключительных случаях, отдавать их только на вспоможение голодающим и выкуп пленных.
Призывая в настоящее время по благословению Святейшего патриарха к пожертвованию церквам на голодающих только ценных предметов, не имеющих богослужебного характера, мы в то же время решительно отвергаем принудительное отобрание церковных ценностей как акт кощунственно-святотатский, за участие в котором — по канонам — мирянин подлежит отлучению от Церкви, священнослужитель — извержению из сана.
Митрополит Вениамин.
1922 г. 5 марта
Такой ответ приготовил для Смольного митрополит Вениамин… И теперь становится ясным, какой смысл вкладывал он в слова: «Моему ответу некоторые могут удивиться». Формулируя условия, на которых Церковь может пойти на пожертвование своими ценностями, владыка не требует никаких уступок, не пытается выторговать каких-либо послаблений. Он просто говорит о готовности следовать заветам Христа и примеру великих святителей. И происходит Чудо. Произнесенное с той верой, с какой произносит его митрополит Вениамин, имя Спасителя рассеивает сумерки лжи и недомолвок, разрушает хитроумные западни и ловушки, придуманные служителями лжи из Кремля. Заявление это превращает задуманное большевиками ограбление Церкви в совершенно не нужную властям акцию помощи голодающим. Несостоятельными оказываются и попытки противопоставить патриарха и епископа мирянам, все пропагандистские ухищрения, призванные опорочить руководство Церкви.
Потом, в ходе предварительного следствия и во время процесса, к обстоятельствам оглашения письма обращались и обвинение, и защита, и на основании многочисленных показаний представляется возможным нарисовать не только вполне исчерпывающую картину самого заседания в Смольном, но и тех промахов, которые — от неожиданности! — были допущены представителями власти…[19]
И. М. Ковшаров рассказывал на процессе: «Я живу недалеко от Смольного и предложил митрополиту, который ни разу в Смольном не был, проводить его, обещая встретить митрополита по дороге. Это мне не удалось. Прибыв в Смольный, я узнал в комендатуре, что митрополит уже прошел наверх. По указанию одной из встретившихся мне знакомых барышень я прошел в коридор и сел около комнаты № 95, где находился митрополит. Оттуда вышел неизвестный мне человек и пригласил меня войти. В комнате находился Комаров, Канатчиков и еще трое. Войдя, я сел у дверей на стуле»[20].
Еще позднее появился в комнате № 95 священник Заборовский. Этим вечером он должен был совместно с протоиереем Введенским выступать с чтением лекции в Филармонии и хотел согласовать с владыкой тезисы. В Лавре он и узнал, что митрополит вызван в Смольный. Заборовский «сел в трамвай и доехал до Смольного, чтобы дождаться его (митрополита. — Н. К.) выхода».
Столь скрупулезное выяснение состава участников заседания хотя и тормозит повествование, но необходимо, поскольку позволяет вскрыть то, что в дальнейшем всячески затушевывалось.
Так как председательствовал на заседании в комнате № 95 Семен Иванович Канатчиков, с его свидетельств и начнем мы реконструкцию состоявшегося там разговора.
«Я его (митрополита. — Н. К.) вызвал, так как неоднократно стал получать сведения, что он ведет погромную агитацию в церквах против изъятия церковных ценностей… — рассказывал на процессе Семен Иванович. — Его (митрополита. — Н. К.) сопровождала целая свита. Здесь велись те же переговоры, что и в предшествующие разы. Кроме того, я предъявил митрополиту выдержку из его речи в Лавре, которую он признал подлинной и верной указывая, что при полном объеме речи она имеет иной смысл»[21].
Этим, однако, ответ митрополита не ограничился. Митрополит Вениамин сказал, что хотел бы в присутствии официальных представителей власти разъяснить свою позицию по вопросу изъятия церковных Ценностей, так как всякие неправильные мнения и недосказанности только вредят делу помощи голодающим… В связи с этим он попросил разрешения зачитать свое заявление в Помгол.
Отказать митрополиту в этой просьбе С. И. Канатчиков не смог. Письмо было зачитано. Впоследствии Канатчиков всячески пытался дезавуировать этот факт, говорил, что «это письмо было зачитано вскользь», что «митрополит был вызван не для обсуждения этого письма, но по поводу произнесенной в Лавре речи»[22], но это только лишь подтверждает, насколько неожиданным был произведенный чтением письма эффект.
Митрополит Вениамин заверил присутствующих, что берет на себя хлопоты о благословении пожертвований высшей церковной властью. А в заключение подчеркнул, что хотел бы придать молитвенный, священный характер передаче ценностей. Это вызовет религиозный подъем в деле помощи голодающим и расположит верующих не только жертвовать церковные ценности, но и помогать голодающим своими самостоятельными пожертвованиями. В деле помощи голодающим нет нужды прибегать к принудительному изъятию.
Протоиерей Заборовский появился на заседании, когда митрополит уже завершил свою речь.
«Я пришел, когда Канатчиков держал в своей руке письменный документ, то есть обращение, которое было написано митрополитом в Помгол, и читал пункты…»
— У нас имеется декрет и этот декрет мы должны привести в исполнение! — все повторял он. — Но мы не хотим, чтобы это происходило как-то насильственно! Не хотим, чтобы вызывалось какое-то нарекание на власть. Не хотим, чтобы это носило характер, какой сейчас придают верующие массы. Мы хотим, чтобы это произошло как можно спокойнее и благороднее. И мы приглашаем Церковь для того, чтобы здесь об этом договориться!
— Если вы действительно хотите этого, как тогда объяснить ваши действия? — спросил митрополит Вениамин. — Вот последнее изъятие в домовой церкви. Пришли люди. Взяли напрестольное Евангелие, Сорвали с него серебряные украшения. Серебра там было всего на пять золотников, а Евангелие испортили. Разве это поможет голодающим?
Канатчиков замешкался с ответом и дальше, как показывал на процессе протоиерей Заборовский, разговор взял в свои руки секретарь Петроградского губисполкома Николай Павлович Комаров.
Всего год назад Николай Павлович возглавлял Петроградскую ЧК, а через четыре года сменит самого товарища Зиновьева на посту председателя Ленсовета. Большевик был закаленный и проверенный.
— Подобные действия, гражданин митрополит, осуждаются нами… — сказал он и, забрав у Канатчикова заявление владыки, начал читать изложенные там пункты. — Чем же мы можем доказать вам? — спросил он. — Вы ведь знаете, что все, что можно было сделать, сделано. Сейчас мы бьемся, чтобы выйти как-нибудь из этого положения. Вот нам указывают, что в помещениях, где содержатся голодающие, грязь, нечистоты… Но, посудите сами, как возможно иначе? Содержание Прудковских бараков, где мы содержим и кормим голодающих, стоит шесть миллиардов в месяц… Вы можете дать нам эти деньги?
— Сейчас мы не располагаем такими суммами… — ответил митрополит. — Подобные денежные сборы требуют большой организационной работы.
— Ну, вот видите… — сказал Комаров. — Все средства исчерпаны. И если мы идем на такую меру, как изъятие церковных ценностей, то значит, что мы вынуждены сделать это.
— Я понимаю, что положение очень острое… — сказал митрополит. — Разумеется, мы должны прийти на помощь. Церковь не может не прийти на помощь в силу той христианской любви, которую она исповедует и проповедует. Но ведь форма помощи может быть разной. Для всех православных было бы предпочтительней, если бы Церкви была предоставлена возможность участвовать в этом деле самостоятельно. Например… У нас несколько голодающих губерний. Вы могли бы указать нам определенную губернию, к примеру Самарскую, где бы мы и помогали. Или же мы могли бы сами покупать хлеб и отправлять туда, где требуется.
— Все это правильно и по существу возражать не приходится! — чуть поморщился Комаров. — Но ведь помощь голодающим должна рассматриваться не только в том смысле, что надо накормить голодных. Надо еще и обсеменить поля. Только поэтому технически ваше предложение для нас неприемлемо. Но так или иначе, а ваше участие может быть проявлено.
— Может быть, тогда вы закупите хлеб, а мы просто заплатим по счетам? — предложил владыка.
— Это можно, — кивнул Комаров. — К этому препятствий не имеется. Но вначале поговорим об изъятии…
Митрополит, сославшись на примеры из древней истории, рассказал, что тогда при пожертвовании священных сосудов они переливались при участии верующих в слитки.
— Это тоже технически невозможно! — ответил Комаров. — Нам пришлось бы отправить тогда драгоценности в какую-нибудь горнозаводскую область, где есть специальные приспособления. Но зато мы можем вам гарантировать деформирование сосудов.
— Я говорю не только о канонах, — сказал митрополит. — Не хотелось бы, чтобы оскорблялись религиозные чувства верующих. Мы хотим, чтобы изъятие носило характер жертвы. Допустим у женщины, которая продала все, осталась только одна икона — родительское благословение. Это ее последнее достояние, и она вынуждена продать и ее, потому что больше ничего нет. Она перед ней в последний раз помолится и сделает свое дело. Так сделаем и мы. Мы все, верующие, соберемся, пойдем в Казанский собор, помолимся все вместе, а потом я своими руками сниму ризу с Божьей Матери и отдам. Но пусть это носит характер жертвы.
— Тут мы не протестуем… — сказал Комаров. — Желательно, чтобы к нам было больше доверия верующих.
В дальнейшем сам Н. П. Комаров факта этого разговора (мы привели его в изложении протоиерея Заборовского) не отрицал. Но тем более странными выглядят попытки Канатчикова доказать, что письма вообще не было, а если и было, то не обсуждалось и не имело никакого значения.
На процессе Канатчикову был задан прямой вопрос:
— Если бы в ходе переговоров было предложено выпустить воззвание к прихожанам, чтобы отдать все в установленный срок, пожертвовать все, вы бы возражали против этого?
Канатчиков не сразу даже и понял смысл вопроса.
— То есть? — спросил он.
— Если бы в виде пожертвований было предложено отдать все, что положено… — уточнил вопрос Я. С. Гурович.
— Нет! — категорически запротестовал Канатчиков. — Мы бы самым решительным образом протестовали[23].
Защитник ограничился этой констатацией. Проявив «тактичность», которой, по мнению Канатчикова, недоставало у его подзащитного, не стал подчеркивать, что власти самым решительным образом возражали против замены изъятия ценностей пожертвованием этих ценностей…
Впрочем, власти в лице Канатчикова и не считали нужным скрывать свою позицию. Снова и снова повторял Семен Иванович, что и речи не может идти, чтобы Церковь сама кормила голодающих. Слабость же, проявленную «твердым» большевиком Н. П. Комаровым, все-таки вступившим в переговоры по этому вопросу, можно объяснить лишь недостаточной посвященностью Николая Павловича в планы «конкордата», выработанного Г. Б. Зиновьевым совместно с протоиереем Введенским. Вспомним, что отношения Комарова с Зиновьевым были тогда весьма напряженными. В начале 1922 года Г. Е. Зиновьевым была подана на Комарова жалоба в Политбюро ЦК РКП(б).
Уже в конце заседания И. М. Ковшаров обратился к Комарову за разрешением «начать благотворительную деятельность Церкви, указывая на беженцев и прося разрешения открыть столовую»[24].
На это Николай Павлович Комаров с большевистской прямотой, сдобренной изрядной долей цинизма, ответил, что ежели у Церкви и после изъятия ценностей найдутся силы заниматься благотворительностью, то пускай она кормит голодающих, хотя, на его взгляд, вряд ли это удастся.
Не встретила отказа и просьба протоиерея Заборовского огласить на сегодняшней лекции в Филармонии заявление митрополита, не замечая испуганных взглядов Семена Ивановича Канатчикова, Комаров дал согласие и на это.
В тот же день заявление митрополита Вениамина было оглашено сразу в двух местах. Атмосферу, царившую в тот вечер в Филармонии, отчасти передает заметка, помещенная в «Петроградской правде». Народу на лекцию протоиереев Введенского и Заборовского «Церковь и голод» собралось немало. Зал, хоры, эстрады, переходы были переполнены. Публика, как отметил корреспондент, резко отличается от наших собраний. Преобладают женщины.
Протоиерею Введенскому долго не давали говорить.
— Предатель! — кричали ему из зала. — Вы враг Церкви!
Выкрики были вызваны недавней публикацией письма Введенского, в котором он «бросал вызов всему христианскому миру».
Некоторое успокоение в аудиторию внесло выступление протоиерея Заборовского. Он рассказал о встрече в Смольном.
Тут же начался сбор пожертвований.
Мы уже говорили, что протоиерей Введенский даже и на людей, симпатизировавших ему, производил весьма неприятное впечатление. «Несуразный, развинченный весь, нервно подергивающееся лицо. Едва заметная крохотная остренькая бородка и черные квадратики на месте усов. Волосы кокетливо взбиты сбоку… В нужные моменты он подпускает слезу, порой доходит до истерики… Порой долго-долго молчит, закатывая глаза, прикрывая лоб рукою.
Порою, начиная говорить, Введенский и сам не контролировал того, что говорит. Погружался в транс. Не случайно выступления его даже и сейчас производят сильное и неприятное впечатление. Они все пропитаны болезненностью и жутью. Хотя и говорил Введенский о Христе, о православии, но трудно отделаться от ощущения, что он говорит о совершенно других силах…
Когда было прочитано заявление митрополита Вениамина, с Введенским, как свидетельствуют очевидцы, случилось что-то вроде сомнамбулического припадка. Глаза закатились, переставая различать окружающее, а на нервно подергивающемся лице появилась злобная усмешка.
Говорят, что люди, подобные Введенскому, обладают особой восприимчивостью к будущему… Чему же усмехался сейчас Александр Иванович? Быть может, он прозревал то, что произойдет в этом зале ровно через три месяца, когда его, Введенского, хлопотами усядутся здесь на скамье подсудимых священномученики митрополит Вениамин и архимандрит Сергий, Юрий Петрович Новицкий и Иван Михайлович Ковшаров? Когда целый месяц будут выпытывать судьи, обвинители, защитники малейшие подробности появления оглашенного нынче заявления митрополита, все нюансы его отношения к Александру Ивановичу Введенскому?
Неведомо, что прозревал протоиерей Введенский в тот вечер, но доподлинно известно, что именно здесь, где впервые было оглашено заявление владыки, и будет проходить процесс, осудивший священномученика на расстрел. Какое странное и зловещее совпадение! Только совпадение ли это?
Глава пятая
Вторая «публикация» заявления митрополита Вениамина состоялась в этот вечер, 6 марта 1922 года, на заседании правления Общества православных приходов. Здесь заявление огласил сам митрополит, а потом поделился своими впечатлениями от посещения Смольного и сказал, что «наступила новая полоса в жизни, когда можно будет активно приступить к тому, к чему он стремился»[25].
Трудно в простых и ясных словах достаточно сильно передать, что за человек был митрополит Вениамин, — вспоминал анонимный современник владыки. — Простое, кроткое лицо, тихий свет прекрасных голубых глаз, тихий голос, светлая улыбка, все освещавшая, полная таинственного веселия и вместе — постоянной грусти. Весь его облик так действовал на душу, что невозможно было сопротивляться его обаянию… Митрополит обладал выразительной, редкостной, абсолютной аполитичностью. Это не значило, что его не трогало все совершающееся кругом. Он беззаветно любил Родину, свой народ, но это не колебало его аполитичности. Все слабы, все грешны; большевики, совершающие так много зла, еще более слабы и грешны; их следует особенно пожалеть — так можно неполно выразить основное настроение владыки…[26]
Это замечательный и очень глубокий портрет… Митрополит был святым… Как святой, он и говорил, и действовал. Анализируя поступки владыки, некоторые исследователи забывают об этом обстоятельстве, стараются обойти те моменты, которые представляются им сомнительными.
Священномученику Вениамину подобное «вспомоществование» совершенно не нужно. Умалчивая же о сложностях, встававших перед ним, мы обкрадываем его…
И это не слабость, а сила и мудрость митрополита Вениамина, что он «жалел большевиков, совершавших так много зла». В этом и заключается величие святого… И нам ли осуждать владыку за радость, которой наполнилось его сердце, когда, как показалось ему, большевики сделали попытку свернуть с погибельного пути?
Юрий Петрович Новицкий тоже святой. Но он был не иерархом Церкви, а профессиональным юристом. Возглавляя правление Общества православных приходов, Юрий Петрович много сделал для легализации Православной Церкви в Петрограде, после того как Декретом 1918 года фактически она была поставлена вне закона.
И все же непосредственной ответственности за паству на нем не лежало. Поэтому-то его рассказ о том заседании правления более сдержан. Не забудем к тому же, что, рассказывая о заседании, состоявшемся 6 марта, Юрий Петрович уже знал, как сложатся события в будущем.
«В тот же день митрополит пришел на очередное заседание правления и сообщил, что он прочел в Смольном адресованное в Помгол заявление и что в Смольном постановлено, а ему обещано предоставить Петроградской Церкви возможность самой жертвовать, как помощь голодающим, церковными вещами при участии власти и под ее контролем. При этом было прочитано само письмо, с каковым я ознакомился впервые. Митрополит сообщил, что в самом близком будущем произойдет заседание комиссии в исполкоме, на которое он должен делегировать двух своих представителей. Первым митрополит назвал Аксенова, а также меня»[27].
На дополнительном допросе, 22 мая, Юрий Петрович повторит свои показания.
«Я категорически утверждаю, что обращение митрополита в Петроградский Помгол было принесено в одном экземпляре митрополитом и прочтено. На столе во время этого события никаких экземпляров не лежало. Правление их не размножало ни путем перепечатки, ни путем переписки и не распространяло… Митрополит решения и мнения правления не только не считал обязательными, но он не считал желательным следовать им»[28].
Понятно, что некоторая раздражительность, прорывающаяся в словах Новицкого, была вызвана попытками следователя Нестерова во что бы то ни стало обвинить правление в распространении заявления митрополита Вениамина. Но и некая досада на владыку тоже, несомненно, присутствует в словах Юрия Петровича. Видимо, была эта досада и во время самого правления 6 марта. Понять причину ее тем более важно, что в самом начале заседания Новицкий был настроен вполне спокойно. «Перед приходом митрополита он передал собравшимся благословение патриарха Тихона на общее положение относительно Приходского устава»[29].
Опять-таки мы уже говорили, что Юрий Петрович был человеком весьма сдержанным, и коли и он не сумел скрыть досаду, то это значит, что рассказ владыки весьма обеспокоил его. Новицкий, как известно, даже читал в Костроме курс лекций по советскому праву. Что это такое, он знал лучше других. В выработанном в Смольном решении содержались существенные противоречия декрету ВЦИК. Такого не могло быть! Но ведь и митрополит Вениамин тоже не мог обманывать… Значит, произошла по вине смольнинских чиновников чудовищная путаница, и поскольку решение не зафиксировано в документальной форме, служащие Смольного непременно откажутся от своих слов. Или же просто замышляется провокация… Юрий Петрович ясно понимал это и досадовал, что не может объяснить этого владыке.
В свое время Юрия Петровича Новицкого чрезвычайно занимали философско-правовые взаимосвязи «подвиг — преступление», «награда — кара»… Так получилось, что в весенние месяцы 1922 года ему выпало вернуться к этим проблемам уже не в теоретических изысканиях, а в собственной жизни.
С тяжелым сердцем отправился Юрий Петрович Новицкий с Николаем Михайловичем Егоровым, заменившим так некстати заболевшего профессора Аксенова, на встречу с комиссией Буденкова.
На заседании выяснилось, что комиссия, в которую приглашены Новицкий и Егоров, называется Комиссией по изъятию церковных ценностей, созданной согласно декрету.
— Но митрополит говорил нам о целом ряде отступлений, обещанных нам в Смольном… — сказал Егоров.
— Нет! — возразил Буденков. — Декрет издан центром, и никто не имеет права его изменить. Будет сделано только одно отступление — разрешено превращать священные сосуды в слитки и деформировать их. Вы приглашены сюда для обсуждения вопроса о порядке и начале изъятия согласно декрету.
— Простите… — сказал Новицкий. — Митрополит командировал нас, чтобы условиться, в какой форме возможно и будет допущено участие Церкви в помощи голодающим. Ввиду того что создалась совершенно другая картина, отличная от той, которую рисовал нам митрополит, мы просим отложить заседание до получения нами дополнительных инструкций.
Судя по его показаниям, Н. М. Егоров так и не понял, почему Новицкий покинул заседание комиссии, которое «протекало в атмосфере абсолютного доверия и имело характер мирного и доброго настроения».
«Вечером мы докладывали митрополиту о результатах совещания. И здесь я понял, что мы сделали не совсем то, что надо было. Благодаря тому что мы не были в Смольном, мы не оправдали намерений, которые были у владыки…»
Митрополит сразу прервал рассказ Егорова о достигнутой насчет контроля договоренности.
— Мне никакого контроля не нужно! — сказал он. — Я власти доверяю, у нее есть свой контроль.
«И он пояснил ту точку зрения, которая не была ясна до этого. Именно ту точку зрения, что нужно самостоятельное участие Церкви в деле помощи голодающим, но не в качестве гарантии, контроля, а как известный факт для того, чтобы данную задачу облечь в высокоморальный характер, чтобы заставить верующих пожертвовать не только то, что есть в церкви, но, может быть, снять ризы с собственной иконы»[30].
Русская Православная Церковь
Митрополит Петроградский и Гдовский
12 марта 1922 года
№ 404
В ПЕТРОГРАДСКИЙ ГУБИСПОЛКОМ
В заявлении от 5 марта 1922 г. за № 372 мною было указано, что передача церковных ценностей может состояться только при наличии' следующих трех условий:
1) что все другие средства и способы помощи голодающим исчерпаны;
2) что пожертвованные святыни будут употреблены исключительно на помощь голодающим;
3) что на пожертвование их будет дано благословение и разрешение высшей Церковной власти.
Со всею определенностью указывая на необходимость выполнения поименованных условий «в форме, не оставляющей никакого сомнения для верующего народа в достаточности необходимых гарантий», я в то же время вопрос о форме выполнения этих условий оставил открытым, так как полагал, что до выяснения приемлемости самых условий всякие рассуждения о форме являются преждевременными и нецелесообразными.
В день подачи мною указанного заявления я был вызван в Смольный в заседание Комиссии по изъятию церковных ценностей… Оглашенный лично мною на означенном заседании текст поданного мною заявления не вызвал никаких возражений по существу. Это обстоятельство в связи с последовавшими по содержанию обращения заявлениями Представителей Власти (о недопустимости насильственного отобрания ценностей, о реализации жертвуемых ценностей самими верующими под контролем Городской Власти, о предоставлении Церкви права благотворительности чрез открытие, например, питательных пунктов при храмах, о непосредственной закупке хлеба с иностранных пароходов и пр.) не оставили во мне никакого сомнения в том, что выраженная в моем заявлении искренняя готовность Церкви прийти на помощь голодающим на условиях, ею указанных, понята и оценена Представителями Власти по достоинству. Я тем с большим удовлетворением принял все вышепоименованные заявления Представителей Власти, что они самым убедительным образом рассеивали предубеждения многих верующих людей, склонных видеть и утверждать, что предпринятый по изъятию ценностей шаг преследует цель, ничего общего с помощью голодающим не имеющую.
Однако, к глубокому моему огорчению, появившиеся вскоре в газетах отчеты о заседании в Смольном, неправильно освещавшие ход происходившей там беседы, поколебали мое первоначальное впечатление, а затем сообщение командированных мною на особое заседание комиссии в Губфинотдел моих представителей решительно меня убедило в полном несоответствии заявлений, сделанных в моем присутствии на заседании в Смольном, с вопросами, поставленными на обсуждение в комиссии в Губфинотделе.
На заседании в Смольном мне было предложено назначить двух своих представителей в комиссию по разработке деталей предъявленных мною условий. В действительности же мои представители оказались в составе Комиссии по ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ изъятию церковных ценностей. Таким образом создалось положение, при котором Мои представители в комиссии должны в сущности способствовать Гражданской Власти безболезненному осуществлению неправомерного, по каноническим правилам, посягательства на церковное достояние, являющееся, по нашей вере, достоянием Божиим.
Ввиду создавшегося положения и в предупреждение дальнейших недоразумений и неправильных истолкований моих словесных и письменных обращений считаю долгом сделать следующее пояснение к моему письменному заявлению от 5 марта с.г. № 372.
1. Вновь подтверждаю полную готовность вверенной мне Церкви Петроградской со всем усердием прийти на помощь голодающим, если только ей будет предоставлена возможность проявить свою благотворительную деятельность в качестве самостоятельной организации.
2. Если при развитии своей благотворительной деятельности Церковь исчерпает все имеющиеся в ее распоряжении на голодающих средства, а именно сборы: среди верующих денег, церковных ценностей, не имеющих богослужебного характера, продовольствия, вещей, займы и пр., а нужды голодающих и умирающих от голода братьев наших означенными источниками покрыты не будут, тогда я признаю за собой и моральное, и каноническое право обратиться к верующим с призывом пожертвовать на спасение погибающих и остальное церковное достояние вплоть до священных сосудов и исходатайствовать на такое пожертвование благословение Святейшего патриарха.
3. Только при указанной в § 1 и 2 самостоятельной организации благотворительной деятельности Церкви и возможно каноническое разрешение вопроса об обращении церковных священных ценностей на помощь голодающим. Немедленное же изъятие священных предметов без предшествующего ему использования Церковью всех других доступных ей средств благотворения является делом неканоничным и тяжким грехом против Святой Церкви, призвать на который паству значило бы обречь себя на осуждение Святой Церкви и верующего народа.
4. Настаивая на предоставлении Церкви права самостоятельной организации помощи голодающим, я исходил из предположения, что нужды голодающих столь велики, что Церковь вынуждена будет при развитии своей благотворительной деятельности отдать на голодающих и самые священные предметы свои, использовать которые по канонам и святоотеческим примерам может только непосредственно сама Церковь.
Если же предоставление Церкви самостоятельности в деле помощи голодающим будет признано почему-то нежелательным, то тогда Церковь, отказываясь, в силу канонической для себя невозможности, от передачи священных предметов, все же примет самое широкое участие в помощи голодающим, но только путем сборов денег, продовольствия, вещей и церковных ценностей, не имеющих богослужебного характера, и передаст Гражданской Власти все собранные суммы и предметы для израсходования их на голодающих и без требования даже какого-либо контроля со стороны Церкви.
Там, где свободе Архипастыря и верующего народа не положено предела, мы можем пойти даже дальше, чем это принято в обычных формах общественной жизни, где же она встречается с ясными и твердыми указаниями канонов, там для нее нет выбора в способе исполнения своего долга, и я, и верующий народ, послушные Святой Церкви, должны исполнить этот долг, вопреки всяким требованиям, тем более что самое дело помощи голодающим от этого нисколько не пострадает, а лишь изменится форма вспомоществования церковными ценностями, которые будут использованы для голодающих, но только не через чужих Церкви лиц, а чрез освященные руки пастырей и Архипастырей Церкви.
5. Если бы указанное в сем (письме. — Н. К.) предложение мое о предоставлении Церкви права быть самостоятельной организацией помощи голодающим Гражданскими Властями было принято, то мною немедленно был бы представлен проект Церковной организации помощи голодающим на рассмотрение и утверждение его Гражданской Властью. Если же такого согласия не последует и равным образом Церкви не будет предоставлено право благотворения и в ограниченной форме, то тогда мои представители на комиссии будут мною немедленно отозваны, так как работать они мною уполномочены только в Комиссии помощи голодающим, а не в Комиссии по изъятию церковных ценностей, участие в которой равносильно содействию отобрания Церковного достояния, определяемому Церковью как акт святотатственный.
6. Если бы слово мое о предоставлении Церкви права самостоятельной помощи голодающим на изъясненных в сем основаниях услышано не было и Представители Власти, в нарушение канонов Святой Церкви, приступили бы без согласия ее Архипастыря к изъятию ее ценностей, то я вынужден буду обратиться к верующему народу с указанием, что таковой акт мною осуждается как кощунственно-святотатственный, за участие в котором миряне, по канонам Церкви, подлежат отлучению от Церкви, а священнослужители — извержению из сана.
Вениамин, Митрополит Петроградский[31]
Письмо было написано митрополитом Вениамином в воскресенье, а в понедельник, 13 марта, состоялось заседание правления Общества православных приходов, где владыка зачитал свое послание.
У присутствующих это письмо вызвало противоречивые впечатления. Часть членов правления узрела в нем соглашательские настроения. «Я считал письмо митрополита соглашательским, мотивируя тем, что в Москве настроение в этом положении весьма твердое и что в Петрограде нужно держаться той же тактики». (Г. Ф. Чиркин. Т. 1, л. 114). Другие же члены правления, напротив, огорчились непримиримости и резкости тона владыки. «Меня удручало в письме то, что осложнялось положение, исчезал последний контакт церковной и гражданской власти» (Н. К. Чуков. Т. 5, л. 400).
Сама полярность критических высказываний доказывает, что в письме была представлена предельно взвешенная и разумная позиция. Тем не менее митрополит Вениамин счел неразумным открывать дискуссию. «Владыка пришел, прочел свое письмо и ушел», — говорил Ю. П. Новицкий.
«Обсуждения не было, — подтверждает его слова Н. М. Егоров. — Возник вопрос, как отнести это письмо в комиссию Буденкова. Здесь Новицкий заявил, что он не берется быть представителем митрополита и просит его освободить от этого, указывая, что если бы он и взялся, то он может сделать только механическую передачу, как курьер. В том же смысле высказался и я, но наше ходатайство не было уважено. Нам было поручено отнести эту записку в комиссию Буденкова, и на следующий день, 14 марта, мы были там. Вручили эту записку».
Об отношении Юрия Петровича Новицкого к переговорам митрополита Вениамина со Смольным мы уже говорили. Очень четко и недвусмысленно сказал об этом и сам Новицкий еще на допросе у следователя: «Я отказывался, ибо понимал, что между властью и митрополитом происходит какое-то недоразумение. С моей точки зрения, Советская власть могла привести декрет в исполнение без всякого соглашения с митрополитом, так как эти ценности (и имущество) находились в пользовании по договору и согласно договору были в ее руках. В порядке послушания митрополиту быть на заседании я согласился для того, чтобы отнести письмо»[32].
Читая показания Юрия Петровича Новицкого, порою ловишь себя на мысли, что святой обращался не столько к следователю Нестерову, сколько к нам, его потомкам. Его слова и поступки — очень важный урок подлинного православного смирения. Мы говорили, что для Юрия Петровича было ясно — или происходит чудовищнейшее недоразумение, или готовится провокация… Он объяснял это митрополиту Вениамину. Порою в его словах прорывалась досада, даже некоторое раздражение. И все же он смирил себя. Когда митрополит твердо сказал, что письмо нужно отнести, Юрий Петрович уже не спорил. В порядке послушания выполнил то, чего так не хотелось ему…
Из дальнейшего повествования мы увидим, что митрополит Вениамин понимал все и все прозревал гораздо глубже, чем представлялось в середине марта Юрию Петровичу Новицкому. Порою кажется, что владыка предвидел даже мученическую кончину и свою, и тех людей, что были наиболее тесно связаны с ним. И посылая со своим письмом Юрия Петровича, священномученик Вениамин ясно представлял себе все последствия этого для Новицкого. Но послал. Настоял, чтобы письмо отнес именно Новицкий, хотя мог бы отправить письмо и с простым курьером. Атеистически воспитанный человек увидит в этом решении митрополита неразумность, даже жестокость. Мы же видим высочайшую заботу и попечительность митрополита. Любимейшему духовному чаду своему дарует волею Господа митрополит Вениамин венец мученика за православную веру.
За несколько дней до расстрела митрополит Вениамин напишет удивительные слова:
В детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых и восхищался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел всей душой, что времена не те и не придется переживать, что они переживали. Времена изменились, открывается возможность терпеть ради Христа от своих и от чужих. Трудно, тяжело страдать, но по мере наших страданий, избыточествует и утешение от Бога. Трудно переступить этот рубеж, границу и всецело предаться воле Божьей. Когда это совершится, тогда человек избыточествует утешением, не чувствует самых тяжких страданий, полный среди страданий внутреннего покоя, он других влечет на страдания, чтобы они переняли то состояние, в котором находится счастливый страдалец. Об этом я ранее говорил другим, но мои страдания не достигали полной меры. Теперь, кажется, пришлось пережить почти все… Страдания достигли своего апогея, но увеличилось и утешение. Я радостен и покоен, как всегда. Христос — наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо…
Бесконечно мудрые, несущие в себе небесный свет слова… И так точно они подходят и к судьбе Юрия Петровича Новицкого, словно о нем и написаны. Только почему же «словно»? Конечно же, и о нем тоже.
У внука святого, Юрия Ивановича Колесова, бережно сохраняются сейчас многочисленные документы о жизни деда. Среди них — целый пакет с фотографиями Юрия Петровича Новицкого. Вот Юрий Петрович еще ребенок, фотография сделана, когда ему было два года. Вот Новицкий в гимназии. Вот Новицкий студент. Новицкий в Геттингене. Новицкий — следователь Киевского окружного суда. Новицкий — молодой приват-доцент… Новицкий — профессор Петроградского университета… Новицкий — глава комитета по ликвидации цензуры… Наконец, Новицкий в зале суда. Завершение земной жизни святого…
Это удивительные фотографии. Если разложить их по порядку, можно увидеть, как происходит величественнейшая метаморфоза преображения обычного человека в святого. Ребенок-барчук — мать Юрия Петровича, Пелагея Дмитриевна, была столбовой дворянкой — превращается в отрока. В гимназию Юрий Петрович поступил в Киеве, жил здесь в семье дяди Ореста Михайловича Новицкого, историка Церкви. Здесь и началось воцерковление его. «Религиозные вопросы меня начали интересовать со второго или третьего класса гимназии…» Здесь, в киевской гимназии, Юрий Петрович начал петь и читать на клиросе. Здесь в гимназические годы написал работу «Украинская природа в творчестве Гоголя». А вот фотографии молодого Новицкого. Красивое лицо, стройная фигура, франтоватые, лихо закрученные усы… Господь щедро наградил Юрия Петровича. И происхождение, и материальная обеспеченность, и красота, и прекрасное образование, и выдающиеся способности, и необыкновенная работоспособность — все было у него. И хотя Юрий Петрович и делал прекрасную карьеру, удачно совмещая научную и педагогическую деятельность с административной работой — перед революцией тридцатичетырехлетний Новицкий был и профессором Петроградского университета, и чиновником по особым поручениям, — сказать, что он был баловнем судьбы, даже позабыв, что он святой, никак нельзя. Семейную жизнь Ю. П. Новицкого с Анной Гавриловной Сусловой, дочерью известного специалиста по теоретической механике, профессора Г. К. Суслова, назвать безмятежно-счастливой трудно. Известно, к примеру, что в 1914 году, когда Юрий Петрович начинал читать лекции в Петроградском университете, Анна Гавриловна ушла на войну, стала сестрой милосердия… Поступок несомненно героический, но для семьи, и прежде всего для мужа, создающий ряд неразрешимых психологических проблем.
Семейная жизнь Новицких — особая тема, затрагивать которую здесь нет нужды, поскольку в 1921 году Анна Гавриловна умерла от тифа, оставив Юрия Петровича вдовцом с двенадцатилетней дочерью-сиротой на руках. Перебирая фотографии Новицкого, я вспоминал биографию, изложенную Юрием Петровичем во время процесса.
«До революции я, будучи профессором, принимал участие в работе приходских советов, но тогда не было такой самостоятельной организации верующих. После февральской революции я продолжал быть приват-доцентом университета. После Октябрьской революции я работал только в университете и педагогическом институте, читал ряд лекций, ездил читать лекции по России по историческим вопросам. После Октябрьской революции я был избран членом правления. Я часто ходил в церковь, настоятели меня знали, и я был избран. Теоретических работ в области религиозной я не вел. До революции трудов по религиозным вопросам у меня не было, но я читал лекции на религиозно-философские темы: о проблеме добра и преступлений, о преступлении в идее, о Церковном Соборе. Это были лекции чисто философско-исторического содержания. В восемнадцатом году я уклонился более в религиозную сторону…»
Впрочем, если бы и не знать этой «автобиографии», ее можно было прочесть по снимкам. Вроде и не прибавилось морщин, но перемена поразительная. Воочию видишь, как переплавляется все мирское, суетное в чистейшую духовность… Последние шаги на пути своего духовного восхождения Юрий Петрович Новицкий прошел рядом с митрополитом Вениамином…
И когда мы говорим о их разногласиях по поводу адресованных властям писем, следует помнить, что это не имеет ничего общего с обычными житейскими раздорами. Тем более что уже через несколько дней стало ясно — ни пастырский опыт митрополита, ни юридические познания Новицкого никак не способствуют предугадыванию дальнейших шагов агрессивно-беззаконного сатанизма. Для того чтобы противостоять ему, недостаточно было быть иерархом Церкви и высокопрофессиональным юристом. Нужно было быть святым…
Впоследствии, во время процесса, высказывались самые различные суждения о «линии» митрополита. Одни порицали владыку за нерешительность, другие — за излишнюю твердость. «Обновленцы» же старались подчеркнуть, что недовольство владыкой распространилось среди прихожан, что митрополит был перепуган и растерян.
— Скажите, — спросили на процессе протоиерея Боярского, — было ли у вас впечатление во всей истории переговоров и предшествующих событий, что митрополит затягивает решение этого дела?
— У меня было такое впечатление, что после первого письма в Помгол митрополит оказался под большим влиянием и давлением, во-первых, масс, а во-вторых, может быть, других лиц и замедлил в этом деле помощи, — хладнокровно ответил Боярский. — Медлил он, потому что боялся тех упреков, которые на него сыпались[33].
Подобных свидетельств в «Деле» чрезвычайно много. И, наверное, в каждом конкретном случае интересно было бы разобраться, чем — субъективностью восприятия или умыслом — порождалось непонимание поступков митрополита, но это задача другой работы. Для нас же важно, что ни о какой растерянности или перепутанности митрополита не могло быть и речи. И это видно не из чьих-то свидетельств, а из документов, которые в эти дни подписывает митрополит.
13 марта, когда на правлении Общества православных приходов обсуждалось второе послание митрополита в Смольный, которое обвинители на процессе назовут «ультиматумом», владыка подписал еще одно письмо.
28 февраля/марта 13/1922 г.
ДЛЯ РУКОВОДСТВА ДУХОВЕНСТВУ
Ввиду участившихся случаев посещения действующих и закрытых храмов разными лицами для проверки храмовых описей и даже изъятия священных предметов преподаются следующие руководящие указания, как поступать в таких случаях.
1. При этих посещениях обязательно должен присутствовать священник с пятью или в крайнем случае тремя представителями прихожан местного храма, как это требуется инструкцией по изъятию церковных ценностей. Где при закрытых храмах своего священника нет, лица, ведающие храмом, должны вызвать благочинного или ближайшего приходского священника.
2. Священник, входя в храм, должен предупредить, что храм, хотя бы и закрытый или взятый под охрану как имеющий музейное значение, для верующих, пока в нем остается святой престол, священный и всякое несоответствующее его святости поведение является оскорблением религиозного чувства верующих.
3. Облачившись в епитрахиль и поручи, так как придется ему касаться престола и священных сосудов, священник показывает посетителям священные драгоценные церковные предметы согласно описи. При этом он должен предупредить посетителей, что вход в святой алтарь мирянам воспрещается, тем более неправославным. Священные же предметы, находящиеся в святом алтаре, он покажет, вынося на клирос, обязательно держа в своих руках и не позволяя касаться к ним рукам неосвященным, так как и сам их касается только в священном облачении.
4. Если же посетители на предупреждение священника не обратят внимания, войдут в святой алтарь и там будут вести себя не благоговейно, то в таком храме и алтаре, прежде чем начать службу после такого посещения, должно быть совершено малое освящение, что и необходимо сделать в церкви бывшей калинкинской больницы.
5. Святыни храма закрытого, если окажутся, как-то: святые мощи, святой антиминс, святые запасные дары, святое миро — должны быть взяты священником с собой и переданы в ближайший приходской храм.
6. Священные сосуды и освященные предметы священник по церковным канонам и по распоряжению церковной власти не может отдать посетителям. Если же они будут настойчиво требовать, то должен заявить — берите сами. В самом акте изъятия должно быть отмечено, что перечисленные церковные, священные предметы взяты были самими посетителями.
7. Копия акта, составленного посетителями, и акт о посещении храма, составленный священником и подписанный представителями прихожан, должны быть немедленно представлены местному благочинному для доклада митрополиту.
8. Если же в храме окажутся предметы, не имеющие богослужебного, священного характера: подвески с икон в виде колец, цепей, ожерелий, канделябры и т. п., лом золотой и серебряный, то таковые предметы, но с согласия общины верующих, если существует при храмах, а где общины нет, то и непосредственно священником, могут быть переданы по акту.
Митрополит Вениамин[34].
Как свидетельствовал епископ Венедикт Кронштадтский, именуемый на процессе подсудимым Плотниковым, «16 марта утром я был с докладом у владыки-митрополита и он осведомился, буду ли я на собрании благочинных. Получив утвердительный ответ, он предложил инструкцию, как вести себя мирянам и священнослужителям при изъятии церковных ценностей. Эта инструкция была только что издана им, и он просил на собрании благочинных сообщить ее, если они еще не были с ней знакомы. Когда я пришел на собрание, там разбирался вопрос о повышении цен на свечи, а потом прочитана была эта инструкция, и по поводу ее имелись суждения. Инструкция удовлетворяла всех, потому что там ясно высказывались правила, которыми должны руководствоваться священнослужители и миряне при изъятии ценностей».
Трудно не согласиться с епископом Венедиктом. Составленные по указанию митрополита Вениамина Иваном Михайловичем Ков-шаровым правила в каком-то смысле являются памятником православно-правовой мысли двадцатого столетия. Искусно вписаны здесь в правовое поле абсолютного юридического бесправия Русской Православной Церкви самые строгие канонические правила. Невозможно было спасти церкви от разграбления… Нужно было хотя бы спасти жизнь священнослужителей и прихожан, а главное — их души. Выход найден с ювелирной точностью и определен в простых и ясных формулировках…[35]
Наверное, ни над кем не издевались на суде обвинители так злобно, как над Ковшаровым.
«Митрополитов курьер», «митрополит и его присяжный поверенный по бракоразводным делам Ковшаров» и т. д., и т. п.
— Я думаю, — кричал обвинитель Смирнов, — что вы, Ковшаров, старый присяжный поверенный, старый адвокат с высшим образованием, не искренне и не веря пошли в церковь, не для того, чтобы курьером служить, а для того, чтобы здесь организовать, если вам не удалось в Думу пройти от народных социалистов, для того, чтобы здесь нагадить, чтобы здесь совершить преступление против Рабоче-крестьянской власти!
Иван Михайлович на эти и подобные обвинения и оскорбления ответил очень достойно и просто:
— Я был до революции присяжным поверенным, практика у меня была разнообразная, были уголовные, гражданские, политические дела. Ни одного бракоразводного дела я не вел. Я состоял помощником юрисконсульта Александро-Невской Лавры, присяжного поверенного Соколова. Я всегда вне партий…
И вот что интересно. Об инструкции духовенству — главном деянии Ивана Михайловича, за которое и был он удостоен высшей меры наказания и награды, на процессе его не спрашивали. И вместе с тем именно по адресу Ковшарова звучала почти площадная брань, расточалось злобное остроумие, необычное даже для этого судилища. Загадка? Или просто потому и не спрашивали обвинители Ивана Михайловича об инструкции, что при всем желании не могли найти в ней противоречий с инструкцией ВЦИК и, не отыскав их, всю неизрасходованную энергию злобы выплеснули на Ковшарова в ее, так сказать, первозданном виде…
Весьма символичным представляется нам тот факт, что четверку расстрелянных по приговору трибунала мучеников составляли поровну священнослужители и юристы.
На основании изучения двадцати семи томов дела № 36314 я с полной уверенностью заявляю, что никакого элемента случайности тут нет. Трибунал и Кассационная комиссия безошибочно определили лиц, благодаря которым и удалось Православной Церкви Петрограда практически без потерь пройти сквозь дьявольскую, устроенную властями ловушку. Так что совсем не случайно, что места в этой четверке разделили поровну священнослужители и юристы.
Один из защитников на процессе, стремясь подчеркнуть всю незначительность петроградских беспорядков по сравнению с другими городами, сказал, что, по сведениям милиции, за все время изъятия церковных ценностей было выбито всего восемнадцать зубов… Неприятно, конечно, возмутительно, но что было в других городах?
Обвинитель, знавший, по-видимому, о телеграмме, в которой петроградские руководители требовали разрешения применить военные части для изъятия, злобно парировал:
— А если бы эти зубы выбили у вашего митрополита?
Впрочем, ничего другого, кроме безудержной злобы и грубости, и не могли они предложить в качестве аргументов…
Глава шестая
Насколько своевременным было издание митрополитом Вениамином инструкции «Для руководства духовенству», показали события самых ближайших дней…
Как и было договорено, Ю. П. Новицкий и Н. М. Егоров отнесли второе заявление митрополита в исполком.
«Мы ограничились только передачей письма Буденкову и никаких переговоров не вели, но я заявил, что я — не представитель приходов, а нахожусь здесь по личному распоряжению митрополита», — рассказывал потом Ю. П. Новицкий.
Буденков тоже не настаивал на обсуждении. Он передал послание Г. Е. Зиновьеву, и переговоры на этом прекратились. В тот же день Большой президиум губисполкома принял постановление: «Обязать комиссию по изъятию церковных ценностей не позже чем в недельный срок приступить к изъятию». Ответственным был назначен доверенный человек Г. Е. Зиновьева, Иван Петрович Бакаев.
Человека этого петроградцы хорошо знали…
Возглавляя Петроградскую чрезвычайку, И. П. Бакаев зарекомендовал себя исключительной жестокостью. При нем резко возросла «эффективность» террора. Только за 1920 год Бакаев провел через подвалы на Гороховой улице более десяти тысяч петроградцев. Известен такой случай… Семнадцать генералов и офицеров бывшей царской армии были осуждены к расстрелу, когда состоялось Постановление ВЦИК и СНК об отмене смертной казни. Осужденные знали о своем спасении, но радовались они напрасно. Бакаев проявил завидную оперативность, и все семнадцать ни в чем не повинных человек были расстреляны за день до публикации постановления ВЦИК в газетах…
Совершенно не случайно остановил Г. Е. Зиновьев свой выбор на этом палаче. Бакаев не терял времени. Тут же полетела в Москву телеграмма:
«Реввоенсовет, тов. Троцкому. На Вашу 159 сообщаю: вопрос изъятия церковных ценностей Петрограда последние дни осложнился. Достигнутое было соглашение духовенством предательски сорвано последний момент заявлением митрополита Вениамина, что он призовет верующих воспрепятствовать изъятию. Время, потраченное на переговоры, духовенство использовало для организации противодействия. Попытки Комиссии приступить учету ценностей Казанском и Троицком соборах встретили организованное сопротивление прихожан, составляющих церкви протоколы несдаче ценностей и недопущении Комиссии работе. Тов. Зиновьев ходом дела знаком и дважды созывал собрание Президиума Гу-бисполкома этому вопросу. Последнем заседании Президиума моим участием постановлено изъятие произвести не останавливаясь и перед репрессиями. Всем данным только посредством вооруженной силы удастся произвести изъятие. Прошу немедленно дать директиву — допустимо ли исполнение декрета указанным путем и как поступать дальнейшем…»[36]
Ю. П. Новицкий указывал, что второе заявление митрополита было передано им в комиссию Буденкова 15 марта. Пятнадцатым числом помечена и процитированная нами телеграмма. Оперативность изумительная! В спешке Зиновьев и Бакаев даже не заметили, что в заявлении митрополита нет угрозы «призвать верующих воспрепятствовать изъятию». Владыка Вениамин говорил лишь, что будет вынужден обратиться к верующему народу с указанием, что изъятие осуждается им как кощунственно-святотатственный акт, за участие в котором миряне подлежат отлучению от Церкви. Митрополит грозился призвать народ к неучастию, а отнюдь не к сопротивлению изъятию.
Столь вольную трактовку заявления митрополита можно объяснить спешкой, но вот с упомянутыми в телеграмме инцидентами «организованного сопротивления» у Казанского и Троицкого соборов сложнее. Тут нужно говорить уже о некоем мистическом прозрении авторов телеграммы. Дело в том, что указанные события произойдут только на следующий день — 16 марта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по делу № 410.
Помощник Уполномоченного 1 отдела ПГО ГПУ И. Коршунов,
16 марта с. г. в день проверки церковных ценностей у Казанского собора собралась толпа народа, во главе которой находился быв. личный дворянин Калибярский Лев Михайлович и Бессонов Яков Иванович, монтер. Говорили окружающей их массе народа, что якобы большевики, а в особенности жиды, хотят отобрать православные святыни, не довольствуясь тем, что отобрали дворцы и т. п. Также Калибярским было сказано, что якобы большевики, видя, что в России им конец, и не имея в своем распоряжении сейчас денег, так как награбленное пропито и прокучено, хотят с награбленными с церкви ценностями удрать за границу. Кроме того, он добавил, что в бытность свою в Аничковом дворце он видел там золотой сервиз и из достоверных источников ему известно, что сервиз сейчас находится у Луначарского, который его присвоил. Бессонов говорил, что драгоценности все равно не попадут голодающим, а попадут большевикам, жидам…[37]
Нас должно было бы удивить, что бывший дворянин, знаток домашнего хозяйства наркома Луначарского, Лев Михайлович Калибярский, рассказывавший о замысле большевиков удрать с церковными ценностями за границу, не был выведен на процесс. Мы знаем, что в группу из девяти десятков подсудимых следователи включали даже случайных прохожих, оказавшихся вблизи храмов во время изъятия из них церковных ценностей… Но, разумеется, только на основании этого мы не решились бы утверждать, что бывший дворянин Калибярский является провокатором, если бы, повторяю, не попал инцидент у Казанского собора в отправленную накануне инцидента телеграмму.
Между тем шестнадцатого числа действительно происходили столкновения. Самое крупное, где помимо милиции были задействованы и курсанты, развернулось на Сенной площади.
«Совершенно секретно. Информационная сводка о ходе операции по изъятию церковных ценностей. 16 марта у церкви Спаса на Сенной избит помощник начальника 5-го отделения. Операция по изъятию продолжается».
«Согласно данному поручению о выяснении волнения на Сенной площади у собора Спаса нами задержаны два гражданина: № 1. Филатов М. В. № 2. Айдалов Сергей Георгиевич. Первый был задержан за избиение одного гражданина по национальности еврей.
Сотрудники: Шестьдесят первый. Шестьдесят девятый. Семьдесят шестой»[38].
«Изъятие из толпы особо живых защитников церкви происходило чересчур шумно и неумело. На моих глазах был случай, когда одну из женщин схватили за шиворот, повалили на ехавшую мимо подводу, прикрепили к подводе севшим на нее милиционером, и в таком положении повезли в комендатуру… Член РКП(б) № 498 605 Д. Шахнович»[39].
Страшно читать эти донесения… Сотрудники № 61, 69, 76 рапортуют об аресте семнадцатилетнего Миши Филатова, якобы избивавшего «одного гражданина по национальности еврей»… Член РКП номер 498 605 сетует, что милиционер «чересчур… неумело» прикрепил к подводе женщину, усевшись на нее сверху… Начальник агентов угрозыска, не успевший крикнуть милиционеру, что на него может свалиться глыба льда с крыши, успевает, однако, рассмотреть, что нагайками милиционеры избивают исключительно «хулиганов-подстрекателей»…
И нет нужды доказывать здесь, что и нагайки, и жестоко-унизительное прикрепление женщины к саням, и ничем не мотивированные аресты не могли произойти, если бы не были санкционированы. Совершенно очевидно, что все эти действия рядом с самым людным в городе рынком — специально задуманная провокация. И обилие тайных и явных агентов, и конная милиция, и рота курсантов с заряженными винтовками, находящаяся рядом, свидетельствуют, что товарищем Бакаевым готовилось достойное колыбели революции действо.
И, отрываясь от этих страшных документов, невольно задумываешься, что же происходило в те мартовские дни. Известно, что никакой директивы из центра о массовых расстрелах еще не поступало. Но именно в середине марта по всей России произошло более тысячи столкновений безоружной толпы с войсками. Произошло, так сказать, по инициативе местных властей. И это самое страшное…
Страшная ненависть местных большевиков к русскому православию прорвалась сразу, по всей России, без единой команды. Пройдет еще несколько дней, и сатанинское возбуждение сообщится и московским верхам, заскучавшим без русской крови. В эти дни (19 марта) напишет В. И. Ленин свое знаменитое письмо:
Товарищу Молотову для членов Политбюро. Строго секретно.
По поводу происшествия в Шуе, которое уже поставлено на обсуждение Политбюро, мне кажется, необходимо принять сейчас же твердое решение в связи с общим тоном борьбы в данном направлении. Так как я сомневаюсь, чтобы мне удалось лично присутствовать на заседании Политбюро 20 марта, то поэтому я изложу свои соображения письменно.
Происшествие в Шуе должно быть поставлено в связь с тем сообщением… о подготавливающемся черносотенцами в Питере сопротивлении Декрету об изъятии церковных ценностей…
Я думаю, что здесь наш противник делает огромную ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу тогда, когда она для него особенно безнадежна и особенно не выгодна. Наоборот, для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы можем (и потому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо, во всяком случае, будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету.
Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские сокровища некоторых монастырей и лавр)[40]. Без этого никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимы. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть и несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь. Все соображения указывают на то, что позже сделать это нам не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечил нам сочувствие масс, либо по крайней мере обеспечил бы нам нейтрализование этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне.
Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществить их самым энергичным образом и в самый короткий срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут. Это соображение в особенности еще подкрепляется тем, что по международному положению России для нас, по всей вероятности, после Генуи окажется или может оказаться, что жестокие меры против реакционного духовенства будут политически нерациональны, может быть, даже чересчур опасны. Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена полностью. Кроме того, главной части наших заграничных противников среди русских эмигрантов, т. е. эсерам и милюковцам, борьба против нас будет затруднена, если мы именно в данный момент, именно в связи с голодом проведем с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовенства.
Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Самую кампанию проведения этого плана я представляю следующим образом:
Официально выступать с какими бы то ни было мероприятиями должен только тов. Калинин, — никогда и ни в каком случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой тов. Троцкий.
Посланная уже от имени Политбюро телеграмма о временной приостановке изъятий не должна быть отменяема. Она нам выгодна, ибо посеет у противника представление, будто мы колеблемся, будто ему удалось запугать нас (об этой секретной телеграмме, именно поэтому, что она секретна, противник, конечно, скоро узнает)…
На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти всех делегатов по этому вопросу совместно с главными работниками ГПУ, НКЮ и Ревтрибунала. На этом совещании провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше.
…Для наблюдения за быстрейшим и успешнейшим проведением этих мер назначить тут же на съезде, т. е. на секретном его совещании, специальную комиссию при обязательном участии т. Троцкого и т. Калинина, без всякой публикации об этой комиссии с тем, чтобы подчинение ей всей операции было обеспечено и проводилось не от имени комиссии, а в общесоветском и общепартийном порядке. Назначить особо ответственных наилучших работников для проведения этой меры в наиболее богатых лаврах, монастырях и церквах.
Это письмо тоже памятник. Только уже большевистской мысли. Кстати сказать, оно помогает понять, почему Ленин прочно стоял во главе кремлевской нечисти, не прибегая к внутрипартийным интригам. Все, что думали Троцкие, бухарины, Зиновьевы, думал и чувствовал он, но кроме этого в Ленине была еще сила, позволяющая придать их, зачастую иррациональной, ненависти к России и православию политическую осмысленность.
Причем, как всегда у Ленина, решение рождается в абсолютно конкретной ситуации, в абсолютно реальном пространстве и времени. Ленин не борется с ситуацией, не поправляет, а оседлывает ее. Он как бы аккумулирует в себе стихийно-местечковые выплески русофобии, преобразует их в мощную энергию сатанизма и возвращает назад, на места…
К сожалению, не удалось найти никаких документов, которые позволяли бы расшифровать, как появляется в письме Ленина название Петрограда. Возможно, информация о «подготавливающемся черносотенцами в Питере сопротивлении Декрету об изъятии церковных ценностей» почерпнута из телеграммы, отправленной 15 марта в Реввоенсовет Троцкому. Но это не столь уж и важно. В дьявольском озарении Ленин как бы мгновенно сумел увидеть и рассмотреть весь паучий клубок Зиновьевых и Комаровых, бакаевых и введенских и, как гоголевский Вий, указал пальцем. Город был назван.
20 марта в Москве заседало Политбюро. Был принят весь пакет директив, подготовленных Львом Давидовичем Троцким: «В Москве к изъятию приступить не позже 31 марта. Полагаю, что в Петрограде можно было бы установить тот же приблизительно срок по согласованию с т. Зиновьевым, ни в коем случае не форсируя слишком кампанию и не прибегая к применению силы, пока политически и организационно не вся операция обеспечена целиком».
20 марта в Петрограде под председательством Григория Евсеевича Зиновьева снова заседал Петросовет. Была принята резолюция: «Приверженцы митрополита Вениамина пытались мобилизовать против голодающих часть купцов и спекулянтов Сенного рынка». Не слабо сказано! Но не слабее выступил на этом заседании уже знакомый нам тов. Комаров.
— Декрет ВЦИК будет осуществлен и в Петрограде! — сказал Николай Павлович. — Будут приняты все меры, чтобы духовенство само технически выполнило это изъятие!
Такого не может быть. Это же чудо управленческой оперативности. Еще вчера только набрасывает Ленин свой дьявольский план наступления на Церковь, а уже сегодня Троцкий утверждает на Политбюро пакет директив по этому плану. А уже сегодня Зиновьев в Петрограде конкретизирует эти директивы для Петрограда. Никакого рационального объяснения этому чуду не найти, и приходится думать о некоей мистической связи, существовавшей в сообществе Ленин — Троцкий — Зиновьев. Это и не сообщество отдельных лиц, а как бы единый организм. Все части этой чудовищной лентрозины, даже и разобщенные в пространстве, жили и действовали в едином, точно скоординированном ритме.
…И мгновенно меняется тон агентурных донесений. Никакой торопливости, никакого нахрапа, никакой импровизации. Трудолюбиво и тщательно обшаривают разбредшиеся по городу агенты все, что можно обшарить…
«Выписка из рабочей сводки № 66. Троицкая улица, дом 10, квартира 15, проживает Борисов Александр Матвеевич, который по вопросу об изъятии ценностей из церкви выразился, что это воровство, и дал клятву, что он выйдет на улицу, чтобы препятствовать, как он выразился, «грабежу жидов». Секретарь СОЧ ГПО»[41].
«Агентурный лист. Подпись № 3. 17 марта я был командирован для наблюдения за совершением богослужения в церковь. 17 марта церковь была закрыта. 18-го была вечерняя служба. 10-го утром была обедня, после которой священник прочел воззвания патриарха Тихона и митрополита Вениамина. Настроение толпы проследить не удалось, так как я неожиданно был встречен в церкви одним из рабочих З.В.В.З., на котором работаю. Пришлось из церкви уйти, не дождавшись выхода всех присутствовавших, так как рабочий довольно громко спросил меня, почему я в православном храме, чем обратил на меня внимание присутствующих. 19-го вечером священник сказал речь на тему: люби Бога и не забывай Его. Призывов к выступлению против власти не было, но чувствовалось, как со стороны духовных, так и верующих глубокое озлобление»[42].
Подобными агентурными донесениями пестрят тома «Дела». В отличие от донесений с Сенной площади, которые делались ранее, здесь уже чувствуется настоящая агентурная работа. Медленно, но очень добротно плетется паутина, в которую должен быть уловлен православный Петроград…
К счастью, Ленину не суждено было возглавить боевые действия против Русской Православной Церкви. Он совершил немало чудовищных преступлений против России и Православия, но сейчас, как видно, чаша терпения Божия оказалась переполненной.
В марте 1922 года у Ленина начинаются частые припадки, «заключающиеся в потере сознания с онемением правой стороны тела». Иногда припадок захватывал вождя прямо на ходу, и тогда он падал в кремлевских коридорах, корчась в страшных судорогах.
Между прочим, как свидетельствует «Биографическая хроника», 19 марта Ленин помимо процитированного нами письма поручил Скворцову-Степанову, поскольку тот написал «хорошую книгу об электрификации РСФСР», взяться за работу над книгой «по истории религии и против всякой религии». Похоже, что и тогда, 19 марта, письмо и это поручение были разделены очередным приступом. Иначе как совместить дьявольскую мощь изложенного в письме плана и явное слабоумие, проявляющееся в пожелании, адресованном Скворцову-Степанову.
А припадки учащались. В апреле месяце Ленин вынужден обратиться к врачам. «Биографическая хроника» утверждает, что 23 апреля Ленину извлекли пулю, оставшуюся после ранения 1918 года.
В промежутке между приступами в эти дни Ленин проявляет необыкновенную заботу о врачах, которые лечат его. Он хлопочет о медсестрах, добивается, чтобы Розановой разрешили провести отпуск в Риге, и т. д., и т. д. Но и окруженный ленинской заботой медперсонал ничем не может помочь ему. Преждевременно радовался Ленин, когда писал 13 мая 1922 года Фотиевой: «Лидия Александровна! Можете поздравить меня с выздоровлением. Доказательство: почерк, который начинает становиться человеческим»[43]. 25 мая случился острый приступ на почве склероза сосудов мозга, приведший теперь к расстройству речи…
В опубликованном 3 июня бюллетене было сказано, что Владимир Ильич захворал «острым гастроэнтеритом».
Глава седьмая
В полном соответствии с главным правилом войны большевики вели подготовку к войне с Русской Православной Церковью без всяких правил. Не зная усталости, круглыми сутками работали многочисленные осведомители и провокаторы. Изготовившись, застыли надежные войска. Милиция, ГПУ, трибуналы забыли про выходные. Газеты наполнились истерическим криком:
«Заскорузлые души попов не слышат стонов детей Поволжья! Их души заткнуты ватой, глаза их привыкли созерцать блеск бриллиантов, их руки любят тяжесть золотых монет. И они думают все это прикрыть своими мантиями. Ошибаются! Пусть знают эти господа Вениамины, что рабочие красного Питера этого не допустят!»
Почти в каждом номере газеты появляется карикатура на митрополита. Митрополит Вениамин сидит на сундуке с золотом и смотрит, как умирают от голода дети. А вот митрополит Вениамин и сам разрывает детей на куски…
«Поп? — с наглой развязанностью спрашивает со страниц «Петроградской правды» Георгий Устинов. — Чего же ты хочешь, поп?»
Во вторник, 21 марта, «Петроградская правда» опубликовала Постановление Петросовета об изъятии церковных ценностей:
«Те самые служители церкви, которые во время грабительской империалистической войны предлагали отдать Николаю Кровавому церковные ценности на войну, теперь не хотят отдать их на кусок хлеба для голодающих миллионов крестьян…»
Рассказывая о том, как умело разворачивал Григорий Евсеевич Зиновьев против Православной Церкви весь вверенный ему репрессивный и пропагандистский аппарат, мы упустили из поля зрения другого зиновьевского сподвижника — протоиерея Александра Ивановича Введенского. Нет-нет! О нем не забывали в эти бурные дни. Рыдая о голодающих в Поволжье, испуская вопли о черном коварстве митрополита, газеты не теряли Александра Ивановича из виду, при любой возможности старались «поддуть» его репутацию подлинного христианина.
14 марта, накануне телеграммы с просьбой санкционировать расстрел верующих, «Петроградская правда» опубликовала статью «Приход протоиерея Введенского голодающим», из которой читатели узнали, что и среди церковников есть люди, которые готовы откликнуться на чужое горе. Таков, например, протоиерей Введенский, что собирает помощь голодающим…
Ну а теперь, накануне подготовленной ГПУ «операции по служителям культа», Введенскому предстояло явиться во всей красе — ему отводилась в чекистских планах весьма заметная роль. Еще 21 марта ГПУ подготовило для Политбюро такую записку:
«ГПУ располагает сведениями, что некоторые местные иереи стоят в оппозиции реакционной группе Синода и что они в силу канонических правил и других причин не могут резко выступать против своих верхов, поэтому они полагают, что с арестом членов Синода им представляется возможность устроить церковный собор, на котором они могут избрать на патриарший престол и в Синод лиц, настроенных более лояльно к Советской власти».
В этой записке, положенной, как известно, в основу разработанного Л. Д. Троцким плана «октябрьского» переворота в Церкви, о революции говорится пока в предположительном тоне. Органы ГПУ лишь сообщают об инициативе сотрудничающих с ГПУ священников. Никакой оценки их предложений в записке нет. Оно и понятно. Товарищ Мессинг, возглавлявший Петроградское ГПУ, хотя и знал, что Введенский, так сказать, конкордирует с Зиновьевым, но пока еще не вполне доверял ему. Пока Александр Иванович перед ГПУ себя никак не проявил. Приятно, конечно, что Александр Иванович более похож на еврея, чем его дед, чистокровный еврей, но одной внешности Мессингу было мало.
Испытание, которое Мессинг предложил Введенскому, было нелегким. Введенский со своими единомышленниками должен был, заявив об этом публично, выступить в качестве «пятой колонны».
Нам думается, что Александр Иванович без особого энтузиазма встретил это предложение. Ведь одно дело впадать в экстаз на лекциях перед либерально относящейся к православию интеллигенцией, одно дело вдохновенно отдаваться творчеству во время церковной службы, и совсем другое — написать публичный донос. Тут, пожалуй, и либерально относящаяся к православию интеллигенция могла не понять Александра Ивановича.
Известна история, которую любил рассказывать сам Введенский. Однажды университетский профессор сказал будущему протоиерею, что хотя он и любит церковь, но стесняется ходить на церковные службы.
— Это, — смущаясь, сказал профессор, — простите меня, вроде дурного общества… Мне будет совестно показаться коллегам, если они узнают, что я хожу на литургию.
— Может быть, вам ходить на раннюю обедню? — предложил Введенский. — Тогда коллеги не узнают.
— Да-да… — задумчиво проговорил профессор. — Разве что ранняя обедня…
Александр Иванович вспоминал этот разговор, чтобы показать, как тонко понимает он настроения интеллигенции. И с ним трудно не согласиться. Тонко и глубоко понимал он либеральную публику. И, конечно же, получив приказ Мессинга, Введенский чрезвычайно переживал. Он-то ведь знал, что либеральной интеллигенции не только в церковь ходить неловко. Сотрудничать с ГПУ интеллигенция тоже стеснялась…
О, как переживал Александр Иванович! Я готов допустить, что, услышав приказ, он даже возмутился. С негодованием отверг его, а когда ему пригрозили санкциями, отправился искать защиты к сотоварищу по «конкордату» Григорию Евсеевичу Зиновьеву. Кипя негодованием, нажаловался ему. Но Григорий Евсеевич был не либеральным интеллигентом, а большевиком.
— Ты что это, Саша? — удивленно спросил он. — Западло тебе с органами работать?
— Почему же западло? — начал оправдываться оробевший Александр Иванович. — Я со всем моим уважением… Но понимаете, Григорий Евсеевич, надо ли так сразу, так открыто… Может быть…
— Надо, Саша, надо… — с большевистской суровостью перебил его Зиновьев. — Надо!
Повторяю, что весь этот разговор чисто гипотетический. Вполне возможно, что и не ходил Александр Иванович к Григорию Евсеевичу, вполне возможно, что и не испытывал он никаких моральных колебаний, получив приказ. Просто вытянулся в струнку перед Станиславом Адамовичем Мессингом и ответил:
— Есть!
И в общем-то не так уж и важно, испытывал ли обновленец Введенский угрызения совести. Важно, что как раз накануне операции ГПУ «по служителям культа» в газетах появилось написанное им заявление — так называемое «Письмо двенадцати».
События последних недель, — говорилось там, — с несомненностью установили наличие двух взглядов среди церковного общества на помощь голодающим. С одной стороны, есть верующие, принципиально (по тем или иным богословским или небогословским соображениям) не хотящие при оказании этой помощи пожертвовать некоторые ценности. С другой стороны, есть множество верующих, готовых ради спасения умирающих пойти на всевозможные жертвы, вплоть до превращения в хлеб для голодного Христа и церковных ценностей. (Голодающий это Христос, 72 Ев. Матф., гл. 25, 31–46.) О необходимости всемерно прийти на помощь голодным и церковными ценностями со всей апостольской ревностью высказались авторитетные святители церкви: архиепископ Евдоким, архиепископ Серафим, архиепископ Митрофан и ряд других иерархов, а также многие священники. Молва недобрая и явно провокационная объявляет лиц священного звания так мыслящих предателями, подкупленными врагами Церкви. Судьей их пусть будет Бог и собственная совесть. Однако то явно не христианское настроение, что владеет многими и многими церковными людьми, настроение злобы, бессердечия, клеветы, смешения церкви с политикой и т. п. понуждают нас заявить следующее. Ни для кого из лиц знающих не секрет, что в Церкви всегда бывала часть принадлежащих к ней не сердцем, духом, а только телом. Вера во Христа не пронизала всего их существа, не понуждала их действовать и жить по этой вере. Думается, что среди именно этой части церковников господствует злоба, которая явно свидетельствует об отсутствии в них Христа. Болит от этого сердце, слезами исходит душа… Братья, сестры о Господе! Ведь умирают люди. Умирают старые, умирают дети. Миллионы обречены на гибель. Неужели еще не дрогнуло сердце ваше? Если с нами Христос, то где же любовь Его ко всем — близким и далеким, друзьям и врагам?..
Протоиереи: Иоанн Альбинский, Александр Боярский, Александр Введенский, Владимир Воскресенский, Евгений Запольский, Михаил Попов, Павел Раевский.
Священники: Евгений Белков, Михаил Гремячевский, Владимир Красницкий, Николай Сыренский.
Диакон Тимофей Скобелев[44].
Появление этой статьи, почти целиком составленной из цитат, взятых из проповедей Введенского, на петроградцев произвело ошеломляющее впечатление. Ведь одно дело, когда, задыхаясь от злобы — Дайте церковные ценности! — кричат газетчики, одно дело, когда в статье «Последнее предупреждение» рассыпает злобные угрозы митрополиту Вениамину какой-нибудь Григорий Устинов, и совсем другое, когда эти же обвинения повторяют священники.
Лжесвидетельство — грех. Но какой же грех лжесвидетельствовать священнику, лжесвидетельствовать с именем Христа на устах?!
Станислав Адамович Мессинг мог быть доволен новым сотрудником. Введенский доказал, что он чекист не только по наружности, но и по своей сути. Такому можно было доверить и самостоятельную операцию… Но об этом дальше, а пока расскажем о священниках и мирянах, арестованных после публикации «Письма двенадцати».
Судьба настоятеля Благовещенского собора Николая Ананьевича Комарецкого прямого отношения к основному сюжету нашего повествования не имеет, но мы останавливаемся на ней, чтобы показать типичного петроградского священника того времени, совершавшего свое тихое церковное служение, пока не попал он в сплетенную ГПУ паутину.
Причиной пристального внимания к Комарецкому, как свидетельствует информационная сводка № 40, стало «открытие», что в Благовещенском соборе «как бы организован настоятелем кружок молящихся, в который входит человек пятнадцать называемых братья. Сословия больше интеллигентного». Дальше — больше. Обнаружилось, что отец Николай «велит молящимся не читать газет, так как там ложь», и, наконец, самое страшное — он говорит, что надеется победить власть своими молитвами, хотя она и держит духовенство в оковах.
Странно было бы не арестовать такого настоятеля. Его и арестовали. В 1919 году, обнаружив бутылку церковного вина, привлекли за употребление спиртных напитков. В 1920 году арестовали за незаконную перевозку денег. Теперь — за агитацию против изъятия церковных ценностей. ГПУ удалось доподлинно установить, что Комарецкий ввиду участившихся грабежей после каждой службы прятал наиболее ценные вещи.
— Под религией, — терпеливо объяснял отец Николай на допросах, — я разумею проявление к людям христианской любви, милосердия, сострадания. Как христианин и священник, я признаю Промысел Божий, признаю Высший Его Разум. Власть, перешедшая в руки рабочих и крестьян, — это дело рук Божиих. Мое же назначение служить Единой Вселенской Церкви, наступлению Царства Божия на земле, когда все осознают, что все люди — братья, все — дети Отца Небесного. Не впутываясь в человеческие интриги, я иду туда, где страдание…
Мы знаем теперь, что Станислав Адамович Мессинг отсрочил «операцию по служителям культа» ровно на месяц. Основные аресты были проведены в ночь с 29 на 30 апреля. Отцу Николаю и тут не повезло. Весь этот месяц он провел в камере, подвергаемый самой изощренной обработке.
«Начальнику ПГО ГПУ МЕССИНГУ. 28 марта во время производства операции по служителям культов был арестован протоиерей Благовещенской церкви Комарецкий. За Комарецкого хлопочут протоиереи Боярский и Введенский, которые просят его на поруки, уверяя, что он будет следовать по стопам Введенского и напишет заявление, в котором открыто укажет, что по освобождении будет работать рука об руку с Советской властью»[45].
Документ чрезвычайно любопытный для воссоздания биографии главы обновленцев. Из него видно, что уже в конце марта — начале апреля Александр Иванович Введенский сумел окончательно освободиться от либеральных предубеждений против ГПУ и активно включился в чекистскую работу. И работал он теперь не только в храме, не только в обществе, но и в тюремных камерах. Методика работы была простая и проверенная. Заключенному священнику предлагалась альтернатива — или он сотрудничает с обновленческой группой ГПУ, или так и останется в тюрьме.
Ценен этот документ и тем, что мы видим, как по-отечески мягко, в самых лучших чекистских традициях поправлял Станислав Адамович своих молодых сотрудников. Что значит освободить на поруки? Нет… «Пусть Комарецкий заявит о своем согласии в печати!» — гласит резолюция Мессинга на донесении 2-го отделения ПГО.
И тут мы своими глазами видим, что Александру Ивановичу Введенскому на первых порах приходилось, конечно, не просто. Ведь одно дело витийствовать о реформах Церкви… И совсем другое — вербовать сотрудников ГПУ. Но, как, должно быть, сказал Григорий Евсеевич Зиновьев: «Надо, Саша, надо…» — и Введенский смирился. Сумел понять, что в ГПУ от него требуется конкретная работа, выражающаяся в определенном числе завербованных стукачей, сданных и изобличенных контрреволюционеров-священников.
«Т. Коршунову. При первой поездке в ДПЗ договориться с Комарецким по существу резолюции тов. Мессинга».
Тут, однако, вышла загвоздка. Оказалось, что хотя при встрече с Введенским отец Николай и кивал его словам о Христе голодающем, но с работой в ГПУ этих слов никак не связывал.
В материалах «Дела» нет документов, подтверждающих, что т. Коршунову удалось договориться с Комарецким «по существу резолюции тов. Мессинга». Зато среди многочисленных протоколов допросов, ордеров на обыски и аресты, агентурных разработок сохранилась бумажка с одной-единственной просьбой отца Николая:
«Ввиду наступающих дней Страстной недели прошу предоставить мне в камере право свободной молитвы (я обязуюсь тишины не нарушать) и разрешить мне выписать из дому: крест, Евангелие и, если можно, одну толстую восковую свечу».
В просьбе Николаю Ананьевичу Комарецкому было, конечно, отказано. Не затеплилась и в Пасхальную ночь в камере ДПЗ свеча православного священника отца Николая…
«А по благословению нашего отца, что нам приказали жити за один, так и я вам приказываю своей братий — жити за один… — писал перед смертью князь Симеон Иванович Гордый. — А лихих бы людей вы не слушали, кто станет вас сваживать. Слушали бы вы отца нашего, владыку Алексея, также и старых бояр, кто хотел добра отцу нашему и нам. А пишу вам это слово для того, чтобы не перестала память родителей наших и наша и свеча бы не угасла…»
Как никогда еще, может быть, так нужно и верно не звучали слова великого князя, как в Петрограде, в Страстную неделю 1922 года…
Глава восьмая
В 1918 году, самом коротком в истории России, митрополит Вениамин сделал распоряжение, чтобы во всех церквах его епархии в канун Великого поста было совершено особое моление с всенародным прощением друг друга, по примеру первых христиан. Они, гонимые язычниками, накануне Великого поста прощались друг с другом, не надеясь, чтобы им пришлось встретиться на Пасху в земной жизни.
Тогда, накануне гражданской войны, встретиться довелось, и Петроград стал свидетелем небывалого церковного торжества — ночного крестного хода. Ровно в полночь из Покровской церкви вышел крестный ход и двинулся по Коломне. Тысячи людей с зажженными свечами следовали по пустынным, спящим улицам. «По мере прохождения крестного хода, — писали газетные репортеры, — в окнах зажигались огни, а в ночном воздухе звучало в ответ на восклицание «Христос воскресе!» многочисленное «Воистину воскресе!». Только под утро верующие возвратились в церковь».
С тех пор прошло четыре года… И каждый год перед началом поста неведомо было, доведется ли встретиться на Светлое Воскресение, но еще никогда не было так тревожно, как в этом, 1922 году.
В письме-завещании, составленном незадолго до расстрела, митрополит Вениамин скажет: «Я радостен и покоен, как всегда. Христос — наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо. За судьбу Церкви Божией я не боюсь. Веры надо больше, больше ее иметь надо нам, пастырям. Забыть свои самонадеянность, ум, ученость и силы и дать место благодати Божией. Странны рассуждения некоторых, может быть, и выдающихся пастырей, разумею Платонова, — надо хранить живые силы, то есть ради них поступаться всем. Тогда Христос на что? Не Платоновы, Чепурины, Вениамины и тому подобные спасают Церковь, а Христос. Та точка, на которую они пытаются встать, — погибель для Церкви. Надо себя не жалеть для Церкви, а не Церковью жертвовать ради себя. Теперь время суда…»
Мы знаем сейчас, что настоятель Андреевского собора Н. Ф. Платонов отнюдь не сразу переметнулся на сторону обновленцев. Еще 30 ноября 1922 года, на диспуте в Филармонии, в том самом зале, где судили митрополита, Платонов яростно обличал Введенского, обвиняя его в карьеризме и интриганстве. «Говорил, — пишет очевидец, — ярко и смело. Ему долго аплодировали». Однако вскоре после этого диспута Платонов оказался в застенках на Гороховой и вышел оттуда через полтора месяца «обновленный» в буквальном смысле этого слова.
«Превратившись в 1923 году из Павла в Савла, — сказано в книге «Очерки по истории русской церковной смуты», — василеостровский Савонарола примыкает к «Живой церкви» и быстро усваивает ее методы… Николай Платонов на протяжении долгих лет был одним из самых деятельных и беспощадных агентов ГПУ».
И, разумеется, ожидая расстрела в августе 1922 года, митрополит Вениамин не мог знать, кем станет спустя полгода Платонов. Он лишь прозревал его возможную судьбу и — вот она истинная пастырская забота! — ставя его в один ряд с собою, предостерегал…
Все было просто у митрополита Вениамина.
— Пришли печальные времена… — говорил он в Прощеное Воскресенье. — Велик гнев Божий. Нужно молиться…
— Пришло время суда… — говорил он, спустя несколько месяцев, незадолго до расстрела. — Надо не себя жалеть для Церкви, а жертвовать ради Церкви собою. Надо забыть свою самонадеянность, ум, ученость и дать место благодати Божией.
Эти слова сказаны одним человеком, и сказаны тоже об одном — самом главном для всех людей… Но в предсмертных словах больше конкретики. Священномученик Вениамин ясно видит главную опасность, подстерегавшую церковных пастырей, указывает, что самонадеянность, упование только на свои силы — погибельны.
И нет никакого сомнения, что, записывая эти слова, священномученик Вениамин хотя и обращал их к еще могущим погубить себя платоновым, но видел в это время уже погубившего себя протоиерея Введенского.
Наверное, никого так больно не ранило «Письмо двенадцати», как митрополита Вениамина… Введенский был близким ему человеком. В 1919 году, когда закрыли церковь Николаевского кавалерийского училища, Введенский остался без прихода. Митрополит Вениамин назначил его тогда настоятелем Захариевско-Ели-заветинской церкви. Введенский часто сопровождал владыку в поездках по епархии. В 1921 году Введенского возвели в сан протоиерея.
Было бы, однако, ошибкой полагать, что митрополит Вениамин, очарованный ораторскими талантами молодого протоиерея, просмотрел опасность, которую он несет в себе. Может быть, потому и возил с собою митрополит Введенского, потому и привлекал к совместным богослужениям, чтобы присматривать за ним… Митрополит Вениамин надеялся спасти заблудшего иерея, надеялся сообщить ему простую и бесхитростную веру, которой был полон сам…
Нужно сказать, что практически все воспоминания об Александре Ивановиче Введенском содержат какие-нибудь жутковатые подробности его биографии. К таковым можно отнести и историю посвящения Александра Ивановича в иереи. Введенский сам признавался потом, что стремился получить сан, чтобы в дальнейшем взорвать Церковь изнутри. О планах своих Введенский, разумеется, не сообщал, но их угадывали в нем те, к кому он обращался…
Не сами планы, разумеется, а ту черноту, что нес в себе выпускник Петербургского университета.
— Что вам, собственно, от нас нужно, молодой человек? — спросил у Введенского епископ Анастасий, ректор Петербургской академии.
— Знаний!
— Ну, полно вздор нести! Вы же кончили университет.
— Я хочу стать священником… — признался Введенский. — Но меня не берут, вот я и решил приобрести диплом Духовной академии.
Однако, как отмечают биографы Введенского, и академический значок мало бы помог ему, если бы не встреча с протопресвитером военно-морского духовенства Г. Шевельским. По его просьбе Введенский был рукоположен епископом Гродненским Михаилом в пресвитерский сан и назначен священником в полк, стоящий под Гродно.
Говорят, что уже на следующий день епископ Михаил сам раскаялся в своей сговорчивости. Во время первой литургии, которая совершилась после рукоположения, новый пресвитер, воздев вверх руки, начал с подвыванием читать Херувимскую песнь. Присутствующих в храме поразило не столько то, что вслух читались слова тайной молитвы, сколько сама манера чтения и болезненная, декадентская экзальтация.
— Не сметь! — закричал епископ Михаил. — Немедленно прекратить. Нельзя так читать Херувимскую!
И, может быть, он и исправил бы свою ошибку, но — увы! — уже началась война и Александр Иванович, спасая свою драгоценную жизнь, поспешил перебраться из действующей армии в Петроград, где публика с большим пониманием относилась к его литургийному творчеству.
Завершая этот экскурс в биографию Введенского, отметим странное совпадение. Именно ко времени посвящения Александра Ивановича в иереи относится предсказание блаженной Паши Саровской, указавшей, что до прихода антихриста остается совсем немного лет и совершится это в 1922 году…
Никаким антихристом Александр Иванович, разумеется, не был, но черную силу в нем чувствовали многие. Чувствовал ее, по-видимому, и митрополит Вениамин и по свойственной ему доброте пытался спасти молодого священника. И — тут уже трудно судить — то ли действительно лечение шло успешно, то ли сам Александр Иванович так ловко сумел притвориться, но наступил момент, когда митрополиту Вениамину показалось, что дело сделано… И как всегда бывает у врача, спасшего особо трудного больного, появилась привязанность к нему. Митрополит крестил сына Александра Ивановича, еще более приближая Введенского.
Конечно же, можно считать покровительство, оказываемое митрополитом, ошибкой… Можно толковать и о излишней доверчивости владыки. Особенно легко делать это, познакомившись с воспоминаниями о Введенском… Но тут не надо забывать, что воспоминания писались, когда уже было известно, кем стал Александр Иванович. Митрополит Вениамин этого не знал. Более того, он делал все, чтобы Введенский не стал тем, кем все-таки стал. И не надо забывать о характере самого митрополита. Вера его была столь ясной, что митрополиту просто невозможно было представить, чтобы с именем Спасителя на устах человек мог служить дьяволу.
Мучительно трудными были для митрополита Вениамина последние недели поста. Мучительно трудно и нам перечитывать рассказ священномученика Вениамина об этих днях…
«Я вызвал протоиереев Боярского и Введенского и с ними разговаривал. Здесь присутствовал и епископ Венедикт. Я хотел, чтобы при разговоре с Боярским и Введенским присутствовал, как свидетель, еще один священник, который пришел ко мне и находился в приемной, но Введенский отказался говорить в присутствии священника, указав, что откровенно может говорить только в присутствии епископа. Я указал, что нехорошо возводить на духовенство обвинения в контрреволюции, тем более протоиерею Введенскому, который знает мои аполитические взгляды. Введенский ответил, что среди церковников есть контрреволюционеры»[46].
Епископ Венедикт (Плотников), присутствовавший при беседе, уточняет, что «митрополит ни в чем Введенского не укорял, а упрашивал его, как заблудшего сына».
Нам трудно судить, почему ни митрополит Вениамин, ни епископ Венедикт не упомянули на процессе, что встреча была инициирована самим Введенским. Возможно, они и сами не знали об этом… Зато Н. М. Егоров, который организовал встречу, об этом, разумеется, знал.
«Время шло… — рассказывал он на процессе. — Я чувствовал, что разрыв отношений с исполкомом совершенно не соответствовал действительным намерениям церковной власти. Поэтому я и наметил такой план действий. Я отправился к своему личному другу протоиерею Введенскому. Обратился я к нему с таким предложением: если бы владыка предложил вам, как лицу, которое создало себе определенную и твердую в этом отношении репутацию, если бы он предложил вам быть посредником для улаживания отношений между Церковью и властью? Введенский ответил мне, что для блага Церкви согласен на все…»
Обратим внимание, что идея устроить встречу с митрополитом возникла в ходе беседы Егорова с Введенским. Усвоив эту идею как собственную, Егоров энергично принялся хлопотать над ее претворением в жизнь. Юрия Петровича Новицкого ему удалось убедить сразу.
«В конце пятой недели поста, в пятницу (31 марта. — Н.Д’.), я был лично у протоиерея Введенского, которого просил, чтобы он принял меры к тому, чтобы состоялось соглашение с властью в деле передачи ценностей и чтобы не было никаких эксцессов в этом деле. Введенский обещал свое содействие…»[47] — рассказывал Новицкий на допросе еще в ходе следствия.
Как свидетельствует внук святого, Юрий Иванович Колесов, мать его, Оксана Георгиевна, рассказывала, что в последние недели Великого поста 1922 года отец часто посылал ее с записками к митрополиту Вениамину, наказывая, чтобы записка была передана лично в руки владыки.
— Владыка всегда сам выходил, когда узнавал, что я пришла… — рассказывала Оксана Георгиевна. — Подойдет, поздоровается и благословит…
Что было в записках, четырнадцатилетняя Оксана, конечно, не знала. Но про записки помнила. Всю жизнь потом хранила она свою первую награду — расписанное пасхальное яичко, которое подарил ей священномученик Вениамин.
Сам Юрий Петрович Новицкий уже на втором допросе у следователя тоже подтвердил, что он держал митрополита Вениамина в курсе затеянных с Введенским переговоров.
«Когда я увидел, что на почве изъятия ожидаются волнения, весьма неуместные для Церкви и едва ли, по моему мнению, могущие быть одобренными всеми сознательными верующими, я, считая, что необходимо как-нибудь сгладить этот печальный факт, решил обратиться к власти, чтобы устроить какое-нибудь соглашение между нею и митрополитом. Предупредив об этом митрополита, я 30 или 31 марта (31. — Н. К.) пришел к протоиерею Введенскому с просьбой поговорить в исполкоме, чтобы тем или иным образом успокоить приходскую жизнь. Введенский обещал свое содействие. О его обещании я тогда же уведомил митрополита»[48].
Александр Иванович Введенский эту предысторию встречи с митрополитом полностью подтвердил, с одним существенным дополнением: «В начале шестой или в конце пятой недели ко мне явился Егоров с ведома митрополита с просьбой уладить отношения между Советской властью и Церковью по поводу изъятия церковных ценностей»[49].
Мы специально выделили несколько слов из этих показаний, чтобы подчеркнуть, что Ю. П. Новицкий вел переговоры с Введенским именно как с представителем Советской власти и поэтому и считал своим долгом держать митрополита в курсе их. Для Введенского очень важно было подчеркнуть, что инициатива переговоров — «ко мне явился Егоров с ведома митрополита» — исходила от владыки. Неточность, как мы видим, существенная. С ведома владыки приходил Новицкий. Егоров же действовал на свой страх и риск, не будучи никем уполномоченным. Уточним также, что в отличие от Новицкого, допрошенного еще 30 апреля, Введенский давал показания 28 мая, в тот самый день, когда с амвонов петроградских церквей было оглашено «Послание к петроградской православной пастве», в котором Введенский был объявлен отпавшим от общения со Святой Церковью, доколе не принесет покаяния.
Этим обстоятельством и объясняется, почему в день крушения своих честолюбивых планов Введенский настаивал, что это не он, а митрополит Вениамин начал переговоры, за участие в которых владыку порицали потом и священники, и миряне.
Было две встречи Введенского с митрополитом до появления третьего воззвания, опубликованного во всех газетах. Рассказы митрополита Вениамина и епископа Венедикта о первой встрече мы уже привели. Послушаем теперь, что рассказывал об этой встрече протоиерей Боярский:
«Когда вышло это письмо двенадцати, митрополит вызвал меня. Я явился и Введенский. Митрополит вел беседу с нами в присутствии епископа Венедикта, спрашивал о мотивах. Мы пояснили, что побудило нас выступать сепаратно. Мы говорили, что вот такой острый момент, что нельзя терпеть, что может быть худо, что мы не можем принять ответственность, что ответственность ляжет на вас (митрополита. — Н. К.), что необходимо сказать верующим, что они должны жертвовать, больше ничего. Мы только объясняли и убеждали митрополита, так как в это время его переговоры в Смольном были прерваны, представители, посланные в комиссию помощи, были отозваны. И Введенский, и я говорили, что надо как-нибудь завести переговоры со Смольным, сделать это добровольно, не доводить до столкновения. Митрополит нам и поручил: поезжайте и говорите… Мы поехали».
Очень нелегкая задача проводить сравнительный анализ между людьми, лишенными совести, на предмет выяснения, кто из них бессовестней… Все же рискнем и попытаемся совершить невозможное, тем более что с протоиереем из Колпино, Александром Ивановичем Боярским, нам все равно необходимо познакомиться ближе…
В отличие от Александра Ивановича Введенского Александр Иванович Боярский не совершал никаких зигзагов на пути к священническому служению. Он родился в семье священника, закончил Духовную семинарию, затем Петербургскую академию, получил приход в Колпино. Прихожанами его были рабочие Ижорского завода, и с ними Александр Иванович очень хорошо ладил. Он знал жизнь, умел говорить о самых сложных вещах просто и понятно. Прихожане любили своего батюшку.
Познакомились наши Александры Ивановичи незадолго до революции. И сразу сошлись во взглядах на необходимость церковных реформ. Возникла дружба, хотя трудно было представить двух других более непохожих людей… «Солидная кряжистая фигура высокого, широкоплечего, чернобородого А. И. Боярского представляла собою разительный контраст по сравнению с порывистым, дерганым, худосочным неврастеником А. И. Введенским».
Совершенно по-разному держали они себя и с аудиторией.
«Священник Боярский, — сообщала 28 мая 1922 года «Красная газета», — говорит просто, задушевно, спокойно, без экзальтации, со своей речью он близко подходит к слушателю. По временам он не только физически, но и духовно спускается с кафедры, оставляет тон оратора и говорит как бы не с массой, а с каждым в отдельности. И это создает моменты особой убедительности его речи. Священник Введенский более нервен, приподнят, экзальтирован. Его речь — не беседа, а настоящая ораторская речь. Он все время перед массой и не в уровень с ней, а сверху, на возвышении. Он не убеждает, а проповедует. Его речь не распадается на отдельные эпизоды, а течет как одно целое, устремленное к своему финалу. И этот финал — не тихий спуск мысли после ее спокойного развития, а бурный подъем к наиболее эффектному выражению. Речь Введенского на митинге была кончена кричащим голосом и патетическими словами».
Если обобщить приведенные зарисовки, то можно заметить, что Боярский представлял собою тип практического работника, Введенский же был ярко выраженным творцом. Один делал все рассудительно, его интересовал прежде всего практический результат. Другой все время находился в творческом смятении и горении, и более важным для него был процесс творчества, а не результат. Боярский хотел видеть Церковь такой, какой она должна была быть согласно его представлениям о Церкви. Введенский, как это показали дальнейшие события, соглашался на любую Церковь, лишь бы он сам был во главе ее.
Отличия между Боярским и Введенским весьма существенные, и даже взаимоисключающие друг друга, но не будем забывать при этом, что оба Александра Ивановича служили в ГПУ и совместная служба, которой отдавались они с необыкновенным энтузиазмом и бесстыдством, снимала многие противоречия.
Однако не только различием характеров Введенского и Боярского обусловлены разночтения в их рассказах о встрече с митрополитом. При более внимательном чтении документов выясняется, что о второй встрече с митрополитом Боярский не знал.
Дело тут вот в чем… Составив «Письмо двенадцати», Введенский поставил под ним подпись Боярского, не известив об этом колпинского протоиерея. Видимо, он полагал, что старая дружба дает ему на это право. Боярский так не считал. Переходить из-под начала митрополита Вениамина в ГПУ он еще не собирался. Возникли осложнения… По Петрограду поползли слухи о подлоге. Введенский и Мессинг, разумеется, приняли меры. С Александром Ивановичем Боярским была проведена разъяснительная работа, результатом которой стала заметка «По поводу воззвания группы священников».
«Священник, близко стоящий к этой группе, сообщил нашему сотруднику следующее: «Существование группы духовенства, стоящей вне политики и желающей следовать заветам Христа не на словах, а на деле, вызвало негодование среди части церковного общества. Негодование, как это часто бывает, взяло себе в союзники клевету. Так утверждают, что Александр Иванович Боярский не давал своей подписи. На самом же деле протоиерей Боярский, конечно, не только подписался под воззванием, но принимал участие в самой выработке его текста»[50].
Заметка была напечатана пятого апреля, значит, разъяснительная работа проводилась в первых числах месяца, как раз в те дни, когда и начались переговоры Введенского с митрополитом. И тогда становится понятным, почему, добившись от Боярского подтверждения подписи под письмом, Введенский не решился настаивать на участии его в следующем этапе работы с митрополитом. Через день после первой встречи он отправился к митрополиту уже вдвоем с Егоровым и потребовал, чтобы полномочия его на переговорах в Смольном были официально подтверждены.
«Митрополит категорически настаивал, что он отречется, если я скажу, что это он меня послал».
Тогда вступил в разговор Н. М. Егоров. Он показал митрополиту текст предполагаемого соглашения.
«Мы с Введенским заранее выработали текст тех условий, которые могли бы быть приемлемы и для церковной стороны и для правительства… — рассказывал Н. М. Егоров на процессе. — Владыка одобрил их без единого изменения»[51].
Кроме пункта о том, что Церковь не настаивает на самостоятельной помощи голодающим и готова проводить эту помощь совместно с государством, все остальные пункты условий были взяты из писем митрополита.
— Я согласен с этим… — сказал, как вспоминает Егоров, митрополит. — Я никогда не был таким сторонником самостоятельности, чтобы считать неприемлемыми эти условия.
— Запомните эти слова, отец Александр! — взяв Введенского за руку, сказал Егоров. — Видите: владыка никогда не настаивал на самостоятельности…
Почему нужно было подчеркнуть это, Егоров на процессе не объяснил. Введенский же, высвободив руку, снова вернулся к вопросу о полномочиях.
— Если вы согласны с этими условиями, почему вы не хотите дать мне удостоверение, что я являюсь вашим представителем? Условия эти согласованы со Смольным, но они не могут быть подписаны с частным лицом.
«Тогда митрополит в присутствии Егорова выдал мне мандат за № 817. Затем последовали переговоры, приведшие к благополучным результатам»[52].
Достигнутые на заседании в Смольном результаты «благополучными» мог назвать только Введенский. На самом деле он опять обманул владыку самым беззастенчивым образом.
14 апреля в газетах появилось сообщение Петроградской комиссии Помгола.
6 апреля сего года в Смольном состоялось заседание Петроградской Губернской Комиссии помощи голодающим. Рассматривался протоколособого совещания с полномочными представителями Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского по вопросу об изъятии церковных ценностей для помощи голодающим.
Городская комиссия Помгола единогласно утвердила упомянутый протокол, состоящий из следующих пунктов:
1. Допускать представителей верующих к участию в изъятии и учете церковных ценностей, упаковке их для отправки в Гохран для ЦК Помгола.
2. Считать необходимым установить гласную отчетность о движении ценностей.
3. Допустить представителя верующих к участию в делегациях, сопровождающих предметы довольствия голодающим.
4. Разъяснить верующим, что они имеют право индивидуально принимать непосредственное участие в деле помощи голодающим, как личным трудом, так и работой на общих основаниях.
5. Комплекты священных сосудов и дарохранительницы, необходимые для совершения таинств, при невозможности заменить их немедленно теми же предметами из малоценных металлов оставить верующим по количеству престолов в церкви впредь до замены.
6. На тех же условиях оставить по одному большому и одному малому Евангелию и кресту.
7. Хранительницы мощей, не представляющие особой материальной ценности, и всенародно чтимые иконы, а именно:
1. Икона Спасителя (в часовне Спасителя на Петроградской стороне)
2. Икона Скорбящей Божьей Матери (на Стеклянном заводе за Невской заставой)
3. Икона Казанской Божьей Матери (в Казанском соборе)
4. Икона Тихвинской Божьей Матери (Исаакиевский собор)
5. Икона Святителя Николая, Чудотворца (Колпино) — могут быть оставлены верующим в настоящем виде при условии замены ценности их металлом в соответствующем эквиваленте.
Примечание: замена может быть допущена лишь в срок, не превышающий семи дней с момента начала работы губернской Комиссии по изъятию ценностей, в каждом отдельном храме и при условии добровольного сбора среди верующих.
8. Местным приходским общинам предоставить право в тот же срок и на тех же условиях, что указаны в п. 7 и примечании к нему, оставлять особо чтимые местные святыни.
9. Результаты настоящего совещания ни в коем случае не приостанавливают начатой работы по изъятию церковных ценностей.
10. Настоящие условия полностью входят в силу с момента обращения митрополита с особым воззванием к верующим о помощи голодающим церковными ценностями во исполнение декрета ВЦИК от 23 февраля 1922 г.
Полномочия представителей митрополита были определены последним следующей резолюцией: «Благословляю отстаивать указанные положения отцам протоиереям Александру Боярскому и Александру Введенскому. Митрополит Вениамин. 4 апреля (22 марта) 1922 г.
Председатель Петроградской Губернской комиссии Пахомов.
Нет никакой надобности сравнивать этот документ с письмами митрополита. Отсутствовало главное — добровольность пожертвования. Церковные ценности изымались в самом унизительном для Церкви варианте.
Попутно теперь становилось ясно, почему Александр Иванович так настойчиво добивался официального мандата от митрополита, — получалось, что митрополит Вениамин как бы присоединился к двенадцати отщепенцам.
Напомним, что все это происходило на фоне операции ГПУ по служителям культа… Отметим и то, что, как по мановению волшебной палочки, имя Вениамина исчезает из газетных фельетонов. Весь пыл фельетонистов сосредоточивается теперь на фигуре патриарха Тихона.
«Дух патриарха Тихона витает всюду в его любимом стаде этих мастеров подлога и провокации!» — восклицает Г. Устинов.
«Почему бы не посадить патриарха Тихона на одну просвирку? — спрашивает другой автор. — Через пять дней он бы сам принес свою митру!»
Митрополиту Вениамину нелегко было переносить газетную травлю, но сейчас, когда его отделили от подлежащего газетному оплевыванию духовенства, стало еще тяжелее.
Мы видели, как ловко и подло подставил Александр Иванович Введенский митрополита. Самому Введенскому казалось, что он одержал полную и решительную победу. Теперь у владыки не оставалось возможности для отступления, ему следовало и дальше идти туда, куда поведет его вождь обновленцев. Пословицу «Коготок увяз — всей птичке пропасть» Александр Иванович постиг на собственном опыте и не сомневался, что так будет и с митрополитом. Александр Иванович и раньше посмеивался над простоватостью владыки, которого ему уже сколько времени удавалось обманывать…
Но так думал сам Александр Иванович Введенский. Митрополит Вениамин думал иначе. Владыка не изощрял свой ум лукавыми рассуждениями. Он просто был святым и хорошо знал, что «по мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога».
Александру Ивановичу — увы! — это было неведомо… Поэтому так неприятно и поразила его атмосфера собраний настоятелей петроградских храмов. Не скрывая обиды, жаловался он 28 мая следователю Нестерову:
«На собрании в понедельник на Страстной неделе (10 апреля. — Н. К.), собранном для моей реабилитации в глазах духовенства по инициативе Боярского, митрополит заявил, что протоиереи Боярский и Введенский подобны Иуде-предателю и что из-за них арестовывают священников… На этом собрании произносились речи явно контрреволюционного характера…»[53]
Обида Александра Ивановича понятна. Он шел на собрание уверенный, что будет публично реабилитирован, поскольку — коготок увяз — всей птичке пропасть! — думал, что ничего иного, кроме сотрудничества с ГПУ, митрополиту Вениамину просто не остается. И вот нате! Вместо реабилитации — еще более суровые обвинения…
Отметим сразу, что Иудой, как это было установлено на процессе, тогда митрополит Вениамин Введенского не называл. Слово «иуда» услышал только один Введенский, и обвинители потратили массу времени на процессе, чтобы установить этот факт. Если кто-то еще и не знал, что Введенский назван Иудой, теперь узнал об этом совершенно определенно. Приведем одну сценку, разыгравшуюся на процессе, рисующую, кстати сказать, некоторые странности дружбы Александра Ивановича Боярского с Александром Ивановичем Введенским.
Смирнов. Был такой случай, когда в вашем присутствии митрополит предъявил Введенскому обвинение в измене Церкви? Потрудитесь, пожалуйста, установить факт и точно ответить.
Боярский (так и хочется тут поставить ремарку: весело. — Н. К.). Относительно Иуды, что ли? Я сейчас расскажу… В контексте вот как было… Митрополит в неделю православия — это первая неделя Великого поста — служил в Исаакиевском соборе и говорил в алтаре речь к духовенству после причащения, в котором призывал их — я там не был — к миру и единению…
Смирнов. Я вас не спрашиваю, где вы не были. Давайте договоримся, где вы были.
Боярский. Но это имеет известное значение… Я с конца тогда начну. Я начну тогда с собрания пастырей, которое было созвано по моему как бы настоянию в Великий понедельник в квартире митрополита. Открывая собрание, митрополит сказал: «Вот недавно, в начале поста, мы молились в Исаакиевском соборе, и там после Евхаристии я призвал всех к единству и миру, чтобы не нашлось среди нас такого человека, как Иуда, который, взявши хлеб от Христа, потом лобызанием предал его… Так вот… В настоящее время мир нарушен. Внесено разделение. Явились два протоиерея, Боярский и Введенский, которые внесли разделение в нашу среду своим воззванием.
Смирнов. Нельзя ли точнее и в двух словах. Относительно Иуды…
Боярский. Конечно, можно было понять, что это про нас.
Смирнов. Значит, вы точно здесь поняли, что Иуда имеется в виду Боярский и Введенский.
Боярский. Я предательством не занимался, поэтому на свои счет не принял»[54].
Замечательный ответ. По-видимому, Боярский хотя и пользовался услугами ГПУ для осуществления переустройства Церкви, но расплачиваться за них предоставлял Александру Ивановичу Введенскому. Тот и списки подлежащих аресту священников составлял, и текущую агентурную работу вел. Стыдился Александр Иванович этой работой заниматься, переживал, но работал… А верный соратник, оказывается, его же и презирал за это…
Впрочем, мы уже говорили, что неблагодарное дело выяснять, кто из двух иуд является большим иудой. Поэтому вернемся на собрание настоятелей петроградских храмов, что состоялось в понедельник на Страстной неделе на квартире у митрополита.
Введенский уверял следователя Нестерова, что, когда он изобличил ложь митрополита Вениамина, показав мандат № 817, это «произвело на всех впечатление не в пользу митрополита»[55].
Но это опять-таки слова Введенского. Это Александру Ивановичу только показалось, будто он обличил митрополита… Сам владыка не унизился до объяснений, как получил Введенский мандат. И о Введенском, и о Боярском он уже сказал, дал оценку их письму. Оправдываться же митрополит посчитал излишним. Нужно было не оправдываться, а поискать выход из тупиковой ситуации, в которую по вине Введенского была поставлена Церковь. Отвечал-то за свою епархию митрополит, а не какой-то Введенский…
Как вспоминают очевидцы, Вениамин очень сдержанно говорил на собрании. Еще сдержанней он рассказывал о собрании на процессе.
«В понедельник на Страстной неделе. настоятелей петроградских церквей для реабилитации в глазах духовенства Протоиереев Боярского и Введенского я не собирал. Я собрал их по предложению Боярского, чтобы заранее поставить духовенство в известность о предстоящем апрельском воззвании. Я огласил воззвание и соглашение, которое у меня состоялось в Смольном»[56].
Обратим внимание на местоимение, употребленное митрополитом. Соглашение состоялось у меня. Не у Введенского, а у митрополита Вениамина. Всю ответственность митрополит Вениамин принял на себя.
И хотя и не все настоятели понимали митрополита, но уверенность его успокоила почти всех. Как свидетельствовал протоиерей Семен Иванович Бычков: «Ни по поводу воззвания, ни по поводу позиции, занятой митрополитом, никто на этом собрании не высказывался».
Одобренное воззвание гласило:
«…если гражданская власть, ввиду огромных размеров народного бедствия, сочтет необходимым приступить к изъятию и прочих церковных ценностей, в том числе и святынь, я и тогда убедительно призываю пастырей и паству отнестись по-христиански… Со стороны верующих совершенно недопустимо проявление насилия в той или иной форме… При изъятии церковных ценностей, как и во всяком церковном деле, не может иметь место проявление каких-либо политических тенденций».
Между прочим, одобренный текст митрополит поручил отнести в Смольный все тем же протоиереям — Боярскому и Введенскому.
Введенский, поняв, что митрополит опять просит его об одолжении, попытался было снова поторговаться о необходимости «реабилитации», но митрополит решительно и сурово пресек этот разговор. Введенский хотел обидеться, но тут его одернул Боярский.
— Брось! — сказал он. — Не стоит обращать внимания.
«Я смотрел так… — рассказывал потом Боярский на процессе, — что митрополит отгораживает себя от нас, чтобы духовенство поняло, что он стоит на нейтральной почве и на этой нейтральной почве хочет предложить это воззвание как единственный выход. А для меня нужно было, чтобы это воззвание было подписано».
Глава девятая
Сейчас, семьдесят пять лет спустя, воссоздавая события минувшего времени, то и дело ловишь себя на ощущении, что митрополитом Вениамином была совершена какая-то ошибка. Бели бы вот тут повел он себя гибче или, наоборот, менее доверчиво, если здесь выступил бы сдержанней, а тут решительней, вот тогда-то… И тут же обрываешь свои нелепые и несуразные мысли… И не только потому, что у истории нет сослагательного наклонения… Не только потому, что в отличие от нас митрополит Вениамин был святым и видел то, что недоступно нам… Все наши предположения ошибочны потому, что основываются на существовании причинно-следственной связи между событиями. Однако если приглядеться внимательней, то нетрудно увидеть, что последующие события во всей истории с изъятием церковных ценностей не вытекают из предыдущих, а пристраиваются в полном соответствии с планами задумавших это действо режиссеров.
Голод в Поволжье не являлся причиной изъятия, он служил лишь маскировкой задуманной акции. Неизбежные инциденты, происходившие при изъятии, не были организованы духовенством и не могли служить причиной репрессий… В напоре злой, сатанинской силы смешивались причины и поводы, следствия и выводы, рвалась причинно-следственная связь и, кажется, деформировалось само время. Оно уже не текло естественно и необратимо, а закручивалось, то меняя свое направление, то останавливаясь совсем. Как бы ни поступал в этом времени митрополит Вениамин, любой шаг его все равно оказался бы неверным, ибо последующая ситуация все равно бы была пристроена так, чтобы самый правильный и разумный поступок казался абсурдным и нелепым…
Приступая к работе над этой книгой, я добросовестно изучил все огромное, двадцатисемитомное «Дело № 36314», подшивки газет за 1922 год, воспоминания очевидцев, другие документы. Многое прояснилось, многое получило вполне разумное объяснение. Неясным и необъяснимым и по сей день остается главное: как удалось противостоять нашим священномученикам злым, сатанинским силам, разбушевавшимся над Россией в 1922 году. Можно кропотливейшим образом выстроить из многочисленных показаний и воспоминаний ту или иную сцену, можно почти безошибочно установить, почему тот или иной персонаж говорил именно эти слова, а не другие, куда он пошел, что сделал. Но все равно за пределами наших реконструкций остаются почти все действия митрополита Вениамина, а главное — то, как он это делал. Увы… Слишком ничтожны наши силы, чтобы подняться на ту духовную высоту, на которой находились наши священномученики, слишком слабо наше духовное зрение, чтобы различить то, что видели они… Мы вынуждены ограничиваться лишь внешней стороной происходящего, констатацией результата, который был достигнут невидимой и непостижимой для нас работой…
Результат же был поразительным… Вспомним еще раз указание Владимира Ильича Ленина: «Именно теперь и только теперь… мы можем (и потому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления… Мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий… Чем больше число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше…»
Разве кто-нибудь саботировал ленинскую директиву? Нет… И церкви грабили, и священников расстреливали. И бешеной энергии не жалели для такого дела. И все равно результат оказался весьма далеким от того, которого жаждал вождь мирового пролетариата. Украденного из церквей золота — до Гохрана дошло всего 26 пудов — не хватило даже на покрытие текущих расходов по содержанию коминтерновской агентуры за рубежом. Не удалось и «разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые… позиции на много десятилетий». Уничтожение Православной Церкви затянулось на долгие годы, и Церковь так и не удалось уничтожить ленинской гвардии… Ленинский план, по существу, провалился по всем своим пунктам. Православная Церковь вместо украденных у нее святынь обрела новых священномучеников… Это они и приняли на себя первый удар, нанесенный сатанинскими силами, персонифицированными для нас в образе демонической лентрозины. Это они, наши новые святые, прикрыли собою православный мир. Удар достиг и Церкви, но «бешеная энергия» уже ушла из него, силы удара не хватило, чтобы совершить задуманное.
Попробуем открытыми глазами посмотреть на апрельские события 1922 года в Петрограде, и мы увидим, что делалось все не так, как планировали Зиновьев и Мессинг, а так, как говорил владыка Вениамин. Православные не только не участвовали в изъятии, но и ясно демонстрировали осуждение политики властей. Не было ни одной церкви в Петрограде, где бы зиновьевские уполномоченные не почувствовали, как относится к ним простой русский православный народ.
Атеистически мыслящий читатель, несомненно, усмехнется тут, подумает, что, дескать, большевики все-таки достигли задуманного: запугав попов, изъяли из церквей все ценности. И в принципе это замечание верное, с одной только существенной поправкой. Ограбленными оказались не церкви, а вся Россия. Украденным оказалось наше общее национальное достояние, которое в равной степени принадлежало и верующим, и неверующим. И опять же с достаточной степенью определенности можно сказать, что похищенное пошло, конечно же, не на голодающих Поволжья — кремлевские власти категорически запрещали замену церковных ценностей эквивалентным количеством хлеба, — и даже не на армию, как планировал Л. Д. Троцкий. Подавляющая часть богатств попала, минуя Гохран, прямо в руки взращенной большевиками, нерусской в своем подавляющем большинстве, нэпманской буржуазии.
В противостоянии откровенному сатанизму недостаточно собственного ума, как бы велик он ни был, невозможно здесь полагаться и на самую идеальную организацию сопротивления. Тут необходима прежде всего Божья помощь. Проявление этой помощи осуществляется, может, и не так, как планируют смертные люди, но всегда очевидно и разрушающе для сатанинской силы. Мы видели, что Ленину в каком-то дьявольском озарении удалось безошибочно найти понятную народу мотивацию задуманного преступления. Церковные ценности изымались якобы для спасения голодающих. Учитывая, что все средства массовой информации находились в руках большевиков, противостоять накату лжи не представлялось возможным. Казалось бы, пропагандистская кампания была выиграна большевиками. Но вот просматриваешь апрельские подшивки той же «Петроградской правды» и буквально своими глазами видишь, как начинает пробуксовывать идеально задуманная и идеально исполненная кампания. И даже не сразу понимаешь, чем вызвано это. Снова перелистываешь газеты и теперь, более внимательно перечитывая рекламные объявления, замечаешь, что это они и сводят на нет все пропагандистские усилия фельетонистов.
«Кафе 12 ПЕПО», «Ресторан быв. Палкин», «Донон открыт до 2-х часов ночи», «Конфеты, монпансье, пряники, печенье, пастила, мармелад, постный сахар, шоколад, шоколадные конфеты фабрик Жорж Барман и Карл Бездека».
Вот этого-то даже и в дьявольском озарении не мог предвидеть Ленин. Кричащие, зазывающие с газетных полос вкусно покушать и выпить рекламные объявления не только сводят на нет труд фельетонистов, но и разоблачают саму ложь пропагандистской концепции. Мощнейшая машина большевистской агитации, противостоять которой не смог бы никто, сработала против себя самой.
О метаморфозах, происходящих в общественном сознании, лучше других написала в 1922 году Анна Андреевна Ахматова:
Настоящая поэзия всегда сродни пророчеству. Вот и сейчас, читая эти стихи, только удивляешься, как точно угадан тридцатитрехлетней Ахматовой путь Русского Православия. В сокровенную глубину народной души прячутся наши святыни, чтобы в дивном сиянии и славе вернуться к нам, когда мы будем готовы к этому. Вернуться вместе с собором новомучеников российских, обретенных нашей Церковью в эти годы… То золото, которого так жадно искали в наших православных храмах Ленины, Троцкие и Зиновьевы, никуда не ушло от нас. Переплавленное страданиями, оно сохранилось в подвигах новомучеников — истинном сокровище Православной Церкви.
Часть вторая
Глава десятая
Ночь с 28 на 29 апреля 1922 года для петроградских чекистов выдалась хлопотливая.
21.45. Выписан ордер на арест священника Степана Ивановича Зенкевича.
21.50. Выписан ордер на арест протоиерея Павла Антоновича Кедринского.
22.05. Выписан ордер на арест священника Николая Викторовича Чепурина.
22.50. Выписаны ордера на аресты Леонида Дмитриевича Аксенова и Юрия Петровича Новицкого.
23.00. Выписаны ордера на аресты Сергея Ивановича Бычкова, Константина Михайловича Секетова и протоиерея Василия Александровича Акимова.
23.15. Выписан ордер на арест архимандрита Сергия.
23.20. Выписаны ордера на аресты настоятеля Пантелеимоновской церкви Николая Георгиевича Дроздова и священника Николая Гермогеновича Ладыгина.
23.25. Выписаны ордера на аресты настоятеля Исаакиевского собора Леонида Константиновича Богоявленского, Павла Андреевича Демченко, Геннадия Федоровича Чиркина.
24.00. Выписаны ордера на аресты Ивана Михайловича Ков-шарова и Владимира Николаевича Ордовского…
Аресты продолжались всю ночь. Привозившие арестованных оперативники получали новые ордера и ехали по новым адресам. К утру стало понятно, что берут членов правления Общества православных приходов. Почему Станислав Адамович Мессинг выбрал эту организацию для завершения своей «операции по работникам культуры» — неясно, но совпадение дат — 26 апреля в Москве начался судебный процесс по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей — наводит на определенные предположения.
Как мы помним, в письме В. И. Ленина указывалось, что нужно провести процессы в Москве и Петрограде… Московское ГПУ такой процесс подготовило, петроградское же, занятое разработкой плана переворота в Православной Церкви, ленинское указание как бы и подзабыло. Григорий Евсеевич Зиновьев, очевидно, обратил внимание товарища Мессинга на это обстоятельство. Он подчеркнул, что негоже колыбели мировой революции пренебрегать указаниями вождя мирового пролетариата. Станислав Адамович, разумеется, ошибку исправил. Сразу после замечания Зиновьева распорядился произвести аресты. Поскольку создавать контрреволюционную организацию дело хлопотное и ненадежное, решили в качестве таковой использовать общество, существующее на самом деле.
Подготовку процесса поручили следователю Губревтрибунала Ф. П. Нестерову. В воскресенье, 30 апреля, он приступил к делу. Первым на допрос был вызван председатель Общества православных приходов Юрий Петрович Новицкий.
Арест застал Юрия Петровича врасплох. Что помимо спасения собственной души самое важное для православного человека? Работа… Семья… Когда сотрудники ГПУ уводили Юрия Петровича из дома, они унесли с собой его так и не завершенную «Историю русского уголовного права», главный научный труд профессора Новицкого.
Оксана Георгиевна рассказывала много лет спустя, что за несколько дней до ареста заболела корью. В ночь на 29 апреля металась в жару и смутно запомнила, как в комнату заходил проститься отец. За его спиной, в светлом проеме двери, темнела фигура военного. Кроме дочери Юрию Петровичу нужно было проститься и с хозяйкой квартиры — Ксенией Леонидовной Брянчаниновой, с которой они собирались в ближайшее время обвенчаться…
Кажется, если бы и специально так делалось, невозможно было более неудачно для Новицкого подгадать с арестом. Остановленный на последних страницах научный труд… больная дочь, которую он должен оставить у женщины, так и не ставшей его женой…
Ни дочери, ни невесты Юрию Петровичу уже не суждено будет более увидеть. 12 августа после отчаянных хлопот Ксении Леонидовне удастся получить разрешение на свидание с женихом.
Но не будет и этого свидания…
В ночь с 12 на 13 августа Юрия Петровича Новицкого расстреляют. И еще два дня будет ждать Ксения Леонидовна и четырнадцатилетняя Оксана Георгиевна свидания…
Что это? Чудовищная бюрократическая ошибка или заведомая циничная ложь? Вероятнее последнее. После 12 августа перестали принимать передачи и для митрополита, и для архимандрита Сергия, и для Ивана Михайловича Ковшарова. Объясняли, что всех четверых увезли в Москву. На самом деле все четверо уже были зарыты в безымянной могиле где-то невдалеке от станции Пороховые по Ириновской железной дороге.
Арест застал Юрия Петровича Новицкого врасплох… Но внутренне, духовно Новицкий оказался готов к страшной неожиданности. В Евангелии сказано: «Бодрствуйте, ибо не знаете ни дня ни часа, когда приидет Сын Человеческий». Святой Георгий Новицкий и являет нам пример этого «бодрствования». Ни растерянности, ни тени смятения не сумел обнаружить в нем следователь Нестеров, проводивший первый допрос по делу петроградских церковников. От этого допроса многое зависело, и Нестеров старался.
Он был опытным следователем и свою паутину начал плести осторожно, не давая опомниться подавленному — так казалось Нестерову — Новицкому.
Первый допрос был о правлении Общества православных приходов.
— Когда было собрание, на котором обсуждался вопрос о помощи церковными ценностями голодающим? — небрежно, как бы между делом, спросил Нестеров.
— Специального собрания, посвященного исключительно помощи голодающим церковными ценностями, у нас не было… — ответил Новицкий. — Этот вопрос поднимался на одном из заседаний, но решения мы не выносили. Было просто рекомендовано, чтобы все церкви приняли все меры к сбору золота, серебра, денег и продуктов. Правление выразило также пожелание, чтобы владыка переговорил по этому поводу с благочинными.
— А церковная Комиссия помощи голодающим, в которой вы председательствуете, какие принимала решения?
— Такие же… Только председателем той комиссии является митрополит, а не я.
— Ну хорошо… — сказал Нестеров. — Расскажите мне о собрании, состоявшемся в день событий на Сенной площади…
— В день событий на Сенной площади у нас не было никакого собрания.
— А накануне, до событий были?
— До событий, конечно, были… Было, например, собрание правления, где в присутствии товарища Канатчикова обсуждался вопрос о помощи голодающим…
— Когда правление получило сведения о событиях на Сенной площади? — перебил Нестеров. — В тот же день или позже?
— В этот день правление официально никаких сведений не получало. Сведения были получены через несколько дней и неофициально. Я лично узнал о событиях на Сенной площади на улице…
— От кого?
— Сейчас уже не помню… Приблизительно через дней восемь— десять в правлении стало известно, что на Сенной площади никакой комиссии не было и события там носили явно провокационный характер…
Столь же малоуспешным для Нестерова оказался и второй допрос Новицкого, из которого следователь узнал массу полезных сведений о структуре Общества. Выяснил, что оно состоит из пастырского, богослужебного, хозяйственного, певческого, организационного отделов. Кроме того, Новицкий рассказал Нестерову, что Общество работает над проектами: «1. Общей исповеди; 2. Причащения без исповеди; 3. Отмены поминовения на сугубой ектенье на литургии; 4. Упорядочения сборов на нужды храмов; 5. Регистрации прихожан и согласования приходских уставов с действующим законодательством…»
Сведения эти, несомненно, были чрезвычайно интересными и, перечитывая протоколы допросов Новицкого, невольно досадуешь на следователя, что он ограничился сухим перечислением тем, поднятых Новицким. Хотя, с другой стороны, понятно, что сам Нестеров, оформляя протоколы допросов, тоже испытывал сильную досаду. Ответы Юрия Петровича не давали ни малейшей зацепки для связи деятельности Общества с инцидентами, имевшими место при изъятии церковных ценностей.
Впрочем, похоже, что в первые недели мая начальство не особенно-то и давило на следователя Нестерова. Подготовка процесса пока не являлась главным направлением работы петроградских чекистов. Хотя, надо отдать товарищу Мессингу должное, и этого направления петроградские чекисты не упускали. Основной состав правления Общества православных приходов был уже арестован и рассажен по петроградским тюрьмам, за оставшимися на свободе членами правления шла настоящая охота.
Глава одиннадцатая
В Клину на платформе купили утренние московские газеты. В газетах, еще пахнущих свинцовой краской, — приговор. Александр Николаевич Заозерский, Александр Федорович Добролюбов, Христофор Александрович Надеждин, Василий Павлович Вишняков, Анатолий Петрович Орлов, Сергей Иванович Фрязинов, Василий Иванович Соколов, Сергей Федорович Тихомиров, Михаил Николаевич Рохманов, Мария Николаевна Телегина и Варвара Ивановна Брусилова были приговорены к расстрелу.
— Что же они делают?! — нервно воскликнул Введенский, едва дочитав статью об окончании процесса над московскими церковниками.
— Серьезная организация… — спокойно ответил Красниц-кий. — ГПУ, Александр Иванович, шуток шутить не будет.
— Ах, Владимир Дмитриевич! — досадливо сморщился Введенский. — Нам же такое дело предстоит совершить! Разве можно его так начинать?!
— Начальству виднее, Александр Иванович… — оглаживая свою бородку, певуче проговорил Красницкий. — А мы что? Мы будем делать то, что прикажут…
— Ах… — сказал Введенский и выбежал из купе. Постоял на вагонной площадке, нервно ломая пальцы, снова вернулся в купе.
Там священник Евгений Белков, прихлебывая из стакана чай, доказывал Красницкому, что столь жесткий приговор произведет на публику очень невыгодное впечатление и, конечно же, в результате это осложнит положение обновленцев, сотрудничающих с ГПУ.
— Вы что же, отец Евгений, в ГПУ шли, чтобы народную любовь завоевать? — насмешливо спросил Красницкий.
Введенский только взглянул на его умное, слегка курносое лицо и сразу почувствовал нестерпимую духоту. Потеснив Белкова, он полез открывать окно. Но и зашуршавший газетами поездной ветер не разогнал духоты в купе.
— Отец Александр! — укоризненно сказал Красницкий. — Закройте окно. Читать же невозможно!
Введенский ничего не ответил. Оставив окно открытым, снова выбежал на вагонную площадку.
Вжавшись в уголок, дрожал псаломщик Стефан Стаднюк, которого везли, чтобы представить «демократическое низшее духовенство». Он так и не сказал за всю дорогу ни слова, а сейчас, подъезжая к Москве, оробел совсем…
На бывшем Николаевском вокзале Александра Ивановича Введенского встречала двоюродная сестра. После первых вопросов о здоровье сестра заговорила о своем муже, московском адвокате.
— Ах, Александр! Ты не понимаешь, что ты делаешь! — сказала она, нервно заламывая руки. — Ты работаешь на большевиков…
Ты разрушаешь Церковь, а Церковь, как говорит Лева, должна сокрушить большевиков… Понимаешь? Я не верю, Александр, ни в какую Церковь, но я должна тебе сказать, что тоже записалась в приход и даже уже причащалась в этом году, хотя для меня это все равно что выпить чаю. Ответь мне: ты понимаешь, Александр, что ты делаешь?
Введенский начал объяснять, что лучше этот вопрос обсудить дома, а не здесь, на платформах вокзала.
— Нет-нет! — испуганно запротестовала сестра. — К нам сейчас нельзя, Александр. У Левы сейчас такая клиентура, что они Бог знает что подумают, если увидят тебя у нас…
— Полноте вам! — пришел на помощь Введенскому Владимир Красницкий. — У нас нумера в гостинице заказаны. Устроимся там, а после и обсудите все.
Сестра Введенского, работавшая до революции директором гимназии, облегченно вздохнула. Облегченно вздохнул и Введенский. Слава Богу, что в ГПУ позаботились о гостинице…
Все приведенные нами диалоги выстроены на основании воспоминаний участников обновленческого десанта в Москву. Использованы здесь и рассказы самого Александра Ивановича Введенского. Стремясь сохранить для истории все подробности церковного переворота, Введенский не забыл и о разговоре с сестрой. Но вот последующие дни он описывал, так сказать, более конспективно…
«Когда я был в Москве, там только что прошел суд над церковными людьми. Когда я подъезжал к Москве, в Клину я прочитал газеты, в которых рассказывалось об 11-ти приговоренных к расстрелу священниках… Когда мы приехали в Москву, там было непередаваемо нервное настроение. Приговор вынесен. Москва волнуется. Близкие осужденных на смерть… обращаются к нам… пойдите, попросите за приговоренных к расстрелу. Мы пошли. Мы были во всевозможных инстанциях, где можно и где, может быть, и нельзя, мы подавали всюду бумаги с просьбой простить этих осужденных. Нам заявили: да, лично вас, такого-то, другого, третьего мы знаем… мы вам верим, но все-таки… все-таки засвидетельствуйте на бумаге, что вы осуждаете… всякую гражданскую борьбу с государством. Так как мы стояли и стоим на этой же точке зрения, мы охотно письменно засвидетельствовали это, подали заявление. Переговоры продолжались. Нам представители власти и дальше сказали: церковь как церковь будет существовать, церковь как политическая организация существовать больше не будет. Если угодно, переговорите об этом с головой вашим, с патриархом Тихоном. Мы поехали к патриарху Тихону…»
Вот так, несколько смущаясь и путаясь, повествовал Введенский о событиях трехнедельной давности в своем знаменитом докладе, прочитанном 4 июня во Дворце им. Урицкого. Отметим сразу, что ни о каком экспромте, конечно, не могло идти и речи. Вся операция по организации переворота в Церкви тщательно готовилась Мессингом в полном соответствии с директивой, сформулированной Л. Д. Троцким еще 30 марта: «Сегодня же надо повалить контрреволюционную часть церковников, в руках коих фактическое управление церковью. В этой борьбе мы должны опереться на сменовеховское духовенство… Чем более решительный, резкий, бурный и насильственный характер примет разрыв сменовеховского крыла с черносотенным, тем выгоднее будет наша позиция… Мы должны, во-первых, заставить сменовеховских попов целиком и открыто связать свою судьбу с вопросом об изъятии церковных ценностей; во-вторых, заставить довести их эту кампанию внутри церкви до полного организационного разрыва с черносотенной иерархией…»
Скажем также и о том, что Введенский явно преувеличивал свои хлопоты за осужденных. Во ВЦИК просить за осужденных ездил епископ Антонин. Это ведь отчасти благодаря «экспертизе» Антонина на процессе и был вынесен столь суровый приговор…
Но вот насчет того, что питерским обновленцам пришлось в эти дни побывать «во всевозможных инстанциях, где можно и где, может быть, и нельзя», Введенский нисколько не преувеличил.
9 мая, в понедельник, группа Введенского прибыла в Москву. В тот же день с ними беседовал ответственный работник ГПУ Евгений Александрович Тучков.
Хотя группу и готовил опытный чекист Мессинг, но Тучков с этого момента брал руководство операцией на себя и хотел еще раз все проверить. Поэтому не будем удивляться, что Введенскому пришлось письменно «засвидетельствовать свою точку зрения». В силу особой тонкости натуры Александр Иванович воспользовался здесь, так сказать, эвфемизмом и подписку о сотрудничестве с ГПУ стыдливо назвал «своей точкой зрения». Хотя, может быть, и нет тут никакого эвфемизма. Может, в этом сотрудничестве и состояла точка зрения Введенского.
Когда с необходимыми чекистскими формальностями было покончено, приступили к настоящей работе. Надобно было «географически» несколько расширить обновленческое движение. Кое-какие наработки в ГПУ уже были, но Тучков предложил использовать и обновленческие связи самого Введенского.
С подготовленными ГПУ священниками из Саратова — Николаем Русановым и Сергеем Ледовским никаких проблем не возникло, а вот связи Александра Ивановича Введенского сразу дали сбой. Старый знакомый Введенского, настоятель московской церкви Девяти мучеников Дмитрий Боголюбов, категорически отказался от встречи с ним.
Трудно, как пишут авторы монографии «Очерки по истории русской церковной смуты», продвигались и переговоры с епископом Антонином Грановским. По великой широте своей натуры — один рост его чего стоил! — епископ Антонин легко откликался на просьбы ГПУ, но сейчас, когда его так лихо «подставили» на процессе, повел себя очень сварливо.
— Слышал про ваши подвиги да и про вас лично! — перебил он Владимира Красницкого, вознамерившегося поведать о новой идеологии обновленчества. Потом повернулся к Введенскому и начал откровенно изучать большевистско-чекистскую внешность Александра Ивановича. — Правду говорят, что вы от колена Иесеева? — наконец спросил он.
— Что вы, владыко… — вымученно улыбаясь, ответил Введенский. — Я — русский дворянин.
— Это ты-то — русский дворянин?! — расхохотался ему в лицо Антонин.
— У меня отец был директором гимназии… — пояснил Введенский.
Услужливость и необидчивость обновленческого вождя понравилась епископу Антонину. Прощаясь, он милостливо ущипнул Александра Ивановича за щеку. Синяк этот Введенский долго носил потом на щеке, но это и была единственная полученная обновленцами награда. Никакого соглашения с епископом Антонином заключить не удалось. Он объявил, что «резервирует» свою позицию.
— Как вас следует понимать, владыко? — спросил Красницкий.
— А так и понимай! — с высоты своего роста (Антонин любил рассказывать, что он на два вершка выше Петра Первого) ответил епископ. — Посмотрю, как дела пойдут…
Так, в безуспешных и весьма унизительных хлопотах, и шли дни этой недели, на конец которой назначено было произвести переворот.
С большим трудом Введенскому удалось уговорить присоединиться к ним лишь настоятеля церкви на Лубянке Сергея Васильевича Калиновского. И то… Взамен Калиновский потребовал, чтобы новое движение было переименовано в честь издаваемого им журнала «Живая церковь»…
Так готовились к исторической пятнице, 12 мая, Александр Иванович Введенский, Владимир Дмитриевич Красницкий, Евгений Белков и присоединившийся к ним в Москве Сергей Васильевич Калиновский.
Святейшего патриарха Тихона тоже старательно готовили к исторической пятнице. Тут уже были задействованы все силы ГПУ…
Глава двенадцатая
Последний раз видели патриарха 5 мая, когда он появился в Политехническом музее, чтобы дать свидетельские показания на процессе московских церковников. Корреспондент «Известий ВЦИК» Марк Кривицкий весьма недобрыми глазами разглядывал там патриарха Тихона.
«— Следующего свидетеля, — роняет приказ председатель тов. Бек.
В дверях слева, откуда красноармейцы пропускают свидетелей, появляется плотная духовная фигура, ничем не отличающаяся от прочих батюшек, фигурирующих на суде… Окладистая, но довольно редкая борода, седой волос на голове. Лицо розово-благодушное, старчески слезящиеся глаза. Поступь мягкая, и сутулые полные плечи…»
Мы приводим этот фельетонный портрет Святейшего патриарха только потому, что здесь вопреки авторскому замыслу в силу плохого знания русского языка Марку Кривицкому случайно удалось найти очень емкую формулировку: плотная духовная фигура. Во всяком случае, эта формулировка точно подходит к тому ощущению, которое появляется, когда читаешь стенограмму допроса патриарха…
Обвинитель. Вы признаете, что церковное имущество не принадлежит церквам в смысле иерархического их построения по советским законам?
Св. патриарх Тихон. По советским законам — да, но не по церковным.
Обвинитель. Ваше послание касается церковного имущества. Как же понимаете вы — с точки зрения советских законов законно ваше распоряжение или нет?
Св. патриарх Тихон. Что это?
Обвинитель. Ваше послание…
Св. патриарх Тихон. Это вам лучше знать. Вы Советская власть…
Первое впечатление, когда читаешь стенограмму, ощущение неизмеримо более высокого интеллекта патриарха по сравнению с наскакивающими на него обвинителями. Впечатление это, разумеется, обманчивое. Там, где недоставало ума, обвинители с избытком компенсировали его хитростью и упорством. И очень трудно представить себе интеллект, способный противостоять этому натиску. Нет… Даже по приведенным нами крохотным фрагментам стенограммы видно, что Святейший и в самом деле являл собою «плотную» духовность, сокрушить которую, оперируя понятиями нравственности и законности, просто невозможно.
Допрос как бы пробуксовывал, топтался на месте.
Обвинитель. С точки зрения христианской и неизувера что лучше: оставить стоять сосуд на том месте, где он находится, и дать возможность тринадцати миллионам человек умереть с голода или наоборот? Я спрашиваю вас, что с точки зрения христианской морали было бы приемлемей?
Св. патриарх Тихон. Да я думаю, такого вопроса не может быть.
Председатель. Почему же не может быть?
Св. патриарх Тихон. Потому что в такой плоскости его не нужно ставить…
Председатель трибунала тов. Бек так и не понял, о чем говорит патриарх. С каким-то маниакальным упорством, переделав 13 миллионов умирающих от голода в 30 миллионов, снова повторил вопрос, а потом еще раз, упомянув теперь уже о 12 миллионах умирающих от голода… В оговорках этих было столько равнодушия к судьбе голодающих Поволжья, что все вопросы морали отпадали сами собой.
Исключительная поучительность есть в неторопливом чтении стенограмм допросов наших святых. Ведь это же не художественный текст, это бесстрастная, сделанная с предельной точностью запись того, что было. И все равно как будто воочию развертывается перед тобой предание о чудотворной иконе. Летящие в нее стрелы разворачиваются назад и поражают тех, кто пускает их. Поэтому не об интеллекте патриарха Тихона нужно говорить, а об осязаемой, плотной духовности, святости, окружающей его!
Допрос патриарха завершился, как и намечено было в ГПУ завершить его. Трибунал вынес частное определение о привлечении к уголовной ответственности свидетеля Белавина, и уже на следующий день около Троицкого подворья появился отряд красноармейцев, отрезая патриарха от общения с миром.
Всю неделю, пока Введенский и Красницкий метались по Москве в поисках мало-мальски подходящих участников предстоящего штурма Патриаршего подворья, патриарх Тихон провел в абсолютной изоляции.
12 мая, поздно вечером, к Троицкому подворью подъехала машина. Из нее вышли Введенский, Красницкий, Белков, Калиновский, Стаднюк. Сопровождаемые работниками ОГПУ, они направились в покои патриарха.
Однако редактора журнала «Живая церковь», когда вошли в подъезд, вдруг охватил панический страх.
— Нет-нет! — испуганно восклицал Сергей Васильевич. — Я не могу идти туда. Не пойду… Нет!
Пришлось оставить Калиновского внизу, и в покои патриарха поднялись вчетвером — Введенский, Красницкий, Белков, Стаднюк. Та группа, которую и готовил С. А. Мессинг для этого дела…
Пока топтались и спорили внизу, чекисты разбудили патриарха. Эффект неожиданности сработал. Патриарх удивленно смотрел на входящих в его кабинет петроградских священников.
Впрочем, он тут же овладел собою.
— Что вам угодно? — осведомился он.
Психологический расчет был абсолютно точный. Ошеломив патриарха известием об одиннадцати расстрельных приговорах, завершивших московский процесс, Красницкий, как сказано в официальном сообщении, возложил моральную ответственность за эту кровь на Святейшего, распространившего по церквам свое послание от 28 февраля.
— Вы этим самым подали сигнал к новой вспышке гражданской войны Церкви против Советской власти! — говорил Красницкий. — Вы с самого начала стремитесь вовлечь Церковь в контрреволюционную политику! 12 февраля 1918 года вы анафемствовали большевиков…
Красницкий говорил резко и озлобленно. Он припомнил патриарху даже благословение и просфоры, посланные в Екатеринбург Николаю Второму.
Патриарх спокойно слушал Владимира Дмитриевича и, когда тот замолчал, исчерпав запас обвинений, которых хватило бы для расстрела не только самого патриарха, но и всего епископата Православной Церкви, не проронил ни слова.
Затянувшееся молчание прервал Введенский.
«После Красницкого стал говорить я, — вспоминал потом Александр Иванович. — Был я тогда молод и горяч, считал, что я даже стену могу убедить. Говорю, говорю, убеждаю, а патриарх на все отвечает одним словом: нет, нет, нет. Наконец и я замолчал. Сидим мы против него и молчим…»
— А что, собственно говоря, вы вообще хотите? — спросил патриарх.
— Церковь не может остаться без управления! — сказал Введенский. — Нам совершенно точно известно, что вас будут судить. Поймите нас правильно, Святейший… Нас послали сюда, потому что власти тоже не хотят, чтобы Церковь осталась без управления. И хотя это в интересах власти, но и в интересах Церкви тоже. Мы хотим, чтобы вы передали кому-либо управление Церковью, пока не сможете снова осуществлять его. Ведь все дела сейчас стоят без движения, а это самое пагубное!
— Подождите… — сказал патриарх, вставая. Он вышел в соседнюю комнату и через пять минут вернулся назад с небольшим письмом, адресованным Председателю ВЦИК М. И. Калинину.
«Ввиду крайней затруднительности в церковном управлении, возникшей от привлечения меня к гражданскому суду, почитаю полезным для блага Церкви поставить временно до созыва Собора во главе церковного управления или Ярославского митрополита Агафангела (Преображенского), или Петроградского Вениамина (Казанского)…» — прочитал Введенский на листке.
— А теперь уходите… — сказал патриарх.
Этим и завершилась первая встреча обновленцев с патриархом…
А патриарха Тихона видели на следующий день на всенощной…
«Пошел сегодня на Патриаршее подворье, — записал 13 мая в своем дневнике москвич Никита Окунев. — Прекрасная, «правильная» служба, как в небольшом монастыре незабвенного старого обихода. Служил простой иеромонах с одним иеродиаконом, но на правом клиросе звучное и умелое пение, на левом — знаменитейший чтец, молодой человек с редким по красоте голосом и изумительной дикцией. Когда ему приходилось петь, ему вторил подворский патриарший архидиакон Автоном, не ахти какой басище, но певец складный и умеющий. В общем очень хорошо, но и очень грустно. В алтаре всю всенощную стоял сам патриарх как простой богомолец. Его можно было видеть, став за левым клиросом, в те моменты, когда открывались Царские Врата. Он стоял направо, в стороне от Престола, в простой рясе и без парамана. Так вот он и на суде предстал «высокий и стройный». Грустно было смотреть на такое, может быть, и любезное его сердцу, но теперь, безусловно, вынужденное смирение главы Русской Православной Церкви. А паства? «Боголюбивая» Москва, где же она? Отчего она не потянулась в эти дни именно сюда, в этот уютный и скромный храм, в этот русский Ватикан? Ведь все знают, все читают, что на патриарха спущена вся свора спецов по богохульству. Все смутно ждут крайнего утеснения Святейшего отца. Ясно, что ему подготавливают всякие поношения и лишения вплоть до «высшей меры наказания». Так чего же не шли взглянуть на патриарха в такие черные и тяжелые для него дни?»[57]
Глава тринадцатая
Рапорт о достигнутых группой Введенского «успехах» совершенно не удовлетворил Евгения Александровича Тучкова. Человек он был умный, в людях разбирался хорошо. И обмануть его, выдав желаемое за действительное, было трудно. «Характерно, — пишут авторы «Очерков по истории русской церковной смуты», — что впоследствии, уже будучи не у дел, Тучков с большим уважением отзывался о патриархе Тихоне и с величайшим презрением — об обновленцах». К этому можно добавить, что, «будучи не у дел», Е. А. Тучков успел раскаяться в своих преступлениях против Церкви и умер, ясно осознавая грех, совершенный им.
Но все это произошло много позже, когда труды чекиста Е. А. Тучкова по расколу Русской Православной Церкви уже были отмечены орденом. Пока же, в мае 1922 года, Тучкову еще предстояло этот орден заработать…
— Ну и что же теперь будем делать? — с раздражением спросил он, прочитав адресованное Калинину послание. — Что нам дает это письмо?!
Возможно, излагая свое мнение об успехах «живцов», он употребил и более крепкие выражения, поскольку было очевидно, что операция провалена.
— Нужно попробовать поговорить с митрополитами… — неуверенно предложил Красницкий. — Может быть, они согласятся работать с нами… Я могу поехать а Агафангелу, а Введенский — к митрополиту Вениамину. Он в дружеских отношениях с владыкой…
— Вот как? — заинтересовался Тучков. — Хорошо. Но вначале нужно устроить московские дела. Декларация готова?
— Так точно! — по-военному четко ответил Красницкий.
— Хорошо… — похвалил его Тучков, быстро пробегая глазами текст воззвания и кое-что поправляя в нем. — Мы отдадим это напечатать в завтрашних газетах.
— Но, Евгений Александрович… — нерешительно запротестовал Введенский. — Не все, кто обозначен тут, знакомы с воззванием… Они могут отказаться подписать.
И он осторожно потрогал рукой заплывшую синяком после щипка епископа Антонина щеку.
— Не откажутся… — ответил Тучков. — Все они уже подписались, где надо.
На следующий день, 14 мая, в «Известиях ВЦИК» изумленные читатели увидели воззвание «Верующим сынам Русской Православной Церкви», подписанное епископом Антонином, а также «представителями прогрессивного духовенства города Москвы»: свящ. Сергеем Калиновским, свящ. И. Борисовым, свящ. Вл. Быковым; «представителями Петрограда»: свящ. Владимиром Красницким, прот. Ал. Введенским, свящ. Е. Белковым, псал. Ст. Стаднюком; «представителями города Саратова»: прот. Русановым, прот. Ледовским.
В самом же воззвании говорилось, что Церковь фактически осталась в стороне от борьбы рабоче-крестьянского правительства за «правду и благо человечества», что верхи священноначалия держат сторону врагов народа.
Вполне возможно, что последняя фраза была вписана Евгением Александровичем Тучковым, но зато фраза «Пролила кровь, чтобы не помочь Христу-голодающему» без сомнения принадлежала Введенскому. Эти слова Александр Иванович повторял теперь особенно часто…
Кончалось же воззвание весьма недвусмысленной угрозой: «Мы считаем необходимым немедленный созыв Поместного Собора для суда над виновниками церковной разрухи, для решения вопроса об управлении Церковью и об установлении нормальных отношений между нею и Советской властью. Руководимая высшими иерархами гражданская война Церкви против государства должна быть прекращена».
События закрутились. Разочаровавшись в организаторских способностях своих нештатных сотрудников, Е. А. Тучков взялся теперь за дело сам, и за каждым шагом обновленцев чувствуется отныне железная воля всемогущего ГПУ.
14 мая составленная Введенским декларация была опубликована в «Известиях ВЦИК», а 15 мая обновленцев-живцов принял М. И. Калинин.
Как пишут авторы «Очерков по истории русской церковной смуты», «ознакомленный, видимо, раньше с текстом письма патриарха, председатель ВЦИК отметил, что «правительство РСФСР принимает к сведению заявление патриарха о его временном самоустранении; однако взять на себя передачу патриаршего поручения к его заместителю оно не может, так как Советская Конституция предусматривает отделение Церкви от государства»[58]. Затем М. И. Калинин, обменявшись рукопожатиями, простился со священниками. Во время беседы он несколько раз искоса поглядывал на Введенского, видимо, удивленный его странной для православного священника внешностью».
16 мая Е. А. Тучков устроил второе свидание петроградских живцов с патриархом Тихоном. Введенский передал патриарху слова М. И. Калинина и попросил письменного обращения к митрополиту Агафангелу.
Патриарх, не подозревая о провокации, письмо написал. Через месяц, 18 июня, митрополит Агафангел опубликует его в своем послании:
«Святейшему патриарху и Отцу нашему Тихону угодно было от 3/16 мая 1922 года обратиться ко мне со следующей грамотой:
«Вследствие крайней затруднительности в церковном управлении, возникшей от привлечения меня к гражданскому суду, почитаю полезным для блага Церкви поставить Ваше Высокопреосвященство во главе церковного управления до созыва Собора. На это имеется согласие и гражданской власти, а поэтому благоволите прибыть в Москву без промедления. Патриарх Тихон». Во имя святого послушания и по долгу архиерейской присяги я предполагал немедленно вступить в отправление возложенного на меня служения Церкви и поспешить в Москву, но вопреки моей воле, по обстоятельствам, не зависящим от меня, я лишен и доныне (18 июня. — Н. К.) возможности отправиться на место служения…»
В чем заключались «обстоятельства, не зависящие от него», нетрудно догадаться, но об этом дальше. Пока же скажем, что, как только Введенский получил письмо патриарха к Агафангелу, тут же, 16 марта, представители «прогрессивного духовенства» сообщат М. И. Калинину о создании Высшего Церковного Управления «ввиду устранения патриархом Тихоном себя от власти»![59]
Если мы вспомним интригу, разыгранную Введенским для получения благословения митрополита вести переговоры в Смольном, по одному только почерку без труда установим авторство и нынешнего подлога. Однако поразительная четкость исполнения выдает и другого соавтора — самого Е. А. Тучкова.
Письмо Калинину и предшествующий ему визит к патриарху произошли 16 мая, а уже 17 мая в «Петроградской правде» появляется статья Г. Устинова «Счел за благо».
«Патриарх Тихон отрекся от патриаршества. Во главе Церкви теперь становится прогрессивная часть духовенства. Отречение патриарха Тихона — естественный и неизбежный результат, знаменующий полный и окончательный провал церковной контрреволюции.
… Если провести некоторую историческую аналогию с отречением в вагоне близ станции Дно, то не трудно догадаться, что разговор между патриархом Тихоном и делегацией священника Введенского был близок к тому самому разговору, который происходил в конце февраля 17-го года между царем и Гучковым».
Тот, кто знает, как делаются газеты, понимает, что даже при самом благожелательном отношении к Введенскому, статья о его подвигах 16 мая никак не могла появиться в газете, которая утром 17 мая пришла к подписчикам. Тем более что речь в статье идет — «Во главе Церкви теперь становится прогрессивная часть духовенства» — не о письме патриарха Агафангелу, а о резолюции, которая будет дана патриархом только 18 мая, то есть на следующий день после появления статьи. Но ГПУ умело устраивать и не такие чудеса, так что не будем удивляться.
«Мы второй раз были у патриарха Тихона, и патриарх Тихон написал письмо к митрополиту Агафангелу… — рассказывал сам А. И. Введенский. — К митрополиту Агафангелу поехал один из священников (В. Д. Красницкий. — Н. К.) и еще один из мирян — целая депутация (сотрудников ГПУ. — Н. К.) — с патриаршим письмом. В это самое время в Москве продолжался полный застой в делах. Патриарх арестован уже давно, в Патриаршее подворье никого не пускают. Высшее Управление не функционирует… И так как митрополит Агафангел все еще не приезжал, мы выхлопотали себе третье свидание у патриарха… Мы подали патриарху подробную бумагу, в которой изложили ему все трудности положения. Просили поэтому благословить нас вместе с некоторыми епископами начать работу по управлению Церковью до приезда митрополита Агафангела»[60].
Если не обращать внимание на некоторое лукавство пояснений, Введенский в целом верно излагает канву событий. Снарядив В. Д. Крас-ницкого в Ярославль, Евгений Александрович Тучков бросает ударную группу обновленцев на третий штурм патриаршей резиденции.
Миновав расступившуюся охрану, Введенский, Белков и Калиновский вошли в покои патриарха. Введенский вручил патриарху письмо:
Его Святейшеству, Святейшему патриарху Тихону!
Ввиду устранения Вашего Святейшества от управления Церковью вплоть до созыва Собора с передачей власти одному из старейших иерархов, фактически сейчас Церковь осталась без всякого управления. Это чрезвычайно губительно отражается на течении наличной церковной жизни, московской в частности, порождая этим чрезмерное смущение умов. Мы, нижеподписавшиеся, испросили разрешения государственной власти на открытие и функционирование канцелярии Вашего Святейшества. Настоящим мы сыновне испрашиваем благословения Вашего Святейшества на это, дабы не продолжалась пагубная остановка дел по управлению Церковью. По приезде Вашего заместителя он тотчас вступит в исполнение своих обязанностей. К работе канцелярии мы привлекаем временно, до окончательного сформирования Управления под главенством Вашего заместителя, находящихся на свободе в Москве святителей.
Вашего Святейшества недостойные слуги:
протоиерей Ал. Введенский,
священник Евг. Белков,
священник С. Калиновский[61].
Должно быть, немало часов трудились в ГПУ над этим письмом. Составлено оно чрезвычайно хитро. Уже в первых строках мягко и неназойливо констатируется факт устранения патриарха от управления Церковью. Напоминаем, что сам патриарх Тихон и в письме к М. И. Калинину, и в послании к митрополиту Агафангелу обошел этот вопрос. Он писал: «Ввиду крайней затруднительности в церковном управлении… почитаю полезным… поставить временно…» Теперь точки над i были расставлены. Патриарх должен был признать факт своего устранения от управления Церковью…
Письмо не оставляло патриарху никакой возможности для отказа. Против чего протестовать? Против разрешения властей открыть патриаршую канцелярию? Но об этом безуспешно хлопотал и сам патриарх… Конечно, можно было настаивать, чтобы созданием канцелярии занимался непосредственно назначенный патриархом заместитель — митрополит Агафангел… Но и это возражение было блокировано. «Сыновне» испрашивалось благословение, «дабы не продолжалась пагубная остановка дел по управлению Церковью», и давалось заверение, что «по приезде Вашего заместителя он тотчас вступит в исполнение своих обязанностей…»
И конечно же, патриарх и предположить не мог, что митрополит Агафангел уже несколько дней находится под арестом и лишен возможности исполнить приказ. Добавим к этому, что едва ли патриарх Тихон и сам читал в эти дни опубликованное 14 мая в «Известиях ВЦИК» воззвание обновленцев… Наверняка ГПУ позаботилось, чтобы к патриарху не попадали свежие газеты.
«Наконец патриарх согласился с необходимостью немедленно, сейчас же, сконструировать Высшее Церковное Управление, о чем и сделал соответствующую резолюцию на нашей бумаге…» — торжествующе сообщал своим слушателям во Дворце им. Урицкого Введенский 4 июня.
В этом утверждении опять-таки содержится изрядная доля лукавства. Резолюция патриарха гласила: «Поручается поименованным ниже лицам принять и передать Высокопреосвященному митрополиту Агафангелу по приезде в Москву синодские дела при участии секретаря Нумерова, а по Московской епархии — Преосвященному Иннокентию, епископу Клинскому, а до его прибытия — Преосвященному Леониду, епископу Верпенскому, при участии столоначальника Невского. Патриарх Тихон».
При всем желании очень трудно распространить разрешение патриарха «принять и передать дела» на создание Высшего Церковного Управления. Но это — когда речь идет о порядочных людях. Для Введенского и других работников ГПУ таких затруднений не существовало.
На следующий день после встречи с обновленцами патриарх был заключен в Донском монастыре. Вместо прогулок раз в день ему разрешалось выходить в полдень на балкон. Придумано это было не без умысла. С одной стороны, сохранялась абсолютная изоляция, а с другой — верующие могли видеть, что патриарх жив и здоров и находится не в тюрьме, а в монастыре…
Но еще накануне сами обновленцы, едва только было получено «благословение» патриарха, принялись делить портфели в Высшем Церковном Управлении. С «благословения» ГПУ заместителями председателя ВЦУ стали А. И. Введенский и В. Д. Красницкий, С. В. Калиновский и Е. Х. Белков. Должность председателя ВЦУ оставалась пока вакантной.
Вообще-то еще 18 мая А. И. Введенский (от петроградской группы) и С. В. Калиновский (от московской) приветствовали епископа Леонида как главу нового церковного управления. Но это с одной стороны… С другой стороны, поприветствовав епископа Леонида, Введенский, Калиновский и Белков обратились с предложением возглавить ВЦУ к епископу Антонину Грановскому. Епископ Антонин теперь уже не колебался.
19 мая, когда Троицкое подворье было наконец освобождено от «гражданина Белавина», епископ Антонин встретил в патриарших покоях членов нового церковного управления и объявил, что согласен с их предложением. Тут же состоялось первое заседание. Церковный переворот стал фактом истории.
Забегая вперед, скажем, что с самого начала работа ВЦУ строилась как деятельность отдела ГПУ по борьбе с контрреволюционными настроениями среди церковников… Наиболее быстро осознал назначение ВЦУ Владимир Дмитриевич Красницкий. Даже внешне в нем мгновенно произошла перемена. Он являлся на собрания духовенства с пухлым портфелем, в котором лежали списки намеченных для ареста и выселения из Москвы священников. Красницкий вкратце разъяснял политику нового церковного руководства, затем происходил обмен мнениями, в ходе которого вносились последние уточнения в списки, и все. Красницкий переправлял списки в ГПУ и через день указанных священников арестовывали.
Но это Красницкий… Другие руководители нового отдела ГПУ привыкали к новой работе сложнее. Сергей Васильевич Калиновский, например, так и не сумел совместить служение Господу и чекистскую деятельность, и поскольку уйти из органов он не мог, то решил уйти от Бога. В вышедшем в мае 1922 года первом номере журнала «Живая церковь» Калиновский призывал к торжеству и спасению Православной Церкви, а уже в августе подал заявление о выходе из ВЦУ и сложении с себя священнического сана. Отныне он становится профессиональным безбожником и зарабатывает на хлеб насущный антирелигиозными лекциями.
Как ни отвратителен выбор, сделанный Красницким и Калиновским, в чем-то позиция их представляется более честной, нежели дальнейшее поведение Александра Ивановича Введенского, продолжающего прикрывать служение дьяволу служением Богу. При этом нужно отметить, что — такова уж была его натура! — Александр Иванович и теперь оставался искренним.
Как свидетельствует писательница Ольга Форш, после своей речи на одном из диспутов Введенский внезапно побледнел.
— Какая гибель, какая пустота в душе без Христа! — воскликнул он и покачнулся.
«Минуту казалось — упадет и забьется, — пишет Ольга Форш. — Нет, дошел. Сел и вдруг жалко улыбнулся. Улыбка, беспомощная и замученная, на миг сделала его похожим на одного из безумных апостолов Врубеля».
Насчет апостолов сильно сказано. Но вот о гибели и пустоте в душе — похоже на правду… Видно, порою удавалось Александру Ивановичу заглянуть в самого себя, и каждый раз он ужасался тому, что видел там…
Впрочем, о печальной судьбе протоиерея Введенского разговор впереди, а пока вернемся в майские дни 1922 года.
Сразу после переворота и захвата власти новое Церковное Управление стало думать о дальнейших шагах. Переговоры с ярославским митрополитом Агафангелом зашли в тупик. Владыка Агафангел понимал адресованное ему послание патриарха Тихона именно так, как оно и было написано, и толкование письма живоцерковниками его совершенно не устраивало. Тщетно уговаривал Тучков митрополита Агафангела хотя бы осудить патриарха. Владыка не соглашался и на это.
Но было ведь, как мы, конечно, помним, и письмо патриарха М. И. Калинину. Там помимо Агафангела называлось имя другого возможного заместителя — петроградского митрополита Вениамина.
Тучков приказал Александру Ивановичу Введенскому отправиться в Петроград.
24 мая А. И. Введенскому выписали удостоверение: «Дано сие протоиерею Александру Иоанновичу Введенскому, настоятелю церкви Захарии и Елизаветы в Петрограде, в том, что он, согласно резолюции Святейшего патриарха Тихона, является полномочным членом ВЦУ и командируется по делам церкви в Петроград и другие местности Российской республики».
Мы не знаем, на что рассчитывал Александр Иванович. Вроде уже имел он возможность убедиться, как неподатлив на такие уговоры митрополит Вениамин, как трудно склонить его к компромиссу, даже когда и удается обмануть. И все равно Введенский поехал. И наверняка на что-то он все-таки рассчитывал. Конечно, как и в остальных обновленцах, была во Введенском поражающая православных людей дерзость. Все они легко — а Введенский, может быть, и легче других — в безумной запальчивости переступали через все нравственные нормы и моральные запреты. Но помимо этой дерзости, безусловно, была в Александре Ивановиче и самоуверенная глупость.
Расположившись в купе поезда Москва — Петроград, Александр Иванович особенно и не волновался. Как-никак, но ему удалось обмануть патриарха Тихона. Почему же не обмануть и митрополита Вениамина, которого он уже не раз обманывал?
«Нет… — должно быть, подумал Александр Иванович. — Получится… Должно получиться…»
И с этой мыслью и заснул он под мерное постукивание вагонных колес…
Глава четырнадцатая
Мы оставили митрополита Вениамина, когда в Петрограде шли аресты членов правления Общества православных приходов. Забирали самых близких и надежных людей. Стремительно разрасталась пустота вокруг митрополита…
Самого владыку не трогали.
12 мая, в тот самый день, когда обновленцами был предпринят первый штурм патриаршей резиденции, в Петрограде состоялось вскрытие мощей святого Александра Невского.
«Хотя за красным Петроградом установилась прочная репутация самого революционного во всем мире города, — писал газетный репортер, — но есть одна область, в которой он сильно отстал от многих других городов Советской Республики. Как известно, вскрытие мощей уже два года тому назад было произведено по всей России, в Петрограде же к этому приступили только вчера».
В полдень в соборе Александро-Невской лавры собрались представители Петроисполкома, губкома, агитотдела, печати, общества археологических памятников старины и медицинской экспертизы.
«По данному распоряжению мастера подходят к раке и отвинчивают винты. Несколько человек снимают крышку и относят в сторону. Под крышкой стекло, его тоже снимают.
— Здесь темно, — говорит кто-то. — Надо выдвинуть к свету.
— Именно к свету, — повторяет другой с ударением на последнем слове…
Настоятель поднимает крышку гроба. Что же в нем? Там пусто. На дне лежит лиловый атласный покров, в изголовье новенькая подушка из оранжевого атласа, а посреди небольшая шкатулка из светлого дерева, как бы накануне от мастера.
Открывают шкатулку, под крышкой оказывается застекленная рамка, затем вынимают оттуда куски какой-то старой материи, затем истлевшие остатки от схимы великого князя, а на самом дне бурые истлевшие кости, да и тех очень немного, с пригоршню, не больше. Эксперты определили, что здесь имеются две неполные берцовые кости, одно ребро, остатки от височных костей и ключиц. Вот и все «мощи»…»
И далее: «Митрополит… — отмечает репортер, — как будто бы немного взволнован».
Собственно говоря, ради этой фразы мы и пересказывали издевательскую по своему тону статью.
Наши святые всегда являлись нам в самые трудные и переломные мгновения истории, когда без святых и не выстоять было России. И первым всегда являлся Александр Невский…
Великого и таинственного, пусть и непостижимого нами, значения исполнена многовековая история святых мощей благоверного князя. Бесстрашно, сквозь огонь вражеских нашествий и внутренних смут вел свою дружину Александр Невский… В пожарах смут и внутренних нестроений видим мы и его святые мощи. И, наверное, не будет ошибкой сказать, что 12 мая 1922 года собравшиеся в соборе Александро-Невской лавры увидели не только святые мощи благоверного князя, но и то, что сделало с ними предательство православия Петром Первым. Вспомним, что накануне шлиссельбургского пожара был принят Духовный регламент, согласно которому все управление Церковью по образцу протестантских государств сосредоточивалось в Духовном коллегиуме, а 17 мая 1722 года по настоянию Петра Первого Синод отменил тайну исповеди, обязав священников сообщать в Преображенский приказ о злоумышлениях, открытых на исповеди…
Случайно — случайно ли? — в день двухсотлетнего юбилея этого позорнейшего указа и было произведено публичное вскрытие мощей святого. Но если насчет юбилея петровской реформы могут быть сомнения, то одновременность первого штурма патриаршей резиденции и дня вскрытия мощей в Александро-Невской лавре случайным совпадением не назовешь. В чьем кабинете, Тучкова или Мессинга, родилась эта идея? Не важно. И тот, и другой были лишь исполнителями дьявольской воли…
И еще раз убеждаемся мы, что Бог поругаем не бывает. Воочию видим, как Промысел Божий разрушает бесовские козни, обращая сатанинский замысел в зримое свидетельство своей Силы и Славы…
Можно предполагать, на что рассчитывали Мессинг и Тучков. Чтобы увидеть, что же в результате произошло, достаточно просто открыть свои глаза…
Не митрополит Вениамин задумал произвести вскрытие мощей, но мощи святого князя были вскрыты, когда наступил час страшного испытания для Русской Православной Церкви. И святой князь Александр Невский, как всегда в годину испытаний, явился и сейчас, укрепляя священномученика Вениамина перед совершением предстоящего ему подвига.
Мягкий и уступчивый митрополит был избран Господом, чтобы первому выступить против захватчиков в рясах, измаранных в кабинетах ГПУ. Духовный меч Александра Невского лег в мягкую руку митрополита Вениамина. Что почувствовал в эту минуту владыка?
«Митрополит… — бегло заметил сотрудник «Петроградской правды», торопящийся написать газетный отчет, — как будто бы немного взволнован».
Поразительные изменения происходят в эти майские дни в митрополите Вениамине.
«1922 года, Мая 18-го дня. Я, следователь Петрогубревтрибунала Нестеров Ф. П., допросил митрополита Вениамина, который, будучи предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний, объяснил:
Он, митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин, Казанский Василий Павлович, 49 лет, из Олонецкой губернии, Карга-польского уезда, Андреевской волости, деревни Нименской. Образование высшее, холост, несудим…» Далее в протоколе допроса[62] в ту же строчку, через запятую, записано: «объявлений, воззваний не выпускалось никаких. Предъявленное мне обращение в петроградский Помгол было передано в комиссию в Смольном… Совет приходов представляет чисто самостоятельное учреждение. Распоряжение его не имеет для приходов обязательного значения… Мои распоряжения являются для верующих обязательными. Свое мнение Совет Советов (правление Общества православных приходов. — Н. К.) предъявляет на мое утверждение, после какового они являются уже обязательными для приходов».
Конечно, мягкость и уступчивость митрополита Вениамина, которые поминают почти все, знавшие владыку, не касались принципиальных вопросов. В православной вере митрополит Вениамин всегда был тверд. Теперь эта твердость проявляется и внешне. Решительно и твердо пресекает митрополит попытки Нестерова увязать инциденты, произошедшие при изъятии, — помянем здесь, что еще 16 мая все дела церковников были объединены в дело «О противодействии и злоупотреблениях при изъятии церковных ценностей»[63] — с деятельностью правления Общества православных приходов. Столь же решительно протестует он против попыток следователя снять с его плеч ответственность и переложить ее на предназначенное к закланию правление Общества.
В результате допрос митрополита Вениамина завершился постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого по делу о противодействии и злоупотреблении…
«1922 года, Мая 18-го дня. Я, следователь Петроградского губернского революционного трибунала Ф. П. Нестеров, опросив митрополита Гдовского и Петроградского Вениамина и усматривая наличность преступного деяния (агитация против изъятия церковных ценностей), постановил: привлечь Казанского Василия Павловича к следствию по обвинению в выпуске и распространении ответа петроградскому Помголу как агитационного средства для противодействия изъятию церковных ценностей.
Избрать меру пресечения способов уклонения от суда и следствия — подписку о невыезде из Петрограда».
Внизу бланка собственноручная расписка священномученика Вениамина: «Настоящее постановление мне объявлено, в чем и подписываюсь. Вениамин, митрополит Петроградский. Василий Павлович Казанский»[64].
Отметим и это совпадение… Подписка о невыезде взята с митрополита в тот самый день, когда обновленцам удалось выманить у патриарха Тихона благословение на передачу дел митрополиту Агафангелу. Но в этом совпадении в отличие от прочих никакой загадочности нет. Все делалось по строго согласованному плану. И все шестеренки в этом плане крутились как в хорошо отлаженном часовом механизме…
Глава пятнадцатая
Ненадежная вещь налаженные на отсчет сатанинского времени часы. 24 мая, в тот самый день, когда, получив мандат, отправился Александр Иванович Введенский в Петроград, лопнула главная пружина в часах… В этот день согласно официальному сообщению захворал острым гастроэнтеритом Владимир Ильич Ленин.
Гастроэнтерит — штука опасная. Особенно в Кремле… Особенно для членов Политбюро… У Владимира Ильича эта болезнь выразилась в полном расстройстве речи. Лечили Владимира Ильича десятки медицинских светил. Борясь с прогрессирующим параличом, больному привили малярию, приступы которой купировали хинином. Благодаря эффективной медицинской помощи на этот раз вождя мирового пролетариата удалось вытащить. К июлю он научился узнавать слова в заголовках статей и подписи, к октябрю уже складывал однозначные цифры и собирал расставленные вдоль дорожек парка грибы. Прошло еще немного времени, и он смог вернуться к руководству страной…
— Понимаете… — рассказывал он Льву Давидовичу Троцкому с недоумением. — Ведь ни говорить, ни писать не мог. Пришлось учиться заново…[65]
Лев Давидович тут явно что-то путает. Ухаживавшая за Владимиром Ильичем медсестра Е. И. Фомина писала, что в ночь на 6 марта 1923 года Ленин излагал свои мысли совершенно иным стилем.
— Помогите! Ах, черт! Йод помог, если это йод![66]
К годовщине же своего знаменитого письма о решительном и беспощадном сражении с черносотенным духовенством словарь Ленина уже ограничивался словами: «Вот, иди, идите, вези, веди, аля-ля, гут морген».
Еще иногда, неожиданно, и всегда не к месту, выскакивали слова: «Ллойд Джордж», «конференция», «невозможность»…
Но это будет через год, а пока, 24 мая 1922 года, острый гастроэнтерит свалил Ленина, и назначенное на 26 мая заседание Политбюро ЦК РКП(б) прошло без него. Политбюро приняло предложение Троцкого поддержать раскол Церкви.
Встреча Введенского с митрополитом Вениамином тоже состоялась 26 мая… К сожалению, разговор между ними происходил наедине, и никаких свидетельств, кроме «Открытого письма митрополиту Вениамину протоиерея Введенского», не осталось.
«Вы ждете моего покаяния. В чем? Какова моя вина? — с истерической запальчивостью писал в своем письме Александр Иванович. — Состава преступления у меня нет, с одной стороны, а с другой, если бы и был, ваша указываемая бумага и тогда была бы неправильна с формальной стороны. Почему вы не передали меня церковному суду? Потому что вы хорошо знали и знаете, что меня не в чем обвинить. Вы мне ставите в вину то, что я — член Высшего Церковного Управления Русской Православной Церкви. Да, согласно резолюции Святейшего патриарха Тихона от 5 мая (18 мая по новому стилю. — Н. К.) мне вместе с некоторыми епископами и священниками поручено временное ведение дел Высшего Церковного Управления. Об этом вы знали, так как 26 мая я предъявил вам свой мандат Xs 13 за подписью епископа Леонида и печатью ВЦУ, где говорится об этой патриаршей резолюции. Я вам указал, что подлинная резолюция Святейшего патриарха хранится в Москве в делах ВЦУ (Троицкое патриаршее подворье, 2-й Троицкий переулок). И там его (кого? — Н. К.) могут видеть все желающие…»
Как видно из этого документа, в Александре Ивановиче Введенском после того, как он назначил себя заместителем председателя Высшего Церковного Управления, тоже произошли решительные перемены. Забывая о прежних обновленческих замашках, Введенский исполнен внешней почтительности к церковной иерархии и обычаям церкви. Он даже не пользуется введенным большевиками новым календарным стилем. Кроме того, появляется в нем и столь несвойственное его натуре, переходящее в формализм законопослушание.
«Открытое письмо», конечно, не лучший источник для воссоздания картины происходившей 26 мая беседы, но очевидно, что аргументация самого Введенского сохранена в письме без изменений.
Увы… Совершившиеся в Александре Ивановиче перемены не коснулись его склонности к авантюрам. Все сйои доказательства он строил на подлоге. Как мы помним, в резолюции патриарха Тихона обновленцам с многочисленными оговорками поручалось лишь «принять и передать дела», Введенский же говорит о «ведении дел». Разница существенная…
И тут мы снова должны попытаться понять, на что же рассчитывало ГПУ, снаряжая Введенского в Петроград. Да, патриарх был надежно изолирован, и навести у него необходимые справки для разоблачения никто бы не сумел. Судя по тому, что Введенский с запальчивостью изобличенного мошенника твердил, дескать, любой человек может познакомиться с резолюцией патриарха, резолюция эта тоже была упрятана достаточно надежно. Но ведь митрополиту Вениамину и не надо было наводить справки! Без всяких справок знал он, что патриарх Тихон просто не мог, пусть даже и временно, передать церковную власть в руки Введенского.
Мы знаем, что Введенский гордился тогда своей способностью «уговорить и стену». Не менее наглой самоуверенностью обладали и другие обновленцы. Так что с ними все ясно… Но Е. А. Тучков всегда отличался здравомыслием и практичностью. Он-то должен был понимать, что митрополита Вениамина обмануть все равно не удастся…
Думается, что Тучков и не рассчитывал, что митрополит поверит Введенскому. Тучкову было достаточно, если бы митрополит сделал вид, что поверил, или хотя бы вступил в переговоры с ВЦУ на предмет выяснения законности и полномочий этого органа…
Митрополит Вениамин не оправдал надежд ни обнозленцев, ни Тучкова. Спокойно выслушал он повествование Александра Ивановича о том, как несчастный патриарх Тихон в силу сложившихся обстоятельств вынужден был передать управление Русской Православной Церковью Введенскому, Красницкому и Белкову, а затем, даже не взглянув на мандат, объявил, что отлучит от Церкви всех троих, если они не опомнятся и не принесут покаяния в самовольном захвате церковной власти.
Это был сокрушительный удар… Под разящим духовным мечом разлетелись все хитросплетения и интриги, и Введенский униженно начал канючить, что, если владыка не доверяет ему, пусть отдаст его под церковный суд, и суд выяснит все обстоятельства и примет правильное решение. Церковный суд — дело шло о похищении патриаршей власти — состоялся бы в Москве и организовывало бы его все то же ВЦУ. Не составляет труда предугадать исход подобного суда. Но митрополит не поддался и на эту уловку. Аудиенция была закончена.
Вечером Введенский получил из канцелярии митрополита уведомление. Если Введенский не принесет покаяния, 28 мая, в воскресенье, по всем петроградским храмам будет возвещено о его отпадении от Церкви.
Суббота была тогда выходным днем, и Александр Иванович, несмотря на все хлопоты, так и не сумел связаться с нужными начальниками, чтобы они каким-либо образом предотвратили готовящийся удар.
28 мая послание митрополита Вениамина было прочитано в петроградских церквах:
Тревожно бьются сердца православных, волнуются умы их. Сообщение об отречении Святейшего патриарха Тихона, об образовании нового Высшего Церковного Управления, об устранении от управления епархией Петроградского митрополита и т. п. вызывает великое смущение… «Кто не с епископом, тот не в Церкви», — говорит муж апостольский Игнатий Богоносец. Епископом Петроградским является митрополит Петроградский. Послушаясь ему, в единении с ним — и вы будете в Церкви. К великому прискорбию, в Петроградской Церкви это единение нарушено, петроградские священники: протоиерей Александр Введенский, священник Владимир Красницкий и священник Евгений Белков без воли своего митрополита отправились в Москву, приняв там на себя Высшее Управление Церковью. И один из них, протоиерей А. Введенский, по возвращении из Москвы объявляет об этом всем, не предъявляя на это надлежащего удостоверения Святейшего патриарха. Этим самым по церковным правилам (Двукр. собор; прав. Вас. Великого) они ставят себя в положение отпавших от общения со Святой Церковью, доколе не принесут покаяния пред своим епископом. Такому отлучению подлежат и все присоединяющиеся к ним. О сем поставляю в известность протоиерея А. Введенского, священника В. Красницкого и священника Е. Белкова, чтобы они покаялись, и мою возлюбленную паству, чтобы никто из них не присоединялся к ним и через это не отпал от общения со Святой Церковью и не лишил себя ее благодатных даров…
Вениамин, митрополит Петроградский.
15/28 мая 1922 г.
Воистину грозный блеск разящего меча есть в этом послании. Так получилось, что митрополиту Вениамину выпало первым выступить против выкравших высшую церковную власть обновленцев, и он предстал перед ними как грозный воин. Страшен был удар, нанесенный им.
В. Д. Красницкий скажет потом на процессе:
— Вот письмо на имя Председателя ВЦИК товарища Калинина. Патриарх Тихон говорит: нахожу полезным для блага церкви поставить временно до созыва собора или Ярославского митрополита Агафангела, или митрополита Петроградского Вениамина. Так что здесь, хотя имя митрополита Вениамина было, патриарх Тихон послал нас к Агафангелу — его воля была нас послать и к митрополиту Вениамину. И вот в это время, когда мы наладили управление, когда мы ожидали прибытия Агафангела, то для оповещения послан был в Петроград личный друг митрополита Вениамина, отец Александр Введенский, который как раз взял на себя эту миссию ввиду особенно дружественных отношений к митрополиту — поставить его в известность об этом событии. И вдруг мы узнаем совершенно невероятную вещь. На основании слухов, дошедших до митрополита, он нас троих отлучил от церкви… Это был, конечно, самый большой удар, который нанесли нашему церковному управлению представители монашествующего духовенства…
Красницкий давал эти показания, когда отлучение с обновленцев по настоянию ГПУ было снято епископом Алексием Симанским. Но страх Красницкого не рассеялся и тогда. Каково же чувствовал себя Александр Иванович Введенский, когда послание митрополита только-только было оглашено в храмах? Судя по всему, Введенского охватила паника. В тот же день он явился к митрополиту Вениамину в сопровождении И. П. Бакаева, которому в свое время было поручено возглавить кампанию по решительному и беспощадному изъятию церковных ценностей. Вообще-то появляться в обществе такого человека главе обновленцев не полагалось, но Введенский совсем потерял голову. Тут, когда прахом шло все выстраданное в кабинетах ГПУ дело, было уже не до щепетильности. Введенский попросил Бакаева потребовать от митрополита, чтобы он дезавуировал свое послание.
Иван Петрович Бакаев и потребовал. По-чекистски прямо предъявил митрополиту ультиматум. Или — или. Или митрополит снимает отлучение с Введенского, или его самого ожидает немедленный арест и расстрел.
— На все воля Господня… — ответил непрошеным гостям митрополит. — Ступайте с Богом.
О чем говорили Бакаев и Введенский, покидая митрополита, неизвестно. Но подлинно известно, что уже в этот день Введенский сидел в кабинете следователя Нестерова и торопливо, стараясь никого не забыть, давал показания.
«С сего числа я отлучен митрополитом от церкви за то, что являлся членом Высшего Церковного Управления. После выхода декрета, на масленой неделе, состоялось собрание благочинных, на которое я допущен не был. По слухам, там вырабатывалась точка зрения на декрет. По окончании недели я был приглашен на собрание, где профессор Новицкий от имени правления произнес мне порицание за мое письмо в «Правду»…»
Нет нужды перечитывать все протоколы допроса Введенского. Ф. П. Нестеров не успевал записывать сыплющийся из Введенского компромат.
Так много хотелось сказать Введенскому, что он согласился прийти на следующее утро и продолжить свои показания. И пришел ведь. Охваченный доносительским вдохновением, он продолжал закладывать своих бывших друзей.
«На вопрос следователя — была ли профессором Бенешевичем произнесена фраза «приходится верить, что согласно предсказаниям наступает конец этой большевистской власти. Она теперь напивается церковной крови и потому должна погибнуть»? — ответил: «На заседании в Богословском институте, на котором обсуждались тезисы моего доклада «Церковь и голод», на котором присутствовали Бенешевич, Белков, Быков, Бриллиантов, Карабанов и я, такая фраза, насколько помню, была произнесена. Только не помню: «кровью», «церковными силами» или «церковью»… Но в связи с разрушением церкви погибнуть… Такую фразу я сам слышал на заседании, причем она была сказана в речи профессора Бенешевича…»[67]
Бенцом же этого воистину вдохновенного стукачества Александра Ивановича Введенского является его заявление, написанное прямо на бланке следчасти Петроградского губернского революционного трибунала:
«В Ревтрибунал. Прошу предоставить мне возможность выступить на процессе с защитительной речью. Я собираюсь вскрыть и подчеркнуть все язвы церковности, все заигрывания церкви с контрреволюцией, но вместе с тем просить пощады этим личностям, как таковым. Протоиерей А. Введенский»[68].
Ах, Александр Иванович, Александр Иванович… Какое надо сердце иметь любвеобильное, как самому надо это сердце свое любить в себе, чтобы, излившись потоком самых подлых доносов, хотя бы в глазах следователя Нестерова попробовать возвыситься над теми, кого ты закладывал. Как-то особенно ясно понимаешь тут, почему Е. А. Тучков потом «с величайшим презрением» отзывался об Александре Ивановиче Введенском. Судя по характеру записи, с трудом сдерживал свое презрение к Введенскому и следователь Нестеров.
Но презрение презрением, а служба службой. В этот же день, исполняя указание вышестоящих товарищей, Нестеров пишет постановление:
«Я, следователь Петроградского губернского революционного трибунала Нестеров, рассмотрев следственный материал по делу о противодействии при изъятии церковных ценностей и принимая во внимание, что оставление при свободе привлеченного в качестве обвиняемого митрополита Петроградского Вениамина (он же Казанский Василий Павлович) может вредно отразиться на ходе следствия по настоящему делу, постановил: меру пресечения уклонения от суда и следствия изменить и подвергнуть Казанского Василия Павловича домашнему аресту»[69].
— Вы знаете, — говорил в эти дни Введенский, — утверждают, что я предался, что я заключаю в тюрьмы и что я виновник бесчисленных бед. Может быть, если бы я вам сказал, что это не так, вы бы мне не поверили. Конечно, я скажу, что это не так, и все-таки многие мне не поверят, но у меня есть и известное объективное, с чем я могу выступить здесь. Я позавчера подал в Революционном Трибунале заявление, просьбу письменную, чтобы мне разрешили выступить на суде защитником митрополита и всех прочих, привлеченных к этому делу…[70]
Эти слова, произнесенные А. И. Введенским во Дворце им. Урицкого, мы цитируем по изданной в Смольнинской типографии брошюре. Лекция была отредактирована Введенским уже после того, когда его свалил камень, брошенный в вождя обновленчества у здания Филармонии, где проходил процесс. Камень этот если и не поубавил злобы Александра Ивановича, то научил его не проявлять так открыто своих эмоций… До камня, судя по воспоминаниям очевидцев, Введенский был еще более откровенен, чем в своей книге.
«В Духов день делал доклад протоиерей Введенский. Он публично сообщил, что расстрел пяти священников в Москве был ответом на его отлучение от церкви, — говорил протоиерей Павел Антонович Кедринский. — Я эти слова понял как террор по отношению к духовенству. Я понял, что Введенский клевещет на Советскую власть. Введенский сказал, что исход настоящего процесса зависит от постановления Пастырского собрания…»[71]
Введенский защищал себя, не брезгуя никакими средствами. Точно так же, защищая протопопа-большевика, работали ГПУ и агитпроп.
Уже 30 мая «Петроградская правда» вышла с шапкой на первой полосе «Вениамин Петроградский раскладывает костер гражданской войны, самозванно выступая против более близкой к народным низам части духовенства. Карающая рука пролетарского правосудия укажет ему настоящее место!»
«Митрополит Вениамин, бросая вызов лояльной части духовенства, — вещала газета, — мало того, что раздувает костер гражданской войны внутри церкви, он через головы ее бросает вызов и Советской власти. Он идет дальше самого патриарха Тихона, своевременно отошедшего в сторону под давлением низов… Поджигатель в белом клобуке… он брызжет бешеной слюной в своих противников… не может примириться, что его подлая роль сыграна».
В тот же день, 30 мая, на заседании Бюро губкома РКП(б) было решено форсировать подготовку процесса «о попах». Главным обвиняемым Бюро обкома назначило митрополита Вениамина.
Вот когда воистину горячие деньки наступили для следователя Ф. П. Нестерова. Он и раньше трудился не покладая рук. Так, например, только 24 мая провел восемь допросов… Но теперь, когда следствию начал помогать Введенский, работы прибавилось еще больше. Срочно отсеивались случайные обвиняемые, их места в тюремных камерах занимали влиятельные в православных кругах люди.
1 июня, утром, из Москвы пришла телеграмма. «Петроград. Губотдел ГПУ. Митрополита Вениамина арестовать и привлечь к суду. Подобрать на него обвинительный материал. Арестовать его ближайших помощников — реакционеров и сотрудников канцелярии, произведя в последней тщательный обыск. Вениамин Высшим Церковным Управлением отрешается от сана и должности. О результатах операции немедленно сообщите. НачсоперупрГПУ Менжинский».
В этот день в Петрограде шли дожди и дул сильный ветер. Тем не менее, несмотря на непогоду, митрополит не отказался от положенной прогулки. Гулял он здесь же, в Лавре, на Никольском кладбище.
Митрополит стоял у могилы блаженного Митрофана, когда прибежавший келейник сказал, что приехали агенты ГПУ. Перекрестившись, митрополит направился в канцелярию, где уже шел обыск.
С обыском, который в соответствии с указанием Менжинского делался особенно тщательно, чекисты подзадержались. Прибывший занять канцелярию Александр Иванович Введенский явился, когда митрополита еще не успели увести в тюрьму. Введенский, однако, не смутился. Со свойственной ему наглостью подошел к владыке и попросил благословения.
— Отец Александр… — отстраняясь от него, сказал митрополит, — мы же с вами не в Гефсиманском саду.
Больше к себе, в Александро-Невскую лавру, митрополиту уже не суждено было вернуться. Как и указывал Менжинский, быстренько подобрали обвинительный материал, и уже 3 июня состоялось распорядительное заседание президиума Петрогуб-ревтрибунала. Председатель т. Озолин, зампредседателя т. Березовский, наблюдавший за следствием т. Кирзнер постановили:
«Заключительное постановление следователя Нестерова утвердить. Дело назначить к слушанию в открытом судебном заседании по военному отделению на 10 июня. В состав судебного присутствия назначить: председателя Яковченко, членами Семенова и Каузова, зам. членов Смирнова и Иванова. Общественными обвинителями назначить по делу Позерн, Лещенко, Драницына и Крастина. Допустить по делу защиту»[72].
Это было 3 июня, а еще накануне митрополит Вениамин был передан из ГПУ в трибунал и заключен в тюрьму.
Земной жизни митрополиту Вениамину оставалось ровно семь недель. Говорят, что все эти семь недель митрополит молился помногу часов в день…
Глава шестнадцатая
Послание митрополита Вениамина, прочитанное в петроградских храмах 28 мая, действительно было «самым большим ударом», нанесенным по ВЦУ. Спасая свой, с таким трудом созданный отдел, ГПУ провело аресты. В начале июня и упрямый митрополит, и все близкие ему люди уже сидели в тюрьме, а с оставшимися на свободе епископами шла непрерывная и кропотливая работа.
Первый раз Ф. П. Нестеров допрашивал епископа Ямбургского Алексия (Симанского), будущего патриарха Русской Церкви, еще 26 мая. На допросе епископ Алексий держался достойно, как и подобает епископу.
«По вопросу об организации церковного управления епархии должен сказать, что в нем отсутствует принцип коллегиальности и управление епархией осуществляется единолично митрополитом, причем викарии, владыки являются его помощниками по различным отраслям и каждый имеет свою область, в которой он действует с благословения и по указанию митрополита. В частности, относительно участия в редакции заявлений и воззваний владыки митрополита имею сказать, что ни я владыкою, ни другие викарии, насколько мне известно, не привлекались к этой работе и мы ознакомились с их содержанием лишь тогда, когда они были уже готовы…[73]
Как видно из документов «Дела», через несколько дней епископ Алексий снова был в следчасти трибунала. Он подал Нестерову такое заявление:
«При осмотре моих вещей в ПГО ГПУ 29/30 апреля сего года у меня была отобрана моя трудовая книжка за № 5963, выданная 21 апреля 1921 г., моя личная карточка и небольшого размера псалтырь. Прошу эти вещи мне вернуть. Еп. Алексий»[74].
На этот раз, однако, беседа не ограничилась существом заявления. Уже прочитано было в храмах послание митрополита Вениамина. Самого митрополита арестовали, и с епископом Алексием говорили не о его трудовой книжке, а о судьбе владыки.
Анатолий Левитин, ссылаясь на свидетельство Александры Васильевны Волковой, близко знавшей епископа Алексия, утверждает, что во время беседы «в нецерковном учреждении» епископу был предъявлен ультиматум. Трое отлученных митрополитом Вениамином от церкви священников должны быть восстановлены в своих правах. В противном случае митрополит будет расстрелян.
Епископ Алексий попросил дать ему время на размышления и собрал Епархиальный Совет. Мнения там разделились, но Алексий уже принял решение.
На Троицу, 4 июня 1922 года, в соборе Александро-Невской лавры верующим раздали его воззвание:
Я обращаюсь ко всем верующим с архипастырским призывом к миру! — писал новый управляющий Петроградской епархией. — Мир имейте и любовь христианскую между собой и успокойтесь в сознании, что я, как архипастырь ваш, стою на страже блага церкви и уповаю с Божией помощью это благо охранить и дать мир, к которому так стремится душа христианская…
Ввиду исключительных условий, в какие поставлена Промыслом Божиим Церковь Петроградская, и, не решаясь подвергнуть в дальнейшем мире церковном какого-либо колебания, я, призвав Господа и Его небесную помощь, имея согласие Высшего Церковного Управления, по преемству всю полноту власти замещаемого мною владыки митрополита, принимая во внимание все обстоятельства дела, признаю потерявшим силу постановление митрополита Вениамина о незакономерных действиях прот. Александра Введенского и прочих упомянутых в послании владыки митрополита лиц и общение их с церковью признаю восстановленным. В тяжелую минуту церковных смут соединимся в любви друг к другу, будем молиться, чтобы грядущий православный церковный Собор успокоил все мятущиеся и дал новые благодатные силы всем нам служить Господу и миру церковному.
«Тем же убо, — по апостолу, — мир возлюбим и яже к созиданию друг ко другу» (Римл. 14,19).
Управляющий Петроградской епархией
Алексий, епископ Ямбургский[75].
Введенский и его покровители из ГПУ могли торжествовать… Они и торжествовали… Митрополит Вениамин был вскоре расстрелян… Когда епископ Алексий узнал об этом, он разрыдался, как ребенок.
Безусловно, епископ Алексий совершил ошибку. Можно сказать, что в какой-то мере он проявил и малодушие, хотя вернее все-таки говорить о растерянности… Однако едва ли мы имеем право осуждать будущего патриарха за эту слабость. Митрополит Киевский Владимир, патриарх Тихон, митрополит Ярославский Агафангел, митрополит Петроградский Вениамин… Все они были святыми… Все они принадлежали ко времени открытого противостояния агрессии безбожия. Епископ Алексий принадлежит уже к другой формации архиереев Русской Православной Церкви. На их долю выпало управлять Церковью, когда противостояние государственному атеизму приобрело характер сугубо внутрицерковной работы и делания. Святых среди этих иерархов было меньше, но это не значит, что их деятельность менее ценна. Забегая вперед, скажем, что, когда знакомишься с материалами по истории церкви в двадцатые — тридцатые годы, возникает ощущение, что некоторые наши епископы и митрополиты жертвовали своим мученическим венцом. И делали это не из личного страха, а опять-таки во имя церкви…
Епископ Алексий (Симанский) — первый из вступивших на путь поиска компромиссов. Путь этот был извилистым и опасным. Свою ошибку с реабилитацией обновленцев епископ Алексий понял очень быстро. Управляя Петроградской епархией после митрополита Вениамина, он всячески затягивал рёшение вопроса о подчинении епархии ВЦУ, посылая своих представителей к патриарху Тихону, чтобы получить благословение. Посланцев к патриарху, конечно, не допустили, и епископу Алексию стало невозможно обманываться и дальше насчет обновленцев. Внутренней силы для борьбы с ними он пока не чувствовал и поэтому 24 июня подал заявление: «Ввиду настоящих условий признаю для себя невозможным дальнейшее управление Петроградской епархией, каковые обязанности с сего числа с себя слагаю». Сумел, как мы видим, остановиться на опасном и гибельном пути.
Дальнейшая деятельность архипастыря Алексия (Симанского) — предмет совершенно другого исследования, и поэтому здесь мы и простимся с ним, а вернемся к Александру Ивановичу Введенскому, который переживал 4 июня 1922 года подлинный триумф.
Утром 4 июня он совершал литургию в своем храме Захария и Анны, а вечером читал лекцию «Церковь и революция» в Таврическом дворце, переименованном теперь во Дворец им. Урицкого.
— Церковь Христова, Церковь Господня выходит перед нами юной прекрасной девушкой, в светозарной одежде, с белыми лилиями в руках… — соловьем заливался Введенский.
— И наганом в другой руке! — закричал кто-то из зала, но Александр Иванович не смутился.
— Как ясен ее взор! Сколько огня любви в ее поступках! — возвысил он голос.
Смутьяна наряд милиции увел в участок, и Александр Иванович продолжал свою речь уже без помех.
Три часа, не прерываясь, говорил Введенский. Он все рассказал, все объяснил. Ему казалось, что он всех и убедил. Глаза его горели, голос то гремел, то дрожал… Триумф был полный.
Напряженно готовится в эти дни Александр Иванович Введенский и к процессу. Он обещал следователю, «что вскроет все язвы церковности», но кроме этого собирался превратить суд над священномучениками в свой окончательный триумф…
Процесс начался 10 июня в помещении Филармонии. В 16 часов председатель Яковченко огласил состав суда. Представителями обвинения были назначены Смирнов, Лещенко, Красиков, Драницын, Крастин. Защиту представляли Бобрищев-Пушкин, Гамбургер, Гартман, Гиринский, Генкен, Гурович, Жижиленко, Иванов, Масинзон, Ольшанский, Павлов, Равич, Раут, Элькин, Энтин.
Между прочим, все защитники, за исключением В. М. Бобрищева-Пушкина, объявили себя атеистами.
В литературе о процессе существует стойкое убеждение о некоей исключительно позитивной роли защитника Я. С. Гуровича, которому Комитет политического Красного Креста поручил защиту митрополита. Литератор Александр Иосифович Нежный в повести «Плач по Вениамину» пишет: «Гурович и Равич противостояли Красикову и Смирнову. Два русских хотели Вениамина и Новицкого убить, а два еврея стремились их спасти».
Весьма рискованное умозаключение… И дело не только в том, что саму защиту Якова Самуиловича Гуровича назвать блистательной затруднительно. Вел ее Яков Самуилович вяло и несмело. Некоторая активность появлялась в его действиях только, когда дело касалось «еврейского» вопроса. Так, например, Гурович изобличил В. Д. Красницкого в связях с черносотенцами. Основную же заслугу Русской Церкви Яков Самуилович видел в той позиции, которую заняла она в деле Бейлиса.
— Русское духовенство, — говорил он на процессе, — плоть от плоти и кость от кости русского народа. Красиков ни единым звуком не обмолвился об огромной заслуге духовенства в области народного образования, что духовенство самоотверженно служило делу образования. В дни процесса Бейлиса именно духовенство было против процесса. Эксперты свящ. А. Глаголев и проф. Духовной академии Троицкий решительно отвергли употребление евреями христианской крови. Я — еврей, счастлив и горд засвидетельствовать, что еврейство всего мира питает уважение к русскому духовенству и всегда будет благодарно последнему за позицию, занятую русским духовенством в деле Бейлиса…
Все это, разумеется, не значит, что, будь на месте Гуровича другой защитник, что-то изменилось бы. Увы… Приговор митрополиту Вениамину был вынесен еще до начала процесса. Сам же процесс был лишь спектаклем, где все роли, и Гуровича в том числе, были расписаны заранее.
После процесса Я. С. Гуровичу разрешили уехать из Советской России, и конец жизни он провел во Франции, где, как едко заметил Н. А. Струве, зарабатывал чтением лекций о деле митрополита Вениамина.
Все это, разумеется, говорится не для того, чтобы, подчеркнув надуманность противопоставления А. И. Нежного, организовать совершенно иное противопоставление. Нам кажется, что сталкивать на этом поле евреев и русских оскорбительно для тех и для других. Более того, мы считаем, что местечково-большевистская ненависть к Русской Православной Церкви, которая так ярко проявилась в 1922 году, не может быть распространена на всех евреев вообще.
Тем не менее «спектакль» развивался не по тому сценарию, который задумывали в ГПУ.
Самой большой неожиданностью для чекистов была потеря Александра Ивановича Введенского. Он активно помогал подобрать обвинительный материал еще в ходе следствия, должен он был выступать и на процессе.
Как рассказывал сам Введенский, он собирался построить «защиту» на психологическом анализе характера митрополита Вениамина.
— Трудно было представить себе более некомпетентного в политике человека… — откровенничал Александр Иванович. — Вот я и хотел изобразить трагедию благочестивого, доброго монаха, которым вертели, как хотели, церковники…
Отметим попутно, что заменивший Александра Ивановича Яков Самуилович Гурович именно так и «защищал» владыку. Все время подчеркивал, что митрополит Вениамин не похож на гордого «князя церкви», что это «немудрый сельский попик, кроткий и смиренный». Более всего опасался Яков Самуилович, что митрополит может быть объявлен верующими мучеником.
— Живой митрополит вам кажется опасным, но мертвый он во сто раз опаснее для вас… — предостерегал он членов трибунала. — Не станет ли он стягом, кругом которого объединится вся церковь? Не забывайте, что на крови мучеников растет церковь — не творите же мучеников!
Но разумеется, Введенский сказал бы все это ярче и убедительней. И не только потому, что он вообще был талантливее Гуровича, но прежде всего потому, что, морально уничтожая митрополита, он возвышался бы сам. А в таких случаях неведомо откуда у Введенского всегда прибавлялось сил, хитрости и подлости…
«Является величайшей загадкой, — пишут авторы «Очерков по истории русской церковной смуты», — каким образом А. И. Введенский — добрый, сердечный человек, к тому же — искренне религиозный, мог с такой непостижимой легкостью переступать через людское горе — слезы и кровь. И думается, что разгадка в том опьяняющем действии, которое оказывал на него успех… «А вы знаете, хорошо быть триумфатором, хорошо…» — говорил он одному из авторов как-то с мечтательной улыбкой, видимо, вспоминая свои прошлые «триумфы». Эта болезненная жажда успеха странно сочеталась в нем с религиозным порывом».
В отличие от А. Левитина-Краснова и В. Шаврова я не буду поминать доброту и сердечность Александра Ивановича Введенского. Другое дело — религиозность… Разумеется, Введенский был глубоко религиозным человеком в том смысле, что почти всю свою сознательную жизнь посвятил разрушению Православной Церкви.
О совращении человека дьяволом написано множество книг. И все-таки история Александра Ивановича Введенского могла бы достойно украсить эту литературу…
Еще в детстве Александр Иванович увидел приехавшего в Витебск святого отца Иоанна Кронштадтского. Служба, которую совершал он, поразила молодого Введенского. Ему захотелось стать таким же, как отец Иоанн Кронштадтский. Само по себе пожелание благое, но, конечно, из разряда тех, которыми мостится дорога в ад. Тем более что Александр Иванович собирался усвоить лишь манеры отца Иоанна Кронштадтского, а не сущность его святости. Ему хотелось вести себя как святой, не будучи святым, не утруждая себя никаким внутренним деланием… Из этого и не могло ничего получиться, кроме обновленчества. В помрачении дерзостной гордыни Александр Иванович решил заменить внутреннее делание переустройством Церкви. Замысел воистину сатанинский. Не самому расти, чтобы стать верным сыном Православной Церкви, а Церковь переделать так, чтобы удобнее было осуществляться в ней. Как показывает история дальнейшей жизни Александра Ивановича, в своих сатанинских планах он весьма преуспел. Не принимая монашеского пострига и даже не прерывая семейной жизни, Введенский примет вначале сан архиепископа, затем митрополита и в конце концов объявит себя первоиерархом, причислит к лику святых собственную мать, эту «провинциальную даму среднего буржуазного круга, незлую и неглупую», нарожает кучу детей и, конечно же, лишится Церкви… Обновленческая церковь, трудолюбиво возведенная ГПУ, рассыплется, как только ГПУ перестанет поддерживать ее… В 1945 году Введенский вел долгие переговоры о возвращении в настоящую Церковь. Вначале он просил принять его в сан епископа и изъявлял готовность переменить свое семейное положение. Но епископ Введенский был не нужен Русской Православной Церкви, и Александр Иванович согласился на профессора Духовной академии. Однако и профессором Введенского тоже не взяли. Патриарх Алексий не повторил ошибки, совершенной им в 1922 году. Введенскому было разъяснено, что после принесения покаяния он может быть принят лишь мирянином в Православную Церковь. Что же касается должности, то ничего, кроме места рядового сотрудника в журнале Московской патриархии, Церковь ему предложить не может…
Александр Иванович обиделся и через год, так и не вернувшись в Православную Церковь, умер.
12 сентября 1939 года Введенский записывал в своем дневнике: «Если взять мою внутреннюю жизнь, то она вся полна света, и внешним выражением ее является успех, иногда триумфальный успех». Запись сделана, когда Введенскому исполнилось пятьдесят лет. Пятьдесят лет исполнилось бы в 1922 году и митрополиту Вениамину, если бы он не был расстрелян возле станции Пороховые, окруженный ореолом священномученичества.
Все это нельзя назвать простыми совпадениями… Неведомыми нам путями творится Воля Господня. Но результат Ее является таким образом, чтобы любой человек мог различить и узнать буквы, высеченные Господом в поучение нам. Велик и милостив Господь. Любому чаду своему дает он возможность раскаяться в совершенных ошибках, исправить их и спастись. И каждый человек сам решает, как воспользоваться предоставленной ему возможностью…
Мы рассказали сейчас о судьбе Александра Ивановича Введенского, потому что настало время проститься с этим героем. Сейчас мы навсегда расстаемся с ним в нашем повествовании… Намеченный ГПУ «триумф» Введенского не состоялся. Когда 10 июня он выходил из Ревтрибунала, в голову его ударил камень, брошенный из толпы.
12 июня председатель трибунала Яковченко огласил заявление А. И. Введенского:
«10 июня при выходе из Ревтрибунала я ранен в голову. Вследствие этого я по предписанию врача лежу в постели и поэтому в течение ближайших дней не могу явиться в Ревтрибунал для дачи свидетельских показаний по делу церковников»[76].
Женщину, бросившую камень, арестовали.
На допросах она твердила, что увидела дьявола и поэтому и бросила в него камень.
— Вы бросили камень в гражданина Введенского! — говорил следователь.
— Нет! — упрямо отвечала женщина. — Я бросала камень в дьявола…
Глава семнадцатая
Двадцать лет назад, 12 мая 1902 года, в Самаре совершалась закладка нового храма здешней семинарии. По этому случаю было совершено архиерейское служение. После причастного стиха ректор Самарской семинарии архимандрит Вениамин произнес речь:
«Братие христиане! Скромный семинарский храм видит сегодня в своих стенах необычное стечение молящихся… Своды его оглашаются архиерейским богослужением. Архипастыря и посторонних богомольцев привлекло сюда желание участвовать в закладке церкви при новой семинарии. Прежде чем приступить к этому делу, на старом месте молитвы испрашивается благословение Божие. Отсюда оно в святых мощах угодников Божиих как бы видимым образом переносится на освящение новому месту прославления имени Господня. Совершается священнодействие, важное и торжественное: старый храм посылает благословение новому и между ними устанавливается невидимая таинственная связь…»
Едва ли кто из слушавших ректора догадывался, что слушает будущего Святого, священномученика Российского.
Это знаем мы. И воистину дивной представляется нам невидимая, таинственная связь, соединяющая берег Волги с берегом Невы и через судьбу священномученика митрополита Вениамина Петроградского и Гдовского, и через судьбу митрополита Иоанна Санкт-Петербургского и Ладожского. Оба владыки начинали свое пастырское служение в Самаре…
Разгадать эту мистическую связь невозможно, но невозможно и не заметить ее. И есть, есть какое-то таинственное значение в том, что одна из немногих опубликованных речей священномученика Вениамина — речь при закладке семинарской церкви… Хотя и говорил ректор именно о закладке церкви, сейчас кажется, что он говорил тогда о себе самом, говорил, словно бы прозревая и свою судьбу, и предстоящий ему во имя святой Русской Церкви, во славу Божью подвиг…
Сохранилась фотография — суд над «церковниками» (июнь— июль 1922 года). Почти сто подсудимых. В центре — в белом клобуке митрополит Вениамин. Справа — епископ Венедикт, слева — протоиерей Чуков, будущий митрополит Ленинградский Григорий. Во втором ряду — Иван Михайлович Ковшаров, Юрий Петрович Новицкий… За спинами подсудимых — чекисты с наганами. Часть из них в фуражках, часть — в островерхих буденовках.
Снимок сделан в большом зале Филармонии, где проходили заседания Революционного трибунала.
Это удивительная фотография. Часами можно вглядываться в спокойные, красивые и очень одухотворенные лица людей, которые позаботились «об устроении своего внутреннего храма»…
«Закладка совершена… — говорил Вениамин. — Камень краеугольный, живая вера во Иисуса Христа есть. Но закладка ведь только начало дела. На фундаменте нужно возводить здание. При устройстве вещественных зданий употребляется камень, кирпич, дерево… При создании храма духовного — церкви Бога жива — таковыми материалами являются добрые мысли, желания, дела. Когда ими украшена душа, тогда только Бог может обитать в ней. Много нужно потрудиться, чтобы привести душу в такой вид. Для этого нужно оторвать ее от привязанности ко всему греховному, что требует постоянного бдительного наблюдения не только за делами рук наших, но и за мыслями, желаниями и чувствами, чтобы ничто скверное и нечистое не закралось в душу нашу!»
Сам митрополит Вениамин тоже сумел устроить свой внутренний храм. И в этом храме не могло быть места ничему скверному и нечистому.
— Нет! — ответил он, отвергая ультиматум Введенского.
— Нет! — отвечал он и на процессе на все попытки разделить ответственность с другими подсудимыми.
Стенограмма допроса митрополита на процессе занимает несколько десятков машинописных страниц. Имя его постоянно появлялось и в допросах других обвиняемых и свидетелей. Целый месяц, пока шло это судилище в Филармонии, митрополит Вениамин подвергался бесконечному потоку издевательств, укрыться от которых он мог только в своем «внутреннем», как он говорил, храме.
Ему подстраивали ловушки, его уговаривали отступиться, ему открыто угрожали — митрополит не дрогнул. Читая протоколы, поражаешься сейчас, как спокойно и без всяких, кажется, усилий, разрушал своими ответами митрополит Вениамин все хитроумные западни, возводимые обвинителями из ВЦУ и ГПУ. Впрочем, могло ли быть иначе? Сила Господня поддерживала священномученика, необоримой была крепость устроенного им в своей душе храма.
Трудно, тяжело страдать… — напишет митрополит Вениамин за несколько дней до своего расстрела. — Но по мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога. Трудно переступить этот Рубикон, границу, и всецело предаться воле Божией. Когда это совершится, тогда человек избыточествует утешением, не чувствует самых тяжких страданий, полный среди страданий внутреннего покоя, он других влечет на страдания, чтобы они переняли то состояние, в каком находится счастливый страдалец. Об этом я ранее говорил другим, но мои страдания не достигали полной меры. Теперь, кажется, пришлось пережить почти все: тюрьму, суд, общественное заплевание; обречение и требование этой смерти; якобы народные аплодисменты; людскую неблагодарность, продажность; непостоянство и тому подобное; беспокойство и ответственность за судьбу других людей и даже за самую Церковь.
Страдания достигли своего апогея, но увеличилось и утешение. Я радостен и покоен, как всегда. Христос — наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо. За судьбу Церкви Божией я не боюсь. Веры надо больше, больше ее иметь надо нам, пастырям. Забыть свои самонадеянность, ум, ученость и силы и дать место благодати Божией.
И как тут не подивиться промыслительности всего, совершающегося по воле Божией. То золото, которого так жадно искали в наших православных храмах Троцкие, бухарины и Зиновьевы, никуда не ушло от нас. Переплавленное страданиями, оно сохранилось драгоценными подвигами наших новомучеников.
10 июня, когда начался процесс, многотысячная толпа окружила здание Филармонии. Все ожидали появления митрополита. Его привезли. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое…» — воистину «едиными усты и единым сердцем» запели вокруг…
О каждом из четырех новомучеников можно написать и когда-нибудь будут написаны отдельные книги. Сейчас уже начались публикации отрывков стенограммы процесса. Читая ее, видишь, с каким огромным мужеством держались они. Мы цитировали допросы митрополита Вениамина, Ю. П. Новицкого и И. М. Ковшарова. А вот как отвечал перед трибуналом священномученик архимандрит Сергий.
Председатель. С какого времени вы стали священником?
Шеин. С тридцатого августа по старому стилю. Со дня Александра Невского двадцатого года.
Председатель. До этого времени чем занимались?
Шеин. Что называется «до этого времени»?
Председатель. До того времени, как стали священником.
Шеин. Был на службе.
Председатель. Где?
Шеин. Я служил в правлении «Главкрахмала».
Председатель. В качестве кого?
Шеин. В качестве управляющего делами.
Председатель. До революции чем занимались?
Шеин. До революции был на государственной службе в Правительствующем Сенате.
Председатель. В Правительствующем Сенате какую должность занимали?
Шеин. Это было в начале моей карьеры. Я был помощником обер-секретаря.
Председатель. Сколько времени там пробыли?
Шеин. Лет пять-шесть.
Председатель. Из Сената куда перешли?
Шеин. Из Сената перешел в министерство юстиции, затем в госканцелярию, где был помощником статс-секретаря Государственного Совета.
Председатель. Ваш чин?
Шеин. Действительный статский советник.
Председатель. Революция в какой должности вас застала?
Шеин. Члена Государственной думы.
Председатель. Какой фракции принадлежали?
Шеин. Националистов.
Председатель. Религиозные вопросы вас давно интересовали?
Шеин. Я не помню дня моей жизни, когда я ими не интересовался.
Председатель. Постоянно?
Шеин. Постоянно.
Нужно отметить, что в противостоянии обвинителей и судей своим подсудимым первые всегда проигрывали. И конечно, не потому, что подбирались недостаточно умные и опытные юристы. Нет… Слишком велики были противостоящие им люди. Рядом с митрополитом Вениамином и архимандритом Сергием, Юрием Петровичем Новицким и Иваном Михайловичем Ковшаровым все эти яковченко, Семеновы, каузовы, Смирновы, Красиковы, крастины, драницыны, гуровичи и гиринские и не могли выглядеть иначе.
Порою дело доходило до анекдотов. Один из членов трибунала, к примеру, оказался студентом, получившим двойку на экзамене у профессора Новицкого. В связи с этим или просто по необходимости, но судьи то и дело как бы забывали, что они судят Новицкого, просили его дать ту или иную необходимую им юридическую справку.
Но все это то, что касается внешней стороны процесса. Толпы людей у здания Филармонии, величественные, почти монументальные фигуры обвиняемых, рядом с которыми жалкими и ничтожными выглядели исполнители написанных в ГПУ ролей.
Была, однако, и внутренняя наполненность процесса. Мы говорили, что дело о сопротивлении изъятию церковных ценностей было, так сказать, притянуто за уши. Митрополита Вениамина судили за другое. Судили за отлучение им от Церкви Александра Ивановича Введенского. Судили за открытое сопротивление разработанному Тучковым плану превращения Церкви в отдел ГПУ. Поэтому ни о какой страдательности и невиновности митрополита Вениамина не может быть и речи. Он страдал за вполне конкретную вину перед Советской властью в целом, ГПУ и Введенским в частности.
И разумеется, если бы митрополит Вениамин раскаялся, если бы покорился обновленческому ВЦУ, возможно, он и был бы прощен.
Митрополит Вениамин не раскаялся. Он сделал то, что обязан был сделать. Исполнил свой архиерейский и сыновний долг перед Русской Православной Церковью. Спас ее от страшной беды…
Да, мы знаем, что чекистам удалось обмануть епископа Алексия Симанского, удалось заставить будущего патриарха снять наложенное митрополитом Вениамином на Введенского запрещение. Мы рассказывали, как торжествовал в те дни Александр Иванович Введенский. Но это ведь он торжествовал, он думал, что победил… А это было не так. Напрасно поторопился с. торжеством Александр Иванович. Триумфа не получилось. Более того, несмотря на ошибку, допущенную епископом Алексием Симанским, ничего непоправимого не произошло.
18 июня, когда на петроградском процессе завершился наконец допрос основных обвиняемых, вся Россия услышала голос запертого в Ярославле митрополита Агафангела.
«Благодать вам ц мир от Бога и Отца нашего и Господа Иисуса Христа! — писал назначенный патриархом Тихоном своим заместителем Ярославский митрополит. — Я лишен и доныне возможности отправиться на место служения… Между тем, как мне официально известно, явились в Москве иные люди и летали у кормила правления Русской Церкви. От кого и какие на то полномочия получили они, мне совершенно неизвестно. А поэтому я считаю принятую ими на себя власть и деяния их незаконными… Бозлюбленные о Господе Цреосвященные Архипастыри! Лишенные на время высокого руководства, вы управляйте теперь своими епархиями самостоятельно, сообразуясь с Писанием и священными канонами, впредь до восстановления Высшей церковной власти окончательно. Решайте дела, по которым прежде спрашивали решения Священного Синода, а в сомнительных случаях обращайтесь к вашему смирению. Честные пресвитеры и все о Христослужители Алтаря и Церкви! Вы близко стоите к народной жизни. Вам должно быть дорого его просвещение в духе православной веры. Умножайте свою священную активность. Когда верующие увидят в вас благодатное горение духа, они никуда не уйдут от своих святых алтарей. Братья и сестры о Господе, наши пасомые! Храните единство святой веры в образе братского мира, не поддавайтесь смущению, которое новые люди стремятся внести в ваши сердца. Не склоняйтесь к соблазнам, которыми они хотят обольстить вас.
Заместитель Святейшего патриарха, подписал смиренный Ага-фангел, Божьей милостью митрополит Ярославский».
В. Д. Красницкий говорил на процессе о самом большом ударе, который нанесло ВЦУ отлучение Введенского, Красницкого и Белкова митрополитом Вениамином. Послание митрополита Агафангела тоже удар. И удар сокрушительный для ВЦУ. Говорят, что, когда Тучков прочитал это послание, его самого едва не хватил удар… И все-таки Красницкий все равно отдавал приоритет удару, нанесенному митрополитом Вениамином… Только ли потому, что Владимир Дмитриевич давал показания против митрополита Вениамина? Нам кажется, что Красницкий тут проявил известную долю объективности. Вполне ведь возможно, что, не предприми своих решительных действий митрополит Вениамин, не решился бы опубликовать свое послание и митрополит Агафангел. Может быть, чекистам и удалось бы уговорить его отмолчаться…
Мы говорим все это не для того, чтобы принизить роль митрополита Агафангела в борьбе с обновленцами. И конечно, не для того, чтобы приподнять митрополита Вениамина. В этом нет нужды. Исполненная подлинного величия картина открывается перед нами. Падает сраженный бесчисленными врагами богатырь, но — рано торжествовать нечисти! — на замену ему поднимается другой богатырь. Подвигами Петроградского и Ярославского митрополитов, по сути дела, открывается страница деятельной борьбы Православной Церкви с перерожденческой ересью. Трагическим и пронзительным светом этой борьбы озарены и последние годы земной жизни святителя Тихона.
На долгие и долгие годы затянется борьба. Именами десятков новомучеников российских пополнится Собор русских святых. И все они, проходя сквозь ад тюрем, пересылок и лагерей, бесстрашно уходя на расстрел, без сомнения, вспоминали о подвиге, совершенном митрополитом Вениамином, снова и снова, в который уже раз, повторяя его подвиг.
И нет, нет ничего случайного в Божьем мире. И не напрасны принесенные Русской Православной Церковью жертвы. Великое очищение приняла она., проходя через горнило неимоверных испытаний…
Глава восемнадцатая
4 июля подсудимым было предоставлено последнее слово.
— Каков бы ни был ваш приговор, — сказал митрополит Вениамин, — я буду знать, что он вынесен не вами, а идет от Господа Бога, и, что бы со мной ни случилось, я скажу: слава Богу!
Митрополит осенил себя крестным знамением и сел.
Это последние слова митрополита Вениамина, произнесенные им публично. Последнее появление митрополита «на публике» на следующий день, когда был оглашен приговор, тоже описано. Портрет сделан протоиереем Михаилом Чельцовым.
«Я старался внимательно всматриваться в настроение, в лицо митрополита Вениамина. Ему-то, думалось мне, больше всех других должен быть известен исход нашего процесса; ему приговор суда должен быть более грозным и тяжелым. Но, как я ни старался распознать что-либо в митрополите Вениамине, мне это не удавалось. Он оставался как будто прежним, каким-то окаменевшим в своем равнодушии ко всему и до бесчувственности спокойным. Мне только чудилось, что в этот день он был более спокоен и задумчиво-молчалив. Прежде он больше сидел и говорил с окружающими его, теперь он больше ходил».
Наши светочи, адаманты веры… Они были сделаны из такого же человеческого материала, как и мы все. И как мы все, они иногда оказывались слабыми в час испытаний, переживали, беспокоились, подобно протоиерею Чельцову, думали не так, как хотелось бы нам, чтобы думали наши святые. Только в отличие от нас у них всегда в нужный момент находилась сила, чтобы преодолеть свои беспокойства, свою слабость. И силу эту давала им вера.
Нарисованный Михаилом Чельцовым портрет митрополита Вениамина удивительно точен. Собственно говоря, дается тут даже не сам портрет, а описание барьера, который разделял 5 июля митрополита Вениамина и Михаила Чельцова. Равнодушие ко всему и бесчувственное спокойствие митрополита — это то, что видит Михаил Чельцов. Сам он внутренне еще не готов к смерти, и вид человека, уже приготовившегося перешагнуть рубеж земной жизни и жизни вечной, полностью отрешившегося от всех мирских забот и страхов, действительно производит впечатление окаменевшего равнодушия и бесчувственного спокойствия. Митрополит Вениамин уже не способен был беспокоиться о том, что беспокоило Чельцова, бояться того, чего тот боялся…
И как душеполезно, какой это великий урок для всех нас, что, не прибегая к лукавым фантазиям, можем увидеть мы нашего святого таким, каким он был на самом деле…
Из последнего предсмертного письма митрополита Вениамина мы знаем, что все его «бесчувствие и окаменелость» коснулись лишь обмирщвленной оболочки. До последних своих минут священномученик Вениамин оставался митрополитом и продолжал свое архиерейское служение. И предсмертное письмо его — великое слово архиерея к своей пастве…
«Трудно, тяжело страдать… — поучает нас владыка. — 'Ио по мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога. Трудно переступить этот Рубикон, границу, и всецело предаться воле Божией. Когда это совершится, тогда человек избыточествует утешением, не чувствует самых тяжких страданий, полный среди страданий внутреннего покоя…»
Перечитывая заново тома со стенограммами процесса, я все время пытался представить себе, что думал, что чувствовал, что ощущал тогда владыка Вениамин. Градом сыпались бесчисленные обвинения, грязные оскорбления… Глубоко оскорбительной по своей сути была для митрополита и вся «защитительная» речь Я. С. Гуровича… Но ведь было и другое. И толпы людей у входа в Филармонию пели «Спаси, Господи, люди Твоя», и на самом процессе среди душной черноты и лжи иногда вдруг словно бы распахивалось окно, и чистый Божий свет струился тогда в заполненный чекистами и студентами Зиновьевского университета зал…
Так было, например, 22 июня, когда допрашивали студента богословских курсов Василия Кисилева… 26 апреля Василий Федорович зашел во Владимирскую церковь и был арестован там, потому что заплакал, увидев ободранную икону.
Председатель, Почему же вы плакали перед иконой?
Кисилев, Перед иконой? Потому что риза была снята, икона стояла на полу, икона была ободрана — лик самый… А это моя любимая икона.
Председатель, Где вы были арестованы?
Кисилев, Где? По выходе из церкви… Я вышел из церкви, ничего не говорил, подходит какой-то милиционер или старший их, с револьвером конечно, и говорит: «Молодой человек! Подойдите ко мне». — «Зачем?» — «Вы мне очень нужны. Я вас знаю». — «А я вас не знаю… Скажите, кто вы такой?» Вид у него был суровый, страшно смотреть. Я испугался. Из толпы говорят: «Молодой человек, не ходите. Они одного молодого человека также подозвали и арестовали ни за что». — «Боже мой! За что же меня арестовывать?..» Конечно, я испугался. А милиционер тогда обратился к толпе и говорит: «Вы его не знаете, кто он такой, а я знаю!» И всю толпу разогнал, а меня арестовал, не знаю за что.
— Почему же вы все-таки плакали перед иконой? — спросил обвинитель Красиков.
— Я обиделся… — ответил Василий Кисилев. — Великая икона стоит на полу, ободрана.
— Как ободрана?
— Вероятно, когда снимали ризу, содрали краску.
— Может быть, когда снимали ризу, тогда и обнаружились недостатки? Ведь раньше рисовали так.
— Нет… — ответил Кисилев. — Лик должен быть на виду. Царапины были бы видны и под окладом…
— Вас утешала мысль, что серебро пошло на голодающих? — задал коварный вопрос обвинитель.
— Нисколько… — спокойно ответил Киси лев. — Об этом я не задумывался. Господь знает, куда идет серебро.
— Как Господь?! Почему вы говорите, что Господь?!
— Что Господь ни делает, он все знает… — ответил Кисилев.
Кисилев проходил на процессе как второстепенный персонаж, но в допросе его приняли участие почти все обвинители.
— Вы не боитесь преподавать детям Закон Божий? — допытывался у Киси лева Крастин.
— Отчего бояться?
— Вы не боитесь, что, может быть» вы научите людей неправильно мыслить?
— Я не задаюсь такими вещами… — ответил Кисилев. — Я худому не обучаю… Чего же бояться?
— Что значит «худое»? — почти как прокуратор Пилат спросил Крастин.
— Я обучаю молитвам… Обучаю в церковь ходить…
— А вы сами любите церковь?
— Очень люблю… — ответил Кисилев. — Очень предан…
Когда, перелистывая бесчисленные страницы стенограмм процесса, я добрался до этого допроса, показалось, что и в душном помещении архива тоже пахнуло свежим и чистым воздухом. Наверное, такое же ощущение испытал, слушая ответы Василия Федоровича Кисилева, и митрополит Вениамин. В молоденьком, таком чистом и искреннем студенте богословских курсов он вдруг увидел себя в молодости. И конечно же, эта встреча тоже была не случайной. «По мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога».
И я бы никогда не решился написать, что в эти дни митрополит Вениамин был счастлив, если бы этих слов не написал сам владыка в своем предсмертном письме: «Я радостен и покоен, как всегда. Христос — наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо…»
Великие слова… Две тысячи лет назад сказаны они, но каждый раз они потрясают нас, как будто эта великая истина открывается нам впервые…
«Радостно и спокойно» ощущали себя в эти дни и архимандрит Сергий, и Юрий Петрович Новицкий, и Иван Михайлович Ковшаров. Сохранилась записка Юрия Петровича Новицкого, чудом переданная им из камеры смертников.
«Дорогая мама. Прими известие с твердостью. Я знаю давно приговор. Что делать? Целую тебя горячо и крепко. Мужайся. Помни об Оксане. Целую крепко. Юрий. Дорогой Порфирий Иванович. Обнимаю тебя. Поддерживай маму».
Мы уже говорили, что священномученик Вениамин до последних минут своих оставался митрополитом и продолжал нести архиерейское служение. Так же было и с архимандритом Сергием. До конца дней своих продолжал архимандрит совершать свое пастырское служение, помогая и укрепляя своего соседа по камере смертников…
«Выписка из протокола № 51 заседания Президиума ВЦИК от 3 августа 1922 года.
СЛУШАЛИ: дело петроградских церковников.
ПОСТАНОВИЛИ: в отношении осужденных Казанского, Новицкого, Шеина, Ковшарова приговор Петроградского революционного трибунала оставить в силе. В отношении осужденных Плотникова, Огнева, Елачича, Чельцова, Чукова и Богоявленского — заменить высшую меру наказания пятью годами лишения свободы. Секретарь ВЦИК А. Енукидзе. 8 августа 1922 г.».
В ночь на воскресенье, 13 августа, четверо новомучеников российских были расстреляны возле станции Пороховые по Ириновской железной дороге.
Говорят, что перед смертью их обрили и одели в лохмотья.
Казнь была совершена тайно… Делалось все, чтобы скрыть дату ее. Ксении Леонидовне Брянчаниновой и Оксане Георгиевне Новицкой разрешили во вторник, 15 августа, встретиться с Юрием Петровичем Новицким. В понедельник, 14 августа, в первый день Успенского поста, духовным чадам митрополита Вениамина, принесшим для него передачу, сказали, что «гражданин Казанский, гражданин Шеин, профессора Ковшаров и Новицкий потребованы и отправлены в Москву…».
«Отправить в Москву», «дать десять лет без права переписки» — эти почти тотемические обозначения исполненных смертных приговоров изобретались работниками советского «правопорядку», потому что страх смерти в них самих был сильнее революционного сознания…»
После расстрела начали делить вещи расстрелянных новомучеников… «Распявшие же Его, делили ризы Его, бросая жребий». Эти Евангельские слова почти буквально повторились в Петрограде в 1922 году.
«1922 г. Ноября 3-го дня. Я, комендант Петрогубревтрибунала Кандаков, в присутствии помощника коменданта и представителя Александро-Невской лавры на основании предписания помощника губернского прокурора от 2 ноября за № 261 произвел изъятие из комнат бывшего митрополита Вениамина… Из упомянутых комнат взято следующее:
1-я комната. Семь стульев столовых, один стол обеденный, одна кушетка, один полубуфет, один зеркальный шкаф, один шкаф с этажеркой и две этажерки.
2-я комната. Одно зеркало, один письменный стол, две этажерки, один ночной столик, одни настольные часы, четыре стула, два кожаных кресла, один кожаный диван, настольная лампа, одна металлическая кровать с двумя матрасами, три ковра»[77].
«1922 г. Августа 21-го дня. Я, комендант Петрогубревтрибунала Кандаков, в присутствии сотрудника того же трибунала и управдома на основании предписания члена президиума Степанова, прибыв на квартиру осужденного Шеина, изъяли: одну картину в золоченой раме — Иисус, Марфа и Мария. Одну икону. Одни столовые часы и две вышитые ручной работы Богомазовой картины в золоченых рамах, а также из ящиков письменного стола бумаги, бланки, конверты и тетради. Всего около трех стоп»[78].
«Опись вещей, произведенная у гражданина Ковшарова Ивана. Комната № 1. Одна этажерка с книгами, один письменный стол с канцелярскими принадлежностями, открытый библиотечный шкаф с книгами, два кожаных стула, одно кресло деревянное, настольная лампа, одна люстра. Комната № 2. Три портрета, одна икона, одна люстра, один термометр, один ломберный столик. Два кожаных стула, два кресла кожаных, один диван кожаный, один стол столовый, три стула столовых, один полубуфет с посудой, одна керосиновая печка, один столик. Комната № 3. Один иконостас с семью иконами, пять портретов, одна полочка с тремя статуэтками, один комод с бельем, две кровати металлические, один стол, одно кресло мягкое, одни весы, один портрет с фотографией патриарха. Коридор. Один шкаф платяной, одно рваное дамское пальто, одно мужское, поношенное, одни брюки, две шторы, одно трюмо»[79].
Вещи осужденных делили между своими людьми. Архимандрита Сергия вместе с митрополитом Вениамином, Новицким и Ковшаровым расстреляли в воскресенье, а уже в четверг, 17 мая, прибежал в трибунал член Петросовета И. З. Преображенский и принес заявление: «В настоящее время проживающий по Троицкой улице, д. № 3 и не имеющий никакой квартирной обстановки. Прошу председателя Ревтрибунала предоставить мне как нуждающемуся мебели из распечатанной квартиры гражданина Шеина, так как он ликвидирован из Петрограда, а мебель находится в вашем распоряжении»[80].
Сосед члена Петросовета И. З. Преображенского, военмор Иван Климович, был скромнее: «Заявление. Прошу не отказать в выдаче для моего пользования один платяной шкаф за минимальную плату из квартиры Шеина. 18 августа 1922»[81].
Просили вещи архимандрита Сергия для проведения лотерей Наробраза, для личной надобности членов трибунала…
Однако наиболее отвратительно делили вещи Юрия Петровича Новицкого.
«1922 года. Июля 14-го дня. Протокол. В квартире Xs 30 по Биржевой улице. Причем выяснилось — квартира № 30 состоит из пяти комнат. Занята и числится за гражданкой Брянчаниновой. Из упомянутого числа комнат осужденный Новицкий с дочерью занимали одну комнату в качестве жильцов. Описано следующее: диван красного дерева, к нему два кресла и три стула, пять золоченых стульев, два мягких стула, четыре маленьких столика, зеркало, восемь картин в золоченых рамках, одна настольная лампа, один книжный шкаф с книгами, опечатанный печатью Ревтрибунала, кроме того, описаны находящиеся в пользовании Новицкого (свидетельство управдома и дочери Новицкого) и принадлежащие гр. Брянчаниновой письменный стол и кожаный диван. По заявлению управдома и по сведениям дочери Новицкого гр-ка Брянчанинова выехала в Москву»[82].
Ксения Леонидовна Брянчанинова действительно 14 июля ездила в Москву хлопотать за Юрия Петровича Новицкого. Вернувшись, она узнала, что описана принадлежащая лично ей гостиная. Ксения Леонидовна пыталась протестовать, но это, как и ее хлопоты за Юрия Петровича, успеха не имело. Юрия Петровича Новицкого расстреляли, а вещи, принадлежавшие Ксении Леонидовне, разделили между собой сами члены Ревтрибунала. Вещи действительно были ценные, и никаких военморов к их дележке не допускали.
19 сентября 1922 года. Акт. Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: председателя — члена коллегии Петрогубревтрибунала т. Еремеева; членов — члена коллегии Смирнова и коменданта Кандакова, на основании резолюции председателя трибунала на рапорте коменданта от 14 июля с. г. произвели оценку имущества осужденного Новицкого, подлежащего конфискации согласно нижеприведенной ведомости:
Диван, к нему кресел 2, стульев мягких 3 — 1200 р. Смирнов.
Стульев золоченых 5 — 150 р. Лебедев.
Стульев мягких 2 — 50 р. Смирнов.
Маленьких столиков 4 — 100 р. 3 — Лебедев, 1 — Смирнов.
Экран 1 — 25 р. Михайлов.
Картин в рамках 8 — 400 р. 1 — Нейдар, 1 — Смирнов Н.,
1 — Лебедев, 3 — Смирнов А., 2 — Михайлов.
Настольная лампа 1 — 50 р. Лебедев.
Шкафчик 1 — 75 р. Кандаков.
Кровать железная 1 — 200 р. Еремеев.
Письменный стол 1 — 200 р. Лебедев.
Итого: 2450 р.
Все перечисленные вещи бывшие в долгом употреблении и частью сильно потрепаны[83].
Акт этот не нуждается в комментировании. Мы уже видели, как вершилось трибуналом «правосудие». Теперь мы видим, как оплачивалось вершение такого «правосудия». За две с половиной тысячи рублей в Петрограде в 1922 году трудно было приобрести и поношенные штаны. Тут же приобреталась целая коллекция антикварной мебели с дорогими картинами. Правда, как стыдливо заметили работники правосудия, «вещи бывшие в долгом употреблении и частью сильно потрепаны».
Что еще можно добавить, завершая наш рассказ о четырех новомучениках петроградских?
На Никольском кладбище Александро-Невской лавры, почти на том самом месте, где стоял 1 июня 1922 года митрополит Вениамин, когда келейник известил его о прибытии чекистов, стоит теперь крест, на котором написано: «Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский».
Но это не могила. Это просто памятник митрополиту Вениамину. Где находится настоящая могила четырех новомучеников, никто не знает…
Нет на воле в нашем городе и храма священномученика Вениамина. Только часовенка, спрятавшаяся в жилом доме невдалеке от Дома Евангелия, расположившегося в храме, который и должен был стать храмом в память новомучеников петроградских. Почему-то всегда, когда я бывал, там дули ледяные ветры, клубилась пыль, свиваясь в столбы у расположенных вокруг центров дианетики и прочих подобных им учреждений.
Зато на Никольском кладбище у креста-памятника почему-то всегда тепло. В разное время года, при разных ветрах и погодах бывал я здесь, но тепло было всегда…
Сюда, в это духовное тепло, и идут православные люди, чтобы, осенив себя крестным знамением, произнести:
«Святый священномучиниче Вениамине, митрополит Петроградский, моли Бога о нас!»
«Святый священномучениче Сергие, моли Бога о нас!»
«Святые мученики Георгий и Иоанн, молите Бога о нас!»
Вместо эпилога
Я работал над этой книгой семьдесят пять лет спустя после описываемых событий невыносимо жарким санкт-петербургским летом 1997 года…
Уже собран был материал и можно было поехать куда-нибудь в деревню. Тем более что этим летом меня приглашал к себе на приход священник Алексей Мороз. Я и собирался поехать. Я даже подумывал, как это многозначительно будет — закончить книгу о новомучениках российских в селе Мореве, расположенном в том самом месте, где когда-то остановилась движущаяся к Новгороду татарская конница Батыя. Тем более гостя у отца Алексея, известного всем своей книгой «Люди и демоны»…
Только поездка откладывалась. Я уже познакомился с двадцатью томами дела № 36314, но с оставшимися вышла задержка. Тома эти были не прошиты, и в архиве вообще не хотели выдавать их.
— Да там и нет ничего интересного… — объясняли мне.
В общем-то я догадывался, что сами оригиналы стенографических записей я все равно не сумею разобрать, но посмотреть все-таки хотелось. Хотя бы для очистки совести. Потому что кое-чего в просмотренных мною двадцати томах все же не хватало. Как ни странно, но в этом деле отсутствуют расшифровки последних слов обвиняемых… Я добился своего. Неподшитые тома мне показали. И — увы! — ничего интересного там я не обнаружил. Бесчисленные блокноты и тетрадки, покрытые крючками стенографической записи. Еще в трех томах конверты были набиты документами и письмами, изъятыми у совсем уж второстепенных персонажей, проходивших по делу церковников. Почему оказались сохранены они, а не рукопись, изъятая у Юрия Петровича Новицкого, или «три стопы» бумаг, изъятых у архимандрита Сергия, я не понимаю.
Все же я добросовестно просмотрел и эти документы. Увы… Для моей книги они были не нужны. И все же несколько писем я переписал. По странному совпадению все они были из новгородского села Морева, куда я, дожидаясь, пока получу тома, так и не поехал…
Адресованы письма Анне Яковлевне Хаткевич, той самой женщине, которую во время инцидента у церкви на Сенной площади милиционер «прикрепил» к саням, усевшись на Анну Яковлевну сверху.
Сама Анна Яковлевна работала кондуктором трамвая, в дело попала случайно и не была выведена на большой процесс ввиду невозможности обнаружить в ее действиях хоть какого-то признака вины. Но, судя по изъятым письмам, была Анна Яковлевна очень душевным, истинно православным человеком. Вот, к примеру, всего лишь одна записка, адресованная ей: «Любезная моя Анна Яковлевна! Если найдется свободное время, то навестите Любочку и утешьте ее». Что и говорить… Такие записки не пишут людям, которые живут только для себя…
И вот эту-то добрейшую Анну Яковлевну и продержали ни за что ни про что в тюрьме несколько месяцев…
«Многоуважаемая дорогая кумушка! Шлю я тебе свой сердечный привет и наилучшие пожелания. Кума, я на тебя очень рассердилась. Сколько я тебе ни писала, а от тебя ни одного не получила. Если ты по почте не получаешь, то я ведь тебе посылала с Антипом — племянником, и на тое нет ответа. Может, ты обиделась, что я тебе послала мало гостинца, но я не знала, в Петрограде ты или нет. Я еще посылаю тебе и надеюсь, в городе ты. Я не получила от тебя ответу, зато и не посылаю много гостинца, и племянник больше не берет, не знает, там ты или нет.
Он после этого видел тебя раз на трамвае. Затем до свидания, моя дорогая. Получишь мою посылку и письмо, ешь на здоровье, пиши мне ответ, я живу пока что слава Богу. Извиняюсь за свои гостинцы, сейчас не могу тебе больше послать. Буду ждать от тебя ответ. Адрес мой: Новгородская губерния, Морево, деревня Ивахнова. Анюта».
Похоже, что на это письмо Анюта из Морева ответ все-таки получила. И похоже, Анна Яковлевна пожаловалась ей в письме, как «прикрепляли» ее к саням, как мыкалась она по петроградским тюрьмам.
«Многоуважаемая и дорогая кумушка Анна Яковлевна! — написала Анюта в ответ. — Шлю я вам свой сердечный привет и наилутчие пожелание. Письмо я ваше получила, за которое благодарю. Кума, чем помират, то приезжай лутче ко мне в Морево. Как-нибудь будем жить, чем помират. Курицы у меня несутся…»
Нет! Не зря все-таки сидел я в невыносимо душном Санкт-Петербурге, дожидаясь недостающих томов. Этих писем явно не хватало для книги.
Мы говорили, что не очень-то и понятно, на что, собственно говоря, рассчитывали введенские, мессинги, красницкие, тучковы, замышляя планы переустройства Русской Православной Церкви., Ни хитростью, ни лютыми гонениями не удалось им сломить патриарха Тихона, митрополита Вениамина…
Как же могли они рассчитывать сломить наших бесчисленных моревских Анют, которые и взрастили и патриархов Тихонов, и митрополитов Вениаминов?
«Кума, чем помират, то приезжай лутче ко мне в Морево, Как-нибудь будем жить, чем помират…»
ГИБЕЛЬ КРАСНЫХ МОИСЕЕВ
Из секретных документов ПетроЧК
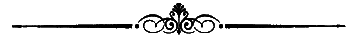
Когда надлежало соблюдать закон, они попрали его; а теперь, когда закон перестал действовать, они настаивают на том, чтобы соблюдать его. Что может быть жалче людей, которые раздражают Бога не только преступлением, закона, но и соблюдением его?
Иоанн Златоуст
Часть первая
Провокация
Весной восемнадцатого года большевики уже шесть месяцев находились у власти, а гражданская война все еще не начиналась…
Весной восемнадцатого года, в мае месяце, председатель Петроградской ЧК Моисей Соломонович Урицкий приказал произвести первые аресты членов «Каморры народной расправы». С рассказа об этой «организации», которой никогда не существовало, хотя участники ее и заполнили петроградские тюрьмы, мы и начнем.
1
«Хотя у власти везде уже стояли большевики, но рыхлость провинции была еще очень велика. И немудрено. По-настоящему Октябрьская революция, как и Февральская, совершалась по телеграфу. Одни приходили, другие уходили, потому что это уже произошло в столице. Рыхлость общественной среды, отсутствие сопротивления вчерашних властителей имели своим последствием рыхлость и на стороне революции. Появление на сцене чехословацких частей изменило обстановку —, сперва против нас, но в конечном счете в нашу пользу. Белые получили военный стержень для кристаллизации. В ответ началась настоящая революционная кристаллизация красных. Можно сказать, что только с появлением чехословаков Поволжье совершило свою Октябрьскую революцию…»
На это признание Лев Давидович Троцкий отважился, когда Иосиф Виссарионович Сталин решил лишить его места не только в партийном руководстве, но и в истории партии. Мудростью Троцкий никогда не отличался, а самолюбие имел гипертрофированное, вот и сказал то, о чем положено было молчать.
Мы знаем сейчас — об этом разговор впереди, — чехословацкий мятеж фактически спровоцировали сами большевики… А значит, принимая во внимание оценку мятежа Троцким, что и к гражданской войне они шли целеустремленно и последовательно, заранее готовя ее.
И Троцкий в общем-то прав. Гражданская война была необходима большевикам. Причина тому крылась в самой природе Октябрьского переворота. Ведь он потому и удался, потому и не встретил никакого сопротивления, что был нужен не только большевикам, рвавшимся к власти, но и их политическим оппонентам. Мысль эта, при всей ее парадоксальности, отнюдь не абсурдна. Запутавшись в интригах, в предательской по отношению к России политике, лидеры партий, входящих в состав самозванного Временного правительства, рады были свалить всю ответственность за развал страны на авантюристов-большевиков.
Последствия же переворота по своему легкомыслию они не склонны были драматизировать. Вся эта разношерстная толпа — евреи, окруженные, как их изображали карикатуристы, полупьяными матросами, — не казалась прожженным политиканам слишком уж опасной. По их расчетам, большевики, не вписавшись в картину «цивилизованной» жизни, неизбежно должны были сойти с политической арены, и на них тогда и удалось бы спихнуть ответственность за собственные просчеты.
Как мы знаем, большевики не оправдали надежд Милюковых, керенских, Тучковых, черновых… Ленинцы стремительно провели «красногвардейскую атаку на капитал» и, сосредоточив в своих руках управление фабриками, заводами, банками, железными дорогами, быстро доломали государственный аппарат России.
«Россия исчезает… — с грустной иронией писали тогда в петроградских газетах, — как исчезает теперь все. Каждый день мы узнаем о каком-либо новом исчезновении: исчезло золото» исчез хлеб, исчез Керенский. Похоже на то, что забавляется какой-то фокусник».
Фокус действительно получился отменный. Противоестественный на первый взгляд союз картавящих большевиков с полупьяными матросами оказался весьма живучим и агрессивным. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, как было разогнано Учредительное собрание, на которое возлагалось столько надежд кадетами и прочими «либералами».
«Под широким стеклянным куполом Таврического дворца в этот ясный, морозный январский день с раннего утра оживленно суетились люди. Моисей Соломонович Урицкий, невысокий, бритый, с добрыми глазами, поправляя спадающее с носа пенсне с длинным заправленным за ухо черным шнурком и переваливаясь с боку на бок, неторопливо ходил по длинным коридорам и светлым залам дворца, хриплым голосом отдавая последние приказы.
Через железную калитку, возле которой проверяет билеты отряд моряков в черных бушлатах, окаймленных крест-накрест пулеметными лентами, я вхожу в погребенный под сугробами снега небольшой сквер Таврического дворца…»
Это воспоминания Федора Раскольникова — одного из героев того памятного 5 января 1918 года.
«Объяснив, что нам не по пути с Учредительным собранием, отражающим вчерашний день революции, я заявляю о нашем уходе и спускаюсь с высокой трибуны. Публика… радостно неистовствует на хорах, дружно и оглушительно бьет в ладоши, от восторга топает ногами и кричит не то «браво», не то «ура».
Кто-то из караула берет винтовку на изготовку и прицеливается в лысого. Минора, сидящего на правых скамьях. Другой караульный матрос с гневом хватает его за винтовку и говорит:
— Бро-о-о-сь, дурной!»
А потом наступила ночь…
«Урицкий наливает мне чай, с мягкой, застенчивой улыбкой протягивает тарелку с тонко нарезанными кусками лимона, и, помешивая в стаканах ложечками, мы предаемся задушевному разговору. Вдруг в нашу комнату быстрым и твердым шагом вводит рослый, широкоплечий Дыбенко… Давясь от хохота, он звучным раскатистым басом рассказывает нам, что матрос Железняков только что подошел к председательскому креслу, положил свою широкую ладонь на плечо оцепеневшего от неожиданности Чернова и повелительным тоном заявил ему:
— Караул устал. Предлагаю закрыть заседание и разойтись по домам.
Дрожащими руками Чернов поспешно сложил бумаги и объявил заседание закрытым».
Тут и говори о противоестественности объединения картавящих большевиков с полупьяными матросами. Нет, на первых порах — до подавления Кронштадтского мятежа оставались еще долгие годы! — союз этот давал просто сокрушительные результаты. К тому же и в отношении к России, ее традициям, ее культуре особых разногласий у большевиков с матросами не было. Сближению позиций со стороны большевиков помогало их чисто местечковое пренебрежение к интересам любой другой национальности, кроме своей собственной, а со стороны матросов — та полупьяная русская удаль, что не желает знать о завтрашнем дне, та, столь знакомая всем хамоватость пьяного человека…
Но большевики и сами понимали, сколь ненадежна полупьяная вольница. Матросы не знали и не хотели знать своего места, и кто мог гарантировать, что, напившись в очередной раз, они не разгонят самих большевиков. На всякий случай охрану наиболее важных большевистских учреждений несли не матросы, а латышские стрелки…
Да и чем могли помочь матросы, когда нужно было не только разгонять и стрелять, а и решать другие вопросы, которые неизбежно вставали перед большевиками?
В марте 1918 года Советское правительство переехало в Москву.
«Разразилось февральское наступление немцев, — вспоминал потом А. В. Луначарский. — Вынужденный уехать, Совет Народных Комиссаров возложил ответственность за находящийся в почти отчаянном положении Петроград на товарища Зиновьева.
— Вам будет очень трудно, — говорил Ленин остающимся, — но остается Урицкий».
На Моисея Соломоновича Урицкого были все надежды Ленина.
После переезда в Москву правительства Урицкий первым делом запретил всем; кроме большевиков и чекистов, ездить в Петрограде на автомобилях. Но этим его деятельность на посту начальника Петроградской ЧК, конечно же, не ограничилась…
2
В третий том дела «Каморры народной расправы»[84] вшит весьма любопытный документ. Это копия, сделанная 17 мая 1918 года…
СЕКРЕТНО.
Председателям отделов «Всемирного Израильского Союза».
Сыны Израиля! Час нашей окончательной победы близок. Мы стоим на пути достижения нашего всемирного могущества и власти. То, о чем раньше мы только тайно мечтали, уже находится почти в наших руках. Те твердыни, перед которыми мы раньше стояли, униженные и оскорбленные, теперь пали под напором наших сплоченных любовью к своей вере национальных сил. Но нам необходимо соблюдать осторожность, ибо мы твердо и неуклонно должны идти по пути разрушения чужих алтарей и тронов. Мы оскверняем чужие святыни, мы уничтожаем чужие религии, устраняя их от служения государству и народу, мы лишаем чужих священнослужителей авторитета и уважения, высмеивая их в своих глазах и на публичных собраниях. Мы делаем все, чтобы возвеличить еврейский народ и заставить все племена преклоняться перед ним, признать его могущество и избранность. И мы уже достигли цели, но нам необходимо соблюдать осторожность, ибо вековечный наш враг рабская Россия, униженная, оплеванная, опозоренная самим же русским племенем, гениально руководимым представителями сынов Израиля, может восстать против нас самих… Наша священная месть унижавшему нас и содержавшему нас в позорном гетто государству не должна знать ни жалости, ни пощады. Мы заставим плакать Россию слезами горя, нищеты и национального унижения… Врагам нашим не должно быть пощады, мы без жалости должны уничтожить всех лучших и талантливейших из них, дабы лишить рабскую Россию ее просвещенных руководителей, этим мы устраним возможность восстания против нашей власти. Мы должны проповедовать и возбуждать среди темной массы крестьян и рабочих партийную вражду и ненависть, побуждая к междоусобице классовой борьбы, к истреблению культурных ценностей, созданных христианскими народами, заставим слепо идти за нашими преданными еврейскому народу вождями. Но нам необходимо соблюдать осторожность и не увлекаться безмерно жаждою мести. Сыны Израиля! Торжество наше близко, ибо политическая власть и финансовое могущество все более и более сосредоточивается в наших руках… Мы скупили за бесценок бумаги займа свободы, аннулированные нашим правительством, и затем объявленные им как имеющие ценность и хождение наравне с кредитными билетами. Золото и власть в наших руках, но соблюдайте осторожность и не злоупотребляйте колеблющимся доверием к вам темных масс. Троцкий-Бронштейн, Зиновьев-Радомысльский, Урицкий, Иоффе, Каменев-Розенфельд, Штемберг — все они так же, как и десятки других верных сынов Израиля, захватили высшие места в государстве… Мы не будем говорить о городских самоуправлениях, комиссариатах, продовольственных управах, кооперативах, домовых комитетах и общественных самоуправлениях — все это в наших руках и представители нашего народа играют там руководящую роль, но не упивайтесь властью и могуществом и будьте осторожны, ибо защитить нас кроме нас самих некому, а созданная из несознательных рабочих Красная армия не надежна и может повернуться против нас самих. Сыны Израиля! Сомкните теснее ряды, проведите твердо и последовательно нашу национальную политику, отстаивайте наши вековечные идеалы. Строго соблюдайте древние заветы, завещанные нам нашим великим прошлым. Победа близка, но сдерживайте себя, не увлекайтесь раньше времени, будьте осторожны, дабы не давать врагам нашим поводов к возмущению против нас, пусть наш разум и выкованная веками осторожность и умение избегать опасностей — служат нам руководителями.
Вот такой документ… Прежде чем разбираться, как он попал в дело «Каморры народной расправы», отметим, что велось расследование весьма легкомысленно и, если, конечно, изъять многочисленные постановления о расстрелах, почти шутливо.
Небрежно, кое-как, словно не о жизнях десятков человек шла речь, сшивались бумаги. Прежде чем оказаться в архиве, документы многие месяцы пылились на столах чекистов… Только так можно объяснить, почему в дело расстрелянного в сентябре 1918 года Леонида Николаевича Боброва попало объяснение артельщика Комарова, сделанное в двадцатом году[85].
Теперь, памятуя об этом, вернемся к процитированному нами письму… Документ находится среди бумаг, приобщенных к делу в качестве доказательства вины Иосифа Васильевича Ревенко, расстрелянного 2 сентября 1918 года. Поэтому естественно предположить, что копия циркулярного письма у Ревенко и была изъята.
Но вот что странно… Следователь Байковский, тщательно выяснявший отношение Иосифа Васильевича к антисемитизму, по поводу письма не задал ни одного вопроса. Объяснение тут одно — к бумагам Ревенко письмо не имеет никакого отношения, точно так же, как объяснение артельщика Комарова — к делу Леонида Николаевича Боброва.
Не поминалось письмо и на допросах других подследственных…
Так, может быть, циркулярное письмо и не имеет никакого отношения к делу «Каморры народной расправы»? Может быть, оно просто было распространено среди следователей ПетроЧК как некая служебная инструкция, а после, перепутавшись по небрежности с бумагами дела, попало на хранение в чекистский архив?
На первый взгляд предположение это выглядит абсурдным. Однако — обратите внимание на дату! Копия снята 17 мая 1918 года. Документ был распространен задолго до событий, связанных с началом гражданской войны, и тезисы о «возбуждении среди темной массы крестьян и рабочих партийной вражды» и о «побуждении к междоусобице классовой борьбы» предваряют процесс «настоящей революционной кристаллизации», о котором писал Лев Давидович Троцкий. Даже известная угроза Якова Михайловича Свердлова: «Мы до сих пор не занимались судьбой Николая Романова, но вскоре мы поставим этот вопрос на очередь и он будет так или иначе разрешен», — и то последовала после появления циркулярного письма.
Так что, даже оставляя в стороне вопрос о подлинности документа, мы вынуждены признать: директивные указания «Всемирного Израильского Союза» большевиками были исполнены.
Это касается и указания «без жалости… уничтожить всех лучших и талантливейших… дабы лишить рабскую Россию ее просвещенных руководителей…». Материалы дела «Каморры народ-ной расправы» неопровержимо свидетельствуют, что с двадцатых чисел мая Моисей Соломонович Урицкий все силы ПетроградскойЧК бросил именно на решение этой проблемы. И это в те дни, когда двадцатого и двадцать первого мал налетчиками только в Петрограде, как утверждала газета «Знамя борьбы», было украдено полтора миллиона рублей, когда налеты на квартиры стали в городе обычным делом…
3
Фабула дела «Каморры народной расправы» несложна.
14 мая 1918 года, во вторник, Лука Тимофеевич Злотников якобы получил в фотоцинкографии Дворянчикова (Гороховая, 68) изготовленное по его заказу клише печати с восьмиконечным крестом в центре и надписью по обводу — КАМОРРА НАРОДНОЙ РАСПРАВЫ…
На адрес фотоцинкографии, которая находилась на одной с* ПетроЧК стороне улицы, мы обращаем внимание, ибо показания владельца мастерской едва ли не единственное свидетельство против Злотникова.
Получив печать, Л. Т. Злотников якобы отпечатал на пищу-, щей машинке несколько экземпляров прокламации такого содержания:
ПРЕДПИСАНИЕ ГЛАВНОГО ШТАБА «КАМОРРЫ НАРОДНОЙ РАСПРАВЫ» ВСЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ДОМОВЫХ КОМИТЕТОВ.
Милостивый государь!
В доме, в котором вы проживаете, наверное, есть несколько большевиков и жидов, которых вы знаете по имени, отчеству и фамилии.
Знаете также и №№ квартир, где эти большевики и жиды поселились, и №№ телефонов, по которым они ведут переговоры.
Знаете также, может быть, когда они обычно бывают дома, когда и куда уходят, кто у них бывает и т. д.
Если вы ничего этого не знаете или знаете, но не все, то «Каморра народной расправы» предписывает вам немедленно собрать соответствующие справки и вручить их тому лицу, которое явится к вам с документами от имени Главного штаба «Каморры народной расправы».
Справки эти соберите в самом непродолжительном времени, дабы все враги русского народа были на учете, и чтобы их всех в один заранее назначенный день и час можно было перерезать.
За себя не беспокойтесь, ибо ваша неприкосновенность обеспечена, если вы, конечно, не являетесь тайным или явным соучастником большевиков или не принадлежите к иудиному племени.
Все сведения, которые вы должны дать, будут нами проверены, и если окажется, что вы утаили что-либо или сообщили неверные сведения, то за это вы несете ответственность перед «Каморрой народной расправы».
Имейте это в виду.
Эту прокламацию, проштемпелеванную печатью «Каморры народной расправы», Л. Т. Злотников, как утверждало следствие, раздал своим знакомым, а частично разослал по газетам. Отметим, что предпочтение он отдавал большевистским, наиболее непримиримым к любому антисемитизму изданиям. В этих газетах и была — с соответствующими комментариями! — опубликована прокламация.
22 мая Л. Т. Злотникова арестовали, а в начале сентября расстреляли вместе с «подельщиками».
Вот, пожалуй, и все описание фабулы «дела» — как-то и язык не поворачивается назвать это делом! — «Каморры народной расправы».
Тем не менее дело «золотой» страницей вошло в историю органов ВЧК — ОГПУ — НКВД.
«Три дня потребовалось чекистам, чтобы установить автора этого гнусного документа, — с гордостью сообщается в книге «Чекисты Петрограда на страже революции»[86]. — Им оказался Л. Т. Злотников, известный черносотенец-погромщик, бывший сотрудник газеты «Русское знамя» — органа помещичье-монархи-ческой партии «Союз русского народа» — и других правых газет. Духовный брат и последователь Пуришкевича, Злотников и был главным организатором «Каморры народной расправы».
Финансировал погромную организацию миллионер В. С. Мухин. 22 мая по ордеру, подписанному Урицким, Мухин и другие контрреволюционеры были арестованы. На следствии выяснилось, что многие из них одновременно являлись членами монархического «Союза спасения Родины», созданного под лозунгом восстановления «великой, единой и неделимой России»… Последнее обстоятельство наводит на мысль, что «Каморра народной расправы» была попросту одним из филиалов «Союза спасения Родины».
Оставим на совести авторов — В. А. Кутузова, В. Ф. Лепетюхи-на, В. Ф. Соловьева, О. Н. Степанова — включение «Каморры» в структуру беспартийного «Союза спасения Родины», который распался еще до Октябрьского переворота… Не будем обращать внимания и на то, что «Союз русского народа» никогда не был помещичьей партией, а В. С. Мухин — миллионером… Важнее понять другое…
Ведь даже если мы и допустим, что автором прокламаций действительно был Л. Т. Злотников, а В. С. Мухин финансировал рассылку их, то все равно состав преступления вызывающе ничтожен.
И тем не менее делом «Каморры народной расправы» чекисты гордились. В 1918 году, когда новый шеф ПетроЧК Г. Бокий докладывал о нем на конференции чекистов, товарищ Зиновьев изволил даже пошутить по этому поводу.
— Товарищу Бокию, — сказал он, — придется ездить в Берлин, давать уроки по организации Чрезвычайной комиссии и созывать конференцию в мировом масштабе. Это вопрос будущего[87].
Хотя, кто знает, может, и не шутил Григорий Евсеевич, может, и всерьез считал, что дела, подобные этому, очень скоро будут проворачиваться не только в России, но и по всему миру…
4
Так кто же такой был Злотников, расстрел которого чекисты считали своей большой победой в деле охраны завоеваний Октября?
Лука Тимофеевич Злотников, художник, «тридцати девяти лет отроду, жительствующий по Николаевской улице» (нынешняя Марата), был человеком в Петрограде известным.
Еще до войны он издавал журнал «Паук», выходивший под девизом «Антисемиты всех стран, соединяйтесь».
«Россия гибнет от двух главных причин: еврея и алкоголя…» Понятно, что журнал такого направления создавал Луке Тимофеевичу известность определенного рода.
«Злотникова я знаю лишь по газетным сведениям, т. к. являюсь редактором-издателем газеты «Вечерняя почта», — показывал Владимир Иосифович Шульзингер. — Могу сказать, что он является членом черносотенной организации «Союз русского народа» и к нам в редакцию его, как черносотенца, даже не впустили бы, если бы он пришел…»
«Злотникова кто не знает в Петрограде, это художник антисемит, автор карикатур и открыток против евреев. Юдофобство — его стихия, и я думаю, что более широкие политические вопросы его не интересуют. Он не скрывает своих взглядов настолько, что мне это даже казалось подозрительным, провокаторским…» — вторил Шульзингеру Лев Алексеевич Балицкий.
«За обедом у Лариных я встретилась с каким-то Злотниковым, которого мне представили как известного художника…» — сообщила на допросе Анна Селиверстовна Алексеева.
Из документов, приобщенных к делу, можно установить, что вырос Лука Тимофеевич Злотников в крестьянской старообрядческой семье, проживавшей в Витебской губернии. В девятнадцать лет поступил в Художественно-промышленную школу Общества поощрения художников. Закончив ее, уехал в Париж, где учился в Сорбонне, одновременно прирабатывая в парижских газетах.
Старообрядческое воспитание и учеба в Сорбонне — сочетание не самое привычное, а если добавить сюда еще очевидный талант и особую направленность интересов, то коктейль получится совсем уж чудной… И понятно, что многих Злотников просто пугал…
«Что касается Злотникова, то живет он в одной со мной и Солодовым квартире и занимается тем, что рисует акварельные картины: пишет ли он что-нибудь — этого я не знаю, т. к. с ним совсем не разговариваю. В плохих отношениях с ним живет и Солодов» (показания Р. Р. Гроссмана).
«Злотникова я знаю лишь как квартиранта, ничего общего я с ним не имею, но могу сообщить кое-что о его деятельности. Когда он снял у меня комнату, которая была сдана ему прислугой, я, придя домой, счел необходимым с ним познакомиться, чтобы узнать, кто у меня живет. Когда я спросил о его деятельности, он ответил, что пишет картины, а кроме того сотрудничает в одной из газет. На мой вопрос, в какой именно, Злотников ответил, что это меня не касается. Из его разговоров по телефону мне удалось узнать, что Злотников работает в «Земщине», а также в «Русском знамени» и «Грозе». Присутствие Злотникова в моей квартире мне было нежелательно. Тем более что после убийства Распутина он поместил в «Новом времени» объявление, что в моей квартире продается портрет Распутина и указал номер моего телефона…
Я просил Злотникова освободить комнату, но он не сделал этого, и я даже дважды подавал в суде иски о выселении его, но и это не увенчалось успехом, так как иски о выселении в военное время не всегда удовлетворялись» (показания Г. И. Солодова).
Замешательство и отчуждение незнакомых людей, легко пере-ходящее во враждебность, — психологически объяснимы. Злотников был слишком опасным соседом… Впрочем, и сейчас, перелистывая номера «Паука», порою ежишься — так откровенны помещенные там статьи.
Наше воспитание таково, что любой человек, открыто объявивший себя антисемитом, сразу оказывается беззащитным для любой, даже и несправедливой критики, а любая попытка объективно разобраться в этом человеке тоже воспринимается как проявление антисемитизма… Тем не менее рискнем это сделать.
Антисемитская направленность «Паука» очевидна. Уже в пробном, вышедшем 3 декабря 1911 года, номере Л. Т. Злотников заявил: «Недремлющее око Антисемита, изображенного на первой странице, будет вечно, беспристрастно и не отрываясь следить за всеми поползновениями, за всеми поступками, мыслями и преступлениями иудейского племени… Око Антисемита не закроется ни перед какими угрозами, ни перед какими проявлениями иудейского человеконенавистничества…»
Установить путь, которым пришел Л. Т. Злотников к таким убеждениям и как укрепился в них, трудно. Но то, что он сам был убежден в своей правоте, — очевидно. Он очень любил изображать в карикатурах «угнетенного» толстосума-еврея и «угнетателя» — нищего русского мужика. Вероятно, именно с этого, еще с детских лет — Л. Т. Злотников, повторю, родился в Витебской губернии — вынесенного ощущения и вырос его антисемитизм. Образование же не только не заглушило детских впечатлений, но, напротив, кажется, еще более укрепило их в Злотникове.
Как и многим, впервые столкнувшимся с «русско-еврейской» проблемой, Злотникову казалось, что именно ему и суждено указать на способ ее разрешения.
«Конечно, мы победим… — писал он в своем журнале, — Они сильны только нашей слабостью, а мы слабы только потому, что недостаточно объединены».
Можно спорить, насколько верно поставлен диагноз, но едва ли это имеет смысл. Прописанным Злотниковым рецептом никто, кажется, и не воспользовался. В том числе и сам Злотников.
На допросах в ЧК он откровенно признавался в этом:
«Ни в какой политической партии не состою, ибо считаю, что всякая партийная программа связывает свободу суждений того, кто в этой партии состоит…
Как урожденный крестьянин, чувствовавший на своей спине все тяготы, не могу сочувствовать тому строю, который существовал до революции или вернее до 1905 года, и разделяю мнение партий, стоящих ближе к народу, то есть демократических. Хот# по некоторым вопросам (аграрному и национальному) несколько отступаюсь и присоединяюсь к мнению партий более правых».
Показания даны в застенке ЧК, и у нас нет оснований заподозрить Злотникова в корректировке своих политических воззрений — ведь именно такая позиция вызывала, как мы увидим, наибольшую неприязнь Урицкого и его подручных.
На первый взгляд уклончивость Злотникова даже раздражает. Как же так? Ишь ты… И демократии ему, видите ли, хочется, и политика предательства интересов русского народа в демократах тоже не устраивает… Нет… Вы уж, батенька, определитесь, пожалуйста, чего вам желается. А то ведь, как у Гоголя — «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича…» — получается… Но ведь несомненно другое. Только у нас в стране почему-то (айв самом деле — почему?) невозможно совмещение демократии с национальными интересами. Это только у нас, в России, уже второй раз на протяжении столетия с помощью так называемого «общественного мнения» удалось по разные стороны баррикады развести патриотизм и демократию… Ни в Англии, ни во Франции такое не могло произойти… Так что позиция Злотникова, не вмещающегося в прокрустово ложе партийных программ, не только не страдает расплывчатостью, а, напротив, выглядит единственно возможной, поскольку она — естественна.
Все это важно для понимания того, что думал и чувствовал Лука Тимофеевич Злотников в мае 1918 года. Мы видим, что он был довольно умным, бесстрашным, но при этом по-своему очень совестливым человеком. Открыто провозглашаемый им антисемитизм базировался не на ненависти к евреям, как к таковым, а на неприятии мифа об угнетении евреев, которым многие представители еврейской национальности довольно ловко пользовались в собственных интересах. Можно не соглашаться с категоричностью постановки проблем в «Пауке», но при всем желании нигде не найдешь там призывов к уничтожению евреев, тем более физическому.
И вот теперь эта прокламация: «Предписание главного штаба «Каморры народной расправы»… Эта фраза: «чтобы их всех, в один заранее назначенный день и час можно было перерезать»… При всем несогласии с позицией, заявляемой в «Пауке» из номера в номер, все же трудно представить, что текст прокламации составлен тем же человеком, который редактировал этот журнал. Злотников не был столь кровожадным, а главное — столь неумным…
Редактируя журнал, он довольно отчетливо представлял себе своего читателя и очень точно адресовался к нему. А кому адресована прокламация? Домовым комитетам, куда она почему-то не поступала? Совершенно неясна и цель прокламации. Запугать евреев? Но едва ли человек, занимавшийся таким сложным производством, как выпуск журнала, не понимал, что сделать это с помощью нескольких десятков прокламаций в огромном городе невозможно. И опять-таки Злотников не мог не понимать, что такая прокламация выгодна прежде всего евреям, особенно если будет опубликована с соответствующими комментариями в еврейских газетах, куда, как установило следствие, он и разослал большую часть «Предписаний».
В чем же дело? Неужели Л. Т. Злотников так поглупел, что не понимал элементарного? Неужели ненависть так ослепила, что разум совсем покинул его?
Нет… Читаешь его показания и видишь: это по-прежнему умный и гораздо более, чем раньше, осторожный человек…
Безусловно, кому-то очень нужно было, чтобы Л. Т. Злотников и был автором прокламации. Он очень уж всей своей прежней деятельностью подходил для этого. Но вот был ли он автором прокламации на самом деле?
Понимаю, что даже постановка вопроса кажется нелепой. Уже на втором допросе Злотников сам сознался в своем авторстве. Кроме того, его уличают показания В. И. Дворянчикова, в фотоцинкографии которого он якобы заказывал печать «Каморры», косвенно свидетельствуют против Злотникова и показания Л. Н. Боброва. Наконец, при втором обыске в комнате Л. Т. Злотникова была найдена и печать «Каморры народной расправы».
Но эти доказательства только на первый взгляд кажутся бесспорными. При более внимательном рассмотрении неопровержимость их становится эфемерной.
Начнем с признания Злотникова. Мы не случайно подчеркнули, что признался он в своем авторстве только на втором допросе, 12 июня 1918 года, проведя в чекистском застенке уже три недели. В руках чекистов «раскалывались», как известно из мемуарной литературы, и более мужественные люди. И трех недель не требовалось чекистам, ч^обы выбить из бравого генерала признание в попытке прорыть туннель в Японию или, на худой случай, — на Мадагаскар.
Признание обвиняемого, данное в ходе следствия, не является бесспорным свидетельством вины. Это аксиома. Особенно если речь идет о признании, полученном в застенке ЧК.
Теперь о других доказательствах…
Итак, во вторник, 14 мая, Л. Т. Злотников получил в фотоцинкографии В. И. Дворянчикова изготовленное для него клише печати. Факт подтверждается показаниями самого Василия Илларионовича Дворянчикова, который на допросе 8 июня заявил: «Относительно того, для какой цели он заказывал это клише, я не знаю и даже не поинтересовался этим при заказе…»
Странно, конечно, что Василий Илларионович даже не спросил, что это за организация, печать которой он изготовляет… Ведь все-таки в мае восемнадцатого года борьба с контрреволюцией шла уже вовсю, и изготовлять печать для организации с таким странным названием — «Каморра народной расправы», даже не поинтересовавшись, что это за организация, было, по меньшей мере, неосторожно. Но допустим, что Дворянчикова, как хозяина мастерской, интересовала только — кстати, весьма скромная — оплата заказа. Однако далее Василий Илларионович все же высказывает соображения по поводу назначения печати, и тут-то и возникает неувязка…
«Скорее можно было предположить, что Злотников хочет что-либо издать из эпохи французской революции…»[88]
В центре печати был изображен восьмиконечный крест, который распространен у русских христиан. Только такой крест, как правило, изображается и на православных иконах. Конечно, В. И. Дворянчиков мог не разбираться в тонкостях церковных обрядов, но и вспомнить по ассоциации с православным крестом эпоху революции в католической Франции он тоже не мог. Ведь Василий Илларионович учился не в советской атеистической школе, а в прежней, где уроки «Закона Божия» были обязательными для всех. Едва ли итальянское слово «Каморра» сбило бы его с толку.
Да и следователь Байковский, поляк, католик по вероисповеданию, не мог не заметить этого противоречия в объяснении Дворянчикова. Однако почему-то он счел его удовлетворительным и никаких вопросов по поводу креста не задал.
Можно предположить, что Василий Илларионович, говоря об «эпохе французской революции», тонко пошутил. Увы… Подобное предположение не очень-то вяжется с человеком, облик которого обрисовывается по мере знакомства с материалами дела. Среди бумаг, изъятых при обыске фотоцинкографии, есть замечательный рецепт: «На одну с половиной бутылки воды — 1 фунт изюма, 14 кубиков дрожжей, 5 шт. гвоздики, 5 чайных ложек сахарного песку. Все влить в бутылку, закупорить дырявой пробкой. Держать в теплом месте, пока не забродит и на дне не получится осадок. Потом слить и профильтровать». И право же, этот рецепт, сохраненный чекистами в деле, более реалистично обрисовывает круг интересов владельца фотоцинкографии, нежели гипотеза о его бесстрашном и тонком юморе. Нет… Не ради шутки вспомнил Василий Илларионович об эпохе французской революции… Складывается впечатление, что он просто не видел никогда ни эскиза печати, ни изготовленного клише, только слышал с чьих-то — не следователя ли Байковского? — слов про текст, размещенный на печати. Вот тогда-то у не слишком образованного Дворянчикова и могла возникнуть по ассоциации со словом «каморра» — французская революция.
То, что Дворянчиков как-то был связан с ЧК, подтверждается и его дальнейшей судьбой. По делу «Каморры народной расправы» было расстреляно семь человек, и все они, не считая Злотникова, за провинность — мы исходим сейчас из официальной, чекистской версии — куда меньшую, чем та, что совершил Дворянчиков, изготовив печать контрреволюционной, «погромной» организации. Леонида Николаевича Боброва расстреляли, например, всего за один экземпляр прокламации, якобы взятый у Злотникова. Дво-рянчикова же освободили, и даже мастерскую его, где изготовлялись документы «погромной» организации, не закрыли.
Эти два факта — незнание, как выглядит печать, и такое не по-чекистски гуманное разрешение судьбы обвиняемого — и заставляют нас усомниться в показаниях владельца фотоцинкографии, позволяют предположить, что говорил он не о том, что было на самом деле, а о том, что хотели услышать от него чекисты, о том, что нужно было им услышать.
Получив печать в фотоцинкографии, Злотников — мы продолжаем излагать чекистскую версию — отпечатал на пишущей машинке «Предписание».
Своей машинки у Злотникова не было, и машинку чекисты тоже пытались найти. Однако тут у них что-то не получилось. Единственное показание на сей счет дал Ричард Робертович Гроссман, как и Злотников, квартировавший у Солодова.
«Месяцев около трех тому назад Злотников брал однажды пишущую машинку у жившей в той же квартире гр. Некрасовой и пользовался этой машинкой два дня».
Некрасова уже выехала из Петрограда; разыскать пишущую машинку не удалось, но следователя Байковского вполне устраивал вариант, по которому Злотников отпечатал свое «Предписание» еще в феврале 1918 года и только ждал удобного случая, чтобы разослать его по редакциям.
Интересно, что некоторые «исследователи» обратили внимание на эту неувязку следствия и по-своему решили заполнить пробел. «Было установлено, что текст воззваний и предписаний «Каморры народной расправы» отпечатан на пишущей машинке, принадлежащей статистическому отделу продовольственной управы 2-го городского района, находящейся на Казанской улице, 50»[89].
Оставляя в стороне множественное число «воззваний и предписаний» (в деле «Каморры народной расправы» речь идет о единственном, уже процитированном нами «Предписании»), отметим, что предположение о перепечатке прокламации на машинке, принадлежащей статистическому отделу, никакими документами не подкреплено. Более того — предположение это достаточно нелепое. Едва ли Злотников, если он действительно отпечатал прокламацию, стал бы работать с таким текстом в учреждении, где большинство сотрудников были евреями.
Отпечатанные прокламации, как следует из материалов дела, Л. Т. Злотников разослал по редакциям, а несколько штук раздал знакомым. Одну прокламацию вручил Л. Н. Боброву, а другую — его спутнику, Г. И. Снежкову-Якубинскому.
«Возвращаясь с обеда в ресторане, куда я был приглашен Г. Снежковым, мы были остановлены возгласом Злотникова, который знал нас обоих: «Здравствуйте, товарищи!» По происшедшем разговоре Злотников дал нам по экземпляру прокламации о Каморре народной расправы, совпадающей по содержанию с теми, которые были в газетах» (показания Л. Н. Боброва),
Леонид Николаевич Бобров, судя по тому, как держался он на допросах, производит впечатление исключительно честного и благородного человека. И его свидетельство, на наш взгляд, изобличало бы причастность Л. Т. Злотникова к прокламации гораздо убедительнее, чем выбитые на допросах признания самого Злотникова. Но Леонид Николаевич действительно очень порядочный человек, и, будучи вынужденным давать показания на Злотникова, он добавляет, что взял прокламацию, «не желая сконфузить» Злотникова. «Я не раскрыл даже и не посмотрел данный экземпляр. Такой же экземпляр получил мой спутник Г. И. Снежков-Якубинский, который пересказал его содержание»[90].
Читателю может показаться, что я совершаю ошибку — торможу повествование, задерживаясь на несущественных деталях. Это не так. Детали, о которых мы говорим сейчас, — единственные улики против Злотникова. И оценить их достоверность необходимо…
Итак, из показаний Л. Н. Боброва мы узнаем, что в воскресенье, 19 мая 1918 года, Лука Тимофеевич Злотников вручил Л. Н. Боброву и его спутнику Г. И. Снежкову-Якубинскому какие-то прокламации. Бобров засунул свой экземпляр в карман, а затем, даже не ознакомившись с содержанием прокламации, выбросил его. О содержании прокламации он узнал от Г. И. Снежкова-Якубинского.
Этот Снежков-Якубинский, как явствует из ряда показаний, был сотрудником или, по крайней мере, секретным осведомителем ЧК. Кстати, об этом свидетельствует и тот факт, что, в отличие от Боброва, Снежков не только не был арестован и расстрелян, но даже и допросы с него не снимались…
Значит, Леонид Николаевич Бобров узнал, что врученная ему прокламация является «Предписанием Каморры народной расправы» со слов сотрудника ЧК. И, вероятнее всего, узнал тогда, когда уже выбросил прокламацию и не мог сверить тексты… Вот об этом припертый показаниями самого Злотникова и сообщил он следователю Байковскому на допросе.
Это объяснение подкрепляется и тем, что 19 мая, когда Злотников вручил Боброву какую-то прокламацию, прокламация, фигурировавшая в деле, уже была напечатана в газетах «Петроградская правда» и «Вечер Петрограда».
«Вечер Петрограда» опубликовал ее под заголовком «КАМОРРА НАРОДНОЙ РАСПРАВЫ» ПОДГОТАВЛИВАЕТ ЕВРЕЙСКИЙ ПОГРОМ»: «За последние дни в связи с усилившейся антисемитской агитацией в Петрограде председателям домовых комитетов рассылаются особые предписания Главного штаба «Каморры народной расправы»… Под этим предписанием имеется круглая печать с надписью «Каморра народной расправы». В центре — большой семиконечный крест.
К предписанию приложен особый листок следующего содержания: «От Главного штаба Каморры народной расправы. Презренный сын Иуды, дни твои сочтены. За квартирой твоей нами ведется неустанное наблюдение. Каждый твой шаг известен нам. Прислуга твоя, дворники и швейцары дома, в котором ты живешь, состоят членами Каморры народной расправы и поэтому все, что бы ты ни делал, известно нам. Все твои знакомые и родственники, у которых ты бываешь или которые у тебя бывают и с которыми ты разговариваешь по телефону, известны нам, и их постигнет такая же участь, какая постигнет и тебя, т. е. они будут безжалостно уничтожены.
Презренный сын Иуды, дни твои сочтены и скоро грязная душа твоя вылетит из смрадного своего обиталища. Беги без оглядки, пока не поздно, и не оскверняй воздух своим дыханием. Дни твои сочтены».
Точно такой же текст «Петроградская правда» поместила под заголовком «ЧЕРНАЯ СОТНЯ ЗА РАБОТОЙ»…
Вот и возникает вопрос: зачем нужно было Злотникову распространять уже опубликованные прокламации?
И, наконец, последняя улика — печать «Каморры народной расправы», которую при втором обыске нашли в комнате Л. Т. Злотникова… Печати, естественно, в архиве нет, нет и контрольных оттисков с нее. Сохранилось изображение печати лишь на единственном, подшитом к делу тексте «Предписания»…
Но это попутные замечания.
Главное же заключается в том, что печать нашли в комнате Злотникова не при аресте его, хотя при аресте и производился обыск комнаты, а неделю спустя, когда в комнате Злотникова успело побывать несколько секретных и несекретных сотрудников Петроградской ЧК…
Вот и все улики, на которых строилось доказательство вины Л. Т. Злотникова. Улики, которые в любом суде были бы сразу поставлены под сомнение…
Мы с вами, дорогие читатели, не судьи, и послать «дело» Злотникова на доследование у нас нет возможности. Тем не менее, хотя по-прежнему тяготеет над Лукой Тимофеевичем Злотниковым, и после расстрела его, это обвинение, мы должны признать, что доказанным оно считаться не может.
Как утверждают биографы, у Моисея Соломоновича Урицкого было врожденное чувство юмора.
Родители собирались сделать из маленького Моисея раввина, но тот выбрал другой путь, приведший его на должность председателя Петроградской ЧК.
В понедельник, 20 мая 1918 года, Моисей Соломонович нацарапал на клочке бумаги: «Обыск и арест: 1. Соколова В. П., 2. Боброва Л. Н., 3. Солодова Г. И.. М. Урицкий»[91].
Несмотря на краткость сего произведения, оно немало способно рассказать как о самом Моисее Соломоновиче, так и о методах работы возглавляемого им учреждения.
Начнем с того, что записка, нацарапанная на клочке бумаги, собственно говоря, и начинает все дело «Каморры народной расправы».
В списке подлежащих аресту лиц три фамилии. Леонид Николаевич Бобров, как мы уже говорили, статистик Казанской районной управы, в прошлом был монархистом и членом «Союза русского народа». Виктор Павлович Соколов, председатель районного комитета Василеостровского Союза домовладельцев, в прошлом — товарищ председателя «Союза русского народа». И, наконец, Георгий Иванович Солодов… Не монархист, не член «Союза русского народа», но квартировладелец, у которого проживал известный Моисею Соломоновичу антисемит Лука Тимофеевич Злотников. Тот самый, который накануне, 19 мая, в присутствии сотрудника ЧК Г. И. Снежкова-Якубинского передал какую-то прокламацию Л. Н. Боброву…
Если бы фамилия Солодова в списке Урицкого была заменена на фамилию Злотникова, по сути дела, перед нами была бы структура будущей организации, так сказать, вновь возрожденного «Союза русского народа». В. П. Соколов — руководитель, Л. Т. Злотников — идеолог, Л. Н. Бобров — организатор. Разумеется, речь идет не о существующей организации, а об организации, которая, по мнению Моисея Соломоновича, могла бы существовать. Все трое в прошлом были связаны с «Союзом русского народа», между Бобровым и Злотниковым существовала связь — прокламация, которую в присутствии свидетеля передал Боброву Злотников. Главное же: все трое очень подходили для подпольной погромной организации. Вспомните слова, сказанные по поводу Злотникова: «Он не скрывает своих взглядов настолько, что мне это даже казалось подозрительным, провокаторским…»
Разумеется, все сказанное — только предположение. Но предположение, позволяющее объяснить ход мысли Моисея Соломоновича Урицкого, набрасывавшего на клочке бумаги не просто план арестов, а сценарий будущего дела. Отказавшись же от этого предположения, мы столкнемся с непреодолимыми препятствиями — ведь, ни 20 мая, ни в ходе дальнейшего следствия не появилось даже намека на причастность Виктора Павловича Соколова к изготовлению «Предписания»…
Ну а как же, спросите вы, Солодов? Ведь в списке стоит именно его фамилия, а не Злотникова…
О! Замена фамилии Злотникова — чрезвычайно остроумная находка Моисея Соломоновича, которая лишний раз убеждает нас, что записка Урицкого действительно сценарий будущего дела. Ведь кроме евреев в Петроградской ЧК работало немало поляков, латышей и эстонцев, которых Урицкий во все тонкости своего плана посвящать не собирался. У рядовых чекистов и сомнения не должно было возникнуть, что дело фальсифицировано. Поэтому-то — отличным был педагогом Моисей Соломонович! — он доверил своим молодым подручным найти Злотникова как бы самим. В ордере № 96, выписанном в семь часов вечера 21 мая, товарищу Юргенсону поручалось провести обыск в квартире Солодова и произвести «арест всех мужчин». Злотникова, таким образом, все равно арестовали, но сделано это было как бы и без участия Моисея Соломоновича…
Да… Если бы я писал художественную повесть, можно было бы подробно расписать, как, нацарапав на бумажке фамилии Соколова и Боброва, Моисей Соломонович поправил спадающее с носа пенсне, заправил за ухо черный, засалившийся шнурок, а потом встал и, переваливаясь с боку на бок, подошел к окну, вглядываясь в петербуржцев с исхудавшими лицами, стремящихся побыстрее прошмыгнуть мимо нацеленных на них из подъезда ПетроЧК станковых пулеметов. Добрыми глазами смотрел на прохожих Урицкий и, мудро усмехаясь, представлял себе, как волнуясь будет докладывать ему товарищ Юргенсон о своей удаче — «случайном» аресте матерого погромщика Злотникова…
— А что? — Моисей Соломонович стащил с угреватого носа пенсне и пальцами помассировал распухшие веки. — А почему бы и нет? Почему бы не поощрить молодого сотрудника? Пусть он сам почувствует радость, которая охватывает чекиста, когда удается найти антисемитскую сволочь… Почему бы и нет?
И, вернувшись к столу, заваленному бумагами, Моисей Соломонович снова водрузил на угреватый нос пенсне и вписал вместо фамилии Злотникова фамилию Солодова.
Правда, подумав еще чуть-чуть, Урицкий приказал кликнуть Г. И. Снежкова-Якубинского и наказал своему агенту быть у Злотникова в день ареста, чтобы Злотников не улизнул куда-нибудь.
Как мы знаем, Снежков-Якубинский приказ Моисея Соломоновича добросовестно выполнил. Согласно показаниям Л. Т. Злотникова, за четверть часа до обыска он был у него, «купил на четыреста рублей картин, деньги за которые, конечно, не заплатил».
Обыски и аресты в соответствии со сценарием, набросанным Моисеем Соломоновичем, начались в тот же день. В одиннадцать часов вечера был выписан ордер на арест Виктора Павловича Соколова.
На Средний проспект Васильевского острова чекисты приехали уже ночью и — первый сбой в сценарии! — Виктора Павловича не застали дома. Еще днем он уехал в Царское Село. Чекисты арестовали его брата — Николая; а также сослуживца Николая Павловича, солдата Мусина, недавно демобилизованного по болезни из армии. Самого же Виктора Павловича чекисты так и не смогли найти…
6
Чтобы яснее представить мотивы, которыми руководствовался Моисей Соломонович Урицкий, сочиняя дело «Каморры народной расправы», нужно вспомнить о событиях тех дней…
Сокрушительным разгромом Германии завершилась первая мировая война. Временное правительство сделало все, чтобы украсть у России победу, но все же именно большевики сдали уже практически побежденной Германии Украину и гигантские территории России. Теперь, когда готовилась капитуляция Германии, в сознании миллионов россиян неизбежно должен был встать вопрос: во имя чего отказалась Россия от своей победы?
Фронтовики-дезертиры уже успели позабыть, что дезертировали они, спасая свои шкуры, и потому и слушали большевистских агитаторов, что им хотелось дезертировать. Теперь, когда война закончилась, не так уж и трудно было убедить их, что сделали они это по вине немецких шпионов — большевиков. В том же Петрограде чрезвычайную популярность в солдатской и матросской среде приобрели листовки, рассказывающие о сговоре большевиков с немцами.
Опасность для большевиков была велика. У них, собственно говоря, и не оставалось выхода, кроме того, чтобы утопить в крови гражданской войны саму память о войне с Германией. Но хотя страна под их руководством стремительно погружалась в хаос, гражданская война все еще не начиналась. Уже были созданы донские, кубанские, терские, астраханские правительства. Зазвучали имена Дутова, Краснова, Деникина. И все равно — трудно, казалось, невозможно поднять распавшуюся на множество республик и коммун страну на гражданскую войну.
«Настоящий момент русской истории… — звучали тогда голоса здравомыслящих, не равнодушных к судьбе России людей, — представляется куда более страшным, чем массовые убийства, грабежи и разбои, более страшным даже, чем Брестский мир. Ради Бога, тише!»
Будущий русский святой, петроградский митрополит Вениамин сделал тогда распоряжение, чтобы во всех церквах в канун Великого поста было совершено особое моление с всенародным прощением друг друга.
А в ночь на саму Пасху Петроград стал свидетелем небывалого церковного торжества — ночного крестного хода. Ровно в полночь крестный ход вышел из Покровской церкви и двинулся по Коломне. Тысячи людей с зажженными свечами шли следом по пустынным улицам. И навстречу вспыхивали окна в погруженных в темноту домах, и в ночном воздухе, словно вздох облегчения, издаваемый всем городом, звучали повторяемые тысячами голосов слова: «Христос Воскресе!»
Только под утро крестный ход возвратился в Покровскую церковь…
Несомненно, что Церковь и теперь, в восемнадцатом году, как и во времена Смуты, могла примирить страну и, конечно, сделала бы это. Еще бы немного времени, месяц-другой, и страна опомнилась бы от революционного дурмана, очнулась бы, стряхнула бы с себя хаос…
Увы… История не знает сослагательного наклонения. «Мирбаховский приказчик» — так называли тогда Ленина — сумел придумать воистину гениальный ход, как все-таки, не откладывая, разжечь гражданскую войну по всей стране.
В начале мая он согласился с требованием Германии выдать добровольно сдавшиеся во время войны чехословацкие части.
Сами чехи узнали об этом в середине месяца, когда их эшелоны, ускользая от германской оккупации, — до заключения Брестского мира чехи квартировали на территории Украины — растянулись по сквозной железнодорожной магистрали от Пензы до Владивостока. По плану, обговоренному с представителями Антанты, во Владивостоке чехи должны были погрузиться на корабли и плыть во Францию.
И вот — приказ из Москвы… Эшелоны остановить, чехословаков разоружить.
Мотивировался приказ тем, что Владивосток занят японцами, которые могут помешать чехам погрузиться на корабли. Объяснение, по меньшей мере, весьма странное. Непонятно, с какой стати японцы стали бы препятствовать отъезду чехов, а главное — как они сумели бы сделать это. Как сумели бы малочисленные японские подразделения остановить довольно мощный корпус регулярной, хорошо обученной армии, составленной из людей, стремящихся во что бы то ни стало вернуться на родину, к своим женам, своим детям? Право же, если бы японцам и пришла в голову эта безумная идея, то они оказались бы просто сметенными в Японское море…
Мы уже не говорим о том, что даже если бы японцы и сумели остановить чехов, что за беда для большевиков? Там, на Дальнем Востоке, открылся бы еще один небольшой театр войны, на котором столкнулись бы между собой две чужеземные армии…
Видимо, и самим чехам, как и нам, забота, проявленная большевиками, показалась весьма подозрительной. Оружие сдать они отказались. Начался мятеж.
25 мая чехословацкие эшелоны Гайды выступили в Сибири против большевиков. На следующий день чешской бригадой Войцеховского был взят Челябинск. 28 мая эшелоны Чечека захватили Пензу и Саратов.
Но и этот открытый мятеж ничем еще не угрожал ни России, ни Советской власти. Чехи продолжали двигаться на Восток. 7 июня Войцеховский взял Омск и 10 июня соединился с эшелонами Гайды. Чечек 8 июня взял Самару.
Большевикам, если бы они не хотели гражданской войны сразу по всей территории России и если бы не боялись ослушаться немцев, просто нужно было ничего не предпринимать — чехословаки продолжали уходить к Владивостоку. Но гражданская война была необходима, необходимо было начать ее до капитуляции Германии, и большевики не упустили свой шанс. В июне образуется восточный фронт, задача которого заключалась на первых порах лишь в противодействии продвижению чехословаков к Владивостоку. Чешские части оказались, таким образом, втянутыми в гражданскую войну. Началась, как метко заметил Лев Давидович Троцкий, настоящая революционная кристаллизация. И это тогда, когда дьявольский азарт революции постепенно начал стихать в народе…
Казалось бы, события, происходящие на железнодорожных магистралях от Пензы до Владивостока, не имеют прямого отношения к Петроградской ЧК, но это не так.
21 мая, во вторник, Урицкий с утра был в Смольном, где комиссар по делам печати, пропаганды и агитации Моисей Маркович Гольдштейн, более известный под псевдонимом В. Володарский, докладывал о подготовке показательного процесса над оппозиционными газетами.
В преддверии гражданской войны разгромить оппозиционную прессу, конечно же, было необходимо, и Моисей Соломонович записал поручения — добыть доказательства контрреволюционности этих газет, но еще более важно было другое…
Перед гражданской войной, в крови которой должна была потонуть сама память о первой мировой войне, необходимо было каким-то образом сделать так, чтобы евреи, принадлежавшие зачастую к враждебным друг к другу партиям, в этой гигантской, запускаемой большевиками мясорубке не пострадали. А для этого — вспомните циркулярное письмо Всемирного Израильского Союза — прежде всего нужно было сохранить единство российского еврейства.
Особо тут не мудрствовали. Для укрепления единства евреев в грозный час истории существовал испытанный рецепт — страх перед погромами.
Надо сказать, что Моисей Маркович Гольдштейн уже развернул на страницах своей «Красной газеты» эту кампанию.
Еще 9 мая здесь была опубликована программная статейка «Провокаторы работают»:
«За последнее время они вылезли наружу. Они всегда были, но теперь чего-то ожили… за последнее время они занялись евреями. Говорят, врут небылицы и, уличенные в одном, перескакивают на другое… Товарищи, вылавливайте подобных предателей! Для них не должно быть пощады».
На следующий день «Красная газета» напечатала Постановление Петросовета «О продовольственном кризисе и погромной агитации»: «Совет предостерегает рабочих от тех господ, которые, пользуясь продовольственными затруднениями, призывают к погромам и эксцессам, натравливая голодное население на неповинную еврейскую бедноту»[92].
А 12 мая со статьей «Погромщики» выступил и сам Моисей Маркович Гольдштейн (В. Володарский)…
«Я бросаю всем меньшевикам и с-рам обвинение:
Вы, господа, погромщики!
И обвиняю я вас на основании следующего факта:
На собрании Путиловского завода 8 мая выступавший от вашего имени Измайлов, занимающий у вас видное место, предлагавший резолюцию об Учредительном собрании и тому подобных хороших вещах, заявил во всеуслышание:
— Этих жидов (членов правительства и продовольственной управы) надо бросить в Неву, выбрать стачечный комитет и немедленно объявить забастовку.
Это слышали многие рабочие. Назову в качестве свидетелей четырех: Тахтаева, Альберга, Гутермана и Богданова…
Я три дня ждал, что вы выкинете этого погромщика из ваших рядов. Вместо этого он продолжает свою погромную агитацию».
В этом же номере, на первой полосе, крупно: «ЧЕРНОСОТЕНЦЫ, ПОДНЯВШИЕ ГОЛОВЫ… ПЫТАЮТСЯ ВЫЗВАТЬ ГОЛОДНЫЕ БУНТЫ…»
Несведущему читателю может показаться странным пафос обличений Моисея Марковича. Возмущение воровством и бездарностью чиновников из Правительства Северной Коммуны и Продовольственной управы Володарский приравнивает к «натравливанию населения на еврейскую бедноту». Однако, если вспомнить, что и в Правительстве Северной Коммуны, и в Продовольственной управе основные должности занимали представители этой самой местечковой бедноты, тревога Моисея Марковича выглядит вполне обоснованной. Любые сомнения в компетентности властей он совершенно справедливо — с его точки зрения! — приравнивал к проявлениям махрового антисемитизма.
Разумеется, кампания, развернутая «Красной газетой», осуществлялась с ведома Григория Евсеевича Зиновьева, который тоже придавал большое значение борьбе с различного рода погромщиками. Выступая на митинге, он сказал, что «черносотенные банды, потерявшие надежду сломить Советскую власть в открытом бою, принялись за свой излюбленный конек…» Правда, тогда, в апреле, Григорий Евсеевич еще не терял надежду, что все можно уладить миром, и «наш товарищ Троцкий будет гораздо ближе русскому рабочему, чем русские — Корнилов и Романов»… Теперь и миролюбивому Григорию Евсеевичу стало совершенно ясно, что эти глупые русские отнюдь не собираются восторгаться новой властью только потому, что она составлена из евреев. И уж совсем ужасно было, что и некоторые евреи тоже начинали роптать на новую власть. Только скорый открытый процесс над погромщиками и мог исправить положение, снова сплотить евреев.
Когда, поправляя спадающее с носа пенсне, Моисей Соломонович Урицкий рассказал своему тезке о задумке с «Каморрой народной расправы», Моисей Маркович сразу оценил его «шутку».
Уже на следующий день после совещания в Смольном в «Красной газете» появилась такая статья:
«Нами получен любопытный документ оголтелой кучки черносотенцев…» И далее полностью приводился текст уже известного нам «Предписания»…
7
Вернувшись с совещания в Смольном, Моисей Соломонович Урицкий в три часа дня выдал Иосифу Наумовичу Шейкману (Стодолину) ордер на обыск в письменном столе статистика Казанской продовольственной управы Леонида Николаевича Боброва. Одновременно Шейкман должен был и арестовать самого Боброва.
Боброва на работе не оказалось, и обыск сделали без него. Точной описи изъятого Шейкман не составлял. Среди бумаг, найденных у Боброва, — письма, программа «Беспартийного Союза спасения Родины», стихи…
Моисей Соломонович Урицкий по-доброму щурился, перечитывая эти стихи, — он не ошибся в выборе организатора погромщиков. Передав бумаги Леонида Николаевича следователю Владиславу Александровичу Байковскому — двадцатитрехлетнему поляку, накануне, 20 мая, принятому на работу в Петроградскую ЧК, Моисей Соломонович с легким сердцем и «добрыми глазами» подписал ордер на арест «всех мужчин» в квартире Солодова и в конторе по продаже недвижимостей, где также работал Бобров. На Николаевскую улицу — в квартиру Солодова — поехал товарищ Юргенсон, а на Невский — товарищ Апанасевич. Было это в семь часов вечера…
Как мы уже говорили, сотрудник ЧК, загадочный Г. И. Снежков-Якубинский, который выдавал себя то за члена Совета рабочих и солдатских депутатов, то за директора фабрики, то за владельца шоколадной, выполняя поручение Моисея Соломоновича Урицкого, добросовестно пас Л. Т. Злотникова перед арестом. Он отобрал у Злотникова на четыреста рублей картин, но главного поручения — подложить печать «Каморры народной расправы» — выполнить не сумел. То ли замешкался, рассматривая картины, то ли Злотников что-то почувствовал и уже не отходил от «директора двух фабрик и шоколадной», но товарищ Юргенсон, производивший обыск в комнате Злотникова, так ничего и не обнаружил.
Забрав всю переписку Злотникова, он начал оформлять «арест всех мужчин». И вот тут-то и начались совсем уж чудные происшествия, никак не вмещающиеся в реалистическое повествование.
Как явствует из протокола обыска, «на основании ордера № 96 от 21 мая задержаны граждане: Злотников, Гроссман, Раковский, Рабинов…»[93] Однако из показаний Ричарда Робертовича Гроссмана мы узнаем, что его арестовали в другой день и в другом месте. «Когда был арестован мой хороший знакомый и приятель Солодов, я зашел на Гороховую, чтобы справиться о положении дел Солодова, и, совершенно ничего не зная, был арестован и посажен в число хулиганов и взломщиков, не чувствуя за собой никакой вины»[94].
Любопытен и факт ареста Леонида Петровича Раковского. Раковский — человек весьма темный и загадочный. До революции он совмещал журналистскую деятельность с работой осведомителя, не гнушаясь при этом и шантажом. Чекистам о сотрудничестве Раковского с охранкой было известно (см. показания З. П. Жданова), но на судьбе Леонида Петровича это никак не отразилось. Вскоре он был отпущен с миром, хотя и Злотников подтвердил в своем «признании», что Раковский знал о «Каморре», знал, где находится печать и т. п.
Это, конечно, наводит на размышления…
Секретный сотрудник охранки, посвященный в дела тайной погромной организации… Это ли не находка для чекистов? И тем не менее такого человека отпускают на свободу.
Понятно, это Леонид Петрович Раковский сотрудничал с Петроградской ЧК, но понятно и другое — товарищ Юргенсон, проводивший обыск, об этом не знал, как не знал и о том, что все дело «Каморры народной расправы» сочинено Моисеем Соломоновичем…
Судьба товарища Юргенсона печальна. Через несколько недель Урицкий перебросит его на организацию убийства своего друга Моисея Марковича Володарского. В этом деле товарищ Юргенсон будет действовать еще более неуклюже, чем при обыске у Злотникова, за это вскоре и будет расстрелян по приказу доброго шутника — шефа Петроградской ЧК…
Впрочем, это будет нескоро, а пока, выяснив, что товарищ Юргенсон не только не сумел отыскать печать «Каморры», но еще сумел и арестовать двух сексотов, Моисей Соломонович сильно огорчился. Он понял, что немножко перемудрил со Злотниковым. Ну да и что ж? Как говорится у этих русских, первый блин комом… Засучив рукава, товарищ Урицкий принялся наверстывать упущенное.
Алексей Максимович Горький, выдающийся борец за права евреев, не мог не откликнуться на публикацию в газетах листовки «Каморры народной расправы». Между прочим, в своей статье он писал: «Я уже несколько раз указывал антисемитам, что если некоторые евреи умеют занять в жизни наиболее выгодные и сытые позиции, это объясняется их умением работать, экстазом, который они вносят в процесс труда…»
Очень точные слова нашел Алексей Максимович. Только так и можно объяснить бурную деятельность, которую развил в тот вечер Моисей Соломонович.
В 22 часа 45 минут он направил товарища Апанасевича произвести «арест всех мужчин в квартире гр. Аненкова». Номер этого ордера — 102. Товарищу Юргенсону был выдан ордер № 96. Семь ордеров на аресты за три часа сорок пять минут! Воистину, это — экстаз, как сказал бы товарищ Горький.
На следующий день, как мы и говорили, прокламация «Каморры народной расправы» с соответствующими комментариями Моисея Марковича Володарского была напечатана в «Красной газете».
Моисей Соломонович в этот день появился на Гороховой уже после обеда. Ордер № 108, выданный в 12.30, подписывал заместитель Урицкого — Бокий, а ордер на арест Леонида Николаевича Боброва и, конечно же, «всех мужчин, находящихся в его квартире», выданный в 13.00, — уже сам Моисей Соломонович.
Где он пропадал с утра, станет понятно, если мы вспомним, что этот день, 23 мая, был объявлен днем национального траура евреев. И хотя в Петрограде еврейских погромов еще не было, но отмечали этот день и здесь широко и торжественно…
«Во всех еврейских общественных учреждениях, школах, частных предприятиях работы были прекращены, — сообщает «Вечер Петрограда». — В синагогах были совершены панихиды по невиновным жертвам погромов. Состоялись также собрания, митинги, на которых произносились речи и принимались резолюции протеста против погромов».
И хотя Петроградскую ЧК вполне можно было считать «еврейским общественным учреждением», но все же Моисей Соломонович не мог позволить себе прервать ее работу. Поприсутствовав на панихиде, он вернулся в свой кабинет на Гороховой, чтобы «остановить торжество надвигающейся реакции» не словами, а делом.
Кроме Боброва в этот день арестовали и председателя Казанской районной продовольственной управы, где работал Бобров, Иосифа Васильевича Ревенко. А поздно вечером арестовали и «миллионера» В. П. Мухина.
Так получилось, что практически все арестованные 23 мая, в том числе и Бобров, и Ревенко, и Мухин, были потом расстреляны, но, видимо, с днем национального траура евреев это уже никак не связано…
А Урицкий, разумеется, спешил. Должно быть, он считал, что костяк «погромной» организации полностью сформирован им, потому что 24 мая аресты по делу «Каморры народной расправы» уже не проводились. 24 мая следователь Байковский приступил к допросам.
Это было первое дело двадцатитрехлетнего поляка. В дальнейшем он сделает блестящую чекистскую карьеру, станет членом коллегии Саратовской ГубЧК, отличится в особом отделе 15-й армии, на расстрелах в Витебске, станет помощником Уншлихта… Но тогда, 24 мая, когда в его кабинет ввели Леонида Николаевича Боброва, чекистское счастье явно отступило от Владислава Александровича…
8
Леониду Николаевичу Боброву было шестьдесят лет. Всю жизнь он прожил в Москве, но во время войны организовывал работу госпиталей и снабжение их, долгое время жил в Одессе и Кишиневе, а перед революцией оказался в Петрограде. Здесь он жил с семнадцатилетней дочерью Лидией и работал на скромной должности статистика в Казанской продовольственной управе с окладом в 800 рублей.
Шестьдесят лет — возраст, когда многое остается позади. В восемнадцатом году для Леонида Николаевича позади осталась не только молодость, богатство, любовь, но и страна, в которой он вырос и которую так любил…
«Многоуважаемая Дарья Александровна! Я так долго не писал Вам, что за это время, может быть, во второй раз был у Вас похоронен, так что второй раз приходится вставать из гроба и Вам напоминать о своем существовании.
Много воды утекло с тех пор, как я получил Ваше последнее вообще и первое в Петроград милое, премилое письмо. Оно было так просто и так ясно написано. Я долго жил под его впечатлением, и мне вновь захотелось побеседовать с Вами… Я, правда, немного опасаюсь, как бы не ошибиться. Я так далек теперь от всякой политики, что совершенно не знаю, к какому государству принадлежит теперь Кишинев. Может быть, Вы вошли в состав Украинской Рады, может быть, у Вас вывешено на видных местах: «ПРОСЯТ ПО-РУССКИ НЕ РАЗГОВАРИВАТЬ», и мое послание Вы сочтете за дерзкое обращение, правда, Вам знакомого, но все же представителя государства, состоящего во вражде с Вашим государством».
Спасительная ирония — это последнее прибежище порядочного человека, живущего в разворованной проходимцами стране, не спасает уже. Явственно прорывается в строках письма горечь, и, может, поэтому Леонид Николаевич и не отправил адресату своего послания…
Самообладание и чувство собственного достоинства Леониду Николаевичу Боброву удается сохранить и в застенке Урицкого. При всем желании не найти в протоколах его допросов ни страха, ни угодничества. Нет здесь и той бравады, которая возникает, когда человек пытается перебороть страх. Спокойно и уверенно звучит голос…
«Что касается моей политической жизни… то до отречения Государя от престола я был монархистом, кроме того, состоял членом общества «Союза русского народа»… «Союз русского народа» ставил своей задачей поддержание в жизни трех основных принципов: православие, самодержавие и русскую национальность».
И сейчас нелегко признаться в стремлении поддерживать русскую национальность, но какое же мужество требовалось от человека, чтобы произнести эти слова в Петроградской ЧК!
Известно, что монархист чтит Божественное начало в душе Государя и через любовь к нему возвышается до рыцарства. Это мы видим и на примере Леонида Николаевича.
«После отречения… — говорил он на допросе, — партия монархистов потеряла свое значение, я остался беспартийным и за последнее время перестал совершенно работать на политическом поприще, так как проводить в жизнь свои взгляды при теперешних обстоятельствах считал бесполезным».
Мысль философа Ивана Ильина о монархе, который живет в скрещении духовных лучей, посылаемых его подданными, и является центром единства народа, выражением его правовой воли и государственного духа, может быть, никогда и не формулировалась Бобровым так четко, но была близка ему, осуществлялась им в самой жизни. Он обладал развитым иррационально-интуитивным монархическим самосознанием и считал Судьбу и Историю делом Провидения.
«По моему мнению, все политические партии, старающиеся свергнуть Советскую власть, бессильны порознь что-либо сделать без внешней помощи и все их попытки напрасны…» — отвечал он следователю, по сути дела, повторяя высказывание Владимира Митрофановича Пуришкевича: «большевики в настоящее время представляют собою в России единственную твердую власть».
Совпадение это поразительно и тем, что к Боброву и Пуришкевичу Советская власть была настроена особенно непримиримо. Признавая несокрушимость большевизма, ни Бобров, ни Пуришкевич, разумеется, и не рассчитывали на смягчение своей участи, нет, слова эти — свидетельство ясности ума, умения отказаться от иллюзий, ясно и трезво взглянуть в глаза беде. Суета игры в партии и партийки не способна была преодолеть духовный кризис общества, с преодоления которого и следовало начинать возрождение монархии, а значит, и государственности России…
Чтобы точнее представить душевное состояние Леонида Николаевича в мае восемнадцатого года, нужно вспомнить, что миновало не многим более года с того дня, когда, окруженный толпою продавшихся, запутавшихся в собственных интригах сановников и самовлюбленных политиков, государь подписал отречение.
Травля этого последнего российского государя, длившаяся все годы его правления, привела к тому, что, стремясь избежать гражданской войны, он согласился на отречение, и в результате народ вел гражданскую войну без государя и не за государя.
И тут нельзя не вспомнить и другую мысль Ивана Ильина о «жертвенности совестного сознания»… В мае восемнадцатого года за спиной у Николая Второго осталась тобольская ссылка, бесконечные унижения от хамоватых, полупьяных комиссаров, а впереди была та страшная ночь в Ипатьевском доме, когда следом за царской семьей спустились в подвал с наганами в руках Юровский, Медведев, Никулин, Ваганов, Хорват, Фишер, Эдельштейн, Фекете, Надь, Гринфельд, Вергази…
Когда начались допросы Леонида Николаевича Боброва, государь, искупая роковую минутную слабость, еще только проходил крестный путь к своей Голгофе — подвалу дома Ипатьева.
И памятуя о том, что судьбы людей и История — дело Провидения, зададимся вопросом: не этот ли крестный путь, превративший государя в Великомученика, и закладывает основу христианского, нравственного возрождения, а вместе с ним, если уж кризисы монархии и христианства шли рука об руку, не отсюда ли начинается восстановление России, возрождение которой без монархии, как полагал вместе с Иваном Ильиным и наш герой, неосуществимо?
И еще раз вспомним о скрещении духовных лучей, посылаемых монарху его поданными. Именно здесь, по Ильину, осуществляется правовая идея монархии, подвиг служения народу монарха. Но в это же перекрестье осуществлялся и великомученический подвиг государя… И мог ли он быть совершен без духовной, реализуемой лишь в иррационально-интуитивном монархическом сознании поддержки таких, как Леонид Николаевич Бобров, преданных монархистов, десятками и сотнями погибавших в те дни в большевистских застенках…
Среди отобранных при обыске у Л. Н. Боброва бумаг немало стихов.
Предельно точно сформулировано здесь, как нам кажется, то, что думал и чувствовал Леонид Николаевич в мае восемнадцатого года.
Он считал «бесполезным проводить в жизнь свои взгляды при теперешних обстоятельствах», но тем самым он никоим образом не снимал с себя ответственности за судьбу страны, как, конечно же, не снимал ее с себя и низвергнутый в подвал Ипатьевского дома государь. Просто сейчас эта ответственность свелась для них к пути, который им предстояло пройти до конца. Николай Второй прошел этот путь. Прошел его и монархист Леонид Николаевич Бобров.
Со спокойствием сильного, уверенного в своей правоте человека отметает он вздорные обвинения следователя. Ни пытками, ни посулами Байковскому не удалось склонить Боброва к исполнению роли, предназначенной ему по сценарию Моисея Соломоновича Урицкого. Высокой порядочностью истинно русского интеллигента отмечены его показания на «подельников»…
«О Ревенко могу сказать, что он является председателем Казанской районной управы и опытным в своем деле работником… Что касается его политической жизни, то я совершенно ничего не могу указать ввиду того, что в служебное время я с ним никаких бесед на политические темы не вел».
Столь же «существенные» сведения удалось получить от Боброва и на других подозреваемых в причастности к «Каморре» лиц. Почти месяц Байковский продержал шестидесятилетнего старика в камере на голодном пайке и только 20 июня снова вызвал на допрос, уличая выбитыми из Злотникова показаниями…
Леонид Николаевич спокойно объяснил, что взял прокламацию, не желая «сконфузить» Злотникова.
— А почему вы сразу не признались в этом? — торжествующе спросил Байковский. — Почему пытались скрыть это?
— Об этом обстоятельстве раньше не говорил, так как об этом не был спрошен, а сам с доносом выступать не умею.
Бесспорно, Бобров понимал, что бессмысленно объяснять правила поведения, принятые среди порядочных людей, следователю ЧК, самозабвенно окунувшемуся в палаческую стихию, но, может, не для него он и произносил эти слова, как не для Урицкого, и писал с больничной койки:
«Я никогда не сочувствовал еврейским погромам и ни один человек не может доказать, что я имею хотя бы какое-нибудь самое отдаленное отношение к какому-нибудь погрому… Итак, я получил один экземпляр воззвания и не сделал из него никакого употребления, между тем в тот же день это воззвание было распространено в тысячах экземпляров различных газет, в том числе и в «Красной газете», продававшихся на всех улицах Петрограда и никто из редакторов не привлечен к ответственности».
Разумеется, не о том хлопотал больной, истощенный голодухой Леонид Николаевич, чтобы Урицкий засадил в тюрьму своего дружка Володарского… Нет, он объяснял, что все это дело — чистой воды провокация, и объяснял это нам, живущим, когда новые урицкие и Володарские готовят для России новую гражданскую войну, когда снова (словно бы про нас сказанные в восемнадцатом году слова Алексея Ремизова): «Зашаталась русская земля — смутен час. Госпожа Великая Россия, это кровью твоей заалели белые поля твои — темное пробирается, тайком ползет по лесам, по зарослям горе злокручинное…»
Леонида Николаевича расстреляли в страшную ночь на 2 сентября 1918 года, а 23 декабря было составлено и постановление о расстреле:
«Леонид Николаевич Бобров арестован был по делу «Каморры народной расправы». Обвинение было доказано и Боброва по постановлению ЧК от 2 сентября с. г. — расстрелять, на основании чего настоящее дело прекратить»[95].
Вот так, просто и без затей…
9
Уже на первых допросах выяснилось, что сценарий Моисея Соломоновича блистательно проваливается.
Точно так же, как Л. Н. Бобров, показывал на допросе и полковник И. Н. Анненков:
«Бобров известен только как работник по службе в обществе дачных недвижимостей…
Соколов известен довольно давно, как умный человек, деятельный в смысле политической жизни…
С Ревенко я познакомился в Обществе попечительства о беженцах…
Что касается «Каморры народной расправы», то я о ней услышал только в камере…»
Конечно, неважно было, где человек услышал про «Каморру», если сама идея организации родилась в кабинете Моисея Соломоновича Урицкого, но беда заключалась в другом: до сих пор главное действующее лицо — бывший товарищ председателя «Союза русского народа» Виктор Павлович Соколов — отсутствовало. И никто из подследственных не желал указать, где его можно найти.
«Что касается брата моего, Виктора Павловича… — сообщил Н. П. Соколов на допросе 25 мая, — то могу сказать, что по совету врача он должен был уехать в Царское Село и уехал он туда или в день обыска, или днем раньше. По своим политическим убеждениям он, кажется, монархист, кроме того, состоял членом «Союза русского народа», но старается ли он в настоящее время проводить в жизнь свои идеи — этого я сказать не могу…»
Конечно, следователь Владислав Александрович Байковский не был испорчен ни образованием, ни воспитанием. Уроженец гмины Пруска Ломжинской губернии, он успел закончить лишь четыре класса, а затем увлекся бандитизмом и уже в 1917 году командовал группой удельнинских боевиков, совмещая эту деятельность с занятиями делопроизводством в Удельнинском районном комиссариате милиции… Однако и он, неиспорченный культурой чекист, не мог не уловить открытой издевки в словах Николая Павловича.
К сожалению, материалы дела не позволяют судить о всем спектре методов физического воздействия, к которым прибегал товарищ Байковский на допросах, но о пытках, так сказать, морального плана можно говорить, опираясь на документы.
Например, был у Владислава Александровича — уж не знаю, сам ли он до него додумался или Моисей Соломонович подсказал, — излюбленный прием… Взяв с подследственного подписку о невыезде, он отправлял его в камеру и, конечно же, забывал о нем на долгие недели, а то и месяцы…
Заключенный же, уже настроившийся идти домой, собравший вещи, разумеется, волновался. Начиналось нервное расстройство. На многих подследственных этот прием действовал безотказно.
«Вот уже две недели, как вы сказали, что отпустите меня отсюда через два-три дня, а я все мучусь и не знаю, в чем виноват… Очень прошу: возьмите меня отсюда, силы больше моей нету, от нервов и раны уже ходить не могу. Ну и чего я сделал, что меня вы так мучите и пытаете?.. Возьмите меня отсюда, силы боле нет жить…»
Солдат Мусин, который писал это прошение, просидел в тюрьме больше двух месяцев, и наверное, если бы только знал, где находится Виктор Павлович Соколов, то рассказал бы все — так умело довел его до этого состояния Байковский.
Мусин, конечно, не герой, но все-таки служил в армии, воевал, повидал в жизни многое, и коли и он раскис, то в самом деле нужно признать, что методы Байковского давали неплохие результаты. Мы еще будем рассказывать об удивительной истории Льва Александровича Балицкого, вдруг заговорившего в тюремной камере на позабытом украинском языке… Пока же верйемся к Николаю Павловичу Соколову, которому тоже пришлось поплатиться за свою язвительность.
«Я арестован 21 мая и был Вами допрошен 25 мая, причем Вы на допросе сказали мне, что мне не предъявлено обвинений… и что, по всей вероятности, после Вашего доклада Председателю Чрезвычайной Следственной Комиссии меня освободят. С тех пор прошло две с половиной недели. Допрошенные одновременно со мной Гроссман и Анненков, по-видимому, освобождены — мое же дело остановилось. Поэтому прошу Вас, если Вы нуждаетесь в дополнительных сведениях от меня — допросить меня. Надеюсь, что после вторичного допроса меня освободят, причем я всегда готов дать подписку о невыезде из Петрограда и явке на допрос по первому требованию».
В дополнительных сведениях Байковский нуждался и внял просьбе Николая Павловича, вызвал его на допрос. Но — увы! — от предложения сотрудничать с ЧК в аресте своего брата Соколов снова отказался и, хотя уже и без прежней язвительности, продолжал твердить, что не знает, где брат. Поэтому и был водворен назад в камеру сочинять новые — «Я арестован четыре недели назад… и не имею никаких известий, в каком положении мое дело…» — прошения и постепенно доходить до нужной чекистам кондиции сговорчивости…
Однако метод Байковского при всей его действенности страдал и существенным недостатком — результаты он давал спустя недели, а то и месяцы. Но ни месяца, ни недель в запасе у Моисея Соломоновича не было…
В циркулярном письме «Всемирного Израильского Союза», как мы помним, неоднократно подчеркивалось, что в исполнении плана необходимо постоянно соблюдать осторожность. И хотя Урицкий и Володарский исполняли все директивы, про осторожность они позабыли, и потому положение их становилось шатким.
Процесс «Каморры», быть может, многое бы исправил, но для этого нужно было основательно подготовиться. А Моисей Соломонович торопился, нервничал. Да и как было не нервничать, если уже и сами фигуранты будущего процесса начали открыто говорить о провокации.
На допросе 27 мая Лука Тимофеевич Злотников прямо сказал об этом: «История с этими воззваниями, по моему мнению, является сплошной провокацией со стороны лица, а может быть, и группы лиц, желавших на этом деле создать себе шерлокхолмсовскую репутацию и деньги. Они разослали эти воззвания в небольшом количестве лицам, которых они хотели дискредитировать, и лицам, перед которыми им необходимо было в вышеозначенных целях (карьера и деньги) показать свою находчивость и усердие».
Трудно, трудно не нервничать, когда твое детище подвергается таким нападкам. И Моисей Соломонович задергался. Вместо планомерного перетряхивания населения Петрограда он начал производить самые неожиданные аресты.
Хотя и в этих неподготовленных, неотрежиссированных арестах тоже была своя логика. Моисею Соломоновичу срочно нужно было пополнить погромную организацию реальной силой, и чекисты в последние дни мая хватают офицеров из полка охраны г. Петрограда, сотрудников «Частного бюро личной и имущественной охраны», представителей союза квартальных старост… А чекист Иосиф Фомич Борисенок был направлен даже в Бюро частного розыска. Непонятно, какие сведения о «Каморре» рассчитывал найти там Моисей Соломонович Урицкий, но это и неважно, потому что замысел его опять сорвался. В Бюро частного розыска Иосиф Фомич Борисенок увидел мешок сахару и, позабыв все наставления Моисея Соломоновича, арестовал служащих бюро как спекулянтов, а сахар реквизировал… Сахаром чекистам себя удалось обеспечить, но дело «Каморры» не сдвигалось с мертвой точки… По-прежнему организацию не удавалось доукомплектовать, и тогда Моисей Соломонович и совершил главную ошибку: за отсутствием черносотенца Виктора Павловича Соколова он «выдвинул» на пост председателя «Каморры народной расправы» своего бывшего приятеля Иосифа Васильевича Ревенко, председателя Казанской продовольственной управы, той самой управы, где служил — и чего он так дался Урицкому? — главный «погромщик» Леонид Николаевич Бобров…
Мысль Моисея Соломоновича можно понять. По сути дела, она была изложена и в статье В. Володарского «Погромщики», которую мы привели выше целиком. Мысль понятная… Если какой-то части еврейской общественности, выразителем мнения которой был и великий пролетарский писатель Максим Горький, не нравятся Урицкий, Володарский и Зиновьев, то, быть может, и сами представители этой общественности являются погромщиками? Конечно, это несколько противоречит принципу еврейской солидарности, но в конце концов не Урицкий же с Володарским первыми нарушили этот принцип!
В несчастливый час посетила Моисея Соломоновича эта мысль.
Впрочем, об известных всем роковых последствиях этого решения разговор еще впереди, а сейчас поговорим об Иосифе Васильевиче Ревенко, который как раз и был представителем той самой прогрессивной общественности, окончательный разрыв с которой стоил жизни и Володарскому, и Урицкому.
10
Объективку на Иосифа Васильевича Ревенко дал секретный сотрудник Петроградской ЧК Сергей Семенович Золотницкий.
Он познакомился с Ревенко, когда Петроградской ЧК еще не существовало. Золотницкий тогда искал у Ревенко покровительства.
«В сентябре семнадцатого года я освободился от службы и товарищи по корпусу посоветовали мне обратиться к И. В. Ревенко за протекцией. Ревенко обещал устроить меня…»
После Октябрьского переворота дела Сергея Семеновича пошли в гору, и опека Ревенко начала тяготить его.
«Когда я приехал из Москвы, то Ревенко спросил меня между прочим, как я выполнил там поручение Комиссии. Еще он спросил: буду ли я работать здесь? Я, конечно, обрисовал ему в общих чертах свою работу в Москве, а на второй вопрос ответил, что по семейным обстоятельствам дальше продолжать работу в Комиссии не могу. Ревенко сказал с иронией:
— Ну, конечно… Вы такой видный политический деятель…
В дальнейшем нашем разговоре Ревенко перечислил ряд организаций, в которых занимал первенствующее положение и как бы между прочим добавил: «Вы являетесь все-таки простым агентом Комиссии, я же являюсь членом Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Петроградском Совете. Он называл тогда некоторых членов Комиссии, говорил, что с Урицким он большой приятель».
Ревность Иосифа Васильевича к своему протеже, который был вдвое моложе его, выглядит довольно смешно, но это — характер Ревенко.
«Я встречался с ним несколько раз и в Таврическом дворце, где он был секретарем Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии… Ревенко тогда имел пропуск общий на Смольный и Таврический и вообще был там, по-видимому, важным лицом, на что мне при встречах всегда старался указывать…»
Тщеславия в Иосифе Васильевиче Ревенко было с избытком и, даже оказавшись в Петроградской ЧК уже в качестве подследственного, он как-то по-мальчишески хвастливо перечисляет все свои должности…
«В настоящее время я являюсь председателем Казанской районной управы и членом президиума бюро по переписи Петрограда. Кроме того, я — председатель общегородского совета союзов домовых комитетов гор. Петрограда, редактор-издатель журнала «Домовой комитет», товарищ председателя совета квартальных старост 3-го Казанского подрайона, председатель домового комитета дома № 105 по Екатерининскому каналу, член правления Мариинского кооператива и член продовольственного совета Казанской районной управы».
Увлекшись перечислением своих должностей и званий, Ревенко вспомнил и то, о чем в ЧК лучше было не говорить…
«В 1912 году, будучи в отпуске в городе Николаеве, я принял участие в выборах… В Городскую думу я прошел большинством голосов, а в Государственную по г. Николаеву также прошел, но в конечном результате голосов мне не хватило и я был зачислен кандидатом».
Тут же Иосиф Васильевич рассказал и о том, что на выборах он «проходил по соединенному списку умеренного блока, в состав которого входили представители, рекомендуемые «Союзом русского народа», торгово-промышленным классом, октябристскими и другими конституционно-монархическими организациями. Как выдвигаемый этим блоком, я покрыл некоторые расходы этих организаций, как по выборам, так и в частности, за что и был избран почетным членом и попечителем бесплатной начальной школы «Союза русского народа».
Не насторожил Иосифа Васильевича и вопрос Байковского о Злотникове. Верный манере подчеркивать при каждом удобном случае собственную значимость, он поведал обрадованному следователю, что со Злотниковым познакомился во время представления царю монархических организаций, где он, Ревенко, находился по долгу службы…
Правда, Ревенко категорически отрицал связь с «Каморрой», более того, как и Злотников, заявил: «Слухи о «Каморре народной расправы» считаю совершенно абсурдными и провокационными, о которых я здесь только и узнал», — но уж этого-то, будь он поумнее, мог бы и не говорить. Урицкий, с которым Ревенко был большой приятель, и сам прекрасно знал, где и что можно услышать о «Каморре»…
Говоря об Иосифе Васильевиче Ревенко, хотелось бы подчеркнуть, что он, как и Леонид Николаевич Бобров, не просто персонаж придуманного Моисеем Соломоновичем Урицким дела, но и достаточно яркий типаж.
В самом начале этой книги мы говорили, что Октябрьский переворот потому и удался, что был выгоден не только большевичкам, но и тем «прогрессивным» деятелям, которые стояли тогда у власти в стране. Иосиф Васильевич Ревенко хотя и значительный, но типичный представитель этих «прогрессистов».
Читая протоколы допросов, постоянно ощущаешь сквозящие за хвастовством и самовлюбленностью Иосифа Васильевича растерянность и недоумение. Точно так же, как и более именитые сотоварищи, Ревенко не может понять, почему его, такого умного, такого ловкого, вытеснили из коридоров власти. В принципе и сейчас Ревенко готов примириться с большевиками, лишь бы продолжать «гражданское» служение, лишь бы подали ему хоть копеечку власти. Только зачем же, зачем его обходят здесь молодые и в подметки ему не годящиеся конкуренты?
«Когда я принял на себя обязанности секретаря канцелярии Комиссии товарища Урицкого… — не скрывая насмешки, рассказывал С. С. Золотницкий, — Ревенко стал со мною мягче. Однако однажды он заметил: «Вот теперь вы на моем месте. Разница только в том, что я окончил пять высших учебных заведений, а вы и среднее-то окончили ускоренно…»
Слепота и полнейшая гражданская глухота отнюдь не частные недостатки И. В. Ревенко. Письма, изъятые у него и приобщенные к делу, свидетельствуют, что этими же недугами были поражены многие политики того времени.
Два письма здесь, как мне кажется, вполне могут претендовать на роль своеобразных памятников русской либерально-буржуазной мысли — так великолепно обрисовывают они политиков круга Иосифа Васильевича Ревенко. Тех самых политиков, которые добровольно уступили большевикам власть…
«Многоуважаемый Иосиф Васильевич!
По поручению моего дяди Ал. Ал. Римского-Корсакова, звонила вам неоднократно, но мне сообщили, что звонок у Вас не действует. Дело в том, что дядя не получил своего жалованья за октябрь месяц, а другие сенаторы его получили. Ал. Ал. очень просит Вас узнать, в чем тут дело, и, если возможно, это жалованье получить и переслать ему».
Самое поразительное в этой записке — дата, письмо написано в ноябре 1917 года.
Можно долго говорить о предательстве и подлости людей, стоящих у кормила власти при отречении государя, но что говорить, если и теперь, после «десяти дней, которые потрясли мир», господин сенатор продолжает волноваться о задержке выплаты сенаторского жалованья. Насколько же несокрушимыми должны были казаться ему основы российской государственности, которые он с компанией Милюковых, Тучковых, черновых, керенских трудолюбиво разрушал, коли и разразившаяся катастрофа не поколебала убежденности, что и дальше сенаторское жалованье будет исправно выплачиваться?
Второе письмо более пространно, хотя тоже в чем-то созвучно «недоумению» Ал. Ал. Римского-Корсакова. И стоит под ним фамилия самого Павла Николаевича Милюкова.
«В ответ на поставленный Вами вопрос, как я смотрю теперь на совершенный нами переворот, чего я жду от будущего и как оцениваю роль и влияние существующих партий и организаций, пишу Вам это письмо, признаюсь, с тяжелым сердцем. Того, что случилось, мы не хотели. Вы знаете, что цель наша ограничивалась достижением республики или же монархии с императором, имеющим лишь номинальную власть; преобладающего в стране влияния интеллигенции и равные права евреев. Полной разрухи мы не хотели, хотя и знали, что на войне переворот во всяком случае отразится не благоприятно. Мы полагали, что власть сосредоточится и останется в руках первого кабинета министров, что временную разруху в армии и стране мы остановим быстро и если не своими руками, то руками союзников добьемся победы над Германией, заплатив за свержение царя некоторой отсрочкой этой победы. Надо признаться, что некоторые даже из нашей партии указывали нам на возможность того, что и произошло потом. Да мы и сами не без некоторой тревоги следили за ходом организации рабочих масс и пропаганды в армии. Что же делать: ошиблись в 1905 году в одну сторону — теперь ошиблись опять, но в другую. Тогда недооценили сил крайне правых, теперь не предусмотрели ловкости и бессовестности социалистов. Результаты Вы видите сами. Само собою разумеется, что вожаки Совета рабочих депутатов ведут нас к поражению и финансовому экономическому краху вполне сознательно. Возмутительная постановка вопроса о мире без аннексий и контрибуций помимо полной своей бессмысленности уже теперь в корне испортила отношения наши с союзниками и подорвала наш кредит. Конечно, это не было сюрпризом для изобретателей. Не буду излагать Вам, зачем все это было им нужно, кратко скажу, что здесь играла роль частью сознательная измена, частью желание половить рыбу в мутной воде, частью страсть к популярности. Но, конечно, мы должны признать, что нравственная ответственность за совершившееся лежит на нас, то есть на блоке партий Гос. Думы. Вы знаете, что твердое решение воспользоваться войною для производства переворота было принято нами вскоре после начала этой войны. Заметьте также, что ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля или начале мая наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования. Вы понимаете теперь, почему я в последнюю минуту колебался дать согласие на производство переворота, понимаете также, каково должно быть в настоящее время мое внутреннее состояние. История проклянет вождей наших, так называемых пролетариев, но проклянет и нас, вызвавших бурю.
Что же делать теперь, спрашиваете Вы… Не знаю. То есть внутри мы оба знаем, что спасение России в возвращении к монархии, знаем, что все события последних двух месяцев ясно доказали, что народ не способен был воспринять свободу, что масса населения, не участвующая в митингах и съездах, настроена монархически, что многие и многие агитирующие за республику делают это из страха. Все это ясно, но признать этого мы просто не можем. Признание есть крах всего дела всей нашей жизни, крах всего мировоззрения, которого мы являемся представителями. Признать не можем, противодействовать не можем, не можем и соединиться с теми правыми, подчиниться тем правым, с которыми так долго и с таким успехом боролись. Вот все, что могу сейчас сказать. Конечно, письмо это строго конфиденциально. Можете показать его лишь членам известного Вам кружка».
Павел Николаевич Милюков, безусловно, был выдающимся политиком. Вклад его в разрушение Российской империи трудно переоценить… А по этому письму мы видим, что Милюков еще и умел предвидеть результаты своих политических поступков.
Ради «преобладающего в стране влияния интеллигенции и равных прав евреев» он пошел на прямое предательство Родины, ибо обостренным чутьем политика ясно ощущал, что победа России в этой войне становится неизбежной, а значит, и столь дорогим мечтам о «равных правах евреев» подходит конец. Но даже и после Октябрьского переворота, когда среди жертв оказался и он сам вместе со своими друзьями, не может Милюков признаться в ошибке. Вернее, может, но по-прежнему не желает пойти на союз с правыми. По-прежнему урицкие и володарские ближе ему, чем такие люди, как Бобров или Пуришкевич…
И как личность, и как общественный деятель И. В. Ревенко мельче П. Н. Милюкова. И может, как раз поэтому вся подловатая сущность либерально-буржуазных прогрессистов выступает в нем в самом неприкрытом виде. Нет, не об интеллигенции думали эти деятели, воруя у России победу в войне, и даже не о евреях, права которых столь ревностно защищали. Думали они лишь о себе, только о своих выгодах и амбициях, и ради этого готовы были пожертвовать чем угодно.
Урицкий не внял мольбе «большого приятеля». Сантименты были не свойственны ему, а Ревенко подходил для расстрела.
От расстрела Иосифа Васильевича не спасла даже смерть «приятеля». После убийства Урицкого чекисты все равно расстреляли его. Правда, расстреляли совсем за другое.
В постановлении, написанном почти через три месяца после расстрела, сказано: «И. В. Ревенко арестован был Чрезвычайной Комиссией 22 мая с. г. по делу «Каморры народной расправы». Следствием установлено, что Ревенко в организации «Каморры нар. распр.» участия не принимал, но, как активный организатор Совета квартальных старост 3-го Казанского подрайона, который (Совет) ставил своей целью под видом официальной организации свержение Советской власти, расстрелян по постановлению ЧК 2 сентября с. г.».
Постановление это больше похоже на насмешку и потому, что принято спустя три месяца после расстрела, и потому, что все руководители Совета квартальных старост 3-го Казанского подрайона, за исключением Ревенко, были отпущены на свободу. В постановлении по делу секретаря Совета квартальных старост Анатолия Михайловича Баталина, например, прямо написано: «Ввиду того, что теперь почти миновала надобность в заложниках, ЧК постановила Анатолия Баталина из-под ареста освободить и настоящее дело о нем дальнейшим производством считать законченным».
Читаешь эти постановления, и так и встает перед глазами «мягкая, застенчивая» улыбка Моисея Соломоновича Урицкого, сумевшего даже и с того света порадеть «большому приятелю».
Эту главу о безрадостной, но вполне заслуженной судьбе прогрессиста И. В. Ревенко мне бы хотелось завершить словами Василия Шульгина, сказавшего: «Мы хотели быть в положении властителей и не властвовать. Так нельзя. Власть есть такая же профессия, как и всякая другая. Если кучер запьет и не исполняет своих обязанностей, его прогонят.
Так было и с нами — классом властителей. Мы слишком много пили и ели. Нас прогнали. Прогнали и взяли себе других властителей, на этот раз «из жидов». Их, конечно, скоро ликвидируют. Но не раньше, чем под жидами образуется дружина, прошедшая суровую школу».
В каком-то смысле эти слова Шульгина оказались пророческими. «Жидов», по крайней мере часть их, в результате еврейско-кавказской войны в Политбюро действительно изгнали, постепенно страна начала приходить в себя, но к этому времени верхушка властителей вновь впала в греховное ничегонеделание и снова ее изгнали, и снова все повторилось в соответствии с рецептом Шульгина… Только вот вопрос: образуется ли и теперь прошедшая суровую школу дружина, которая сможет изгнать новых правителей? Или же мы все обречены, всей страной, на гибель?
11
Вступив на тропу войны с бывшими приятелями, Моисей Соломонович, конечно, совершил роковую ошибку, за которую ему пришлось заплатить жизнью… Но неверно было бы думать, что эта борьба как-то отвлекала его от прежних замыслов, как-то смягчала ненависть Урицкого к русским. Нет… Скажем прямо, у нас нет никаких оснований подозревать Моисея Соломоновича в этом. Война, в которую Урицкого вынудили ввязаться евреи-не-большевики и евреи-нечекисты, привнесла лишь этакий пикантный оттенок в деятельность ПетроЧК, но отнюдь не изменила стратегического, концептуального направления.
Дело «Каморры народной расправы» было задумано как своеобразное сито, через которое чекисты собирались перетряхнуть все русское население Петрограда. О серьезности намерений свидетельствует и тот факт, что уже в конце мая был отпечатан стандартный бланк:
К делу…………….. «Каморра нар. распр.» от……………… 1918 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Гражданин…………………был арестован Чрезвычайной Комиссией по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Петроградском Совдепе по ордеру названной Комиссии от «…» …………….. с/г за №…………. как заподозренный в принадлежности к контрреволюционной организации «Каморры народной расправы».
Произведенным Комиссией следствием путем тщательного просмотра его деловых бумаг и переписки и допросов его и других лиц установлено, что гражданин……………….никакого отношения к вышеозначенной погромной организации не имеет.
На основании вышеизложенного Чрезвычайная Комиссия постановил:
1. Гр………………… от предварительного заключения освободить
……………… 1918 года;
2. Настоящее дело о нем производством прекратить и сдать в архив Комиссии.
«…» ……1918 г.
№……
Председатель:
Следователь:
Исполнить задуманное Моисею Соломоновичу Урицкому помешал, как мы знаем, выстрел Леонида Иоакимовича Каннегисера, но, безусловно, намерения были самые серьезные. Урицкий явно нацеливал чекистов не на борьбу с отдельными преступниками, а на работу с самыми широкими массами населения.
Опять-таки неверно было бы думать, что счастливец, фамилию которого после долгих мытарств в предварительном заключении заносили в заранее отпечатанный бланк, прощался с чекистами навсегда. Нет. С каждого брали подписку о невыезде, да и вообще не оставляли своими заботами и в дальнейшем.
Мы уже говорили, что в последних числах мая чекисты начали производить массовые аресты офицеров. Фамилии двоих из них — Владимира Борисовича Никольского и Николая Александровича Шлетынского. — вскоре вписали в стандартный бланк, хотя в бумагах у них и были обнаружены явно контрреволюционные стихи:
И все-таки офицеров, изъяв у них только эти стихи да еще золотые вещи, отпустили. И судьба их могла бы служить примером высокого гуманизма петроградских чекистов, если бы не сохранился в деле еще один любопытный документ…
Председателю ЧК Урицкому. РАПОРТ.
Доношу, что бывшие лица командного состава Николай Шлетынский и Владимир Никольский еще до получения Вашего распоряжения за № 2984 от 8-го июня с. г. исключены из списков полка 31 мая с. г.
Командир полка по охране города Петрограда.
Здесь надо вспомнить, что оба офицера говорили на допросах об «исключительно стесненном материальном положении», заставившем поступить в полк, и, конечно же, оставить их без работы, лишить последних средств к существованию что-нибудь да значило.
Но с другой стороны: а как же иначе? Моисей Соломонович понимал, что контрреволюционеров для «настоящей кристаллизации», то бишь для гражданской войны, надо воспитывать, а не ждать, пока эти самые контрреволюционеры появятся…
И все-таки поразительно, что, и охваченный «экстазом», мы опять пользуемся гениальным выражением Максима Горького, чекистской работы, товарищ Урицкий нашел время для сочинения труда за № 2984… И все-таки поразительно (это ведь Урицкий так поставил ЧК!), что командир полка не стал дожидаться официального распоряжения Урицкого, а уволил офицеров, как только их арестовали.
А офицеры что ж…
Как это было написано в «Молитве из действующей армии», изъятой у Николая Шлетынского?
И еще там хорошая строчка была: «Нам смерть широко открывает объятия…»
Вот в эти объятия и подталкивал молоденьких офицериков Моисей Соломонович Урицкий. Так… Между делом… В «экстазе» русофобии и человеконенавистничества.
12
3 июня 1918 года — важный день в ходе «расследования» по делу «Каморры народной расправы»… 3 июня наконец-то «нашли» главную улику — печать «Каморры».
Сам факт находки печати, как и положено, был запротоколирован.
ПРОТОКОЛ
По ордеру Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Петроградском Совете Раб. и Кр. Ар. Деп. от 3 июня 1918 г. за № 354 был произведен обыск по Николаевской улице, д. 4, кв. 29 в комнате Злотникова. Взято для доставления в Комиссию:
Печать с надписью «Каморра народной расправы»
Один серебряный рубль 1893 года
Один серебряный рубль 1814 года
Один серебряный рубль в память 1913 г. дома Романовых
Три векселя на 40 000, 40 000 и 40 000 р. на имя Репьева.
Сберегательная книжка за № 463652, № 963181 и дубликат книжки Xs 116009.
Бронзовый крест, 2 коробки типографского шрифта, личная печать Злотникова, одна коробка негативов, три фотографических снимка писем Савинкова, портрет Распутина (один из семи найденных), ручной типографский валик, расписка на 1000 р., на отдельной бумаге подпись Георгия Пятакова и другая неразборчивая подпись, оттиск штемпеля отдела пропусков, один чистый пропуск с подписями, незаполненный, один флакон с надписью «Яд» и различная переписка и печатные произведения.
Обыск произвел Апанасевич
Ничего не пропало и ничего не сломано во время обыска.
Мы привели этот документ целиком, потому что непонятно, как сумел товарищ Юргенсон не найти столько изобличающих Злотникова улик при первом обыске… Типографское оборудование… Векселя на гигантские суммы… Незаполненные бланки пропусков… Печать «Каморры»… Флакон с ядом, которым кого-то ведь собирался отравить Злотников…
Конечно, можно объяснить этот факт особой тщательностью, с которой проводил товарищ Апанасевич второй обыск. Но тут же не сходятся концы с концами.
Вскоре после «признания» Злотникова в режиме содержания его было сделано послабление, и Злотников попросил передать ему денег. Полторы тысячи рублей наличными лежали в шкафу, но Злотникову потребовалось подробно разъяснять, где именно находятся эти деньги, чтобы чекисты сумели найти их. Понятно, что деньги были спрятаны, но ведь и печать «Каморры» тоже не могла лежать на виду…
Еще более странно, что на допросах Байковский не задал Злотникову ни одного вопроса по поводу векселей, не поинтересовался, где и для какой цели раздобыл Злотников подпись Георгия Леонидовича Пятакова…
Но 3 июня «удачи» чекистов находкой печати «Каморры» не ограничились. 3 июня Моисей Соломонович Урицкий подписал ордера на арест В. П. Мухина и З. П. Жданова. Оба они были весьма состоятельными людьми и выдвигались, как мы знаем, на роль финансистов погромной организации. Значит, и тут успех был налицо. И улики чекистам удалось найти, и всех главных «погромщиков» выявить…
Поэтому-то и хотелось бы понять, почему оба эти события случились именно 3 июня 1918 года…
Это тоже не праздный вопрос. Вспомните, что накануне, 2 июня, в Москве Всероссийская Чрезвычайная комиссия, которую возглавлял товарищ Дзержинский, раскрыла заговор «Союза защиты Родины и свободы».
Сделано это было, как считал один из руководителей «Союза» Б. В. Савинков, по приказу немцев. Савинков пишет в своих воспоминаниях: «…Опасность началась с приездом в Москву германского посла графа Мирбаха. С его приездом начались и аресты.
Уже в середине мая полковник Бреде предупредил меня, что в германском посольстве сильно интересуются «Союзом», и в частности мною. Он сообщил мне, что, по сведениям графа Мирбаха, я в этот день вечером должен быть в Денежном переулке на заседании «Союза» и что поэтому Денежный переулок будет оцеплен. Сведения графа Мирбаха были ложны… На всякий случай я послал офицера проверить сообщение полковника Бреде.
Офицер действительно был остановлен заставой. Когда его обыскивали большевики, он заметил, что они говорят между собой по-немецки. Тогда он по-немецки же обратился к ним. Старший из них, унтер-офицер, услышав немецкую речь, вытянулся во фронт и сказал: «Zu Befehl, Herr Leutnant» (слушаюсь, господин лейтенант).
Не оставалось сомнения в том, что немцы работают вместе с большевиками».
«Открытие», сделанное Б. В. Савинковым, назвать открытием весьма трудно. Большевики и не пытались скрыть тогда своей зависимости от немцев. В той же, уже упомянутой нами, заметке «Плоды черносотенной агитации» В. Володарский с возмущением рассказал, как черносотенцы задержали поезд с продуктами, отправленный в Германию из голодающего Петрограда по распоряжению Г. Е. Зиновьева. Но это особая тема…
Особая тема — и взаимоотношения Петроградской ЧК с Всероссийской Чрезвычайной комиссией, Моисея Соломоновича с Феликсом Эдмундовичем. Мы еще вернемся к ним, когда будем рассказывать об аресте Урицким по делу «Каморры народной расправы» лучшего агента Дзержинского — Алексея Фроловича Филиппова… Пока же скажем, что, хотя петроградские и московские чекисты и заняты были одним делом, дух соревновательности, несомненно, присутствовал в этих взаимоотношениях. И Моисей Соломонович — товарищ Ленин ведь так надеялся на него! — просто не мог позволить Феликсу Эдмундовичу опередить себя.
Во-первых, он решительно ускорил производство дела «Каморры народной расправы», а во-вторых, по его приказу чекисты подложили в комнату Злотникова кроме печати еще и «три фотографических снимка писем Савинкова», несомненно доказывающих связь «Каморры» с «Союзом защиты Родины и свободы»; флакон с ядом и бланк с подписью Г. Л. Пятакова, столь же несомненно доказывающие подготавливаемую «Каморрой» диверсию.
Так что, может, и не случайно, что именно 3 июня, на следующий день после раскрытия в Москве заговора «Союза защиты Родины и свободы», спешно завершали петроградские чекисты дело «Каморры». В суете того июньского дня Моисей Соломонович позабыл даже, что Василий Петрович Мухин уже арестован, подмахнул товарищу Юссису ордер № 352 на его арест…
13
У читателя может возникнуть впечатление, будто все сотрудники Петроградской ЧК были отъявленными мерзавцами. Это не совсем верно… А если и верно, то только в том смысле, что таковыми они были лишь в глазах населения. Сами же себя сотрудники Моисея Соломоновича Урицкого мерзавцами не считали.
Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить рассказ Исаака Эммануиловича Бабеля «Дорога», в котором он рассказывает о своей службе в Петроградской ЧК.
«Наутро Калугин повел меня в ЧК, на Гороховую, 2. Он поговорил с Урицким. Я стоял, за драпировкой, падавшей на пол суконными волнами. До меня долетали обрывки слов.
— Парень свой, — говорил Калугин, — отец лавочник, торгует, да он отбился от них… Языки знает…
Комиссар внутренних дел коммуны Северной области вышел из кабинета раскачивающейся своей походкой. За стеклами пенсне вываливались обожженные бессонницей, разрыхленные, запухшие веки…
Не прошло и дня, как все у меня было, — одежда, еда, работа и товарищи, верные в дружбе и смерти, товарищи, каких нет нигде в мире, кроме как в нашей стране…»
Эту цитату из рассказа И. Э. Бабеля я привожу не ради того, чтобы напомнить о начале чекистской карьеры Бабеля, который под кличкой Кирилл Васильевич Лютов работал потом в особых отделах армий… Нет! Бабель — писатель, придававший особое значение точности деталей, и его свидетельство — особо ценно для нас. Нет оснований полагать, будто в рассказе «Дорога» Бабель пошел против своих писательских принципов, а это значит, что и слова его о товарищах, «каких нет нигде в мире», не для красоты стиля приведены тут.
И Моисей Соломонович Урицкий, и Владислав Александрович Байковский, и Иосиф Наумович Шейкман-Стодолин, и Иосиф Фомич Борисенок, и Иван Францевич Юссис, и Глеб Иванович Бокий, и Николай Кириллович Антипов, и Александр Соломонович Иоселевич — все они чувствовали в себе нечто рыцарское, благородное. Как это совмещалось в них с подлостью и палачеством, понять трудно, однако несомненно совмещалось, и потому попытаемся понять это на примере того же Исаака Эммануиловича Бабеля.
Его рассказ «Дорога» заканчивается словами: «Так начиналась тринадцать лет назад превосходная моя жизнь, полная мысли и веселья».
Бабель был тогда уже известным советским писателем, любовником Евгении Соломоновны — жены генерального комиссара безопасности Ежова. Он, Бабель, все порывался написать роман «ЧК», но — увы — исполнить этот замысел не успел. Через несколько лет Исаак Эммануилович был ликвидирован вместе с мужем Евгении Соломоновны. Но вот что интересно. Всего за несколько месяцев до ареста Бабель поделился замыслом будущего романа с Фурмановым.
Александр Исбах так описывает этот эпизод:
«В тот день Бабель говорил Фурманову о планах своего романа «ЧК». Я не помню точно его слов. Но Митяй, как всегда, записал их в своем дневнике.
— Не знаю, — говорил Бабель, — справлюсь ли, очень уж я однобоко думаю о ЧК. И это оттого, что чекисты, которых знаю, ну… ну просто святые люди… И я опасаюсь, не получилось бы приторно. А с другой стороны не знаю. Да и не знаю вовсе настроений тех, кто населяет камеры, это меня как-то даже и не интересует. Все-таки возьмусь».
Не в этих ли словах Исаака Эммануиловича Бабеля и следует искать разгадку совместимости несовместимого в чекистах? Ведь товарищами, да и просто людьми, чекисты были между собой. А настроения тех, кто населял застенки, их просто не интересовали, потому что они этих людей и не считали за людей…
Повторяю, что И. Э. Бабель не любил придумывать своих произведений, а в деталях и речевых характеристиках героев был реалистом высшей пробы. И уж если он считал, что можно писать роман о ЧК, даже не зная настроений «тех, кто населяет камеры», то, значит, и не было нужды в этом для правдивого описания работы чекистов. Чекисты ведь работали не с людьми, а с человеческим материалом, который для них уже не был людьми.
О страшном, но логическом финале жизни Исаака Эммануиловича Бабеля, когда его арестовали в Переделкине и когда он понял, что всевластные друзья, «товарищи, каких нет нигде в мире», уже не помогут ему, потому что сами превращены в человеческий материал, с которым теперь будут работать другие, конечно, еще будет написано…
Ведь это не только Бабеля судьба.
Тот же Владислав Александрович Байковский, сделавший неплохую чекистскую карьеру, в 1923 году за принадлежность к троцкистской оппозиции из органов был уволен. Долгое время он работал в Барановичах управляющим отделением Госбанка и жаловался на здоровье — мучил заработанный на расстрелах в сырых подвалах ревматизм, расшатались нервы…
«За бюрократизм и нетактичность» в марте 1928 года Байковского понизили в должности, но потом — помогли, видно, «товарищи, каких нет нигде в мире», — он снова начал подниматься по служебной лестнице и в 1931 году попытался даже выехать на загранработу.
Однако улизнуть ему не удалось. В конце тридцать четвертого года НКВД затребовало характеристику на него. В характеристике было помянуто и о троцкистской оппозиции, а также, между прочим, отмечено, что, дескать, пока не выявлено: участвовал ли В. А. Байковский в зиновьевской оппозиции. Поскольку характеристика эта — последний документ в личном деле сотрудника ВЧК/ОГПУ Владислава Александровича Байковского, без риска ошибиться можно предположить, что и этого ученика Моисея Соломоновича Урицкого постигла невеселая участь чекистских палачей…
Бабель называл чекистов святыми людьми. Он очень хорошо описал эту «превосходную», «полную веселья» жизнь, которую устраивали «святые люди» из Петроградской ЧК в восемнадцатом году. С затаенным, сосущим любопытством вглядывался он в лица расстреливаемых, пытаясь уловить тот момент, когда человеческий материал превращается в ничто, в неодушевленный предмет, называемый трупом. И, конечно, представить не мог, что пройдет всего два десятка лет и новые исааки бабели и Владиславы байковские с затаенным, сосущим любопытством будут вглядываться уже в его лицо, потому что для них уже и он сам будет только человеческим материалом… Не догадывался… Эта мысль сильно бы омрачила его «полную веселья» жизнь…
Но — ив этом и счастье их, и беда! — такого сорта люди никогда почему-то не могут даже вообразить себе, что по правилам, заведенным ими для других людей, будут поступать и с ними самими.
14
У несчастных, попавших в застенки Моисея Соломоновича Урицкого, оставались на свободе отцы и матери, братья и сестры, дети и жены. Наконец, оставались просто близкие люди и сослуживцы, жизнь которых тоже менялась с этими арестами.
«Так как от моего заключения зависит состояние приюта, богадельни и домов Комиссариата призрения, переданных мне в заведование Отделом социальной помощи, то я очень прошу указать хотя бы приблизительный возможный срок моего освобождения, чтобы я мог решить, как мне поступить в дальнейшем с указанными учреждениями».
Документами, подобными этому, пестрит дело «Каморры народной расправы». И вообще, когда читаешь его, трудно отделаться от впечатления, что многие аресты и изъятия производились специально, чтобы затруднить и без того-то нелегкую жизнь петербуржцев.
Видимо, тут генеральная линия Моисея Соломоновича на принудительное ускорение «кристаллизации» удачно совмещалась со стремлением рядовых чекистов к «превосходной» жизни.
В уже упомянутом нами рассказе «Дорога» Исаак Бабель сообщает, что после разговора с Урицким «не прошло и дня, как все у меня было, — одежда, еда…». Откуда бралось все в голодном городе, становится понятно, когда просматриваешь ордера на аресты, подписанные Урицким. Моисей Соломонович требовал, чтобы при арестах изымались документы, деньги и золотые вещи. Чекисты, проводившие обыски, как это видно из протоколов, изымали еще и продукты питания, а также вино и вообще понравившиеся им предметы обихода.
И действовали они так по благословению самого Григория Евсеевича Зиновьева, который 29 мая на экстренном заседании Петросовета сказал: «Если и нужно будет кого-нибудь перевести на солому, то в первую голову мы переведем на солому буржуазию».
Если же прибавить к этому тревогу за судьбу брошенного в застенок родственника, положение ограбленных людей становилось воистину трагическим. Даже документов, чтобы устроиться на работу и как-то прокормить себя, чекисты не оставляли им. И все-таки многие и в этой бесчеловечной ситуации находили в себе силы оставаться людьми. Продавая последнее, собирали они передачи близким, писали прошения, нанимали адвокатов…
Обойтись без рассказа о судьбе этих людей в нашей книге нельзя, потому что их страдания и муки неотъемлемы от жизни Петрограда в июне 1918 года…
Мужа Анны Яковлевны Мухиной арестовали в ночь на 22 мая, когда были произведены основные аресты по делу «Каморры народной расправы». Об этом свидетельствуют прошение поверенного В. И. Булавина: «В ночь на 22 мая в квартире своей был арестован веритель мой Василий Петрович Мухин…» — и сами чекисты в постановлении о прекращении дела Мухина в связи с расстрелом его: «Василий Петрович Мухин был арестован 22 мая 1918 года…» (т. 3, л. 63). Однако, как мы и говорили, в этом же томе — лист 22 — вшит ордер на арест В. Мухина и «других мущин», датированный 3 июня.
Спешка ли, растерянность ли заставили Урицкого арестовывать арестанта — мы не знаем. Однако, почему Урицкий выбрал именно Василия Петровича Мухина на роль финансиста погромщиков, попытаемся понять.
Ну, во-первых, Мухин был достаточно богатым человеком. Во-вторых, он был знаком с Л. Т. Злотниковым. Злотников заходил к Мухину, прочитав объявление о сдаче внаем комнаты…
Конечно, В. П. Мухин твердил на допросах, дескать, никаких денег Злотникову ни через Егорова, ни лично не давал…
— Таких сумм, как вы указываете, я не давал… — говорил он Байковскому. — Да и что теперь на двести или четыреста рублей можно сделать? Я человек состоятельный, и если бы дал, то дал бы гораздо больше!
Наверное, Байковский, хотя у него и не было нужды самому покупать продукты, мог все же знать, что на двести рублей в Петрограде в мае 1918 года можно было купить по случаю килограмма три сахара, но организовать на эти деньги погромную организацию, конечно же, было затруднительно.
Впрочем, какое это имело значение? Ведь ни Урицкий, ни тем более Байковский не предполагали, что дело «Каморры народной расправы» кто-то будет потом изучать, поэтому и нужды изображать правдоподобие они не ощущали…
Важно было другое. Мухин мог дать деньги…
В дело вшито прошение рославльских гимназисток: «Принимая во внимание, что мы, ученицы Второй Рославльской гимназии, своим образованием обязаны Василию Петровичу Мухину, который построил здание гимназии, дал средства на нее, многих из нас содержит на своих стипендиях, мы не можем оставаться равнодушными к судьбе человека, таким щедрым образом облагодетельствовавшего бедноту города Рославля…»
Гимназия, конечно, не погромная организация, но и в большевистско-чекистскую концепцию устроения России она тоже не вписывается…
Но вернемся к Анне Яковлевне Мухиной…
Она, разумеется, даже не догадывалась, что судьба ее супруга, которого она, несмотря на большую разницу в возрасте, и любила, и уважала, предрешена Моисеем Соломоновичем.
После ареста мужа она осталась с тремя детьми, старшему из которых было восемь лет, практически без всяких средств к существованию и вынуждена была отпустить и француженку-гувернантку, и кухарку, и няню…
Кроме того, жить одной ей было и небезопасно. В. Б. Мирович, задержанный в конце июня на квартире у Мухиной, рассказал, что Анна Яковлевна просила его «заходить к ней каждый день, чтобы оградить от различных людей, желающих воспользоваться ее тяжелым положением». Как можно понять из документов, особенно досаждал Анне Яковлевне некий коммунар Штрейзер, который под видом устройства «засад» то и дело вламывался в квартиру.
И только поражаешься мужеству этой женщины, оставшейся без средств, с малолетними детьми на руках, которая находит в себе силы хлопотать о муже.
«Мой муж — хороший семьянин, чуждый какой бы то ни было политики, скромно жил со мною и малолетними детьми… Вся его жизнь — как на ладони и мне прекрасно известна. Он много отдавал времени заботам о своей семье, воспитанию своих детей. Еще он состоял попечителем гимназии в г. Рославле Смоленской губернии, часто ездил туда по служебным обязанностям, принимал глубоко к сердцу интересы учащейся молодежи во вверенной гимназии. Состояние его здоровья таково, что, в связи с преклонным возрастом, делает для жизни опасным долгое заключение, которому он подвергается… Очень прошу вас, отпустите моего мужа на мои поруки».
Урицкий, получив это прошение, принял Анну Яковлевну и долго беседовал с ней. И это тоже понятно. Среди различных документов, вшитых в дело Мухина, есть и нацарапанные — не коммунаром ли Штрейзером? — анонимные записочки, примерно одного содержания: «Где деньги Мухина находятся, известно француженке и жене». Как же после этого мог не принять Моисей Соломонович гражданку Мухину? Чтобы выяснить, где находятся деньги, он принял ее и — более того! — разрешил свидание с мужем.
«Она нашла мужа своего в ужасном состоянии, — описывает это свидание поверенный В. И. Булавин. — Он обратился в полутруп, его хроническая сердечная болезнь и расширение суставов в заключении обострились и дальнейшее его содержание под стражей, конечно, повлечет за собой смертельный исход. Нравственное состояние его ужасно, он беспрерывно плачет. Конечно, по существу обвинения Мухин ничего объяснить не мог своей жене, говоря лишь, что он ни в чем не виновен…»
После этого свидания состоялась вторая встреча Моисея Соломоновича Урицкого с Анной Яковлевной Мухиной.
Увы… Анна Яковлевна разочаровала его. Она так и не сумела выяснить у мужа, где находятся деньги. Вернее, она и не пыталась сделать это. Увидев своего супруга, она позабыла про все наставления Моисея Соломоновича…
Напрасно потом допытывался он, где деньги. Анна Яковлевна даже и не понимала, о чем это спрашивает ее шеф Петроградской ЧК. Чрезвычайно огорчившись, Моисей Соломонович отпустил гражданку Мухину. Каково же было его удивление, когда на следующий день ему подали новое прошение…
Товарищ Урицкий!
Прежде чем написать Вам это письмо, я очень много думала. Думала о том, поймете ли Вы меня и исполните ли мою просьбу. Эти строки — незаметное, но дышащее глубокой искренностью письмо, письмо к Вам, как к доступному человеку, как к товарищу, к которому можно обратиться с просьбой свободно, без страха. Быть может, после первого Вашего приема я не решилась бы больше никогда обратиться к Вам, надоедать Вам, но после же второго разговора с Вами я решаюсь поговорить с Вами откровенно, как с добрым товарищем. Моя просьба заключается в том, чтобы освободить моего старого, больного мужа, Василия Петровича Мухина, которому такое долгое заключение, думаю, будет не перенести. Горячо прошу Вас исполнить мою просьбу, во-первых, потому, что он совершенно невиновен, а во-вторых, хочу его спасти в благодарность за то, что он когда-то меня, дочь бедного труженика-пекаря, а также всю мою многочисленную до крайности бедную семью спас от голодной смерти, и впоследствии женился на мне, поднял на ноги моих сестер и братьев, помогал старым, больным, совершенно бедным родителям, которые ведь и до сих пор только и живут благодаря его помощи.
Еще раз прошу Вас, товарищ Урицкий, исполните мою горячую искреннюю просьбу — освободите его во имя его тяжелого, болезненного состояния, во имя малолетних детей моих, меня и моих бедных родителей, могущих остаться без крова и куска хлеба, т. к. у меня ничего нет… Умоляю, не оставьте моей просьбы, а дайте возможность дочери бедного труженика отблагодарить своего мужа этим освобождением за все добро, им содеянное мне и моим родным. Во исполнение моей просьбы буду вечно Вам благодарна.
Гражданка Анна Мухина.
Легко представить себе изумление Моисея Соломоновича, прочитавшего это послание. Ай-я-яй… Эта глупая русская женщина даже и не поняла, чего он добивался от нее… Не сумела выпытать у своего старого мужа, где его деньги! А ведь он, Моисей Соломонович, объяснял ей, что немножко из этих денег он, может быть, даст и ей с детьми…
От возмущения бутерброд, который кушал товарищ Урицкий, вывалился из пальцев, и на прошении осталось жирное пятно. Моисей Соломонович поставил стакан с чаем на бумагу — этот след тоже сохранился на документе! — протер платочком жирные пальцы и, заправив за ухо шнурок пенсне, начертал на прошении: «К делу!»
Более прошений от Мухиной в ЧК уже не принимали.
Да и зачем? Ведь деньги Мухина и так удалось отыскать — оказывается, они лежали в банках.
Следствие, таким образом, было завершено. Об этом и сообщили Анне Яковлевне Мухиной в конце 1918 года.
«После установления следствием преступления Мухина на капиталы его, находящиеся в Народном банке, наложен был арест, сам же Мухин по постановлению ЧК 2 сентября с. г. расстрелян.
На основании вышеизложенного Чрезвычайная Комиссия определяет: капитал В. Мухина, служивший средством борьбы с Советской властью и находящийся в Народном (бывшем Государственном) банке и во 2-м отделении Народного (бывшего Московского купеческого) банка, конфисковать, наложенный на него арест снять и деньги перевести на текущий счет Чрезвычайной Комиссии и настоящее дело дальнейшим производством считать законченным.
Копию настоящего постановления через домовую администрацию вручить Анне Яковлевне Мухиной, бывшей жене расстрелянного».
Вот, пожалуй, и все, что можно рассказать о «бывшей жене расстрелянного» Василия Петровича Мухина, просившей Моисея Соломоновича Урицкого отпустить больного мужа ей на поруки…
15
Если мы сравним биографии Василия Петровича Мухина и Захария Петровича Жданова, биографии «основного исполнителя» и «дублера», то обнаружим немало сходного в них.
Как и Мухин, Захарий Петрович Жданов был весьма состоятельным человеком. До 1913 года он даже держал в Петербурге банковский дом «Захарий Жданов».
Другое дело, что Мухин был богат от рождения: «существую на личные средства, доставшиеся мне от отца, который в свою очередь получил их тоже от своего отца — моего дедушки», а Захарию Петровичу Жданову в жизни пришлось пробиваться к финансовому успеху своими собственными силами.
«Я происхожу из крестьян Ярославской губернии, тринадцати лет отроду был привезен в Петроград. Образование получил на медные пятаки… — рассказывал он на допросе. — Я «сам себя сделал». Исключительно своим трудом, своею русскою сметкою достиг до верхов коммерческого благополучия…»
Это, однако, не помешало им одинаково распорядиться своими состояниями. Василий Петрович Мухин основные свои средства вложил в женскую гимназию и коммерческое училище для мальчиков в городе Рославле Смоленской губернии. Точно такие же планы были и у Захария Петровича Жданова.
«В отобранных у меня при аресте бумагах находится составленное мною шесть лет назад завещание на случай моей смерти. По прочтении завещания Вы, Господин председатель, убедитесь, что все свое состояние без остатка я возвращаю народу, из которого вышел и выбился. Я назначаю состояние исключительно на нужды просвещения».
Видимо, это обстоятельство и возмутило Моисея Соломоновича Урицкого, считавшего, что для русского народа органы ЧК более необходимы, нежели какое-то там образование. Состояния Мухина и Жданова нужно было перевести на текущий счет Петроградской ЧК, а не расфукивать по пустякам… И поскольку «экстаз» в чекистской работе всегда совмещался в Моисее Соломоновиче с редкостной практичностью, выработанной еще с юношеских лет, когда революционную деятельность он совмещал с семейным бизнесом в лесной торговле, он и сейчас живо смекнул и определил Мухина главным финансистом погромщиков. З. П. Жданову — все должно быть предусмотрено в деле! — отводилась роль «дублера»…
Разумеется, Захарий Петрович и не подозревал до поры, на какую роль готовят его. Через два с половиной месяца заключения он напишет в заявлении на имя Урицкого: «Хотя никакого обвинения до сего времени не предъявлено, однако из проходившего в Вашем кабинете, при свидании с женой, разговора я узнал, что меня обвиняют в пожертвовании на некую погромную организацию, под фирмой «Каморра народной расправы». По этому поводу я позволю себе обратить Ваше внимание на следующее:
1. О существовании погромной организации, названной вами, я впервые узнал в арестном помещении на Гороховой, 2.
…6. Погромщиком я никогда не был… Будучи антисемитом, а тем паче погромщиком, нельзя всю рабочую жизнь проводить среди евреев. Между тем вся моя жизнь, все мои коммерческие обороты я веду только с евреями, работая на бирже, где евреев девяносто пять процентов общего состава, — и за все время никто и никогда меня «погромщиком» не считал».
Ничего удивительного в неосведомленности Захария Петровича по поводу финансирования им «Каморры народной расправы» нет. Ведь Василий Петрович Мухин тоже только беспрерывно плакал и «по существу обвинения ничего объяснить не мог своей жене, говоря лишь, что он ни в чем не виновен». Не блещет оригинальностью и аргументация З. П. Жданова в пользу своей непричастности к погромщикам из «Каморры».
Тут надо отметить, что, даже когда обвинение и не было сформулировано, все допросы велись так, что подследственный должен был доказывать, чего хорошего он сделал для евреев в своей жизни. «Лучшим доказательством того, что я чужд всяких антисемитских выступлений, служит то, что я, составляя списки счетчиков в предстоящую перепись, включил в число счетчиков служащих управы, среди которых есть и евреи…» (т. 1, л. 20). Выходило смешно, глупо, а главное, как-то унизительно, но ведь именно этого и добивался Моисей Соломонович от арестантов.
И тем не менее, хотя и факта знакомства со Злотниковым Захарий Петрович не отрицал: «Эта фамилия мне известна… Однажды я прихожу домой и мне подают записку, принятую по телефону, в которой сказано, что Злотников просит указать время, в которое я мог бы его принять, но по какому делу, я совершенно не знаю. Никакого свидания я ему не назначил и конечно не принял, так как на следующий день уехал на источник, но если бы не уехал, то тоже не назначил бы, так как в последнее время почти никого не принимаю, в особенности со свежей фамилией…» — судьба его сложилась в Петроградской ЧК иначе, нежели судьба Василия Петровича Мухина. Если Мухина расстреляли, то Захария Петровича с миром отпустили на волю.
Это так не похоже на Урицкого и его помощников, что приходится заново перечитывать документы следственного дела З. П. Жданова в попытке понять, чем же он пронял чекистов…
Секрет успеха Жданова, как мне кажется, сформулирован в той самой выделенной нами разрядкой фразе Захария Петровича, где он говорит, что, дескать, все свои обороты вел только с евреями.
На первый взгляд ничего особенного тут нет, если рассматривать эту фразу в общей тональности допросов. Но есть в ней и иной смысл.
Скромно, как бы между прочим, сообщает Захарий Петрович Моисею Соломоновичу, что всю жизнь проработал среди евреев-биржевиков и кое-чему научился у них. И слова Захария Петровича не были блефом. Уже на втором допросе Жданов пустился в обстоятельный рассказ о попытке шантажа его, предпринятой задолго до революции. На первый взгляд рассказ выглядит наивным и глуповатым, однако наберемся терпения и послушаем его от начала до конца…
«В свое время, кажется, в 1916 году, во время завтрака в ресторане (Мойка, 24) я был вызван к телефону… «Вас спрашивает или, иначе, говорит Вам неизвестная. У меня есть срочное к Вам дело, и усердно прошу дать мне свидание». На мое замечание, что я никого на квартире не принимаю и дать ей свидание не могу, но в крайнем случае, если я ей необходим, пусть она приедет в ресторан, где я сейчас завтракаю, и я ей дам 10–15 минут для беседы, моя собеседница, назвавшаяся на этот раз Ваковскою, ответила на это следующее: «Господин Жданов, по некоторым соображениям, о которых я доложу Вам при свидании, быть в ресторане Донона мне неудобно. Если вы не можете принять меня у себя на квартире и не хотите приехать ко мне на квартиру, я прошу вас приехать в ресторан Палкина. Но войдите не в общий зал, а в кабинет с подъезда Владимирской улицы, где я вас буду ожидать».
Мне показалось, что разговор носит искренний характер, барыня говорит взволнованно, в свидании со мной видит свое спасение, и, ввиду того, что в тот период у меня моими служащими была произведена растрата, расследованием которой я занимался, у меня мелькнула мысль, нет ли тут связи с растратой… Я согласился на предложение Раковской и сказал, что буду через полчаса. Окончив завтрак, я сел в автомобиль и подъехал к ресторану Палкина с Владимирской улицы. Войдя во второй этаж, спросил у человека, где меня ожидает Раковская. «Пожалуйте здесь!» — ответил человек и отворил дверь в первый кабинет по правую руку от входа. Я увидел молодую женщину, достаточно красивую, которая приподнялась с кресла и, назвав себя Раковскою, попросила сесть. Человек вышел, и я остался с Раковской наедине. На мой вопрос: «На что я вам необходим, сударыня, как вы изволили говорить по телефону?» Раковская ответила: «У меня к вам совсем небольшое дело, и вы, надеюсь, исполните его. Мне просто нужны деньги, и я думаю их получить у вас». Предположив, что передо мной женщина, возможно, очутившаяся в неприятном, стесненном положении, я не придал значения странной форме просьбы. Я спросил: «Какая сумма Вам нужна, сударыня?» — предполагая, что дело идет о ста — двустах рублях. Я хотел дать таковые, но Раковская сказала: «Мне нужно 25 тысяч рублей, и вы должны дать мне их».
На этот раз я понял, что передо мной, по-видимому, шантажистка. Отвергнув ее предложение, я сказал, что ее номер успеха иметь не может, я ее не знаю, но вижу, что она принадлежит к авантюристкам. Отворив дверь, я пригласил официанта и рассказал ему, в чем дело. Затем сел в автомобиль и поехал к себе на квартиру. Через полчаса ко мне на квартиру позвонил местный пристав, лично меня знавший, и сказал буквально следующее: «Сейчас в наш участок явилась некая Раковская и просила составить протокол о том, что сегодня по предложению своего сожителя 3. Жданова она явилась в ресторан Палкина для объяснения, но последний избил ее».
Я рассказал приставу, в чем дело, и он предложил мне приехать в сыскное отделение и заявить там о случившемся. Я поехал в сыскное, меня принял помощник начальника Игнатьев (ныне, кажется, состоит помощником начальника милиции). Я рассказал ему все дело.
«Не Раковская ли это была?»
«Да, Раковская…» — ответил я.
Игнатьев вышел из кабинета и возвратился с кипой дел в синей папке. Открыв папку, он дал мне прочесть первое дело. Их, полагаю, было несколько десятков. Дело было надписано: по обвинению Раковской и Раковского в шантажном вымогательстве, кажется, у И. Александрова.
Я сказал Игнатьеву: «В чем же дело? Отчего эти господа не сидят? У вас столько дел о них, и все они, как я полагаю, точные сколки один из другого…»
На это Игнатьев мне ответил: «Дело в том, что Раковский состоит агентом охранной полиции, дает, по всей вероятности, ценные сведения по службе и как-то устраивается так, что при следствии все дела разрешаются в его пользу».
Во всяком случае, Игнатьев обещал мне вызвать обоих Раковских и, составив о всем протокол, направил к следователю… Что сталось с делом далее не знаю. Раковские более меня, как и сказал мне Игнатьев, не беспокоили в течение двух-трех месяцев, но после этого на меня посыпался целый ряд писем с просьбами Раковской помочь ей. Требования доходили до 25 рублей. Все письма, а последнее, не прочитывая, я отсылал в сыскную полицию. Месяца через два меня совершенно оставили в покое.
В день моего ареста и доставления на Гороховую, 2, в камеру 97, я встретил Раковского, но в то время не мог представить, что он привлекается по делу, в котором подозревается мое участие. Но вчера прибывший из «Крестов» Баталин передал мне, что Раковский привлекается по этому же делу — вот тут и явилось у меня предположение, а не стал ли я жертвой сговора бывшего охранника…»
Если предположения наши верны и Раковский сотрудничал с ПетроЧК (а иначе, повторяю, невозможно объяснить, почему этого бывшего сотрудника охранки, человека, посвященного в деятельность погромной организации, отпустили на свободу), то интригу, затеянную Захарием Петровичем Ждановым со своей исповедью, нельзя не признать гениальной. Рассказывая о попытке шантажа, предпринятой Раковским в 1916 году, он заблаговременно упреждает попытку Урицкого вставить его в дело «Каморры народной расправы». Более того, обронив как бы невзначай, что все обороты он вел только с евреями, Жданов показывает, что и сама комбинация Урицкого уже разгадана им и все ходы против него блокированы.
Насколько верна наша догадка, можно судить по тому, что Захарий Петрович Жданов сразу после своего заявления был освобожден.
В дело подшито донесение неизвестного осведомителя, возмущенного освобождением Жданова:
«Неужели правда, что Жданову Захарию удалось обмануть следственные власти и освободиться из-под ареста? Неужели свободен тот, который уже совершил ряд преступлений, а ряд новых готов совершить?..
В прошлом он занимался скупкой золота, платины, спекулировал всем и даже на валюте с целью обесценить русский рубль. Теперь же этот негодяй задался целью способствовать ниспровержению существующего строя и обещает огромную сумму для борьбы с настоящим правительством — Советской властью».
Так что не только нас удивляет факт освобождения Захария Петровича Жданова. Тем более что уж в чем-чем, а в гуманизме Моисея Соломоновича Урицкого обвинить трудно…
Но, видимо, были у него веские причины отступиться от своего плана и отпустить на волю Жданова, заменив его и менее состоятельным, и менее подходящим из-за возраста и слезливости — Мухиным. Человек, который «вел все свои обороты с евреями», и тут, у евреев-чекистов, сумел мастерски провести свое дело…
Впрочем, ознакомившись с постановлением от 7 декабря (т. 2, л. 93), понимаешь, что на этот раз Захарий Петрович напрасно обольщался насчет победы. В постановлении этом сказано: «До вторичного ареста Жданова, меры к которому приняты, считаю нужным производство следствия по настоящему делу прекратить и таковое сдать в архив».
Вот в такой оборот попал нынче недюжинно ловкий делец Захарий Петрович Жданов. И вывернуться ему — увы. — на этот раз не удалось…
16
Вот так и «расследовалось» дело «Каморры народной расправы». Были в ходе «следствия» провалы, были и озарения. 6 июня Байковский получил показания Василия Илларионовича Дворянчикова, что якобы в его фотоцинкографии изготовлена найденная при втором обыске комнаты Л. Т. Злотникова печать «Каморры народной расправы», а 12 июня нужные следствию показания дал и сам Злотников.
Хотя мы уже не раз цитировали этот протокол допроса, но приведем его сейчас целиком, потому что это главный документ обвинения…
12 июня сего года по делу показал: «Мухин лично мне ничего не давал, но через Егорова я получил один раз 200 руб., второй раз — 400 руб. Мухин прислал мне эти деньги на расходы, которые будут сопряжены в связи с напечатанием и рассылкой прокламаций. Прокламаций этих было разослано мною экземпляров не более тридцати, так как по почте я посылал только в редакции газет, если передавал каким-либо лицам, то лично. Боброву одну прокламацию я дал. Дело было в воскресенье, он шел еще с одним субъектом, которому я тоже дал, субъект этот вам знаком, так как он служит у вас; это Якубинский, который выдавал себя за члена Сов. Р. и С. Депутатов, за директора каких-то двух фабрик и хозяина одной из шоколадных. За четверть часа до обыска он у меня был, купил на четыреста рублей картин, деньги за которые, конечно, не заплатил. Печатал я сам прокламации на пишущей машинке, не желая подводить тех лиц, которые не имеют к этому никакого отношения, места не укажу. От Жданова я ничего не получал и даже незнаком с ним. Вся организация «Каморры народной расправы» и ея штаба заключается лишь во мне одном: я ея председатель, я ея секретарь, я и распространитель и т. п. Хотя знал об этом Раковский, который делал мне заказы, приходил ко мне и знал, где находится печать и т. п. Бобров узнал об этом лишь потому, что я ему вручил прокламацию».
Протокол допроса — специфический жанр литературы, тем не менее и тут существуют определенные законы. Мы уже отмечали ряд несообразностей, содержащихся в этих показаниях, а сейчас хотелось бы поговорить о допросе в целом.
Как-то с ходу Злотников начинает давать показания на В. П. Мухина. Цена их — жизнь Василия Петровича. Далее Злотников подробно рассказывает о сотруднике Петроградской ЧК Якубинском. И вдруг упирается — начисто отрицает факт знакомства с З. П. Ждановым, который сам этот факт не отрицал, рассказывая о попытке Злотникова дозвониться до него.
Кстати, на следующих допросах Злотников откажется от показаний на Мухина, но по-прежнему будет твердо отрицать даже и факт телефонного звонка Жданову.
В конце же допроса, категорически отказавшись называть людей, у которых он работал на пишущей машинке, Злотников принимает всю вину за организацию «Каморры» на себя, но при этом зачем-то добавляет, что его приятель Раковский знал, «где находится печать и т. п.».
Весь допрос умещается на одной страничке. На этой страничке умещается и сразу несколько Злотниковых. Один, который лжесвидетельствует на старика Мухина, и другой, который благородно защищает Боброва, Жданова и неизвестных владельцев пишущей машинки, впрочем, тут же, как бы между прочим, закладывает своего приятеля Раковского.
Не нужно быть психиатром, чтобы понять: если Злотников вел себя так без всякого принуждения — мы имеем дело с явной патологией.
Конечно, проще всего допустить, что следователь Байковский избивал Злотникова, выбивая из него нужные показания. Косвенно подтверждает это и тот факт, что Злотников как-то очень неуклюже, словно бы разбитыми в кровь губами, формулирует свои признания. Кстати, надо отметить, это единственный допрос, на котором Злотников не вдается ни в какие рассуждения. А порассуждать он, как видно по другим допросам, и умел и любил…
И, наверно, так и было на самом деле. Наверное, Байковский действительно до полусмерти избивал со своими подручными Злотникова, пока тот, тяжело ворочая языком, не признался, что вся организация «Каморры» и ее штаба заключается лишь в нем одном… Но это никак не объясняет, почему он так охотно начал лжесвидетельствовать на Мухина.
В порядке гипотезы можно предположить, что, говоря о Мухине, Злотников говорил о какой-то совсем другой прокламации, на рассылку которой и давал ему деньги Мухин. На последующих допросах с завидным упорством и мужеством он будет повторять: «За печатание и за составление прокламаций я ни от кого ничего не получал. Это мое личное дело. От Егорова (управляющий имением В. П. Мухина. — Н. К.) мною было получено 200 и 400 рублей, но это наши личные счеты. Никаких денег от Мухина не получал. Деньги, полученные от Егорова, были получены мною как следствие наших личных счетов».
Предположение наше хотя и не может быть доказанным, тем не менее не противоречит тем фактам, которые имеются. Ведь какую-то прокламацию, содержание которой было известно только самому Злотникову да еще сотруднику ЧК Снежкову-Якубинскому, Злотников вручил и Леониду Николаевичу Боброву…
Так, может, и сейчас на допросе об этой прокламации и говорил он, и лишь когда прозвучало слово «Каморра», понял, как ловко подставил его следователь? А впрочем, может, и не понял. Байковский принялся кулаками выколачивать главные показания, и ослепший от боли Злотников только и находил силы твердить, что весь штаб, вся «Каморра» — это он, Злотников, и есть…
Может быть… Так или иначе, но главный документ обвинения — признание Л. Т. Злотникова следователю Байковскому — удалось добыть, и случилось это 12 июня. Чехами уже были взяты Челябинск и Омск, Саратов и Самара. Революционная кристаллизация началась…
17
Перечисляя огрехи следствия, неуклюжесть, с которой чекисты осуществляли постановку сценария Моисея Соломоновича Урицкого, я отнюдь не хочу выставить их недоумками. И дело тут не только в том, что чекисты и представить себе не могли, будто когда-нибудь кто-то будет идти по их следам… Нет, как это ни странно, но план их сработал, придуманная на Гороховой улице «Каморра народной расправы» начала становиться как бы реальностью.
В это невозможно поверить, но читаешь показания свидетелей и видишь, что для многих уже в начале июня 1918 года «Каморра» была реальностью…
«В субботу (18 мая. — Н. К.) или в пятницу был у нас один красноармеец и сказал, что к ним приходил один и говорил о прокламациях «Каморры народной расправы». Его не поддержали…» (Показания Моисея Александровича Рачковского.)
«О «Союзе русского народа» знаю, что существовал он при старом строе и задачи его были исключительно погромные, антисемитские. Что касается «Каморры народной расправы», то она существует еще, кажется, с 1905 года, ею был убит Герценштейн. Эмблемой ее был какой-то крест…» (Показания Семена Абрамовича Рабинова.)
Можно иронизировать, что авторы некоторых показаний знают о «Каморре» больше, нежели сами «боевики», но ведь обилие даже и фантастических подробностей только подтверждает, что «Каморра» осознавалась ими как неопровержимая реальность…
И тут мы и должны признать, что, несмотря на многочисленные огрехи, замысел Моисея Соломоновича Урицкого полностью удался. Специфику национального характера евреев — всегда все знать, знать даже то, чего нет, — Моисей Соломонович учел в своей постановке. Еврейское общество более другого подвержено слухам… Оно как бы питается слухами, с помощью слухов создает и разрушает репутации, слухи — весьма важная часть его жизнедеятельности…
Слухи о «Каморре народной расправы», размноженные в десятках тысяч экземпляров петроградских газет, подтвержденные именами В. Володарского, М. Горького и других достаточно известных борцов за права евреев, усиленные многочисленными арестами, мобилизовывали многих на борьбу с «погромщиками». Следственное дело пестрит доносами на еще не выявленных чекистами антисемитов.
«Быстрицкий у нас в доме живет года два и известен мне лично и многим другим жителям дома как человек безусловно правых убеждений и притом антисемит». (Показания Льва Марковича Ярукского.)
Разумеется, немедленно после этого Семен Дмитриевич Быстрицкий, служащий Всероссийского комитета помощи семьям убитых офицеров, был арестован, и его племяннице пришлось развить бурную деятельность, чтобы доказать, что ее дядя не антисемит и не погромщик. Собранное по ее просьбе общее собрание жильцов дома № 15/14 по Коломенской улице постановило: «о принадлежности жильца дома Быстрицкого к «Каморре народной расправы» никому из присутствующих не известно», тем не менее «что касается неуживчивого характера господина Быстрицкого, то у него выходили конфликты с жильцами». «Российский комитет помощи семьям убитых офицеров» удостоверил следователя Байковского на официальном бланке, что сотрудники Быстрицкого «от него никогда не слыхали никакой ни погромной, ни контрреволюционной агитации».
По такому же навету был арестован и псаломщик церкви при морском госпитале Григорий Иванович Селиванов. Его брат, юрисконсульт Всероссийского Военно-хозяйственного комитета РККА, долго объяснял потом в ЧК, что обвинение основано лишь на сговоре, сделанном Борисом Ильичем Бинкиным и его племянником Давидом Ефимовичем Хазановым, которые давно недолюбливали Григория Ивановича…
«Не потому ли Бинкин считает брата монархистом, что брат ходил на поклон к Великому князю? Но в этом отношении Бинкин не только ошибается в своем умозаключении, но и просто извращает факты. К бывшему Великому князю Константину Константиновичу десять лет тому назад ходил не брат, а я. И ходил я к нему не как к Великому князю, а как к главному начальнику военно-учебных заведений, от которого зависело предоставление нашим малолетним братьям Владимиру и Павлу права поступления в кадетские корпуса. Если бы начальником военно-учебных заведений в то время был гражданин Бинкин или гражданин Хазанов, то мне скрепя сердце пришлось бы обратиться и к ним…»
Тенденция тут прослеживается четкая. И нет даже нужды говорить о моральных качествах многочисленных доносчиков и лжесвидетелей. Их поступки, какими бы гнусными они ни выглядели, безусловно, были спровоцированы Моисеем Соломоновичем Урицким. И в этом и заключается смысл всего дела «Каморры народной расправы», и в этом успех предприятия Моисея Соломоновича был очевидным.
Однако необходимо отметить тут, что ошибаются и сейчас многие из защитников Моисея Соломоновича Урицкого, полагая, будто он действовал так, защищая права евреев. Это не вполне верно. Поддерживая и насаждая русофобские настроения, Урицкий заботился не вообще о евреях, а лишь о евреях-большевиках, евреях-чекистах. Причем по мере укрепления тех гарантии безопасности для евреев, не участвующих или недостаточно активно участвующих в большевистском шабаше, делались все более призрачными.
Мы уже не говорим тут, что отлаженная Моисеем Соломоновичем Урицким машина беззакония произвела в результате еврейский погром, равного которому не знала мировая история. И разве существенно то, что Моисей Соломонович не для этого задумывал свою машину? Только ослепленный ненавистью к России человек может предполагать, что беззаконие будет распространено лишь на одну русскую национальность…
18
19 июня, как раз накануне убийства Володарского, чекисты начали аресты участников «Беспартийного Союза спасения Родины». Подтолкнуло Моисея Соломоновича к этому сходство в звучании «Беспартийного Союза…» с «Союзом защиты Родины и свободы», аресты членов которого, по указанию Мирбаха, активно проводились с начала июня в Москве. Кроме того, в руки Урицкого попала программа «Союза», где цель его была сформулирована в явно погромном и антисемитском духе: «Неделимая, единая, великая Россия».
Идея создания на базе «Каморры народной расправы» целой сети погромных организаций настолько увлекла Моисея Соломоновича, что он, как, впрочем, и некоторые историки много лет спустя, не обратил внимания на такую существенную деталь, что «Союз» этот, просуществовав несколько недель, распался еще до Октябрьского переворота…
В восемь часов вечера 19 июня Урицкий подписал целую пачку ордеров на аресты. Ордер № 755 был выдан товарищу Юрше на арест В. А. Цветиновича. Тов. Юрша в тот же вечер арестовал Всеволода Алексеевича Цветиновича, недоучившегося кадета, отец которого был присяжным поверенным, а мать занималась переводами с иностранных языков.
Молодость «преступника» товарища Юршу не смутила. По его соображениям, девятнадцатилетний юноша вполне мог организовать заговор. Всеволода бросили в тюрьму…
Однако на следующий день в Петроградскую ЧК приехал его брат — Василий Цветинович, успевший уже закончить экстерном реальное училище.
Василий Цветинович попросил провести его к Урицкому и, когда просьба эта была выполнена, задал Моисею Соломоновичу вопрос: действительно ли ЧК арестовала того Цветиновича, которого собиралась арестовать?
— Дело в том… — объяснил он, — что в ордере на арест были указаны лишь инициалы «В. А.», а они и у арестованного Всеволода, и у меня совпадают.
Урицкий пытливо посмотрел на юношу и приказал вызвать следователя Байковского, но… Предоставим слово самому Василию Алексеевичу Цветиновичу для рассказа об этом необычном происшествии. В заявлении, написанном в арестной камере № 97, он подробно изложил все перипетии этой истории.
«Для выяснения истинного положения дел Вами (Урицким. — Н. К.) был приглашен следователь Байковский, из объяснений коего вполне определилось, что задержанию подлежит исключительно брат мой Всеволод Алексеевич Цветинович за участие в каком-то кружке помощи бывшим офицерам… В настоящее время брат мой переведен в Выборгскую одиночную тюрьму.
Убедившись, что я задержанию не подлежу, в чем Вы лично меня заверили, я попросил Вас выдать мне соответствующее удостоверение на тот случай, если бы меня по нечетко выписанному ордеру принялись разыскивать.
Согласившись с основательностью моей просьбы, Вы отдали соответствующее распоряжение следователю Байковскому, с которым я и удалился в его кабинет…[96]
Здесь, видимо, нужно прервать рассказ Василия Алексеевича. Несомненно, он ехал в ЧК, чтобы спасти брата. Спасти хотя бы и ценой собственной свободы.
Однако благородство в конторе Моисея Соломоновича Урицкого на Гороховой улице было не в чести. Признавать свою ошибку Урицкому не хотелось. Да и кому захотелось бы признаваться в собственной юридической безграмотности, убедительным примером которой и был этот ордер на арест человека с нерасшифрованными инициалами. Напомним, что отец братьев Цветиновичей был присяжным поверенным и не заметить допущенного Моисеем Соломоновичем промаха он не мог. Если бы — очевидно, этим и объясняется требование его сыном нелепой справки на тот случай, если бы его принялись разыскивать по нечетко выписанному ордеру — в его руках оказался документ, подтверждающий промах Урицкого, он бы сумел раздуть скандал — он ведь жил еще прежними, дореволюционными, представлениями о законности! — и таким образом добиться освобождения сына.
План, может быть, был разработан и неплохой, но — увы! — ни присяжный поверенный Цветинович, ни его сын Василий даже и не догадывались о всей глубине подлости Моисея Соломоновича Урицкого. Он сразу раскусил выпускника реального училища…
«Во время выдачи мне просимого удостоверения, — пишет Василий Алексеевич Цветинович, — следователь Байковский, после нескольких незначащих вопросов, выяснивших, между прочим, мое случайное и весьма кратковременное состояние во Внепартийном Союзе спасения Родины, объявил мне, что задерживает теперь и меня…»
Вот так просто и без затей и была разрушена хитроумная комбинация гг. Цветиновичей. И, право же, тут трудно удержаться, чтобы не вспомнить слова из уже цитировавшегося нами рассказа Исаака Эммануиловича Бабеля «Дорога», слова насчет петроградских чекистов — «верных в дружбе и смерти, товарищей, каких нет нигде в мире…»
Хотя Урицкий, Байковский и их сподвижники по палаческому ремеслу и были исключительными мерзавцами, но принципы товарищества, какого «нет нигде в мире», были святы для них. Они покрывали друг друга всегда, во всяком случае до той поры, пока им самим это ничем не грозило…
Арест второго Цветиновича — яркий пример такой товарищеской взаимовыручки. Ну, проглядел что-то Моисей Соломонович Урицкий, ну, погорячился товарищ Юрша, когда арестовал не того человека… Ну и что из этого? Разве трудно арестовать еще и того, а не того запереть на всякий случай в одиночку? Стоит ли говорить о таких пустяках? Тем более, как мы знаем из признания И. Э. Бабеля Д. А. Фурманову, таких людей, как недоучившийся кадет Всеволод Цветинович или выпускник реального училища Василий, чекисты и за людей-то не считали, и совсем не интересно было, что думают они, что чувствуют, что испытывают…
19
Вчитываешься в материалы дела «Каморры народной расправы», и порою даже обидно становится за Моисея Соломоновича Урицкого. Сколько ума, сколько энергии вкладывал этот деятель, чтобы создать хоть какое-то подобие антисемитского контрреволюционного заговора, но у этих русских присяжных поверенных, статистиков, профессоров, офицеров, художников, журналистов не только не существовало никакой организации, но, более того, на допросах явно обнаруживалась их патологическая неспособность к заговорам вообще.
«Я никогда ни в какие партии не входил и теперь ни в какой не состою. Я человек дела, и не при моих годах (68 лет) начинать эту партийность». (Допрос С. Д. Быстрицкого, т. 3, л. 13.)
«С тех пор, как я поступил на военную службу, прекратил литературную деятельность и вообще отдалился от всяких политических вопросов, так как хотел жить более спокойно, а политика успокоения в жизнь не вносит…» (Допрос Л. Т. Злотникова, т. 4, л. 26.)
«Ни в какой политической партии как до революции, так и после нее не состоял и не состою. Будучи студентом, никакими общественными и политическими делами не занимался, даже после революции, будучи на военной службе, когда меня выбрали в Совет рабочих и солдатских депутатов, мне пришлось отказаться и просить о переизбрании, так как определенных политических тенденций у меня и тогда не было и я даже не представлял себе задач и работы этого Совета…» (Допрос Ф. А. Бронина, т. 1, л. 39.)
Несомненно, подобные «признания» раздражали Моисея Соломоновича. Он понимал — ив этом был совершенно прав! — что тут-то и кроется главный заговор. Отпираясь от любого участия в партийности, его подследственные тем самым стремились противодействовать «настоящей революционной кристаллизации», которой так добивались большевики. И все мог простить Моисей Соломонович, только не это. Ведь отступись тогда большевики, может быть, и гражданская война не началась бы, может быть, так ничем и не закончился бы чешский мятеж.
При этом мы не должны забывать, что некоторые из подследственных не просто из целей безопасности декларировали свою беспартийность, а осознавали ее как некую нравственную ценность.
Александр Константинович Никифоров, инженер, арестованный, подобно старшему Цветиновичу, за участие в «Союзе спасения Родины», служил в Русском обществе выделки и продажи пороха.
«Вся моя жизнь, — надменно сообщил он чекистам, — протекала в работе. Я с детства не воспринимал различия между классами, властью пользовался как старший товарищ и никогда не думал о доходных местах, отказывался от мишуры. Я личной собственности не признаю и, сколько бы ни заработал, намереваюсь израсходовать на общественные, просветительские цели… Против Советской власти не действовал совершенно принципиально, так как признаю за ней воспитательное значение по схеме «каждый сам себя бьет, коли нечисто жнет».
По укладу ума я не политик, потому что полагаю: стойкость любой демократической системы зависит от нравственного уровня граждан. В области внешней политики примкну к той группе, которая раскрепостит славянство.
Так как я никогда не лгу, то лишен возможности действовать тайно…
Сознаюсь, что интернационалистом быть не в силах, потому что быть в этом отношении исключением среди соседей-эгоистов равносильно потере независимости…
По существу сделанного мне допроса относительно участия в «Беспартийном союзе спасения Родины» повторяю: насколько мне известно, «Союз» распался, и если аналогичный «Союз» существует, то ничего общего с бывшим не имеет. Об этом я могу заключить логически, судя по составу прежнего «Союза», который главным образом ныл, ругался и сплетничал. Повторяю, после третьего собрания я заявил сопредседателю, что все — ерунда и я выбываю».
Наверное, нет нужды комментировать эти показания. Каждое слово дышит здесь умом и благородством, той высокой порядочностью русского интеллигента, которую невозможно сломить никакими пытками. И, читая эти показания, начинаешь понимать, почему даже такой культурный человек, как Исаак Эммануилович Бабель, предпочитал «не интересоваться» настроениями узников чекистских застенков. Уж он-то знал, как неуютно чувствуешь себя рядом с этими людьми.
В сравнении с выходцами из польско-еврейских местечек такие люди, как Александр Константинович Никифоров, выглядели почти гигантами. Нескрываемое презрение ко всей чекистской сволочи сквозит в каждом его слове. Оно выражено и в холодной, не унижающей себя даже до насмешки, констатации юридической безграмотности моисейсоломоновской юстиции.
«Мне инкриминировалась запись в члены «Беспартийного союза спасения Родины», который девять месяцев тому назад распался… Инкриминируемый факт произошел до утверждения Советской власти, а именно год тому назад. Следовательно, если бы «Союз» и был объявлен контрреволюционным, то я не подлежу ответственности, ибо закон обратного действия не имеет».
Если сопоставить показания Никифорова с поведением того же И. Э. Бабеля, который закладывал на допросах и своих друзей: Михоэлса, Эйзенштейна, Олешу, Катаева, и свою любовницу Евгению. Соломоновну Ежову, не говоря уже о ее супруге-наркоме, то возникает ощущение, что это не просто люди разных культур, а представители разных миров… Но опять-таки я говорю об этом не ради осуждения несчастного, запутавшегося литератора-чекиста, а лишь для определения цены, которую пришлось заплатить многим за — воистину! — «невиданное в мире товарищество», круто замешенное на подлости и палачестве.
Исаак Эммануилович Бабель заплатил эту цену в 1940 году, Моисею Марковичу Гольдштейну (В. Володарскому) пришлось заплатить ее намного раньше.
20 июня 1918 года он был убит.
«Надо вспомнить, — писал А. В. Луначарский, — в какие дни произошло убийство Володарского. В день своей смерти он телефонировал Зиновьеву, что был на Обуховском заводе, телефонировал, что на этом, тогда полупролетарском заводе, где заметны были признаки антисемитизма, бесшабашного хулиганства и мелкой обывательской реакции, — очень неспокойно…
Володарский просил Зиновьева приехать лично на Обуховский завод и попытаться успокоить его своим авторитетом. Зиновьев пригласил меня с собою, и мы оба часа два, под крики и улюлюканье… старались ввести порядок в настроение возбужденной массы. Мы возвращались с Обуховского завода и по дороге, не доезжая Невской заставы, узнали, что Володарский убит».
Кто убил Володарского — так и осталось неизвестным. В большевистских газетах писали, что его убила буржуазия.
«Я думаю, — признавался А. В. Луначарский, — никого из нас не ненавидела она тогда так, как его…»
И были почти ритуальные похороны. Словно из библейских времен, выкатилась на улицы Петрограда погребальная колесница с телом нового Моисея, под колеса которой и предстояло теперь другому Моисею — товарищу Урицкому — положить жизни арестованных им Злотниковых, Бобровых, Мухиных…
Часть вторая
Роковой июнь
Восемнадцатый год — самый короткий в истории России. Со гласно декрету первое февраля было приказано считать четырнадцатым, и весь восемнадцатый год оказался на тринадцать дней короче, чем положено быть году. На сколько человеческих жизней короче оказался он — не знает никто. Счет шел на миллионы…
И начало этому страшному отсчету выпало на июнь.
1
В июне вместе с белыми ночами наступили в Петрограде черные дни. Гомеопатические хлебные пайки делали свое дело — стих хохот революционной улицы, темными от голода стали глаза у прохожих. И с каждым днем все отчетливее замаячил над городом зловещий призрак холеры.
Когда перелистываешь подшивки петроградских газет, буквально ощущаешь надвигающееся на город безумие. Среди новостей политики, среди сообщений с фронтов — небольшие заметки: «Строится трупная машина»[97], «Китайцы в городе едят детей», «Из-за голода бросилась под поезд Варя Эристова — жена офицера».
5 июня в Петрограде хоронили Г. В. Плеханова. На этих похоронах большевики окончательно порывали с былыми соратниками. Никто из большевиков на похороны Плеханова не пошел.
— На похороны ихнего Плеханова, — объяснил это решение Г. Е. Зиновьев, — несомненно, выйдет вся корниловская буржуазия. Для нас Плеханов умер в 1914 году.
Еще непримиримее вели себя большевики с ближайшими соратниками — эсерами. Но это и понятно. С эсерами приходилось пока делиться властью, а власть — вся целиком! — была нужна большевикам, чтобы уцелеть. Были и идейные разногласия. Если у эсеров еще оставались какие-то идеалы, то для большевиков смысл революции (точно так же, как для нынешней президентской команды смысл демократии) уже давно свелся к защите революции, то есть самих себя.
На июнь были назначены новые выборы в Петросовет. «Буржуазия», разумеется, к выборам не допускалась, и основная борьба за депутатские мандаты развернулась между эсерами и большевиками.
Г. Е. Зиновьев не мог не знать, что гражданская война уже началась, что отборные латышские части сумели-таки втянуть в вооруженный конфликт чехословацкий корпус, но с бесстыдством он, брызгая слюной, кричал на митингах:
— Если правые эсеры возьмут власть, то на русской территории начнется кровавая бойня разных народов, так как эти господа должны будут возобновить военные операции согласно их оборонной программе! А вы знаете, товарищи, — патетически вопрошал он, — что значит для страны, когда на ее территории сражаются чуждые народности? Полное опустошение и смерть вас тогда ожидают!
И если на митингах эта наглая демагогия особым успехом уже не пользовалась, то в практической политике результат был налицо.
Тогда, в июне, и разыгралась трагедия командующего Балтийским флотом. В отличие от Раскольникова, затопившего Черноморский флот, капитан Щастный отказался последовать его примеру, за что и был обвинен в измене. Не поверив, что директива исходила непосредственно от Троцкого, Щастный отправился в Москву, где был немедленно арестован и отдан под трибунал.
«Защитник Щастного присяжный поверенный В. А. Жданов, — писала газета «Знамя труда», — десять лет назад защищал революционера Галкина. Тогда смертную казнь заменили Галкину каторгой. Вчера они встретились снова… Жданов защищал Щастного. Галкин сидел в кресле члена верховного трибунала. Щастного трибунал приговорил к смертной казни».
Это была первая смертная казнь по приговору при большевиках. Первая ласточка смерти. До сих пор расстреливали только без суда, на месте преступления, под горячую руку…
Эсеры попытались собрать экстренное заседание ВЦИК, чтобы отменить приговор, но Яков Михайлович Свердлов воспротивился этому, и в шесть часов утра, не откладывая, латыши расстреляли командующего Балтфлотом во дворе Александровского училища.
О расстреле писали в газетах немало. Большевики наконец-то указали своим верным соратникам по Октябрьскому перевороту — матросам — их место. В Петрограде на такой расстрел, конечно, не решились бы. Но волнение казнь Щастного вызвала немалое… Миноносная дивизия вошла тогда в Неву и встала на якорь. Матросы разбрелись по заводам агитировать против большевиков. Ситуация в городе становилась критической, и вот тут-то и приспело 20 июня 1918 года, когда был убит Моисей Маркович Гольдштейн.
2
О Моисее Марковиче Гольдштейне известно немного. Работал он приказчиком в мануфактурном магазине в Лодзи, долгое время жил в Америке… В России появился, когда туда со всех уголков земного шара потянулось в 1917 году еврейство. Смутные слухи ходили о том, что Володарский как-то связан с аферами Парвуса, но кто из большевиков не был с ними связан?
Но это, пожалуй, и все, что известно о дореволюционном прошлом товарища Володарского.
В Петрограде Моисей Маркович сделал просто блистательную карьеру. Бывший портной, не растерявший и в дороге через океан своей филадельфийской франтоватости, прилизанный, в отутюженном костюме, сверкая золотом в зубах, он произвел неизгладимое впечатление на товарища Стасову, и та определила приглянувшегося ей молодого человека на хорошую должность. Скоро Володарский стал весьма значительным лицом в Петрограде, ведал всей здешней большевистской пропагандой.
Надо сказать, что со Стасовой Моисею Марковичу просто повезло. Судя по другим воспоминаниям, несмотря на свою приказчичью щеголеватость и золото в зубах, обычно он вызывал у окружающих не симпатию, а чувство омерзения.
Говорят, что помимо партийного прозвища Пулемет, полученного Володарским за умение произносить речи длиною в несколько часов, называли его партийцы между собою еще и «гадёнышем», но это уже не за ораторские способности, а за змеиную улыбочку, за редкостную, дивившую даже и товарищей-большевиков подлость характера.
При этом самовлюбленность Володарского превышала все представимые понятия. Петроградские газеты сообщали, например, о таком эпизоде из его деятельности. 28 мая на процессе против буржуазных газет он вдруг потребовал сделать перерыв.
— Зачем? — удивился председатель суда Зорин.
— Я должен сейчас сказать речь… — объяснил Моисей Маркович. — Необходимо вызвать стенографистку из Смольного…
Ну и, конечно, кроме говорливости, самовлюбленности и подловатости было в Володарском то особое состояние, когда человек вроде бы и сам понимает, что зарапортовался, но остановиться не может, да и не желает, и только еще стервознее лезет вперед, загоняя, как писал поэт, «клячу истории».
Как правило, отвратительное позерство совмещается в таких особах с трусливой наглостью и непроходимой глупостью. Видимо, так было и у Володарского. Упиваясь собственным красноречием, он зачастую выбалтывал то, о чем до поры положено было молчать.
Еще задолго до открытого разрыва с эсерами Моисей Маркович во всеуслышание ляпнул на заседании Петросовета, дескать, «борьба с оборонцами, меньшевиками и правыми эсерами будет вестись пока бюллетенями, а вслед за тем — пулями».
Разумеется, у нас нет оснований заподозрить Володарского в сознательном саботаже директивы «Всемирного Израильского Союза» о необходимости соблюдать осторожность. Нет… Просто Моисея Марковича подвел сам характер его профессии — оратора-пулеметчика, предполагавший основой своей какую-то особую, вдохновенную стервозность и не позволявший удерживаться в разумных рамках осторожности…
Промахи Володарского можно понять и объяснить, но его товарищи по большевистскому ремеслу явно не стремились к этому. К тому же в мае поползли слухи о том, что товарищ Парвус недоволен Моисеем Марковичем: то ли он смухлевал с причитающимися Парвусу суммами, то ли еще что, но товарищи по партии стали косовато посматривать на него.
Окончательно же погубил Моисея Марковича его характерец. В начале июня, когда Урицкий докладывал Зиновьеву о ходе расследования по делу «Каморры народной расправы», Григорий Евсеевич мягко пожурил его за медлительность.
Упрек был обоснованным. Уже вовсю разгорелась гражданская война, а с консолидацией петроградского еврейства дела шли туго, открытый процесс против погромщиков откладывался. Но — мыто знаем, с каким тяжелым материалом приходилось работать Урицкому в своей конторе! — Моисей Соломонович вспылил и вышел из кабинета Зиновьева. Присутствовавший тут же Моисей Маркович глубокомысленно заметил, что так все и должно быть…
— Почему? — удивился Григорий Евсеевич.
— А что от него требовать? — сказал Моисей Маркович. — Он же — меньшевик.
— Меньшевик?!
— Да… Я точно знаю, что раньше Урицкий состоял у меньшевиков.
Сцена, должно быть, была весьма трогательной. Володарскому, сменившему за год три партии, можно было бы сообразить, что для большевиков партийное прошлое вообще не имеет никакого значения, они жили — в этом и заключался большевистский стиль партийного руководства — настоящим.
Григорий Евсеевич мягко объяснил это Моисею Марковичу, но тот уже закусил удила, начал доказывать, что из-за меньшевистской нерешительности Урицкого и откладывается процесс над погромщиками, что не умеет тот взяться за дело решительно, по-большевистски.
Наверное, он и сам понимал, что полез не в ту степь, но — опять подвела профессиональная болезнь оратора-пулеметчика! — привычка не только говорить, но и мыслить штампами взяла верх, а остановиться, зарапортовавшись, Моисей Маркович не мог.
3
Разговор этот состоялся 6 июня, а 7-го Петр Юргенсон, служивший водителем в смольнинском гараже, двоюродный брат чекиста Юргенсона, того самого, который так прокололся на обыске у Луки Тимофеевича Злотникова, подошел к водителю «роллс-ройса», на котором обычно ездил Моисей Маркович, и спросил:
— Хочешь, Гуго, денег заработать?
В показаниях самого Гуго Юргена этот эпизод описан подробно и определенно: «На мой вопрос: как? — Юргенсон говорил: — Очень ifpocTo. Надо Володарского убить».
— Я, что ли, должен убить? — спросил Гуго.
— Нет. Ты сиди в машине и молчи. Когда навстречу будет идти машина и покажут сигнал, остановишься. Сделаешь вид, что машина испортилась, — ответил Юргенсон. — Тогда сделают все, что надо.
Юрген заколебался, и Юргенсон сказал ему, что в награду Гуго может взять себе бумажник.
Тут, отвлекаясь от пересказа показаний Гуго Юргена[98], надо сказать, что если действительно слухи об участии Моисея Марковича в парвусовских аферах верны, то речь шла, разумеется, о весьма солидной сумме. Однако сам Гуго на допросе на этой детали не стал останавливаться, а просто заявил: Юргенсон «сказал, чтобы я не кричал, а взял бы бумажник Володарскйго в свою пользу и только потом заявил бы о случившемся. Потом учил, чтобы я незаметно брал бы бумажник от Володарского, осматривая его, где его ранили».
Вот такой разговор происходил 7 июня в смольнинском гараже…
— А кто же убьет его? — глуповато спросил Гуго.
— Адвокаты и студенты… — засмеялся Юргенсон.
Об этом разговоре Гуго Юрген рассказал на допросе в ЧК уже после убийства Володарского, а тогда, две недели назад, — видимо, он тоже очень любил Моисея Марковича, заставлявшего его катать на машине своих девочек! — ничего не сказал.
Ну а 20 июня события развивались так…
В половине десятого утра Гуго Юрген, как обычно, подал машину к «Астории». Володарский сел в автомобиль с дамой и, доехав до Галерной, где находилась редакция «Красной газеты», велел отвезти даму в Смольный.
На Галерную Гуго вернулся в половине одиннадцатого и до четырех часов стоял, пока не повез Моисея Марковича обедать. Кормили и Юргена, и Володарского в Смольном, но в разных столовых.
С положенным прислуге обедом Гуго управился быстрее Володарского и, дожидаясь шефа, зашел в комнату № 3, чтобы взять наряд на следующий день. Тут он снова столкнулся с Петром Юргенсоном.
«Мы разговаривали две-три минуты. Юргенсон спросил: «В какой комнате в «Астории» живет Володарский? Сегодня я должен дать окончательные сведения».
Тут Гуго явно недоговаривает… Судя по показаниям Петра Юргенсона[99], разговор был более обстоятельным, и Гуго долго жаловался, что «боится ехать с Володарским, ибо толпа кричит и орет».
Но существенно другое… За несколько часов до убийства Володарского его водитель говорит со своим приятелем об этом убийстве.
Разумеется, на первом допросе Гуго не заикался об этих пикантных подробностях, они выяснились в ходе расследования, а 20 июня Гуго Юрген подробно рассказал лишь о том, как произошло само убийство…
4
Около семи вечера он отвез Моисея Марковича на митинг на Николаевском вокзале. Что происходило там, на митинге, Гуго не знал, но понял, что Моисея Марковича хотели отмутузить. Железнодорожники не пропускали его к машине, и Володарскому пришлось бежать «через другие ворота, тайком от митинга». Растерзанный, он юркнул в «роллс-ройс» и приказал ехать в Смольный.
Что узнал Моисей Маркович на митинге, о чем он хотел поговорить безотлагательно с товарищем Зиновьевым — неведомо. Однако, видно, что-то он узнал, о чем-то важном хотел поговорить, потому что в этот вечер искал Григория Евсеевича с каким-то маниакальным упорством.
Из Смольного, захватив с собой Нину Аркадьевну Богословскую и Елизавету Яковлевну Зорину, Володарский едет в Невский райсовет. Но Зиновьева и там не было…
Пока Володарский звонил по телефону, выясняя, на каком заводе выступает Зиновьев, мимо райсовета проехал Луначарский. Богословская остановила его машину, и Луначарский объяснил, что Зиновьев должен говорить сейчас заключительное слово на митинге на Обуховском заводе.
«Луначарский уехал, а я побежала в Невский райсовет сообщить об этом Володарскому… — волнуясь, вспоминала потом Нина Аркадьевна. — Через несколько минут я с Володарским села в машину. Едва мы сели, как шофер поехал.
— Куда это едет шофер? — сказала я. — Вы же ему не сказали, куда, на какой завод.
— Да он знает из наших разговоров… — ответил Володарский.
Проехав некоторое время, машина замедлила ход… Шофер, полуобернувшись к нам, сказал: «Да… Пожалуй, весь бензин вышел» — и после этого сейчас же остановил машину»[100].
Необходимо отметить, что ездил товарищ Володарский на автомобиле, ранее принадлежавшем миллионеру Манташову. Этот «роллс-ройс» изготовлялся по спецзаказу и прежнему владельцу обошелся в кругленькую сумму — 125 тысяч рублей. Понятно, что и надежность этой, одной из лучших в Европе, марки машин тоже была повышенной.
Поэтому-то план, предложенный Петром Юргенсоном, технически просто невозможно было осуществить. Внезапная поломка сверхнадежного мотора, конечно, насторожила бы Моисея Марковича. Но сейчас — видимо, план был доработан — внезапно кончился бензин.
— Эх ты! — в сердцах сказал Моисей Маркович и вместе с дамами начал выбираться из машины.
И вот, надо же было случиться так, чтобы бензин кончился именно в том месте, где за углом дома с пистолетом в руках поджидал Моисея Марковича человек, чрезвычайно похожий на Петра Юргенсона.
Едва Володарский сделал несколько шагов в сторону Невского райсовета, как раздался первый выстрел.
«В это время мы стояли рядом, — рассказывала потом Нина Аркадьевна Богословская. — Я ближе от панели, на расстоянии полшага от меня Володарский. Зорина стояла по другую сторону от Володарского. Когда раздался первый выстрел, я оглянулась, потому что мне показалось, что выстрел был произведен сзади нас на близком расстоянии, но ничего кругом не увидела. Я крикнула: «Володарский, вниз!» — думая, что надо ему спрятаться под откос берега. Володарский тоже оглянулся. Мы успели сделать еще несколько шагов по направлению к откосу и были уже посреди улицы, когда раздались сразу еще два выстрела, которые послышались ближе. В этот момент я увидела, что Володарского два раза передернуло, и он начал падать… Когда я оказалась рядом, он лежал на земле, делая глубокие вдохи. Лежал он головой в сторону автомобиля, на расстоянии шагов трех от машины. Мы с Зориной стали искать рану и заметили одну в области сердца. Две другие раны я заметила на другой день при перемене ему льда.
Когда я увидела, что Володарский уже умер, я подняла голову, оглянулась и увидела в пятнадцати шагах от себя и в нескольких шагах от конца дома-кассы стоящего человека. Этот человек упорно смотрел на нас, держа в одной руке, поднятой и согнутой в локте, черный револьвер. Кажется, браунинг. А в левой руке я не заметила ничего.
Был он среднего роста, глаза не черные, а стального цвета. Брюки, мне показалось, были одного цвета с пиджаком, навыпуск.
Как только он увидел, что я на него смотрю, он моментально повернулся и побежал… Предъявленный мне шофер Юргенсон Петр имеет большое сходство с убийцей…»
Очень сходные показания дала и Елизавета Яковлевна Зорина.
«Я поехала с Володарским и Богословской из Смольного на Обуховский завод, но по дороге мы заехали в Невский райсовет. Оттуда поехали за Зиновьевым, но, проехав минут восемь, заметили, что автомобиль замедлил ход. Мы между собой завели разговор о причине этого. Шофер, отвернувшись, ответил, что, вероятно, бензина нет. Через несколько минут автомобиль совершенно остановился. Шофер вышел, потом опять сел в машину и сказал:
— Ничего не будет. Бензина нет.
— Где же вы раньше были? — спросил Володарский.
— Я не виноват. Два пуда всего дали бензина, — ответил шофер.
— Эх вы! — сказал Володарский и начал вылезать из машины. Выйдя, мы стали советоваться о том, что нам делать. Володарский предложил пойти в райсовет. Богословская предложила позвонить по телефону из кассы.
Мы с Врлодарским несколько секунд обождали Богословскую, которая, увидев, что касса закрыта, направилась назад. Сделав десять шагов от автомобиля — все в ряд: Володарский посередине, я — в сторону Невы, близко от себя я услышала за спиной громкий выстрел, как мне показалось, из-за забора. Я сделала шаг к откосу, не оглянувшись, и спросила: «В чем дело?» Но тут раздался второй и через секунду третий выстрел — все сзади, с той же стороны.
Пробежав несколько шагов вперед, я оглянулась и увидела на фоне дома-кассы позади себя человека с вытянутой рукой и, как мне показалось, с револьвером, направленным на меня.
Человек этот выглядел так: среднего роста, загоревшее лицо, темно-серые глаза, насколько помню, без бороды и усов, бритый, лицо скуластое. На еврея не похожий, скорее похожий на калмыка или финна. Одет был в темную кепку, пиджак и брюки. Как только я его заметила, он бросился бежать по направлению за угол Ивановской улицы. Кроме этого человека, я ни одного его сообщника не видела. Я отвернулась сейчас же опять в стороны автомобиля и Володарского. Недалеко от себя я видела стоящего Володарского, недалеко от него, в сторону автомобиля, Богословскую. Через секунду Володарский, крикнув: «Нина!», упал. Я и Богословская с криком бросились к нему. Больше я убийцу не видела… В предъявленном мне Петре Юргенсоне я нахожу сходство с убийцей в росте, сложении, выражении глаз, и скул, и по строению лица…»
Как мы видим, разночтения в этих показаниях практически отсутствуют, особенно если принять во внимание, что это событие произошло в считанные секунды.
Зато очень разнятся эти показания с показаниями Гуго Юргена — третьего свидетеля убийства.
«Когда мотор остановился, я заметил шагах в двадцати от мотора человека, который смотрел на нас. Был он в кепке темного цвета, темно-сером открытом пиджаке, темные брюки, сапогов не помню, бритый, молодой, среднего роста, худенький, костюм не совсем новый, по-моему, рабочий. В очках он не был. Приблизительно 25–27 лет. Он не был похож на еврея, тот черней, а он был похож скорее на русского.
Когда Володарский с двумя женщинами отошел от мотора шагов тридцать, то убийца быстрыми шагами пошел за ними и, догнав их, дал с расстояния приблизительно трех шагов три выстрела, направив их в Володарского. Женщины побежали с тротуара на середину улицы, убийца побежал за ними, а Володарский, бросив портфель, засунул руку в карман, чтобы достать револьвер, но убийца успел подбежать к нему совсем близко и выстрелить ему в упор в грудь. Володарский, схватившись рукой за грудь, побежал к мотору, а убийца побежал по переулку, по направлению к полям. Когда раздались первые выстрелы, то я, испугавшись, спрятался за мотор, ибо у меня не было револьвера.
Володарский подбежал к мотору, я поднялся ему навстречу и поддержал его, ибо он стал падать. Подбежали его спутницы, которые посмотрели, что он прострелен в сердце. Потом я слышал, что где-то за домами был взрыв бомбы…»
В этом рассказе Гуго Юргена безусловно верно лишь то, что, когда началась стрельба, он спрятался за машину. Все остальное — выдумка.
Начнем с его рассказа об убийце. Если тот стоял в двадцати шагах от машины и смотрел на нее, то женщины просто не могли не заметить его. Однако они обе показывают, что увидели убийцу, только когда тот начал стрелять.
Теперь о трех выстрелах с трех шагов… С такого расстояния трудно промахнуться, но Гуго зачем-то потребовался и четвертый выстрел. После трех выстрелов Володарский у него еще пытается вытащить револьвер, и убийце, погнавшемуся зачем-то за женщинами, пришлось вернуться и выстрелить Володарскому «в упор в грудь…». Но и после этого Моисей Маркович не упал, а возвратился к машине, чтобы умереть на руках любимого шофера.
Наконец, Гуго не мог видеть, куда побежал убийца. С того места, где стоял автомобиль, заглянуть за угол Ивановской улицы просто невозможно.
Конечно, путаницу в показаниях Гуго Юргена можно объяснить волнением. Допустим также, что Гуго Юрген не придал значения уговорам Петра Юргенсона оказать помощь в убийстве Володарского. Но чтобы бензин в сверхнадежнейшей машине внезапно кончился, да еще именно в том месте, где стоял убийца, — допустить невозможно, это уже подрывает основы теории вероятностей… Если же сложить все наши допущения, то теория вероятностей вообще полетит вверх тормашками.
Впрочем, «невероятности», связанные с убийством Моисея Марковича, тут не кончаются. Невероятна и дальнейшая судьба Гуго Юргена. Просидев несколько дней под арестом, он, несмотря на то, что все факты, свидетельствующие о его причастности к убийству, были выявлены, благополучно вышел на свободу.
Невероятно и появление Зиновьева на месте преступления сразу после убийства. Всего несколько минут не дожил Моисей Маркович до встречи, которой искал весь вечер…
5
В тот вечер Григорий Евсеевич выступал на митинге на Обуховском заводе. А. В. Луначарский, чьи воспоминания мы процитировали в конце первой части книги, писал: «В день своей смерти Володарский телефонировал Зиновьеву, что был на Обуховском заводе, телефонировал, что на этом, тогда полупролетарском заводе, где заметны были признаки антисемитизма, бесшабашного хулиганства и мелкой обывательской реакции, — очень неспокойно… Володарский просил Зиновьева приехать лично на Обуховский завод и попытаться успокоить его своим авторитетом».
Неточность здесь — неподходящее слово. Все в воспоминаниях Луначарского — явная ложь. И близко Моисей Маркович не подходил 20 июня к Обуховскому заводу. И с Зиновьевым не говорил, а только собирался поговорить, специально искал Григория Евсеевича, чтобы поговорить.
И опять-таки можно сделать поправку на слабую память Анатолия Васильевича, на его стремление прихвастнуть при удобном случае, но все равно странно, что подробности события, вошедшего в советскую историю, перепутались в памяти именно так — наоборот, а не как-то иначе. Похоже, что дело тут не в забывчивости Луначарского, а в его стремлении скрыть что-то важное.
Митинг, на который он отправил Володарского и куда Моисей Маркович так-таки и не доехал, странным и причудливым образом связан с убийством, и без рассказа об этом митинге не обойтись.
Как рассказывал на допросе эсер Григорий Алексеевич Еремеев, митинг начался в четыре часа дня. В повестке дня был доклад Зиновьева. Затем было поставлено в порядок дня обсуждение требования об освобождении Кузьмина — рабочего Обуховского завода, делегированного в Москву и арестованного там.
Настроение на митинге было бурное… Участвовало около трех тысяч человек, «из которых не более 350 могли быть членами партии эсеров, ибо в нашей Обуховской организации их и не насчитывается больше».
Ближе к концу митинга на трибуне завязалась перебранка с матросами миноносной дивизии, и левый эсер Максимов попросил Еремеева не отходить от Зиновьева, чтобы «избежать нежелательных эксцессов…».
Оберегая Григория Евсеевича от побоев и плевков, Еремеев довел его до машины, в которую уже забился Иоффе. Машина тут же уехала.
Иван Яковлевич Ермаков, другой участник митинга, сцену изгнания большевиков описал так:
«Я присутствовал на митинге все время. По отношению матросов миноносной дивизии укажу следующее. Поведение человек приблизительно пятнадцати было возбужденное… Они пришли на трибуну и угрожали расправиться с каким-то красноармейцем, при этом подозрительно посматривали на Зиновьева и Луначарского. Этих возбужденных матросов уговаривал Каплан, говоря, что это нехорошо и недопустимо. Матросы были недовольны, что их уговаривают, говоря: пойдем, ну их к черту.
Когда Луначарский пошел с митинга, матросы гнусно угрожали ему расправиться на месте. Я и еще один товарищ проводили Луначарского до автомобиля. Там я заметил тех же матросов, расхаживающих, будто что-то ожидая… Луначарский уехал, а я поспешил обратно на митинг, где был шум — товарищу Зиновьеву не давали говорить».
Из показаний других свидетелей известно, что Григорий Алексеевич Еремеев, успокаивая рабочих, сказал, что имеет сейчас право и возможность арестовать Зиновьева, но пока это преждевременно.
Вот так проходил митинг на Обуховском заводе, куда Анатолий Васильевич Луначарский «направил» Моисея Марковича, даже не предупредив, что там за обстановка.
Упоминая о его, мягко говоря, недружеском поступке, я, однако, не рискнул бы утверждать, что Луначарский знал о готовящемся жертвоприношении Моисея Марковича на алтарь революции и специально «направил» его поближе к ненавистному ему Обуховскому заводу. Нет… Скорее всего Луначарский поступил так в силу свойственного ему дружелюбия. «Ежели меня оплевали, — должно быть, рассуждал нарком просвещения, — то почему Володарский должен ходить неоплеванный?»
Тем не менее, как мы уже говорили, митинг кончился вполне благополучно. Победа, конечно, была за эсерами, но эксцессов, не считая отдельных плевков, не случилось, и, усаживая спасенного им от расправы тезку в автомобиль, Еремеев считал, что все прошло просто отлично.
В этом приподнятом настроении и отправился он в районный клуб. Дорога туда заняла пятнадцать минут. Столько же времени Еремеев провел в клубе, а когда вышел, услышал разговор, что убит Луначарский.
«Как раз в это время в Яме должен был состояться митинг. Мы сели на конку и поехали. Доехали до фарфорового завода и увидели пустой автомобиль и человек пять возле него. Здесь говорили уже, что убит не Луначарский, а Володарский. Мы спросили, с бородой ли убитый.
— Нет, без бороды, — ответили нам. — Но на видном месте — два золотых зуба…»
Когда же Еремеев возвращался назад с митинга в Яме, конка была остановлена. Человек низкого роста поднялся в вагон и крикнул:
— Еремеев! Выходи!
Еремеева арестовали по подозрению в убийстве Володарского.
6
На следующий день рабочие Обуховского завода забастовали.
«Мы, рабочие Обуховского завода, твердо уверены, что товарищ Еремеев был, как честный общественный работник, среди рабочих Обуховского завода, и уверены, что он, как честный работник, арестован из мести по причинам расхождения в политических взглядах, а посему требуем его немедленного освобождения…»
По требованию рабочих и Григорий Алексеевич Еремеев, и арестованный вместе с ним матрос Смирнов были освобождены, но сейчас нам важно понять причину их ареста…
Как известно, первоначально расследование по делу вел М. М. Лашевич, бывший ученик одесского еврейского ремесленного училища «Труд», носивший в честь своей ремеслухи партийную кличку Миша Трудник. Во время гражданской войны Лашевич сделается ближайшим помощником Л. Д. Троцкого, пока же он находился в Петрограде в распоряжении Г. Е. Зиновьева. Григорий Евсеевич и послал товарища Лашевича, вернувшись в Смольный, провести расследование.
Если мы прикинем, сколько времени добирался Зиновьев до Смольного, сколько времени потом ехал на место преступления товарищ Лашевич, то получится, что, еще не опросив свидетелей, Лашевич принимает решение арестовать Еремеева. Более того, напрашивается вывод, что на Еремеева как на кандидата в убийцы указал товарищу Лашевичу сам Григорий Евсеевич, инструктируя Мишу Трудника перед выездом.
Между тем Григорий Евсеевич совершенно определенно знал, что Еремеев, провожавший его до автомобиля на Обуховском заводе, убить Моисея Марковича никак не поспевал.
Нет нужды доказывать, каким мерзавцем был Зиновьев, но все же странно, что его даже не интересует, кто же все-таки убил Володарского. Равнодушие Григория Евсеевича к этому весьма напоминает равнодушие человека, если не организовавшего убийство, то, во всяком случае, посвященного в организацию его. И тогда все встает на свои места. Коли Зиновьев знал, кем организовано убийство, то, следовательно, знал он и то, что никакого расследования не нужно, а неплохо бы — тут и проявился во всей красе его большевистский характер! — объявить убийцей Еремеева, человека, которого Григорий Евсеевич особенно сильно не любил в тот вечер. Объяснимой становится тогда и логика следственных действий товарища Лашевича, и странная забывчивость Анатолия Васильевича Луначарского, и даже судорожные поиски Зиновьева Моисеем Марковичем в тот вечер.
Видимо, тогда Володарский как-то узнал о грозящей ему опасности и начал разыскивать Григория Евсеевича, чтобы попросить не убивать его. Как мы знаем, это ему не удалось. Когда Зиновьев садился в свой автомобиль у Обуховского завода, Моисей Маркович уже лежал на панели и лицо его было «страшно искажено, глаза выпучены, рот широко открыт».
Причину же устранения Володарского можно искать и в отношениях Моисея Марковича с Парвусом, и в неосторожных высказываниях Володарского по поводу шефа Петроградской ЧК, и в одиозности фигуры самого Моисея Марковича, сумевшего возбудить всеобщее отвращение. Вероятнее же всего, что все эти обстоятельства, сложенные вместе, и привели бывшего портного к печальному концу.
И все-таки, если бы Моисей Маркович не был столь самовлюблен и циничен, умирая, он мог бы радоваться — его жизнь приносилась большевиками на алтарь их революции.
Газета «Молва» первой проведала об убийстве и уже в утреннем выпуске 21 июня, помимо биографии «страдальца», поместила сообщение, что ночью состоялся телефонный разговор Зиновьева с Лениным, интересовавшимся деталями убийства.
«В советских кругах, — писала газета, — убеждены, что убийство Володарского было произведено или контрреволюционерами, либо отъявленными черносотенцами, или правыми эсерами. Существует предположение, что преступление совершено представителями «Каморры народной расправы».
Нужно сказать, что своими русофобскими настроениями «Молва» превосходила даже такие большевистские издания, как «Петроградская правда» или «Красная газета». Это в «Молве» печаталось с продолжениями «историческое» исследование Бориса Алмазова о «Каморре народной расправы», которое, удачно совмещая жанр доноса с жанром фантасмагории, «научно» обосновывало провокацию, затеянную Моисеем Соломоновичем Урицким.
«В 1906 году после покушения на графа Витте (по дымовой трубе спущен был в печь с крыши разрывной снаряд) началась ликвидация боевых дружин «истинно русских союзов». Всесильный тогда граф Витте, не сумев добиться от царя разрешения на ликвидацию вообще всех «союзнических обществ», все же получил право ликвидировать боевые дружины этих организаций. Несмотря на упорное противодействие влиятельных черносотенцев, графу Витте удалось при помощи департамента полиции разоружить боевые дружины «Союза русского народа», «Союза активной борьбы с революцией и анархией», московского «Союза хоругвеносцев». Отчаявшись в возможности добиться легального существования, Грингмут созвал в Москве монархический съезд и создал на нем «Нелегальную каморру народной расправы». Почетным председателем ее был выбран сам Грингмут, а главным атаманом — известный Юскевич-Красковский, прославившийся впоследствии организацией убийств Герценштейна, Иоллоса и других еврейских деятелей».
Сей «научный» труд Бориса Алмазова мы приводим в конспективном виде, ибо в газете он печатался подвалами и с продолжениями. Но изложить его содержание было необходимо, чтобы представлять, что же вкладывала «Молва» в свое предположение: «преступление совершено представителями «Каморры народной расправы». Удивительно тонко и грациозно буржуазная «Молва» напомнила читателям, что хотя Моисей Маркович и душил потихоньку «прогрессивную» печать, но при этом он все-таки оставался евреем и хотя бы таким образом, но находился в одном с сотрудниками «Молвы» лагере…
Надо ли удивляться, что на следующий день большевистская «Петроградская правда» почти дословно повторила статейку «Молвы»: «Нам еще памятны угрозы террора по отношению к представителям Советской власти, исходившие из уст наиболее авторитетных вождей правых эсеров на их партийных собраниях, угрозы, опубликованные в их партийной прессе. На страницах «Петроградской правды» были опубликованы и подметные письма с угрозами убийства, рассылавшиеся советским деятелям «Каморрой народной расправы».
Вообще, как видно, большевики долго колебались, кем объявить убийцу Володарского. Желание видеть его черносотенцем явно преобладало в первые дни…
Соединенное собрание на 24 июня сего года активных работников Совета Штаба Красной Армии и представителей организации большевиков и левых эсеров постановило считать недопустимым освобождение явных погромщиков Еремеева и матроса Смирнова, что дает нашим черносотенным бандам возможность вести агитацию среди рабочих района, будто виновниками ареста являются наши местные работники, с которыми якобы даже там, в Верхах, не желают считаться. А посему требуем от комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией впредь ни в коем случае не отпускать арестованных в Обуховском районе без нашего на то разрешения…
Начальник штаба П. Обухов.
Однако со временем возникла необходимость произвести убийцу Володарского в эсеры, и тогда-то и был изобретен воистину большевистский гибрид эсеры-черносотенцы. Затем убийцами Володарского стали одни эсеры. Черносотенцев, как ни странно это, защитил сам Моисей Соломонович Урицкий…
Вопреки ожиданиям редактора и сотрудников «Молвы» утренний выпуск газеты 21 июня вызвал гнев шефа ПетроЧК. Днем сотрудники Петроградской ЧК ворвались в редакцию и немножко разгромили ее. Перепуганному редактору чекисты объявили, что, по-видимому, он сам участвовал в убийстве, коли начал готовить выпуск, когда Моисей Маркович Володарский был еще жив.
Гнев Моисея Соломоновича Урицкого вызвал именно намек «Молвы» на причастность «Каморры народной расправы» к убийству Володарского. Ведь он уже две недели назад доложил, что дело «Каморры» раскрыто Петроградским ЧК и все наиболее активные члены ее арестованы, и вот, пожалуйста, — какая-то газетенка намекает, будто это «Каморра» и убила Моисея Марковича.
Так или иначе, но в деле об убийстве Володарского остались весьма сбивчивые объяснения сотрудников «Молвы», которые свидетельствуют лишь о том, что об убийстве Володарского узнали в редакции скорее всего тогда, когда Володарский был еще жив.
7
Когда к месту убийства подъехал на машине товарищ Зиновьев, сопровождаемый грузовиком с красноармейцами, тело Володарского погрузили на грузовик и повезли «в амбулаторий Семяниковской больницы, куда нас долго, несмотря на наши стуки, не пускали. Минут через пятнадцать дверь открылась и вышел человек в военной форме. Взглянул на труп и сказал: «Мертвый… Чего же смотреть, везите прямо».
Мы все запротестовали и потребовали доктора, осмотра и носилки.
После долгих споров вышла женщина-врач, едва взглянула и сказала: «Да, умер… Надо везти».
Я горячо настаивала на осмотре раны. Кое-как расстегнув костюм, докторша осмотрела рану в области сердца, пыталась установить, навылет ли он прострелен, но результатов этой попытки я не заметила»[101].
Володарского увезли в морг…
В дни похорон газеты писали о нем:
«Сила Володарского была в его непримиримости, доходящей до маниакальности…»
«Володарский в мрачном восторге фанатизма убил свое сердце…»
«Счастливый человек — ему было все ясно. Отсюда твердость, сила, упрямство прозелита, только что усвоившего чужую истину».
«Володарский — министр болтовни».
Должно быть, это и дало товарищу Зиновьеву основание на заседании Петросовета сказать: «Товарищи! Мы знаем, что пролетариат Петрограда особенной, интимной любовью любит своего Володарского!»
Об убийце Володарского на траурном заседании Петросовета было сказано немало, но все как-то туманно, неотчетливо.
«Да… Может быть, это был одиночка… — витийствовал Зиновьев. — Одиночка, в жилах которого течет кровь генерала Галифе и Корнилова, а не кровь рабочего класса».
Товарищ Троцкий, между прочим, в эти же дни заявил, что «убийца — несчастный, темный человек, начитавшийся с.-р. газет».
Нетрудно заметить, что вожди большевиков как бы извиняют убийцу, перенося его вину на других: на генералов Галифе и Корнилова, на эсеровские газеты.
С одной стороны, это можно объяснить лозунгом, под которым хоронили потом Володарского: «Они убивают личности, мы убьем классы», но с другой — это явно свидетельствует о совершенно несвойственном Троцкому и Зиновьеву приступе великодушия.
В этом смысле интересно и выступление Моисея Соломоновича Урицкого на том заседании Петросовета.
— Моя комиссия, — заявил Урицкий, — старалась выяснить на основании объективных фактов и свидетельских показаний — кем было совершено убийство. Эти неумолимые факты говорят, что Володарского убили правые эсеры вместе с английской буржуазией.
Урицкий рассказал о Петре Юргенсоне, о том, что «не случайно остановился шофер Володарского. Он дает очень сбивчивые показания», и все это, как можно судить сейчас по материалам дела, вполне соответствовало истине. Петр Юргенсон действительно симпатизировал, как он сам признался на допросе, партии правых эсеров, шофер Гуго Юрген действительно не случайно остановил машину в том месте, где находился убийца.
Зато вот главные выводы Урицкого никакими документами дела не подтверждаются. А между тем Моисей Соломонович бросал весьма серьезные обвинения:
«Правый эсер Филоненко проживал в Петрограде под разными вымышленными именами. Он является вдохновителем убийства.
Нам достоверно известно, что английский капитал замешан в этом деле. Правым эсерам обещано 256 миллионов рублей, из которых они уже получили 40.
Один портной показал, что к нему явился однажды незнакомый шофер и, заказывая костюм, заявил, что на Загородном живет один генерал, предлагающий большие деньги за особые заслуги советским шоферам. Когда этому портному предъявили тридцать шоферов, он сразу указал на Юргенсона».
В материалах дела есть, правда, упоминания о портном, но откуда взялись миллионы, как соединил Урицкий с убийством Володарского имя Максимилиана Филоненко — двоюродного брата своего будущего убийцы Л. И. Каннегисера, — понять невозможно.
8
Эта двойственность проявляется во всем связанном с гибелью Володарского. Даже похороны его — пышные и помпезные — оказываются при ближайшем рассмотрении какими-то вырожденческо-жалкими. Вот как описывали их петроградские газеты.
«Володарский лежит в наглухо заколоченном гробу, обитом красной материей. К самому гробу булавочкой пришпилена бумажка, на которой наскоро написано красным карандашом: «Дорогому товарищу Володарскому от партийных рабочих Невской заставы».
Возле гроба, поставленного на возвышение, небольшая группа серых людей, которые в театре обычно изображают простонародье».
«Гроб выставлен в Екатерининском зале Таврического дворца. Стены задрапированы красными знаменами в таком количестве, что оторопь берет. Это те знамена, которые пронесли 23 марта прошлого года, когда хоронили жертв революции».
«Троица. Пахнет березой. Дождь. Пролетарии под зонтиками. Председатель коммуны с непокрытой головой. Рядом с ним нервный интеллигент, средних лет, в пенсне и кожаной куртке. По внешности напоминает Троцкого. Это Свердлов. Несут знамена, оставшиеся от Первого мая. В хвосте процессии — две девицы в шляпках и с винтовками через плечо».
Похоронили Володарского, как упыря, в наглухо заколоченном гробу, уже к ночи, на Марсовом поле. В половине седьмого начались речи. В восемь еще говорили. Дождь кончился.
И трудно, трудно, читая эти описания похорон, отделаться от впечатления, что в наглухо заколоченном гробу большевики зарывали в землю не только тело Моисея Марковича, но еще и какое-то свое преступление, о котором хотелось скорее позабыть.
9
Володарского убили в двадцать часов тридцать минут, а уже в девять вечера Урицкий выписал летучий ордер № 782 сроком на два дня, поручавший товарищам Борисенку и Отто произвести обыски и аресты лиц, причастных к убийству товарища Володарского.
Эстонец Эдуард Морицевич Отто в прошлом работал фотографом. Эта профессия выработала в нем пунктуальность и старательность… Пока назначенный Зиновьевым М. М. Лашевич арестовывал Еремеева, а потом налаживал охрану того участка Шлиссельбургского проспекта, где несколько часов назад с оскаленными зубами и выпученными глазами лежал труп Моисея Марковича, Отто приступил к допросу свидетелей.
Протоколы этих допросов чем-то напоминают фотографии. Все существенное, хотя и не выделено, хотя и теряется во второстепенных подробностях, все-таки зафиксировано в них…
Еще двадцатого Отто допросил Гуго Юргена, но расколоть шофера с ходу не удалось, и только двадцать первого, когда дал показания комиссар смольнинского гаража Ю. П. Бирин, Гуго признался, что Петр Юргенсон говорил с ним о готовящемся покушении.
21 июня у Петра Юргенсона был произведен обыск. Было найдено: «1 снаряд 37 мм, начиненный порохом, одно воззвание против Советской власти, всевозможная переписка, письма, фотографии, автомобильные пропуска на проезд по Петрограду за № 5379 машина «Делонэ» № 1757, пропуск на проезд по городу Петрограду на машине «Покард» 1918».
Алиби у Петра Андреевича Юргенсона тоже не оказалось. Хотя он и утверждал, что после разговора с Гуго в Смольном пошел в гараж, где и пробыл до девяти часов вечера, но это алиби опровергли показания Ю. П. Бирина и матери Петра Андреевича — Христианы Ивановны Юргенсон.
Юрий Петрович Бирин в день убийства Володарского спустился около шести часов вечера в гараж и увидел там Петра Юргенсона.
— Что ты тут делаешь? — спросил он. — У тебя ведь выходной…
— Посмотреть зашел… — ответил Юргенсон.
Бирин собирался в кинематограф и предложил Юргенсону присоединиться.
«Из гаража вышли — я, моя жена, Юргенсон и Озоле. У ворот встретили Коркла, и все пошли по направлению к Кирочной. На углу Кирочной и Потемкинской Юргенсон и Озоле отделились от нас».
Христиана Ивановна Юргенсон сказала, что «в день убийства Петр пришел домой около семи часов вечера, покушал и опять вышел около восьми часов. Кажется, в кинематограф. Вернулся он около одиннадцати часов вечера…».
Те разговоры, которые вел Юргенсон с Гуго, уговаривая последнего помочь в убийстве Володарского, отсутствие алиби, свидетельства Богословской и Зориной, а также других очевидцев, что Юргенсон очень похож на убийцу, — все это по совокупности изобличало Петра Андреевича.
Но удивительно, как уверенно и безбоязненно держится он на допросах. Впрочем, множественное число здесь для складности.
Допросов Юргенсона не было. В материалах дела сохранился лишь один протокол допроса Петра Андреевича Юргенсона от 21 июня, где тот отказался признать себя причастным к организации убийства Володарского, а кроме того, заявил, что в день убийства до девяти часов вечера находился в гараже.
И после того как Э. М. Отто удалось доказать, что оба эти утверждения не соответствуют истине, больше Юргенсона не допрашивали. Урицкий сразу же изъял Петра Андреевича из рук дотошного следователя. Однако Эдуард Морицевич так и не понял ничего. С туповатой педантичностью продолжал он собирать улики, сопоставлял показания и довольно скоро вышел на Эммануила Петровича Ганжумова и Казимира Леонардовича Мартини, которые, по его мнению, были причастны к преступлению.
И — вот ведь досада! — военный комиссариат категорически отказался предоставить товарищу Отто информацию, где находятся эти военспецы.
Закрывая дело, Эдуард Морицевич со скорбным недоумением отметил сей факт в постановлении.
Впрочем, тогда, 2 февраля 1919 года, у товарища Отто были причины для скорби. Только что вернувшись из Эстонии в Петроград, узнал он, что отпущены на волю и соучастники убийства самого товарища Урицкого.
Уже летом Петра Андреевича Юргенсона по постановлению Коллегии ПетроЧК расстреляли, так и не попытавшись выяснить, кто же именно поручил ему заниматься подготовкой, а может, и самим убийством Йолодарского.
Одновременно — в «Петроградской правде» извещение об этом появилось 21 августа — был расстрелян и бывший комиссар ЧК Роман Иванович Юргенсон — двоюродный брат Петра Андреевича Юргенсона.
Газетное сообщение об этом весьма кратко: «По постановлению ЧК при Союзе коммун Северной области расстреляны: 9. Бывшие комиссары ЧК Роман Иванович Юргенсон и Густав Иоганович Менома за намерение присвоить себе деньги при обыске и бежать. Председатель М. Урицкий. Секретарь А. Иоселевич».
Между прочим, в этом же списке под вторым пунктом значилась и фамилия Владимира Борисовича Перельцвейга, расстрел которого послужил якобы причиной гибели самого Урицкого, но об этом разговор у нас впереди…
Кто убил Володарского? За что убили его? Думается, что ясного ответа на эти вопросы уже не удастся найти никогда. Архивные документы, в том числе и дело об убийстве Володарского, которое вел Э. М. Отто, непреложно свидетельствуют лишь о том, что в этом преступлении было замешано высшее руководство ПетроЧК и что Урицкий сделал все, дабы следствие не вышло на подлинных организаторов убийства.
Наверное, я бы не решился столь категорично настаивать на причастности к убийству Володарского Моисея Соломоновича Урицкого, если бы не попалось мне среди томов дела «Каморры народной расправы» дело Алексея Фроловича Филиппова…
10
А. Ф. Филиппов личностью был весьма любопытной. Свою биографию он изложил сам на допросе 11 июля.
«Я окончил Московский университет по юридическому факультету, готовился к кафедре как получивший три золотых медали во время прохождения курса, но потом избрал путь литературно-издательский. Основал с Сытиным «Русское слово», потом купил журнал «Русское обозрение» в Москве, позже издавал «Ревельские известия» и в 1906 году газету «Кубань», за статьи которой имел 42 процесса (один год крепости), и затем «Черноморское побережье» в Новороссийске, где также привлекался к ответственности за статьи (до 82 процессов) — с осуждением- от двух месяцев до одного года четырех месяцев тюрьмы.
Приехав в 1912 году в Петроград, бедствовал без средств и потому поступил клерком в банкирскую контору Августа Зайдемана».
Очень скоро Алексей Фролович основал собственный «Банкирский дом народного труда», а также учредил товарищество, в которое, как он сказал на допросе, «вводились рабочие и где проводились принципы, проводимые ныне в жизнь большевиками».
Октябрьский переворот и, в частности, декрет об аннулировании дивидендных бумаг разорил Филиппова, но вместо того, чтобы возненавидеть большевиков, он воспылал к ним необыкновенной любовью. С помощью Луначарского сблизился с Дзержинским и предложил Феликсу Эдмундовичу свои услуги в качестве осведомителя.
«Мы сошлись с Дзержинским, — показывал Филиппов в Петроградской ЧК, — который пригласил меня помогать ему (дело было при самом основании Чрезвычайной комиссии на Гороховой, когда там было всего четверо работников). Я согласился и при этом безвозмездно, не получая платы, давал все те сведения, которые приходилось слышать в кругах промышленников, банковских и отчасти консервативных, ибо тогда боялись выступлений против революции со стороны черносотенства…»
Очень скоро Алексей Фролович становится по-настоящему влиятельным в стране человеком. На основании его докладных записок готовится декрет о национализации банков, при участии Филиппова распродается русский торговый флот. Незадолго до ареста Филиппову было поручено «определить причины неисполнения приказа Высшего Совета по делам народного хозяйства в отношении Русско-Балтийского завода».
Насколько велико было влияние Алексея Фроловича на государственные дела, можно судить по тому, что для заслушивания его соображений по поводу того же Русско-Балтийского завода товарищ Рыков собирал экстренное заседание президиума ВСНХ.
Какие неофициальные доходы имел Алексей Фролович от своего «сердечного сочувствия большевикам», неведомо, но известно, что у него была большая квартира в Москве и огромная квартира — часть ее он сдавал шведской фирме — в Петрограде на Садовой улице. Кроме того, вопреки национализации банков продолжал работать и банк Филиппова..
Разумеется, одними только консультациями по экономическим вопросам деятельность Филиппова в ВЧК не ограничивалась. Кроме этого, а вернее главным образом, он был стукачом.
«На обязанности моей лежало чисто личное осведомление Дзержинского о настроениях в правых кругах (сведения получались либо от Л. Н. Воронова, москвича, финансиста, либо от А. А. Ханенко из Петрограда), во избежание возможных выступлений против Советской власти и ввиду того, что кадеты начали заигрывать с правыми, а эсеры готовились к выступлению».
О моральной стороне поступков Алексея Фроловича мы говорить не будем, но ума и осторожности ему было не занимать. «Сердечное сочувствие большевикам» и личное Знакомство с высшими партийными бонзами, как мы знаем, не мешало ему оставаться банкиром и участвовать в весьма прибыльной операции по изъятию у населения облигаций займа свободы. Тем не менее в коммунистическую партию Филиппов вступать не спешил.
«Я предпочитаю быть около большевиков и с ними, но не накладывая на себя партийных обязанностей…»
11
В «Каморру народной расправы» Алексей Фролович вляпался, когда в Петрограде арестовали его компаньона по коммерческой линии Александра Львовича Гарязина — директора-распорядителя технико-промышленного транспортного общества.
Тогда жена Гарязина — Ольга Михайловна отбила в Москву телеграмму: «Срочно. Арбат. Мерзляковский. 7. Филиппову. Муж арестован сегодня Гороховой два. Хлопочите через Дзержинского об освобождении. Отвечайте. Гарязина».
На телеграмме (т. 4, л. 16) приписка, сделанная рукой Филиппова:
Тов. Дзержинский! Так как я получил эту депешу, где находится Ваше имя, то не считаю возможным не показать ее Вам.
Прибавлю: думаю, что Александр Львович Гарязин, лично мне известный коммерсант, едва ли заслуживает, чтобы к нему применялись меры исключительной строгости, по его крайней несерьезности в делах.
Посему, если найдете возможность обратить внимание тов. Урицкого на эту депешу, я почувствую себя исполнившим дело перед его женой.
P. S. Гарязин в последнее время содержал контору по ликвидации фабрик и заводов и, кажется (давно я не видел его), транспортировал беженцев в Литву.
А. Филиппов.
Ходатайство составлено, как мы видим, предельно осторожно, просьба помочь Гарязину сформулирована так, чтобы у самого Филиппова оставалась возможность отстраниться от подзащитного, коли сочтут виновным, тем не менее на этот раз осторожность не помогла Алексею Фроловичу. Хотя Дзержинский и переслал телеграмму Урицкому с просьбой разобраться, Гарязина все равно расстреляли.
Филиппова же, который ходатайствовал за Александра Львовича, по просьбе Урицкого в Москве арестовали.
Но вмешательство Филиппова в ход расследования по деду «Каморры народной расправы» было лишь формальным поводом для ареста. На самом деле у Моисея Соломоновича Урицкого были гораздо более веские причины — запереть в тюрьме тайного агента Дзержинского.
21 июня, после ночного разговора по телефону с Зиновьевым, Ленин попросил Феликса Эдмундовича начать параллельное расследование убийства Володарского. Поскольку этим делом уже вовсю занимался Лашевич и одновременно с ним ПетроЧК, свое расследование Дзержинский решил провести негласно. Для этой цели в Петроград командировался Заковский (официально) и Филиппов (тайно)[102].
Подготовка доклада по делу Русско-Балтийского завода на президиуме ВСНХ задержала Филиппова в Москве, и в Петроград он собирался выехать 7 июля.
Но 4 июля в Москве открылся Пятый Всероссийский съезд Советов, на который приехал из Петрограда и Урицкий.
Как он узнал о засылке в его епархию тайного агента, неизвестно, но, когда узнал, серьезно встревожился. Надо сказать, что положение Урицкого в конце июня восемнадцатого года было довольно шатким. Не так давно его освободили от должности комиссара внутренних дел Союза коммун Северной области, а сейчас в Комиссариате юстиции уже всерьез начал обсуждаться вопрос, что и саму комиссию товарища Урицкого неплохо было бы распустить.
Не собирались защищать Моисея Соломоновича и в Москве. Еще 12 июня на заседании фракции Российской коммунистической партии конференции чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией «ввиду грозного момента» было постановлено: «предложить ЦК партии отозвать т. Урицкого с его поста в ПЧК и заменить его более стойким и решительным товарищем…»
И вот теперь Урицкий узнает, что убийство, которое он организовал, едет расследовать тайный агент…
Без сомнения, Урицкий понимал, что провести Филиппова ему не удастся, и поэтому-то сразу вспомнил о заступничестве его за Гарязина, привлеченного по делу «Каморры», и решил пристроить агента в «Каморру».
Едва ли Дзержинский так просто отдал бы Моисею Соломоновичу своего лучшего стукача, но обстоятельства сыграли на руку Урицкому.
В три часа дня 6 июля Яков Блюмкин убил германского посла Мирбаха…
12
Об этом убийстве, вернее о возможности его, «Петроградская правда» сообщила еще 24 мая. Правда, тогда в статье «Провокаторские приемы» сообщалось, что Мирбаха убьют московские аристократы (Куракин, зять Столыпина Нейдгарт), чтобы «этим провокаторским покушением вызвать против рабоче-крестьянского правительства поход германских империалистов».
«Петроградская правда» чуть-чуть ошиблась. Убили Мирбаха сотрудники секретного отделения ВЧК Я. Г. Блюмкин и Н. А. Андреев.
Деятельность Ф. Э. Дзержинского и возглавляемой им ВЧК в этой книге нами не рассматривается, но уж коли зашел разговор, то остановимся подробнее хотя бы на этом эпизоде. Это несколько уводит повествование в сторону, но зато позволяет понять, насколько сходными были методы работы ПетроЧК и ВЧК.
В немецкое посольство Блюмкин и Андреев вошли, как известно, по ордеру ВЧК. Текст его гласил:
ВЧК уполномочивает ее члена Якова Блюмкина и представителя революционного трибунала Николая Андреева войти непосредственно в переговоры с господином германским послом в России гр. Вильгельмом Мирбахом по делу, имеющему непосредственное отношение к самому господину германскому послу.
Председатель комиссии Дзержинский.
Секретарь комиссии Ксенофонтов.
Одно время в учебниках истории ордер называли поддельным, но таковым он сделался позднее, а тогда, в восемнадцатом году, большевики объявили поддельными только подписи Дзержинского и Ксенофонтова.
Это подтвердил и сам Яков Григорьевич Блюмкин — «жирномордый», по выражению А. Мариенгофа, еврей, с толстыми, всегда мокрыми губами, признавшийся в минуту откровенности, что без револьвера он как без сердца… Подтвердил это «жирномордый» Блюмкин 17 апреля 1919 года в Киевской ЧК, куда явился «с повинной». Но подтвердил странно… Впрочем, вот его подлинный рассказ:
«Утром 6 июля я пошел в комиссию. У дежурной барышни в общей канцелярии я попросил бланк комиссии и в канцелярии отдела контрреволюции напечатал на нем следующее… (идет приведенный выше текст). Подпись секретаря (Ксенофонтова) подделал я, подпись председателя (Дзержинского) — один из членов ЦК.
Когда пришел ничего не знавший товарищ председателя ВЧК Александрович, я попросил его поставить на мандате печать комиссии. Кроме того, я взял у него записку в гараж на получение автомобиля. После этого я заявил ему о том, что по постановлению ЦК сегодня убьют графа Мирбаха».
Как мы знаем, Верховный трибунал еще в июле 1918 года очень гуманно отнесся к Якову Григорьевичу — приговорив его (заочно) к трем годам лишения свободы. Но и этого наказания Блюмкин избежал. В апреле 1919 года он явился «с повинной» в Киевскую ЧК, а уже 16 мая был амнистирован вчистую и снова принят на ответственную работу — вначале в аппарате товарища Льва Давидовича Троцкого, а затем и в органах ГПУ.
В 1919 году эсеры были уже почти официальными врагами рабоче-крестьянской власти, и понятно, что не подтвердить официальную точку зрения следствия, организованного после июльских событий, Яков Григорьевич, коли хотел остаться живым, не мог.
Но перечитаем вновь его показания…
П. А. Александрович, как известно, был расстрелян еще 8 июля 1918 года, и про него Блюмкин мог рассказывать, что угодно. Знал или не знал Александрович, что Блюмкин едет убивать Мирбаха, это мы только от Блюмкина и знаем. Но вот история о подделке подписей вызывает весьма серьезные сомнения.
Непонятно, почему Александрович, если он был в курсе дела, не подписал ордера сам. Будучи товарищем председателя ВЧК, он имел право на это…
Блюмкин говорит, что подпись Ксенофонтова он подделал лично, а подпись Дзержинского — «один из членов ЦК». Поскольку Блюмкин сразу потащил ордер Александровичу, чтобы поставить печать, этот неведомый член ЦК должен был находиться где-то на Лубянке. Интересно, кто же из чекистов, кроме Александровича, состоял членом ЦК партии эсеров? И отчего это киевские чекисты даже не задали Блюмкину этого вопроса?
Не очень понятно и то, как Якову Григорьевичу так ловко удалось провести Александровича? Конечно, звезд с неба Александрович не хватал, но, наверное, отличить подлинную подпись от поддельной умел. Во-первых, насмотрелся на эту подпись, а во-вторых, все-таки понимал, в каком учреждении работает.
Одним словом, темная эта история с подписями. Хотя «экспертиза» и подтвердила, что подпись Дзержинского наверняка сделана не им, а Ксенофонтова — возможно, не Ксенофонтовым, но Феликсу Эдмундовичу, как мы знаем, даже пришлось уйти в отставку с поста председателя ВЧК, и вернулся он в органы только в августе, когда поутих скандал.
Есть и другой аргумент в пользу подлинности подписи Дзержинского… Вся эта история с убийством Мирбаха органично вписывается в стилистику деятельности руководимой Дзержинским комиссии; вспомните, что, вернувшись в августе в органы, он начал новый этап своей деятельности с того же, чем и кончил предыдущий, — организовал вооруженный налет, только теперь уже на английское посольство.
И дальнейшее после убийства Мирбаха поведение Дзержинского тоже становится объяснимым, если согласиться, что он был полностью в курсе деятельности Якова Григорьевича Блюмкина…
13
В 2 часа 15 минут Блюмкин и Андреев вошли в германское посольство. Там обедали, и гостей из ВЧК попросили подождать. Через десять минут их пригласили к советнику посольства доктору Рицлеру, но Блюмкин потребовал, чтобы вышел для беседы сам посол. Наконец Мирбах — за это время, кстати, были наведены справки о Блюмкине и Андрееве — согласился на аудиенцию.
Беседа длилась двадцать пять минут. Блюмкин рассказывал о материалах дела, заведенного в ВЧК на Роберта Мирбаха, посол вежливо отвечал, что понятия не имеет об этом человеке, хотя, возможно, если это утверждают господа чекисты, он и является каким-то его дальним родственником…
Говорил Блюмкин, а Андреев сидел на стуле у двери, загораживая вход в комнату. Наконец ему надоело слушать бессмысленный диалог и он кашлянул. Это был знак. Блюмкин выхватил револьвер и в упор принялся стрелять в Мирбаха, в Рицлера, в переводчика. Все они попадали на пол. Блюмкин вышел в залу, а Андреев оглянулся в дверях и увидел, что Мирбах поднимается и, согнувшись, двигается следом за Блюмкиным. Андреев выхватил из портфеля бомбу и бросил ее под ноги Мирбаху, но бомба не взорвалась, и тогда Андреев затолкнул Мирбаха руками назад в комнату. А потом стал вытаскивать револьвер. В это время Блюмкин вытащил свою бомбу и швырнул в Мирбаха. Взрывом вынесло оконные рамы, и Блюмкин выпрыгнул в окно следом за Андреевым. Падая, он подвернул ногу, а тут еще из посольства начали стрелять, и, когда Блюмкин доковылял до автомобиля, он обнаружил, что к тому же еще и ранен.
Андреев повез Блюмкина в лазарет, который находился при штабе подчиненного ВЧК отряда Попова. Сюда, разыскивая своего сотрудника, приехал и Феликс Эдмундович. Приехал он прямо из немецкого посольства и без охраны. Да и какая нужна была охрана, если Дзержинский ехал в подчиненную ему часть.
Что произошло дальше, известно по книгам и фильмам. Дзержинского арестовали. Или же, что гораздо вероятнее, Дзержинский сделал вид, что его арестовали.
Во всяком случае, и обстоятельства ареста, и его последствия как-то очень несерьезно выглядят — и Дзержинский, и его помощники отделались (даже по официальной версии) легким испугом.
Впрочем, вообще все связанное с этим мятежом выглядит крайне неубедительно. Как вспоминает К. Х. Данишевский, один из руководителей латышских частей, занимавшихся разгромом восстания: задолго до пятнадцати ноль-ноль, когда раздался знаменитый выстрел по Кремлю, сигнализировавший якобы о начале восстания, задолго до убийства Мирбаха «было дано секретное указание делегатам съезда, членам РКП(б) оставить помещение съезда (Большой театр) и направиться в рабочие районы, на предприятия для организации рабочих масс против контрреволюционного мятежа левых эсеров…»
Это, конечно, чисто большевистская предусмотрительность — начать ликвидацию мятежа до его начала.
6 июля у латышских стрелков был праздник — Иванов день. Свою гулянку они завершили достойным стражей революции образом.
«В ночь на 7 июля, — вспоминает тот же К. Х. Данишевский, — советские части железным кольцом охватили этот район (храм Христа Спасителя, Арбатская пл., Кремль, Страстная пл., затем Лубянская пл.). Латышские стрелковые части перешли в распоряжение Московского городского военкомата (военные комиссары тов. Берзин, Пече); временно по ВЧК тов. Дзержинского заменял тов. Петерс. Штабом руководил Муралов, всеми операциями — Подвойский (начальник войск гарнизона) и начальник Латышской стрелковой дивизии Вацетис…
Рано на рассвете, в 5–6 часов, 7 июля начался артиллерийский обстрел штаба левых эсеров. Судьба безумного мятежа была решена. К 11 часам эсеры были отовсюду загнаны в Трехсвятительский переулок. В 12 часов начинается паника в штабе мятежников. Они отступают на Курский вокзал по Дегтярному переулку, а также на Сокольники».
Как известно, Владимир Ильич Ленин разослал тогда по районным Совдепам Москвы телефонограмму: «…выслать как можно больше вооруженных отрядов, хотя бы частично рабочих, чтобы ловить разбегающихся мятежников. Обратить особое внимание на район Курского вокзала, а затем на все прочие вокзалы. Настоятельная просьба организовать как можно больше отрядов, чтобы не пропустить ни одного из бегущих. Арестованных не выпускать без тройной проверки и* полного удостоверения непричастности к мятежу».
Телефонограмма эта — не с нее ли списывались распоряжения президента в октябре 1993 года? — дает нам возможность снова вернуться к разговору об удачливости Якова Григорьевича Блюмкина. Когда по отряду Попова пьяные латыши начали бить из орудий, среди мятежников началась паника. И эсеры, и не эсеры побежали. Позабытый всеми Яков Григорьевич остался лежать с простреленной ногой во дворе лазарета. Но — видимо, за пьянкой латышские стрелки не успели прочитать телефонограмму Ленина! — они, ворвавшись в Трехсвятительский переулок, не узнали главного героя мятежа. Или же — и это гораздо вероятнее! — не захотели узнать Блюмкина.
Блюмкина отвезли не в ВЧК, а в больницу, откуда он ушел — с простреленной ногой! — вечером 9 июля, а 12-го уехал из Москвы. Кстати, в конце сентября Блюмкин переехал в Петроград и жил в Гатчине, занимаясь, как он сам сообщает, исключительно литературной работой…
Г. Е. Зиновьев, рассказывая по свежим следам об эсеровском восстании, с трудом скрывал душивший его смешок: «Сначала мы спрашивали себя, что делать с ними? Ленин шутил: чтó делать с ними? отправить их в больницу для душевнобольных? дать Марии Спиридоновой брому? чтó делать с этими ребятами?» («Петроградская правда», № 148).
Большевики, как и нынешние демократы, были большими мастерами экспромта. Вот и шестого, оставив в сторону шутки, они вначале решили расстрелять отряд Попова из пушек, благо замки из находившихся в отряде Попова орудий были предусмотрительно вынуты. Так и начался знаменитый левоэсеровский мятеж, который с таким блеском был подавлен…
Народу в результате положили немало, кое-кого расстреляли, но главные лица, заварившие всю эту бучу, как и положено у большевиков, не пострадали. Яков Григорьевич Блюмкин, завершив свою «литературную работу», явился в Киевскую ЧК, чтобы получить назначение в аппарат товарища Троцкого, а Феликс Эдмундович, хотя и подал в отставку, но через полтора месяца снова вернулся на Лубянку.
14
Тем не менее Моисей Соломонович Урицкий, конечно же, сумел воспользоваться отставкой Феликса Эдмундовича.
8 июля товарищу Сейсуму был выдан ордер № 3794 Всероссийской ЧК на арест Филиппова в помещении ВЧК и на квартире.
Сам Моисей Соломонович еще накануне вернулся в Петроград.
Александр Блок так описал этот день в своей записной книжке: «Известие об убийстве Мирбаха… Женщина, умершая от холеры. Солнце и ветер. Весь день пальба в Петербурге… Обстрел Пажеского корпуса. Вечерняя Красная газета. Я одичал и не чувствую политики окончательно».
То, чего не понимал Блок, понимали большевики, понимал и Моисей Соломонович Урицкий. Под пальбу из винтовок и пушек он стремительно восстанавливал свое пошатнувшееся влияние. Возвратил пост комиссара юстиции, сохранив за собою ПетроЧК. Кроме того, Урицкий вошел и во вновь созданный Военно-революционный комитет…
Арестанта Филиппова привезли в Петроград только 10 июля. Он и так планировал приехать сюда, но сейчас вместо расследования обстоятельств убийства Володарского ему пришлось заняться сочинением бумаг, доказывающих его непричастность к погромщикам.
Судя по этим сочинениям, Алексей Фролович действительно был чрезвычайно одаренным сексотом. Он обладал бездной информации, свободно оперировал ею и сразу разобрался в сущности дела «Каморры народной расправы». Его показания — это квалифицированная характеристика и самого дела, и его основных фигурантов.
«Относительно «Союза спасения России» ровно ничего не знаю, кто был организатором, мне неизвестно, и даже где он образовался — я тоже не осведомлен. Был какой-то союз, похожий по названию, на Мойке, о нем вскользь мне говорил в феврале Александр Иванович Лидах. Я давал тогда адрес Дзержинскому, но чем дело кончилось — не знаю, кажется, это была афера.
Про Злотникова знаю, что он состоял издателем журнала «Паук» и основателем клуба «Вешние воды» на Фонтанке, где я и познакомился с ним во время выступлений его и А. А. Суворина. Затем видел его в военной форме, но где он теперь и что делает — не знаю, ибо близкого знакомства с ним не имел и не имею, а в Петрограде не живу уже около 2 месяцев.
Имя Иосифа Ревенко слышу в первый раз и конечно его не знаю, равно как и Мухина.
С Захарием Ждановым знаком хорошо, как биржевик, но дел с ним не имел. А что он жертвовать ни на что не способен (тем более на политику), в этом уверен, ибо даже дав взаймы газете «Деньги» четыреста рублей, он потребовал вексель и потом, пустив в протест, взыскал их с меня. Жданова я видел много раз и у него на квартире, и в ресторане, но беседует он не о политике, а о бирже и деньгах. Относительно жертвования им на какую-либо организацию (правую или левую) я сомневаюсь. Он однажды израсходовал деньги на шантажистов, донимавших его разоблачениями, и то не больше шести тысяч.
«Каморра народной расправы» появилась здесь в Петрограде, когда я был в Москве, и я только из газет знаю, что она пошумливала глупыми прокламациями. Но полагаю, что эта «Каморра» состоит из одного-двух полуграмотных господ, или одного Злотникова (если он здесь), и политического значения не имеет — прокламаций ее я, к сожалению, не видел. И, конечно, сказать о том, кто распространяет их — не могу, ибо, если бы я узнал о чем-либо подобном, то немедля сообщил бы Дзержинскому…
Имя Фильтберта никогда не слышал, а Ларин (если только это не псевдоним) — это один из черносотенцев и спекулянтов. Он был в Петрограде, завел ряд потребительских лавок, очень разбогател, бросал на кутежи тысячи и разъезжал по провинции, ускользая от властей. Лично я его не видел года два-три, а слышал от некоей Аси (фамилии не помню), приходившей раз или два ко мне на квартиру с сестрой моей сожительницы. Однако, будучи в Москве, я обратил внимание Комиссии на появление Ларина на горизонте и тогда должны были дать депешу Урицкому, а уж дали ли, не знаю, ибо Александрович был председателем, а он не любил давать что-либо т. Урицкому в руки. Где Ларин теперь, я не знаю…»
Читаешь эти показания и понимаешь, что не зря Филицпов считался лучшим секретным агентом-осведомителем у Дзержинского. Хотя он и не готовился, не собирал специально сведений по делу «Каморры», но информация, которую он выдает на допросе, качественно намного превосходит ту, что удалось Байковскому добыть в ходе почти двухмесячного следствия. И главное отличие этой информации — ее соответствие реальности. Это очень ценное, по-видимому, свойство в стукаче — поставляя информацию, исходить не из личных пристрастий и антипатий, а из реального положения дел.
Но как ни опытен был Филиппов, с делом «Каморры народной расправы», в которое включили его по указанию Урицкого, Алексей Фролович разобрался далеко не сразу.
Видимо, зная уже что-то о порядках в Петроградской ЧК, Алексей Фролович более всего опасался выпасть из поля зрения высших советских сановников. С первых дней пребывания своего в тюрьме он бомбардирует начальство докладными записками, которые не столько свидетельствуют о его преданности режиму, сколько ставят задачей заинтриговать партийных бонз сведениями, которыми он, Филиппов, располагает:
«Ввиду того, что я лишен возможности, вследствие пребывания под арестом, произвести расследование, в каких банках заложено было и где, какое количество акций Русско-Балтийского судостроительного завода, то прошу выйти с просьбой к т. Урицкому или непосредственно Николаю Николаевичу Крестинскому о том, чтобы эти сведения, самые подробные, с указанием имен акционеров и их адресов были доставлены к Вам в отдел для определения того, кому сейчас принадлежит предприятие, а то может оказаться, что Комиссия, разделяя точку зрения ВСНХ, тем не менее будет работать во вред республике…»
И нельзя сказать, чтобы записки эти не вызывали интереса у адресатов, но тут — нашла коса на камень! — ничего нельзя было предпринять. Все намеки и просьбы Моисей Соломонович оставлял без ответа.
«Товарищу Урицкому. Дорогой товарищ! Ко мне обращается А. Ф. Филиппов с просьбой вникнуть в его положение, что сидит он совершенно зря. Не буду распространяться, пишу Вам потому, что считаю сделать это своею обязанностью по отношению к нему, как к сотруднику Комиссии. Просил бы Вас только уведомить меня, в чем именно он обвиняется. С приветом. Ф. Дзержинский».
В конце июля, когда была написана эта записка, Дзержинский еще не вернулся в ВЧК, но и от дел не отошел, сохранял весьма влиятельное положение в партийном и советском аппарате, и Урицкий мог бы уважить его просьбу.
Вместо этого он начертал на письме Феликса Эдмундовича резолюцию «Байковскому» и тем самым как бы дал «добро» на применение к Алексею Фроловичу испытанного в ПетроЧК метода, с помощью которого следователь очень быстро привел товарища Филиппова в надлежащее арестанту состояние.
Уже начиная с августа тон писем и прошений Алексея Фроловича резко меняется, и если бы не подпись, то и не определить, что они исходят от сексота, а не от простого арестанта.
«Вот уже месяц как я арестован в Москве по телеграмме Урицкого. Теперь после пребывания на Гороховой в вони, среди жуликов и авантюристов, после сидения в «Крестах» без допроса меня перевели на Гороховую, продержали 8 дней и вновь направили в Предварительную…
За что?! За что?! За будто бы юдофобскую пропаганду какого-то Злотникова, которого я раза два видел два года тому назад!..
Почему мое отношение к государственному строю в прошлом, выразившееся в многочисленных процессах по 129-й статье, и присуждение к одному году крепости не засчитывается, а донос какого-то Снежкова-Якубинского, который попал к Урицкому на службу, заслуживает доверия?
Если есть сила в проклятиях, я их несу всем… В эти годы, с седой головой, я так юношески верил в Вас, Ленина, в работу Комиссии, в необходимость своей работы и на почве финансовой, и в практическом духе, и в торжество демократических начал, народных, ярких, русских.
И теперь видеть, что отвержен, и при общем издевательстве надо мной я должен переживать помимо личных горестей еще и горечь разочарования во всех, даже в Вас…
Не могу снести этого, плачу как ребенок, когда пишу письмо — жизнь кончена, ее больше нет».
Я цитирую сейчас прошение, написанное Филипповым в первой половине августа, не для того, чтобы еще раз продемонстрировать, каким действенным было томление арестанта по методу Байковского. Нет. Здесь важно другое. Метод Байковского действовал так разрушительно, что даже человек, хорошо знакомый с порядками, царящими в чекистских застенках, сбивался, теряя ориентацию. Очень скоро и Филиппов уверовал, что именно по подозрению в причастности к погромной деятельности и привлечен он.
Постепенно в его письмах все явственней начинает звучать одна и та же просьба: «Прошу, чтобы Урицкий меня лично принял».
«Сделайте детальный допрос в Вашем присутствии!» — молит он Урицкого.
«Чего я хочу от Вас? — пишет он Н. П. Крестинскому. — Урицкий человек большой энергии и еще большей самостоятельности… Поэтому я не прошу Вас оказать на него какое-либо воздействие и не прошу о содействии, но прошу о том, чтобы Вы, памятуя, сколько я Вам надоедал в Комиссии и через Комиссию финансовыми записочками (а еще раньше Пятакову), обратили по телефону внимание т. Урицкого на одну мою просьбу, которая вполне скромна, на просьбу о том, чтобы он меня лично принял, вызвав из «Крестов». Мое будет счастье, если я достаточно честен и прав — Урицкий быстро ориентируется…»
Урицкий действительно ориентировался довольно быстро.
Несмотря на все просьбы, он так и не принял Филиппова. И уже само это — Урицкий принимал всех, от кого рассчитывал получить нужную информацию, — поразительно.
Но на самом деле ответ на вопрос прост… Мы его дадим, но вначале попытаемся понять, зачем нужно было Филиппову, чтобы Урицкий лично принял его.
Причину Алексей Флорович сам изложил в письме, адресованном Дзержинскому.
«Обвинять меня в юдофобстве или участии в «Каморре» — чепуха.
Во-первых, я уроженец Могилевской губернии, с детства привыкший к евреям.
Во-вторых, до сих пор мои лучшие друзья в Петрограде — все некрещеные евреи.
А в-третьих, самое главное, что, конечно, не приходится выставлять то, что я сын кантониста, еврея, крещенного при Николае I под фамилией Филиппов»[103].
Видимо, чтобы объяснить это лично Урицкому, и стремился попасть к нему на допрос Алексей Фролович. Он не понимал только одного. Не понимал, что Урицкий знает об этом и не принимает его только оттого, что не хочет, чтобы все знали, что он это знает.
Филиппов — это тоже было известно Моисею Соломоновичу — был связан с весьма влиятельными сионистскими кругами. Урицкий знал, что помимо Дзержинского Филиппов работал и на Парвуса, участвуя в осуществлении его афер. Пока Филиппов, пусть и по ошибке, был заперт в тюрьме как погромщик, Моисей Соломонович мог не опасаться осложнений в отношениях с этими кругами. Все можно было объяснить ошибкой. Другое дело, если бы Урицкий держал Филиппова в тюрьме, уже зная, на кого тот работает.
Конечно, Урицкий играл с огнем… Но, хотя он и сам понимал это, другого выхода у него не было.
Алексею Фроловичу Филиппову, банкиру и стукачу, сыну кантониста и подручному Дзержинского и Парвуса, так и не удалось попасть на прием к Моисею Соломоновичу Урицкому, чтобы лично объяснить, кто он такой… Освободил из тюрьмы Филиппова сам Феликс Эдмундович, и случилось это после того, как Моисей Соломонович, доигравшись-таки, дохитрив, был убит Леонидом Иоакимовичем Каннегисером.
Тогда, 3 сентября, и подписал Глеб Иванович Бокий постановление об освобождении Алексея Фроловича, а 9 октября по постановлению, подписанному Антиповым, с Филиппова были сняты все обвинения.
15
Петроградцами убийство Володарского было воспринято с нескрываемой радостью. Газеты, разумеется, ничего не писали об этом, но, когда знакомишься с материалами дела — видишь, насколько популярной в городе была «профессия» убийцы Моисея Марковича.
«Спустя дня три после роспуска Петергофской районной думы, где служил Вукулов, а также и я, — доносил в ПЧК Гирша Маркович Норштейн, — мы вышли на улицу вместе и Вукулов мне говорит: «Мерзавца Володарского, я его не сегодня, то завтра убью». На мой вопрос: почему он убьет именно Володарского? — Вукулов ответил, что «он — мерзавец, убийца моего брата». Я спросил: как это может быть, что Володарский убил твоего брата? На что он возразил: «Это позволь мне знать».
Подобных доносов в деле об убийстве Володарского великое множество. Все они по поручению Моисея Соломоновича Урицкого тщательно проверялись Эдуардом Морицевичем Отто. Люди, высказывавшие угрозы по адресу уже убитого Володарского, арестовывались и дотошно допрашивались. Это отвлекало Отто от настоящего следствия, но похоже, что Моисей Соломонович Урицкий именно к этому и стремился.
Уже после гражданской войны состоялся большой процесс над эсерами. В ходе его зашел разговор и об убийстве Володарского, которое эсеровские руководители тоже приняли на себя. На этом процессе и было сказано, что по приказу Гоца Володарского убил боевик Сергеев.
Процесс был открытым. Материалы его опубликованы, и в художественную, да и в научную литературу так и вошла эта фамилия — Сергеев. По скромности, принятой в такого рода делах, никто из литераторов и историков не озадачился и мыслью, почему боевику поручили столь серьезное дело, ни имени его, ни отчества, ни других, биографических данных не спросив. Все-таки хоть и мерзавец был Володарский, но террористический акт всегда индивидуален, личность исполнителя в нем чрезвычайно важна, и первому попавшемуся Сергееву поручать такое дело не стали бы…
Естественно, что, знакомясь с подлинными документами, касающимися убийства Володарского, я пытался понять, откуда все-таки взялась в материалах процесса фамилия Сергеев. Увы, в деле такая фамилия даже не фигурирует. Зато есть там фамилия Сергеевой.
Ольга Ивановна Сергеева написала донос на своего мужа, правого эсера Геннадия Федоровича Баранова, который развелся с ней…
«Пишу вам это письмо, рассказываю свою затаенную душу. И вот я хочу вам открыть заговорщиков против убийства тов. Володарского, а именно правых эсеров. Простите, что раньше не открыла. Но лучше поздно, чем никогда… Число заговорщиков было 7 человек. Бывший мой муж Геннадий Федорович Баранов, Григорий Еремеев, Сокко, Крайнев, Чайкин, Фингельсон и неизвестный мне матрос… Это было так. Когда я пришла домой из лазарета, я уловила кой-какие слова — «Нужно Володарского сглодать с лица земли, он мешает…» Это было как раз накануне убийства Володарского…»
На допросе Ольга Ивановна — ей было тогда 23 года — записалась уже под девичьей фамилией Сергеева, поскольку 9 октября она была разведена: «муж тайно от меня подал бумагу о том в суд», и объяснила, что не выдавала супруга раньше, «потому что жалела его, как мужа».
Баранова, разумеется, арестовали, а Ольгу Ивановну отпустили. В общем-то все было понятно, не нужно было быть знатоком женской психологии, чтобы понять мотивы, которыми руководствовалась она, засаживая в тюрьму своего мужа. Впрочем, нам судить Сергееву ни к чему. 3 декабря она отправила письмо мужу, в котором обо всем написала сама.
«Васильевский остров. Галерная гавань. Дербинская тюрьма. Камера № 4. Геннадию Федоровичу Баранову.
Геня, я сегодня получила твое письмо… Я как раз сидела у кровати дочери и все ей рассказывала, как ты мимо меня проходил, мимо и даже не смотрел на меня. Геня, я сейчас не знаю, какие меры принять к жизни. Вот сегодня напишу т. Потемкину письмо, что он мне ответит — не знаю. Я сейчас на себя готова руки наложить, да и это, видно, и сделаю… Геня, ты сейчас пишешь, что, где бы я ни была, ты меня не оставишь. Геня, почему ты мне раньше ничего не ответил этого, я бы была покойна, знала бы, что мой бедный ребенок будет хоть малым обеспечен. Я же тебе писала даже сама об этом, но ты почему-то мои письма снес в суд. Я их своими глазами там видела. Ты был под влиянием своей матери, ты блаженствовал в родном доме, а я смотрела на свой проклятый живот, сидела и плакала, проклиная ребенка, который еще не вышел на свет. Я и сейчас его проклинаю, зачем он зародился, зачем он руки мои связал. Не он бы, я вот иначе поставила бы свою жизнь, а то двадцать два года живу и уже чтó я стала, боже мой. Геннадий, как хочешь, но я и тебя проклинаю! тоже. Никогда я не забуду октября месяца, когда ты меня бросил на произвол судьбы. За все твое я тебе сделала кару, которую ты несешь. У меня же сердце проклятое, слабое, вот мне тебя и жалко, сама голодаю, но тебе несу… Твоя бывшая жена Ольга».
Читаешь это письмо и понимаешь: что тут Достоевский! Голод, стужа, холера, расстрелы каждый день — и вот такая страсть, такое самогубство, словно мало реальных несчастий, такое даже и в отчаянной подлости раскаяние и очищение…
Можно было бы и далее продолжать цитировать переписку Ольги Ивановны Сергеевой и ее мужа-обманщика Гени, но мы начали с того, откуда появилась на процессе через четыре года фамилия Сергеева. Видимо, отсюда и появилась. Потому что, кроме фамилии, здесь все совпадает: и партийность, и профессия, и круг знакомых. А фамилию перепутали, так что ж… С кем не бывает. Кроме того, и документы в деле сшиты так, что немудрено перепутать: начинается дело с показаний Сергеевой на своего мужа…
Ю. Тынянов писал в свое время о поручике Киже, рожденном под рукою невнимательного писаря и дослужившемся потом до чина генерала. У чекистских писарей родился не Киже, а Сергеев, которого и судили потом на процессе.
16
В шуме, затеянном вокруг похорон Володарского, в пальбе, устроенной по случаю убийства чекистами графа Вильгельма Мирбаха, для петроградцев остался как бы и незамеченным — по крайней мере, газетами — декрет о всеобщей мобилизации.
В деревнях, где газет не читали, этот декрет незамеченным не прошел. Повсюду заполыхали крестьянские восстания. На территории вверенной ему Северной области с крестьянскими восстаниями Моисей Соломонович Урицкий расправлялся особенно жестоко.
Наиболее крупными были восстания в Новой Ладоге и Ямбур-гском уезде. Крестьяне не желали отдавать для Красной Армии ни сыновей* ни лошадей.
Восстания были стихийными, очень массовыми и очень бестолковыми. «Это было страшно бестолковое, стихийное течение», — утверждал очевидец.
Из показаний арестованных видно, что деревни поднимались одна за другой. Вооружившись, мужики шли в другую деревню, устраивали там сход, всей массой шли в волость, рубили телефонные провода… Так, толпами, они ходили по округе несколько дней, пока большевики не перебросили сюда регулярные войска.
Восставшие сразу рассеялись, начинались расстрелы, следствие, (снова расстрелы…
Искали организаторов мятежа, но найти не могли. Крестьяне Давали сбивчивые и довольно бестолковые показания…
Часть участников мятежа — на всякий случай выбрали всех более или менее грамотных — приговорили к расстрелу, часть к «бессрочным окопным работам».
Напрямую эти крестьянские восстания отношения к нашему повествованию не имеют, и мы помянули их, чтобы яснее представить себе картину лета восемнадцатого года.
В июне после убийства Володарского по указанию Моисея Соломоновича Урицкого Петроградская ЧК взяла на учет всех бывших офицеров. Были проведены аресты офицеров, скрывавшихся от регистрации, а скоро началась и расправа.
«В последних числах августа две барки, наполненные офицерами, были потоплены. Трупы их были выброшены на берег… связанные по двое и по трое колючей проволокой» (Мельгунов С. П. «Красный террор»).
И Урицкий, и его подручные уже начали стервенеть от запаха крови. Говорят, что еще тогда, летом, начал разрабатываться план, осуществленный потом Бокием, кормления зверей в зоопарке трупами расстрелянных.
Все это чудовищно, но еще более ужасно и непостижимо, почему безнаказанно истребляемые офицеры и беспорядочные, легко образующиеся и столь же легко рассеиваемые крестьянские массы не сумели объединиться между собой и стать силой, способной противостоять большевистскому злу. Летом восемнадцатого года большевиков ведь ненавидели уже все — и рабочие, и крестьяне, и интеллигенция, и офицеры.
Непостижимо… Такого не могло быть ни в одной стране мира — только у нас. И это ли не свидетельство тому, что не случайно, вопреки прогнозам Маркса, большевики победили именно в России. Наверное, потому и победили, что здесь даже и перед лицом гибели не сумели объединиться сословия в борьбе с общенациональным злом.
Да, реформы Александра Второго и Александра Третьего открыли путь к достижению общенационального единения, но именно тогда, когда начали смешиваться сословия, когда пали непреодолимые преграды между образованным классом и народом, высвободившаяся творческая энергия сконцентрировалась почему-то не на созидании, а на разрушении. И в этом смысле большевики — не случайность, а закономерный итог развития интернационально ориентированного русского общества.
В сходной ситуации Германию спас национал-социализм. Понятно, что Германия в большей степени, нежели Россия, мононациональная страна, и в России сходная идея и технически труднее осуществима, да и в перспективе, если бы каким-то чудом осуществилась она, то, конечно, не выродилась в идею превосходства, одной нации над другой. Скорее всего, осуществив положение о равнопропорциональном представительстве всех народностей, русская национал-социалистическая идея осуществила бы заветную российскую мечту о приоритете интересов всех людей, всех народностей, проживающих на территории России, над всеми прочими интернациональными и «общечеловеческими» интересами. Вот эта идея могла осуществиться, могла спасти Россию, и, разумеется, победе ее помешали не только технические сложности. Увы… Все русское образованное общество, ориентированное в результате петровских и послепетровских реформ на западную культуру, за исключением отдельных, наиболее выдающихся — здесь можно было бы назвать имена Достоевского и Менделеева, Победоносцева и Столыпина — представителей, не смогло противостоять интернационалистско-социалистической пропаганде, оказалось зараженным ее идеями. И эта страшная болезнь и сделала могучую страну беспомощной в руках ее палачей…
17
Знакомясь с делами ПетроЧК за восемнадцатый год, постоянно ощущаешь, как засасывает тебя трясина провокаций, без которых не обходится, кажется, ни одно дело.
Здесь все условно: правда и ложь, виновность и невиновность. Эти понятия уже изначально лишены нравственной окраски и свободно перемешиваются, образуя гибельную трясину соображений сиюминутной целесообразности.
И кружится, кружится над гиблыми топями хоровод масок. Вчерашние меньшевики, превратившиеся в большевиков, большевики, объявленные меньшевиками, левые эсеры, бундовцы, правые эсеры… Кружится хоровод, меняя маски, и все гуще и гуще льется вокруг кровь…
Но есть и нечто неизменное в этом калейдоскопе — не меняется соотношение сил, постоянной остается та доминанта, по которой выстраивается беспорядочное и внешне хаотическое кружение нечисти на кровавой оргии.
Эту доминанту, определившую хаос первых советских лет, очень точно определил А. Авторханов:
«При Ленине и в первые годы при Сталине считались решающими признаками, определяющими карьеру работника аппарата партии — социальное происхождение (из трудовой «пролетарской» семьи), «партийный стаж» (давность пребывания в партии), «национальное меньшинство» (из бывших угнетенных наций России)».
Наиболее угнетенной нацией в России были, разумеется, как они сами об этом говорили, евреи…
Этого разговора все равно не миновать…
Разумеется, как и всем, евреям свойственны и сомнения, и честолюбие, и коварство, и героизм. Точно так же, как все остальные, способны они и к самопожертвованию, и к предательству.
Но все это, безусловно, справедливо, пока речь идет о каждом отдельно взятом человеке. Как только разговор заходит о еврействе, все изменяется, потому что, помимо чисто национальных особенностей, есть в еврействе и нечто такое, что отличает его не только от каждой нации вообще, но и от всех наций сразу. Это — совершенно особое ощущение особой национальной судьбы, осуществляемое всегда тайно, подпольно, с помощью сговора с единомышленниками. Это — и ощущение евреями коренных народов не как народов с их исторической судьбой, не как таких же, как они, людей, а лишь как среды своего обитания…
Исходя из этого понимания еврейского национального характера, позволяющего каждому еврею ощущать себя человеком со всеми свойственными человеку достоинствами и недостатками, но при этом всегда и прежде всего евреем, то есть личностью, реализующейся не в обществе равных, а лишь в среде обитания, и попытаемся мы посмотреть на трагические события 1917 и 1918 годов в России.
Сейчас уже не нужно доказывать, что Февральская революция была совершена во имя еврейских интересов.
Павел Николаевич Милюков, будучи министром иностранных дел, рапортовал Якову Шиффу, директору банкирской фирмы в Америке «Кун, Лейб и К°», финансировавшей русскую революцию: «Мы едины с вами в деле ненависти и антипатии к старому режиму, ныне сверженному, позвольте сохранить наше единство и в деле осуществления новых идей равенства, свободы и согласия, участвуя в мировой борьбе против средневековья, милитаризма и самодержавной власти, опирающейся на божественное право. Примите нашу живейшую благодарность за ваши поздравления, которые свидетельствуют о перемене, произведенной благодетельным переворотом во взаимных отношениях наших двух стран».
А глава Временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов сказал председателю Еврейского политического бюро Н. М. Фридману: «Я бесконечно благодарен вам за ваше приветствие. Вы совершенно правильно указали, что для Временного правительства явилось высокой честью снять с русского народа пятно бесправия евреев, населяющих Россию».
«В ряду великих моментов нынешней великой революции, — говорил не менее известный член Государственной Думы Н. С. Чхеидзе, — одним из самых замечательных является уничтожение главной цитадели самодержавия — угнетения евреев».
Но не менее замечательными были и законодательные решения Временного правительства. Одним из первых актов было торжественно объявлено полное равноправие евреев.
Событие это имело далеко идущие последствия, и чтобы понять их, нужно вспомнить, как решался еврейский вопрос в самодержавной России. Собственно, как таковые ограничения прав касались только тех, кто желал сохранить иудейское вероисповедание. Любой еврей, принявший православие, уже не ограничивался в праве свободного выбора местожительства. То же самое относилось и к евреям, получившим высшее образование.
Насколько необходимо и результативно было ограничение, мы здесь обсуждать не будем, но подчеркнем, что в принципе у каждого отдельного еврея все же и в «годы угнетения» был путь для того, чтобы выбраться из черты оседлости, и многие этим путем воспользовались. И в банковском деле, и в адвокатуре, и в средствах массовой информации евреи сумели занять позиции, позволяющие им контролировать и банковское дело, и судопроизводство, и общественное мнение. Немало урожденных евреев были и членами царского правительства, евреи получали дворянство и более высокие титулы… Февральская революция была совершена этими евреями в интересах всех евреев.
Вот тогда-то со всего мира и повалило в Петроград еврейство большевистское. «Большевистское» не в том смысле, что все они были большевиками, как раз напротив, многие принадлежали к меньшевикам, к правым и левым эсерам, к бунду, вообще не входили ни в какие партии. Одни ехали на пароходах, другие в опломбированных, как, например, Ленин и Зиновьев, вагонах, третьи нелегально переходили границу, и скоро у них действительно появилось большинство.
Поэтому было бы упрощением идентифицировать большевистское еврейство с еврейством вообще и говорить об отсутствии противоречий между ними.
Противоречия были. И проявлялись они как на бытовом, материальном уровне, так и в более широком, духовно-идеологическом плане.
Отношения еврейской знати и местечковой нищеты не были простыми и безмятежными. Материальные противоречия обострялись и от того, что полуустроенное, малообразованное большевистское еврейство стремилось обеспечить свой быт необходимым комфортом, предметы и продукты которого в те годы невозможно было производить, а можно было только перераспределить. Зинаида Гиппиус подробно описала в «Петербургском дневнике», как проходил на практике процесс большевистского перераспределения. «Общее положение было такое: в силу бесчисленных декретов, приблизительно все было «национализировано-большевизировано». Все считалось принадлежащим «государству» (большевикам). Не говоря о еще оставшихся фабриках и заводах, — но и все лавки, все магазины, все предприятия и учреждения, все дома, все недвижимости, почти все движимости (крупные) — все это по идее переходило в ведение и собственность государства». Или, добавим мы, в собственность евреев-большевиков. Естественно, что и собственность, принадлежавшая евреям, тоже, если и не в полной мере, то хотя бы отчасти, перераспределялась в пользу евреев-большевиков.
Но были противоречия и более серьезные. Развязав гражданскую войну в России, объявив — выражение Г. Е. Зиновьева — «самодержавие своих Советов», занимаясь массовым уничтожением русского населения, а затем тотальной дискриминацией его, евреи-большевики вынуждены были создать такую пропагандистскую машину, которая начала существенно влиять и на само еврейство. В большевистской системе общественного устройства еврей понимается уже не столько как национальность, а как обозначение определенной модели советского поведения. Разумеется, в верхних эшелонах власти еще долгие годы сохраняется и чисто национальный принцип — сюда мог проникнуть только чистокровный еврей или же человек, связанный с еврейством через еврейку-жену, — но на среднем, а тем более на низшем уровне руководящие посты оказались открытыми для людей других национальностей, достаточно хорошо усвоивших модель советского поведения — полное безразличие к судьбе народов, ненависть к России и ее культуре.
Интересно, что антисемитизм, вернее то, что понималось под антисемитизмом у нас, постепенно видоизменился. Это уже не столько проявление расовой нетерпимости, сколько неприятие человеком еврейско-советской модели поведения.
Забегая вперед, нельзя не отметить, что во время «еврейско-кавказской» войны в Политбюро основной удар был нанесен все-таки по «национальным» евреям. Еврейство «поведенческое», благополучно пережив сталинский террор, необыкновенно расцвело в годы «оттепели», размножилось в эпоху застоя и, превратившись в демократов, захватило высшую власть в стране, словно бы для того, чтобы теперь уже окончательно доказать и России, и всему миру, насколько губительна насильно привитая стране еврейско-советская модель поведения, или — как теперь любят выражаться — совковый менталитет.
И разумеется, эти противоречия не могли не вызвать конфликта между уже давно обжившимися в Петербурге евреями, тяготевшими к традиционным еврейским ценностям — банкам, адвокатуре, печати, и полуголодной, малообразованной массой местечково-большевистского еврейства.
В октябре семнадцатого года эта борьба не закончилась, а, по сути, только началась. Переворот поставил большевистское, жадное и наглое еврейство в положение благодетелей еврейства аристократического. Теперь им, так яростно боровшимся за равные права своих малокультурных соплеменников, чтобы уцелеть, приходилось жертвовать традиционными еврейскими ценностями — банками, адвокатурой, печатью.
Разработанный Зиновьевым, Володарским и Урицким план сплочения еврейства вокруг большевиков перед угрозой вспышки антисемитизма, инспирирование активных действий несуществующей «Каморры народной расправы» — провалился, хотя поначалу (по инерции еврейского единения) и был поддержан не только в большевистских газетах, но и во всей еврейско-либеральной печати.
Тут и нужно искать причину устранения «министра болтовни» Моисея Марковича Володарского. В этом скрыта и причина убийства Моисея Соломоновича Урицкого…
Часть третья
Он убивал, словно писал стихотворение
В древние времена на Руси новый год отсчитывали с первого сентября — Семенова дня… В этом была своя, земледельческая логика. Убирали урожай, начинались заботы о новом урожае, а вместе с ним и о новом годе.
Тысяча девятьсот восемнадцатый, самый короткий в истории России год, похоже, тоже выстраивался под старинную хронологию. Все зло, трудолюбиво высеваемое с октября семнадцатого, уже взошло, вызрело, и наступила пора собирать кровавый урожай.
2 сентября ВЦИК объявил Советскую республику единым военным лагерем, а пятого числа Совнарком принял постановление о красном терроре.
«Необходимо обезопасить Советскую республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях… подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам…»
Поводом для этого стало покушение Фанни Каплан на Владимира Ильича Ленина и убийство в тот же день, 30 августа, шефа Петроградской ЧК Моисея Соломоновича Урицкого.
1
Пять лет спустя после этого убийства Марк Алданов написал очерк, где тщательно зафиксировал все подробности события, которые ему удалось выяснить…
Касаются они прежде всего Леонида Каннегисера — человека, который и убил Урицкого.
16(29) августа (накануне убийства Урицкого) он пришел домой, как всегда, под вечер. После обеда он предложил сестре почитать ей вслух, — у них это было в обычае. До этого они читали одну из книг Шницлера, и она еще не была кончена. Но на этот раз у него было припасено другое: недавно приобретенное у букиниста французское многотомное издание «Графа Монте-Кристо». Несмотря на протесты, он стал читать из середины. Случайность или так он подобрал страницы? Это была глава о политическом убийстве, которое совершил в молодости старый бонапартист, дед одной из героинь знаменитого романа…
Он читал с увлечением до полуночи. Затем простился с сестрой. Ей суждено было еще раз увидеть его издали, из окна ее камеры на Гороховой: его вели под конвоем на допрос.
Ночевал он, как всегда, вне дома. Но рано утром снова пришел на квартиру родителей пить чай. Часов в девять он постучал в комнату отца, который был нездоров и не работал. Несмотря на неподходящий ранний час, он предложил сыграть в шахматы. Отец согласился, — он ни в чем не отказывал сыну.
По-видимому, с исходом этой партии Леонид Каннегисер связывал что-то другое: успех своего дела? Удачу бегства? За час до убийства молодой человек играл напряженно и очень старался выиграть. Партию он проиграл, и это чрезвычайно взволновало его. Огорченный своим успехом, отец предложил вторую партию. Юноша посмотрел на часы и отказался.
Он простился с отцом (они более никогда не видели друг друга) и поспешно вышел из комнаты. На нем была спортивная кожаная тужурка военного образца, которую он носил юнкером и в которой я часто его видел. Выйдя из дому, он сел на велосипед и поехал по направлению к площади Зимнего дворца. Перед Министерством иностранных дел он остановился: в этом здании принимал Урицкий, ведавший и внешней политикой Северной коммуны.
Было двадцать минут одиннадцатого.
Здесь мы прерываем цитату из очерка Марка Алданова «Убийство Урицкого», поскольку далее Алданов описывает событие по слухам, а у нас есть возможность привести подлинные рассказы очевидцев события. И все же, прежде чем перейти к их показаниям, нужно отметить, что Алданов хорошо знал Леонида Каннегисера, любил его. И понятно, что в очерке он, может быть, и неосознанно, но несколько романтизирует героя: «Он всей природой своей был на редкость талантлив. Судьба поставила его в очень благоприятные условия. Сын знаменитого инженера, имеющего европейское имя, он родился в богатстве, вырос в культурнейшей обстановке, в доме, в котором бывал весь Петербург. В гостиной его родителей царские министры встречались с Германом Лопатиным, изломанные молодые поэты со старыми заслуженными генералами. Этот баловень судьбы, получивший от нее блестящие дарования, красивую наружность, благородный характер, был несчастнейшим из людей…»
Алданов тут не то чтобы искажает факты, но как бы тщательно отбирает их, несколько идеализируя отношения в семье Каннегисеров. И, повторяю, это по-человечески очень понятно. Для Алданова — Каннегисер не был посторонним человеком…
Но вот что странно… Вчитываешься в протоколы допросов, снятых сотрудниками ПетроЧК с очевидцев убийства, и вдруг явственно начинаешь ощущать какую-то особую торжественность, даже некий поэтический ритм в рассказах о происшествии этих весьма далеких от поэзии людей.
«Убийца высокого роста. Бритый. Курил папироску и одну руку держал в кармане. Пришел приблизительно в десять часов утра. Молча сел у окна и ни с кем не разговаривал. Молчал».
Это показания швейцара Прокопия Григорьевича Григорьева. А вот как рассказал об убийстве другой швейцар — Федор Васильевич Васильев: «Урицкий направился на лестницу к лифту, я открывал ему дверь. В этот момент раздался выстрел. Урицкий упал, женщина закричала, а я растерялся. Потом я выскочил на улицу — преступник ехал на велосипеде».
И в рассказе Евгении Львовны Комарницкой слова тоже выстраиваются, как будто она пересказывает только что прочитанное стихотворение: «Я видела молодого человека, сидящего за столиком и смотревшего в окно. Одет он был в кожаной тужурке, фуражке со значком, в ботинках с обмотками…»
Но, по-видимому, так все и было — Леонид Каннегисер убивал Моисея Соломоновича Урицкого, как будто писал свое самое главное стихотворение… Вошел в подъезд полукруглого дворца Росси, молча сел у окна и закурил папироску. Красивый, высокий, собранный. Урицкого он убил с первого выстрела — наповал. Повернулся и вышел из вестибюля. Хладнокровно сел на велосипед и поехал по Миллионной улице… В этом пленительно-страшном произведении не было ни лишних слов, ни суетливых движений, ни невнятных пауз. Впрочем, иначе и не могло быть. Такие произведения пишутся сразу и всегда набело…
Марк Алданов писал о нем: «Яс ним познакомился в доме его родителей на Саперном переулке и там часто его встречал. Он захаживал иногда и ко мне. Я не мог не видеть того, что было трагического в его натуре. Но террориста ничто в нем не предвещало».
Тут, наверное, нужно добавить слово «внешне». Хотя Алданов и пишет, что летом 1918 года Леонид Каннегисер ходил «вооруженный с головы до ног» и «предполагал взорвать Смольный институт», но это действительно больше походило на игру, в этом было что-то от его отчаянно-красивых и вместе с тем неглубоких стихов:
И все же, читая дневниковые записи Леонида Каннегисера, не трудно увидеть, что терроризм серьезно занимал мысли молодого поэта, в терроризме он искал нечто большее, чем можно найти в убийстве по политическим мотивам.
«18 мая в день моего отъезда из Петрограда вечер был теплый, воздух — мягкий. Я приехал на трамвае к Варшавскому вокзалу и соскочил на мосту, что через Обводный канал. За Балтийским вокзалом догорала поздняя заря, где свет тускло поблескивал в стеклах Варшавской гостиницы. Я знаю: двенадцать лет назад в этих стеклах на миг отразилась другая заря, вспыхнувшая нежданно, погасшая мгновенно. Тогда от блеска не выдержали стекла Кирилловской гостиницы. Очевидец рассказывал, что они рассыпались жалобно, почти плаксиво. Если они жалели кого-нибудь, то кого из двух лежащих на мостовой? Мертвого министра или раненого студента? Да, здесь Сазонов убил Плеве…»
Слова Каннегисера о заре, «вспыхнувшей нежданно, погасшей мгновенно», стоит запомнить. Уже в тюремной камере, ожидая неизбежного расстрела, Каннегисер попытается составить нечто напоминающее завещание — текст, в котором попробует раскрыться, объяснить подлинные мотивы своего поступка. Здесь, на этом торопливо исписанном вдоль и поперек листке бумаги, снова будет говориться о свете…
«Человеческому сердцу не нужно счастья, ему нужно сияние. Если бы знали мои близкие, какое сияние заполняет сейчас душу мою, они бы блаженствовали, а не проливали слезы. В этой жизни, где так трудно к чему-нибудь привязаться по-настоящему, на всю глубину, — есть одно, к чему стоит стремиться, — сияние от божественного. Оно не дается даром никому, — но в каких страданиях мечется душа, возжаждавшая Бога, и на какие только муки не способна она, чтобы утолить эту жажду!
И теперь все — за мною, все — позади, тоска, гнет, скитания, неустроенность. Господь, как нежданный подарок, послал мне силы на подвиг, подвиг совершен — ив душе моей сияет неугасимая божественная лампада…
Большего я от жизни не хотел, к большему я не стремился.
Все мои прежние земные привязанности и мимолетные радости кажутся мне ребячеством — и даже настоящее горе моих близких, их отчаяние, их безутешное страдание — тонет для меня в сиянии божественного света, разлитом во мне и вокруг меня».
О побочных мотивах убийства Каннегисером Урицкого мы еще будем говорить, сейчас же выскажем на основании только что процитированного «завещания» предположение, что скорее всего Каннегисер остановил свой выбор на кандидатуре Моисея Соломоновича не столько из личных или партийных соображений, а руководствуясь исключительно требованиями драматургического жанра. Трудно было найти в Петрограде более омерзительного подонка-палача, чем всесильный шеф Петроградской ЧК. И никто другой, кроме Урицкого, не способен был так эффектно оттенить благородство и красоту душевных помыслов террориста… А если прибавить к этому исключительную трудность и опасность замысла, то достигается почти идеальная жанровая чистота. Прекрасный, отважный юноша-поэт и вельможный мерзавец, запугавший своими расправами весь город… Это ли не апофеоз терроризма?
И неземным гулом судьбы наполнялись хотя и красивые, но в общем-то ученические стихи:
Потом, уже в ходе следствия, прорабатывались побочные версии. И сами чекисты, и родные Леонида пытались подыскать подходящий мотив. Официальная версия, как мы знаем, основывалась на том, что Леонид убил Моисея Соломоновича Урицкого в отместку за расстрел своего друга Владимира Борисовича Перельцвейга. Следователи, Эдуард Морицевич Отто и Александр Юрьевич Рикс, склонны были полагать (и у них были весьма существенные основания для этого), что за спиной Леонида Иоакимовича Каннегисера стоит достаточно мощная и антисоветски настроенная сионистская организация. Мать Леонида — Розалия Эдуардовна Каннегисер заявила на допросе, что Леонид убил Урицкого, так как «последний ушел из еврейства».
Об основаниях, на которых строились подобные предположения, разговор впереди, пока же скажем, что ни одна из этих версий не дает ответа на вопрос: почему был убит именно Урицкий. Розалия Эдуардовна, безусловно, ошибалась — Урицкий никуда не уходил от еврейства. Он просто не способен был на это. Весьма сомнительна, хотя Отто и Рикс и настаивали на этом, заинтересованность сионистских организаций в устранении Урицкого. Им Урицкий не мешал. Официальная версия тоже не выдерживает критики в силу именно романтичности ее. Расстрел Перельцвейга мог стать внешним поводом, предлогом, но никак не побудительным мотивом для Каннегисера.
Хотя убийство Урицкого и было совершено Каннегисером «по собственному побуждению», но продумано и спланировано оно было предельно тщательно. Изумляет и хладнокровие Каннегисера. Он не собирался попадаться в руки чекистов. В ходе следствия удалось выяснить, что вечером Каннегисер должен был отправиться с поездом, место на котором выхлопотали ему родственники, в Одессу. Выяснилась и другая любопытная деталь. Именно в тот момент, когда Леонид мчался на велосипеде по Миллионной улице, навстречу ему двигался вооруженный браунингом Юлий Иосифович Лепа, бухгалтер из отцовской конторы. Другая сотрудница — секретарша Иоакима Самуиловича Каннегисера — Гальдергарда Иоанновна Раудлер тоже почему-то именно в это время появилась возле Певческого моста. Разумеется, это может быть и совпадением, но совпадение, что и говорить, удивительное.
Впрочем, это не важно, поскольку оторваться от погони Леониду Каннегисеру, несмотря на все его хладнокровие, все-таки не удалось…
2
«Часов в одиннадцать раздалась команда: «Караул, в ружье!», что мы тотчас же исполнили и увидели, что лежит труп тов. Урицкого… Мы сейчас же сели в поданный автомобиль и поехали догонять убийцу. Доехали до набережной, где наша машина почему-то встала… Мы тотчас же выскочили и побежали пешком по Миллионной улице… Когда я стал в его стрелять из винтовки, то убийца свернул в ворота дома 17 по Миллионной и после, соскочив с велосипеда, бросил его у ворот, а сам побежал по лестнице наверх…»
Это показания Викентия Францевича Сингайло, охранника, которому принадлежит сомнительная честь задержания Каннегисера.
Совершенно очевидно, что до запланированного места Леонид просто не успел доехать. Как свидетельствовал А. В. Андрушкевич: «Солдат дал выстрел по велосипедисту. Велосипедист свалился с велосипеда, захромал и бросился во двор».
Этот момент падения с велосипеда и панику, охватившую его, Леонид Каннегисер переживал потом мучительно и долго. Уже оказавшись в тюрьме, более всего он стыдился этой растерянности, страха, которому он позволил восторжествовать над собой.
Не помня себя, он позвонил в первую попавшуюся квартиру, умоляя спрятать его. Когда же его не пустили, бросился к другой квартире, где дверь была приоткрыта, оттолкнул горничную и, ворвавшись в комнату, схватил с вешалки пальто, а потом, натягивая его поверх тужурки, снова выбежал на лестницу. Но с улицы уже заходили в подъезд солдаты, и, выстрелив в них, Леонид бросился по лестнице наверх.
В панике и растерянности, охвативших Леонида, ничего удивительного нет. Он не был профессиональным убийцей. Нервы его были напряжены уже и в вестибюле дворца Росси, а что говорить, когда, свалившись с велосипеда, он понял, что рушится разработанный план побега и через минуту-две он окажется в руках охранников.
Столь подробно останавливаюсь я на этом эпизоде только для того, чтобы показать, какой изумительной силой воли обладал этот юноша. Ведь вбежав по лестнице наверх, отрезанный ворвавшимися в парадное охранниками, он все же сумел взять себя в руки и еще раз продемонстрировать завидную выдержку.
Впрочем, лучше, если об этом расскажет непосредственный участник событий, охранник Викентий Францевич Сингайло.
«Мы сделали из моей шинели чучело и поставили его на подъемную машину и подняли вверх, думая, чтобы убийца расстрелял скорее патроны… Но когда лифт был спущен обратно, моей шинели и чучела уже не было там. В это же время по лестнице спускался человек, который говорил, чтобы убийца поднялся выше. Я заметил, что шинель на человеке моя и, дав ему поравняться со мною, схватил его сзади за руки, а находившиеся тут же мои товарищи помогли…
При обыске у него был найден револьвер, который я взял себе, а также взял и свою шинель…»
Увы… Уйти Леониду Каннегисеру не удалось, но какое поразительное хладнокровие и бесстрашие нужно иметь, чтобы за короткие мгновения побороть растерянность, тут же оценить ситуацию, вытащить из лифта чучело, натянуть на себя шинель и спокойно спуститься вниз…
Безусловно, герою романа Дюма, который накануне читал Леонид, проскользнуть бы удалось. Это ведь оттуда и авантюрность, и маскарад… Другое дело, что охранник Викентий Францевич Сингайло никак не вписывался в романтику «Графа Монте-Кристо». Человек приземленный, он сразу узнал родную шинель и, конечно же, не дал ей уйти…
«Беря револьвер, — каялся потом Сингайло, — я не думал, что, беря его, я этим совершаю преступление. Я думал, что все, что было нами найдено, принадлежит нам, то есть кому что досталось… Один товарищ взял велосипед, другой — кожаную куртку. Я думаю, что они их взяли себе».
Леонид Каннегисер не потерял самообладания, даже когда охранники принялись избивать его. Он не кричал от боли, лишь презрительно улыбался. Из рук охранников его освободили прибывшие к дому номер семнадцать чекисты.
В ЧК на допросах Каннегисер тоже держался мужественно и очень хладнокровно. Коротко рассказав, как он убил Урицкого, на все прочие вопросы отвечать отказался: «К какой партии я принадлежу — назвать отказываюсь».
Он уже окончательно успокоился и первое, что сделал, когда ему дали бумагу, написал письмо. Ни матери, ни сестре, ни любимой. Письмо адресовалось князю Петру Левановичу Меликову, в квартире которого он стащил пальто.
«Этим письмом я обращаюсь к Вам, к хозяину этой квартиры, ни имени, ни фамилии Вашей не зная до сих пор, с горячей просьбой простить то преступное легкомыслие, с которым я бросился в Вашу квартиру. Откровенно признаюсь, что в эту минуту я действовал под влиянием скверного чувства самосохранения, и поэтому мысль об опасности, возникающей из-за меня, для совершенно незнакомых мне людей каким-то чудом не пришла мне в голову.
Воспоминание об этом заставляет меня краснеть и угнетает меня…»
Я не хочу сказать, что Каннегисера не волновала судьба незнакомого ему человека, которого из-за него забрали в ЧК, но все же цель письма не только в том, чтобы (Петра Левановича Меликова, кстати сказать, расстреляли) облегчить участь невинного. Нет. Письмо это — прежде всего попытка стереть то некрасивое пятнышко нескольких мгновений малодушия, которое нечаянно проступило на безукоризненно исполненном подвиге…
Написав это письмо, Леонид тут же — не зря накануне убийства читал он «Графа Монте-Кристо» — принялся разрабатывать план собственного побега.
Было ему двадцать два года…
3
Еще задолго до убийства Леонид Каннегисер записал в своем дневнике: «Я не ставлю себе целей внешних. Мне безразлично, быть ли римским папой или чистильщиком сапог в Калькутте, — я не связываю с этими положениями определенных душевных состояний, — но единая моя цель — вывести душу мою к дивному просветлению, к сладости неизъяснимой. Через религию или через ересь — не знаю».
Теперь цель эта была достигнута, и Леонид ощущал себя по-настоящему счастливым. Возможно, это был единственный арестант на Гороховой, 2, который так ощущал себя.
В это трудно поверить, но об этом свидетельствуют все записки, отправленные Каннегисером из тюрьмы.
«Отцу. Умоляю не падать духом. Я совершенно спокоен. Читаю газеты и радуюсь. Постарайтесь переживать все за меня, а не за себя и будете счастливы».
«Матери. Я бодр и вполне спокоен. Читаю газеты и радуюсь. Был бы вполне счастлив, если бы не мысль о вас. А вы крепитесь».
Коротенькие эти записочки дорого стоят — так много, гораздо более, нежели пространные рассуждения, говорят они о Леониде. Что-то есть в этих записках от убийственной точности движений Каннегисера во дворце Росси. И прежде всего эта точность проявилась в стилистике. В записках нет ни одного незначащего слова, а фраза: «Постарайтесь переживать все за меня, а не за себя и будете счастливы» — нагружена таким большим смыслом, что на первый взгляд выглядит опиской.
И дело здесь не только в литературном таланте Каннегисера, а прежде всего в беспощадной откровенности, которую может себе позволить человек, уже перешагнувший за грань обыденного существования.
Отношения с отцом, конечно же, были у Леонида не простыми.
Иоаким Самуилович Каннегисер был сыном старшего ординатора военного госпиталя, статского советника Самуила Хаимовича Каннегисера, получившего за долгую беспорочную службу потомственное дворянство. Произошло это еще в 1884 году, задолго до рождения сыновей Иоакима Самуиловича — Леонида и Сергея. Они оба родились уже дворянами.
Эта подробность родовой истории — чрезвычайно существенна для понимания отношений между отцом и сыном. Иоаким Самуилович хотя и не знал нужды и получил прекрасное образование (он действительно был крупным инженером и удачливым предпринимателем, возглавлял правление акционерного общества «Металлизатор»), но все же, чего достиг в жизни, достиг прежде всего своим трудом, своей предприимчивостью, своим умением применяться, приспосабливаться к окружающему. Ни Сергею, ни Леониду этого не требовалось. От рождения они принадлежали к самому привилегированному классу. Если добавить, что семья Каннегисеров не изменила иудейскому вероисповеданию, то получается, что и в еврейском обществе она занимала тоже весьма высокое положение. Так что слова Марка Алданова об «очень благоприятных условиях», в которых вырос Каннегисер, — не просто слова, а реальный факт.
Другое дело, что счастливыми от этого ни Сергей, ни Леонид не стали. И в этом тоже нет ничего странного. Соединение стихий потомственного русского дворянства и чистокровного иудаизма достигается только за счет определенной душевной гибкости, которая тоже ведь дается не так просто и отнюдь не от рождения.
Ни Сергей, ни Леонид этой гибкостью не обладали. Сергей покончил жизнь самоубийством. Он был студентом университета и депутатом Петросовета. 7 марта 1918 года пришел домой и, как было сообщено, «разряжая револьвер, случайно застрелился, то есть ранил себя в бок и через два дня умер».
Теперь, всего через полгода, пришла очередь Леонида.
«Когда мы прибыли устраивать засаду на Саперный переулок, — рассказывал Ф. А. Захаров, — мать (Розалия Эдуардовна Каннегисер) очень волновалась и все спрашивала нас, где Леонид и что с ним будет. Рассказывала, что одного сына уже потеряла из-за рабочих и свободы, а второй тоже борется за свободу, и она не знает, что с ним будет».
Слова эти произнесены в минуту отчаяния. На мгновение Розалия Эдуардовна потеряла контроль над собой, и в ее речи, дамы петербургского света, явственно зазвучали одесские интонации. Так строили свои фразы героини рассказов Исаака Бабеля… Но всю глубину отчаяния ей еще только предстояло постигнуть.
К сожалению, в деле сохранились не все протоколы допросов Розалии Эдуардовны, и поэтому нам придется ограничиться пересказом, сделанным следователем Э. М. Отто.
«Особое внимание обратил на себя допрос матери Каннегисера, который был произведен Геллером в присутствии Рикса, Отто и Антипова.
Геллер, успокоив мать Каннегисера, когда это более или менее удалось, когда она уже успела рассказать, что потеряла второго сына (Сергей застрелился), стал ей говорить, что, как она видит, он, Геллер, по национальности еврей, и как таковой хочет с ней побеседовать по душе. Расспрашивал он, как она воспитывала Леню, в каком духе? И получил ответ, что она сама принадлежит к секте строго верующей и в таковом же духе воспитывала сына…»
Геллеру, как отмечает Э. М. Отто, «ловким разговором» удалось довести Розалию Эдуардовну до полного отчаяния и, защищая сына, она начала лепетать, дескать, Леонид мог убить товарища Урицкого, потому что тот ушел от еврейства.
Эти подробности интересны не только для характеристики самой Розалии Эдуардовны, но и для прояснения всей ситуации. Геллер ведь так и строил «ловкий разговор». Он говорил, что убийство еврея евреем противоречит нормам иудейской морали. Потому-то, защищая сына, и вынуждена была Розалия Эдуардовна обвинить покойного Моисея Соломоновича в отходе от еврейства.
Ничего другого, извиняющего ее еврейского сына, она придумать не могла. И не только она. Тот же Марк Алданов, человек сильного, недюжинного ума, задавая себе вопрос: «Почему выбор Каннегисера остановился на Урицком?», отвечал: «Не знаю. Его убийство нельзя оправдать даже с точки зрения завзятого сторонника террора».
В этом непонимании и скрыта причина «несчастливости», «неуспокоенности» Леонида, которые отмечают почти все знавшие его. Для еврейского окружения Леонида потомственное дворянство было хотя и завидно притягательным, но все же чисто внешним атрибутом, никоим образом не меняющим еврейскую суть. Для самого Леонида Каннегисера, уже рожденного в этом самом потомственном дворянстве, все оказывалось гораздо сложнее.
Отец его, Иоаким Самуилович, с глухим раздражением рассказывал на допросах: «Сын мой Леонид был всегда с детских лет очень импульсивен, и у него бывали вспышки крайнего возбуждения, в которых он доходил до дерзостей… После Февральской революции, когда евреям дано было равноправие для производства в офицеры, он, по-моему, не желая отставать от товарищей, христиан, в проявлении патриотизма, поступил в Михайловское артиллерийское училище, хотя я и был против этого…»
Вот этому человеку и советовал Леонид «переживать все за меня, а не за себя», чтобы быть счастливым. Он советовал ему отвлечься от сожаления по поводу пресекшегося рода Каннегисе-ров, советовал взглянуть на происшедшее его, Леонида, глазами. Он понимал, конечно, что отец не способен на такое, не сумеет преодолеть сформировавшую его мораль иудаизма. И не от этого ли понимания и сквозит в каждой строке записки раздражение?
Сам Леонид Каннегисер — вспомните из его «завещания»: «есть одно, к чему стоит стремиться, — сияние от божественного» — эту мораль, построенную во благо пользы и выгоды, преодолеть сумел. Более того, потому он и выбрал Моисея Соломоновича Урицкого, что ведь там, в вестибюле дворца Росси, он стрелял не в Урицкого, а именно в эту мораль, примиряющую даже и честных шекеледателей — так называл себя Леонид Каннегисер в сионистской организации, где состоял, — с мерзавцем-палачом только потому, что тот тоже еврей.
Летом 1917 года Леонид Каннегисер написал стихотворение, в котором содержится весь «чертеж» его судьбы:
И вглядываясь сейчас в его пунктиры, видишь, что, набрасывая свой «чертеж», Леонид уже тогда, летом семнадцатого, многое понимал, не мог принять себялюбивоеврейской логики революции, ее антирусской направленности, но и отвергнуть их тоже не мог, а искал выход в некоем искуплении, пусть и ценой собственной жизни, и обретении таким образом бессмертия…
Кстати сказать, эту психологическую основу его поступка и выбора им своей жертвы, с большей или меньшей глубиной, стремились постигнуть не только чекисты, старавшиеся по мере своих сил замаскировать ее, но и белоэмигранты из числа лиц, близких Леониду Каннегисеру по своему воспитанию и положению в дореволюционном обществе. Удивительно, но так получилось^ что в первом томе «Литературы русского зарубежья» рядом с очерком Марка Алданова, рассуждающего о чувстве еврея, «желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицких и Зиновьевых», помещена повесть Марины Цветаевой «Вольный поезд», герои которой тоже обсуждают эту тему.
Левит: — Это пережитки буржуазного строя. Ваши колокола мы перельем на памятники.
Я: — Марксу.
Острый взгляд: — Вот именно.
Я: — И убиенному Урицкому. Я, кстати, знала его убийцу.
(Подскок. — Выдерживаю паузу.)
…Как же, — вместе в песок играли: Каннегисер Леонид.
— Поздравляю вас, товарищ, с такими играми!
Я, досказывая: — Еврей.
Левит, вскипая: — Ну, это к делу не относится!
Теща, не поняв: — Кого жиды убили?
Я: — Урицкого, начальника петербургской чрезвычайки.
Теща: — И-ишь. А что, он тоже из жидов был?
Я: — Еврей. Из хорошей семьи.
Теща: — Ну, значит, свои повздорили. Впрочем, это между жидами редкость, У них это, наоборот, один другого покрывает, кум обжегся — сват дует, ей-богу!
Левит, ко мне: — Ну и что же, товарищ, дальше?
Я: — А дальше покушение на Ленина. Тоже еврейка (обращаясь к хозяину, любезно) — ваша однофамилица: Каплан.
Левит, перехватывая ответ Каплана: — И что же вы этим хотите доказать?
Я: — Что евреи, как русские, разные бывают.
Более того, нетрудно заметить, что сама идея убийства евреем еврея носилась в воздухе. Не случайно ведь в тот же день, 30 августа, когда был убит Урицкий, в Москве на заводе Михельсона Фанни Каплан стреляет в Ленина[104]. И, конечно, весьма соблазнительно объяснить это попыткой реабилитировать хоть таким образом столь замаравшее себя в большевизме еврейство. Но, бесспорно, объяснение это может быть принято только предельно политизированным сознанием.
Мне в выстреле Леонида Каннегисера слышится другое…
Две стихии — потомственного русского дворянства и чистокровного иудаизма — разрывали душу двадцатидвухлетнего юноши, лишая его внутреннего покоя…
Примирить эти стихии было невозможно, хотя бы уже потому, что и сам Каннегисер не желал никакого примирения.
Можно предположить, что с годами какая-то одна стихия все-таки восторжествовала бы над другой.
Возможно…
Но Леонид Каннегисер нашел другой выход, он сумел перешагнуть и через иудаизм, запрещающий еврею убивать еврея, и через кодекс дворянской чести, запрещающий стрелять противнику в затылок.
Этот момент в теракте, совершенном Каннегисером, тоже чрезвычайно важен. Вестибюль дворца Росси, где происходило событие, достаточно просторен. Каннегисер видел в окно, как выходит из автомобиля Урицкий. У него была возможность выстрелить в Урицкого, когда он только вошел в вестибюль. У него была возможность окликнуть Урицкого — он его знал лично, — пока тот шел по вестибюлю к лифту. Каннегисер выстрелил, когда Урицкий повернулся к нему спиной.
Говорить о случайности тут не приходится.
Соображения личной безопасности — большей или меньшей — тоже не могли играть существенной роли.
Объяснение одно — перешагивая через одну мораль, Каннегисер перешагивал и через другую, в общем-то противоположную ей. Он словно бы сбрасывал с себя так тяготившие его оковы предрассудков, в себе самом, в масштабе пока только своей личности преодолевая и зло еврейства, и зло дворянства.
Тюремные застенки ПетроЧК — не лучшее место для литературной работы, но перечитываешь записи Каннегисера, сделанные им в тюремной камере, и видишь, как стремился он сформулировать свою мысль об обретенном — в преодолении двух враждебных друг другу, но одинаково губительных для человеческого общества стихий — сиянии…
Я не собираюсь приукрашивать Леонида Каннегисера, чтобы изобразить его русским патриотом, но Леонид жил в России, другой страны не знал, и поэтому мысли его о человеческом обществе были связаны прежде всего с Россией.
«Россия — безумно несчастная страна, темнота ее — жгучая… Она сладострастно упивается ею, упорствует в ней и, как черт от креста, бежит от света… А тьма упорствует. Стоит и питается сама собою…»
Читаешь эти торопливые, скачущие строки и ясно понимаешь, что теракт, совершенный в вестибюле дворца Росси, и был для Леонида Каннегисера именно попыткой возжечь свет в нахлынувшем со всех сторон мраке.
В своей душе он ощутил сияние.
Это сияние, более или менее отчетливо различали и другие люди.
Другое дело, что свет, возжженный Каннегисером, не осветил ничего, кроме разверзшейся вокруг пустоты…
4
Пребывание Леонида Каннегисера в тюрьме могло бы стать сюжетом для авантюрного романа.
31 августа Леонида допросил специально приехавший для этого из Москвы Ф. Э. Дзержинский. Каннегисер на допросе держался надменно, отвечать на вопросы отказался.
Впрочем, Дзержинский особенно и не настаивал. С ПетроЧК вообще и с Моисеем Соломоновичем Урицким в частности у Феликса Эдмундовича были непростые отношения. Мы уже рассказывали об агенте А. Ф. Филиппове, которого после убийства В. Володарского Феликс Эдмундович послал провести параллельное расследование и которого Моисей Соломонович арестовал, когда тот еще не выехал из Москвы. И в борьбе еврейских влияний в ЧК Каннегисер, сам того не понимая, сыграл на руку Феликсу Эдмундовичу.
Вообще нужно сказать, что 31 августа 1918 года Феликс Эдмундович проявил себя весьма мудрым и осторожным политиком. Полистав изъятые при обыске у Каннегисера бумаги и увидев, что среди них немало документов, связанных с деятельностью Всемирной Сионистской организации, Дзержинский благоразумно уклонился от личного участия в следствии и в тот же день — часа в три дня — укатил назад в Москву, приказав немедленно освободить А. Ф. Филиппова. Еще, уезжая, он назначил следователями по делу об убийстве товарища Урицкого двух эстонцев — Эдуарда Морицевича Отто и Александра Юрьевича Рикса. Выбор определялся не только национальностью Отто и Рикса, но и их личностными качествами. Александр Юрьевич Рикс — один из немногих в ПетроЧК, кто обладал достаточной профессиональной подготовкой и имел высшее — юридический факультет Петроградского университета — образование. Товарищ Отто образованием не блистал, но отличался необыкновенным упорством и каким-то своим, по-эстонски понимаемым, чувством справедливости. Говорят, что Эдуард Морицевич к тому времени, войдя во вкус чекистской работы, свои принципы формулировал предельно сжато и емко: «Расс’трели-фать нато фсех. И ев’рееф тоже».
Забегая вперед, скажем, что в выборе следователей Феликс Эдмундович не ошибся. Тандем Отто и Рикса дал необыкновенные результаты. Впрочем, об этом, как и о печальной судьбе Эдуарда Морицевича Отто и Александра Юрьевича Рикса, разговор еще впереди, а пока Феликс Эдмундович ехал на дневном поезде в Москву. Он находился в пути, когда петроградские чекисты совершили вооруженный налет на английское посольство. Это в традициях ЧК — вспомните налет Блюмкина на немецкое посольство и убийство Мирбаха — авантюра войдет потом в историю ЧК как «заговор трех послов».
Каким образом вооруженный налет чекистов на английское посольство — во время его было убито несколько дипломатов — связан с убийством Урицкого, можно только догадываться. Безусловно только, что осуществлялся он в духе той «революционной импровизации», на которую такими мастерами были большевики. Ни к покушению на Ленина, ни к убийству Урицкого легенда о заговоре послов отношения не имела, но зато позволяла включить в списки расстреливаемых за покушение на Ленина и убийство Урицкого не тех, кто действительно был причастен к этим терактам, а тех, кого чекистам нужно было расстрелять…
Еврея Урицкого убил еврей Каннегисер, в Ленина стреляла Каплан. По постановлению о красном терроре, принятому 5 сентября 1918 года, были расстреляны сотни тысяч русских, никакого, даже самого отдаленного, отношения к указанным покушениям не имевшие. Смысл этой головокружительной комбинации способны были постигнуть далеко не все чекисты.
Тот же Эдуард Морицевич Отто, докладывая в Президиуме ПЧК и ВЧК 29 августа 1920 года, говорил: «После убийства тов. Урицкого был объявлен массовый террор и была расстреляна масса буржуазии и, следовательно, в первую голову, логически, надо было ожидать расстрела замешанных в подготовке и организации убийства тов. Урицкого буржуазных родных и знакомых Каннегисера. Чем это объяснить?»
Товарищ Отто, неутомимо добивавшийся, чтобы «расстрелифали фсех честно, и еврееф тоже», получил-таки ответ на свой вопрос. Он сам был расстрелян как террорист. Террористом был объявлен и Александр Юрьевич Рикс…
5
Мы несколько отвлеклись от повествования о Леониде Каннегисере, от рассказа о его пребывании в тюрьме.
Надо сказать, что содержание Каннегисера под арестом заметно отличалось от содержания прочих заключенных. Мы уже писали, какие царили тут нравы. С голодухи заключенные начинали вдруг говорить на украинском языке, которого они не знали, только чтобы сойти за иностранцев… Поэтому рассказ о днях, проведенных в заключении Каннегисером, выглядит на этом фоне почти невероятным, словно Леонид в какой-то другой тюрьме сидел, в другое время, при другом режиме…
Сохранилось в деле стихотворное послание, адресованное на волю узниками, привлеченными по делу об убийстве Урицкого.
Разумеется, можно говорить и о бодрости, и о силе духа узников, которая отчетливо ощущается по этому шутливому стихотворению, но все равно очень трудно свыкнуться с мыслью, что стихотворение отправлено из Дерябинской тюрьмы осенью 1918 года. Напомним — уже летом 1918 года в Петрограде были зафиксированы первые смерти от голода…
Сам Леонид Каннегисер тоже не теряет в тюрьме присутствия духа и деятельно готовится к побегу. Планы побега сочиняются в лучших традициях романов Александра Дюма.
Леонид очень искусно, как ему казалось, перевербовал охранника тов. Кумониста, и тот согласился стать его почтальоном. В записках, адресованных сестре Ольге, Леонид поручал ей — он ведь не зря читал перед покушением «Графа Монте-Кристо» — подготовить нападение с бомбами на Гороховую, 2. Нет никаких сомнений, что план был разработан Леонидом, как и план убийства Урицкого, достаточно тщательно. И ошибся Леонид только в одном. Петроградские чекисты никак не вписывались в поэтику романов Александра Дюма. Очень скоро выяснилось, что охранник Кумонист специально приставлен Александром Соломоновичем Иоселевичем, секретарем ПетроЧК. Зачем это делалось — неведомо. Возможно, Иоселевич решил установить круг знакомых Леонида, возможно, просто собирался удержать пылкого юношу от новых необдуманных поступков. Но письма Каннегисера Кумонист вначале заносил Александру Соломоновичу, где с них снималась копия, а затем уже нес по адресу. Ответная почта также подвергалась перлюстрации в кабинете Иоселевича.
Ни Леонид, ни его адресаты об этом не знали, и план побега составлялся по всем правилам.
1 сентября Каннегисер, еще не зная, что родители уже арестованы, написал им письмо. Кумонист это письмо 2 сентября вернул Каннегисеру и сказал, что на квартире в Саперном переулке — засада. Каннегисер написал тогда своей родственнице — Софье Исааковне…
«Софья Исааковна, — сообщал в своем отчете Иоселевичу Кумонист, — как очень умная и предусмотрительная женщина, сказала, что боится предпринимать что-либо по этому делу, потому что арестованы все родственники и много знакомых, и не последовал бы расстрел всех за его побег. Ольга Николаевна тоже подтверждает, но более мягко, и просит переговорить с Каннегисером: берет ли он на себя последствия для отца после своего побега. И назначила она свидание^ в 4 часа 3 сентября».
Леонид Каннегисер «взял на себя последствия», подготовка побега продолжалась, и 6 сентября чекистам представилась возможность захватить всех организаторов предстоящего налета.
«Докладная записка разведчика Тирзбанурта.
Время поручения — 6 сент. Пять с половиной часов вечера.
Окончание — 6 сент. Десять часов вечера.
Согласно поручению тов. Геллера мною было произведено наблюдение над тов. Ку монистом, который должен был встретиться с двоюродной сестрой убийцы тов. Урицкого в Летнем саду в 7 часов вечера.
Придя в сад, пришлось ожидать упомянутую женщину, так как она еще не пришла. В саду, исключая нас, ни одного человека не было ввиду большого дождя. И мое внимание было обращено на двух стоявших мужчин, одного по правой стороне сада, другого по левой стороне, которые внимательно следили за нами. После нескольких минут я заметил, что за мной следят еще двое мужчин. Один в студенческой форме, а другой — в офицерской.
Так как назначенный срок свидания прошел, я решил арестовать этих двух типов, подойдя к тов. Кумонисту, чтобы вдвоем арестовать их.
Но в этот момент появилась женщина, которую ждали. Придя к заключению, что нас заметили, все понимают и поэтому следить более нет возможности, я сейчас же ее арестовал. Мужчины, заметив, что мы желаем и их арестовать, скрылись. Арестованная женщина предлагала крупную сумму денег (какую именно, она не сказала), лишь бы ее освободили, но в этом ей было отказано категорически».
6
Почему сорвался план захвата всей группы — понятно. Посланный Геллером разведчик Тирзбанурт действовал настолько неуклюже, что невольно закрадывается подозрение: а не специально ли для этого и был прислан он?
Основания для такого предположения есть.
Дело в том, что Александр Юрьевич Рикс уже установил круг знакомых Леонида Каннегисера, и вскоре, благодаря его проницательности и упорству товарища Отто, в деле начал скапливаться интересный материал о деятельности в Петрограде Всемирной Сионистской организации.
Деятельность Всемирной Сионистской организации освещена пока недостаточно, и, вероятно, имеет смысл рассказать о ней подробнее. В принципе Сионистская организация в России ставила своей задачей, как и подобные организации в других странах, осуществление права евреев на национальный центр, то есть создание государства Еврейская Палестина, и напрямую в политические разборки в России не включалась. Вместе с тем, поскольку шекеледатели были, как правило, не просто гражданами России, но и активнейшими участниками происходящих здесь процессов, Центральный Комитет Сионистской организации вынужден был заботиться о безопасности своих шекеле дате лей, зачастую принадлежащих к непримиримо враждебным друг другу партиям.
В связи с этим в июле 1918 года состоялся съезд представителей общин.
Среди изъятых при обыске бумаг Каннегисеров вшито в дело[105] и приглашение на этот съезд.
Предполагаемый съезд имеет в виду дать посильный ответ на все вопросы и затруднения. Он будет посвящен деловой жизни общин и будет стараться избегать разделяющих еврейское общество острых принципиальных споров, выдвигая те общие условия и формы работы, без которых немыслимо плодотворное развитие общин.
С приветом Сиона
ЦК Сионистской организации в России.
Какими должны быть «общие условия и формы работы», становится понятно из программной статьи «Три периода Сионистской организации за все время революции», помещенной к съезду в первом номере «Известий организационного рессора при ЦК Сионистской организации в России» от 15 июля 1918 года.
«Улетучились, как дым, светлые перспективы свободного строительства общероссийской жизни. Нам — руководящей партии — осталось нести тяжкое бремя ответственности за жизнь еврейства в России…
Нам предстоит борьба за обломки нашей автономии в России, охрана еврейства перед лицом грядущих политических потрясений».
Принято думать, что Всемирная Сионистская организация не представляла собою реальной политической силы в России. В каком-то смысле это верно, поскольку она объединяла, как мы уже говорили, представителей крайне враждебных друг другу политических партий: большевиков и эсеров, кадетов и бундовцев. Однако о реальной, а не политической силе организации можно судить по переполоху, который поднялся в ПетроЧК, когда следователем Отто был арестован Михаил Семенович Алейников, один из пяти членов правления ЦК Сионистской организации.
Переполох этот добросовестно описал в своих «мемуарах», адресованных Коллегии ВЧК, Эдуард Морицевич Отто.
«На вышеуказанных основаниях был арестован Алейников. С арестом Алейникова начались со стороны Президиума Комиссии требования дать немедленно обвинительные данные, послужившие основанием ареста Алейникова. После явился к нам тов. Шатов и стал говорить, что Алейников ведь сионист, а сионисты — это «слякоть», которая ни на что не способна, и значит Алейникова мы арестовали совсем зря и его придется выпустить»[106].
Однако товарищ Отто, верный своему принципу, что «расстрелифать нато честно», не поддался на уговоры товарища Шатова. Внимание его привлекло письмо, написанное по-французски и пестрящее именами и цифрами. Сам Отто по-французски не знал и поэтому решил отдать письмо на перевод.
«Но не суждено было этому сбыться. Вечером поздно мы были вытребованы в Президиум Комиссии для дачи ответа по делу убийства тов. Урицкого. Присутствовали: тт. Бокий, Антипов, Иоселевич, Борщевский.
На предложенный вопрос, напали ли мы на верный след сообщников убийцы, пришлось ответить только предположениями… что, как видно из писем, убийца действовал от какой-то группы или организации… что главный контингент знакомых убийцы — разные деятели из еврейского общества, что убийца сам, как и его отец, играли видную роль в еврейском обществе»[107].
Предположения, высказанные Александром Юрьевичем Риксом и Эдуардом Морицевичем Отто, явно не понравились членам Президиума ПетроЧК.
«Тов. Бокий заявил, что следователи на неверном пути и что у Президиума есть два провокатора-осведомителя среди социалистов-революционеров, которые скоро доставят факты, доказывающие другое».
«Иоселевич сказал, что ему удалось поставить часовым своего человека, бывшего каторжника, который сумел войти в доверие убийцы-Каннегисера и что последний послал записку, адресованную куда-то, и что им энергично это дело ведется и это может дать больше, чем раздобыли мы — следователи…»
После этого обмена мнениями, весьма красноречиво говорящими о методах и стиле работы, заведенных в ПетроЧК Моисеем Соломоновичем Урицким, Антипов потребовал вдруг перечислить всех лиц, арестованных по делу. Когда была названа фамилия Алейникова, Антипов сказал, что Алейникова надо немедленно освободить, и назвал товарища Отто антисемитом.
Товарищ Отто ответил на это, что никакой он не антисемит, просто считает, что «расстрелифать нато фсех честно и еврееф тоже», а на Алейникова есть весьма серьезные улики, в частности письмо, написанное по-французски, которое они отдали на перевод.
Тогда «члены Президиума в лице Иоселевича, Антипова и Бокия удалились в соседнюю комнату и, вернувшись, заявили, что Алейникова надо завтра же вызвать из тюрьмы и экстренно допросить. Назавтра же Алейников был освобожден и, может быть, допрошен, а может быть, освобожден без допроса, тайно от нас… Папка с делом Алейникова осталась у Антипова и к нам в дело возвращена не была».
Если вспомнить, что все это происходило в сентябре восемнадцатого года, когда чекисты каждую ночь расстреливали сотни петербуржцев только за то, что они когда-либо носили офицерские погоны или занимали профессорские кафедры, гуманность их в деле человека пусть и косвенно, но причастного к убийству шефа ПетроЧК не может не навести на мысль о некоей подчиненности самой ЧК этому ЦК, членом которого состоял Михаил Семенович Алейников. И не тем ли и обеспокоено было руководство Сионистской организации, говоря об «охране еврейства перед лицом грядущих политических потрясений», чтобы вывести евреев из-под планируемого уже тогда красного террора?
Так это или не так, но бесспорно, что провозглашенный евреями и осуществляемый на первых порах в основном тоже евреями красный террор самих евреев практически не коснулся.
7
После неудавшегося нападения на Гороховую, 2 Леонида Каннегисера перевели в Кронштадтскую тюрьму.
Подобно герою «Графа Монте-Кристо», оказался он в тюрьме на острове, и, должно быть, именно это обстоятельство побудило его вернуться к мыслям о побеге.
И снова он попался в уже испытанную на нем чекистами ловушку. Снова часовой, которого подрядил Каннегисер носить письма, оказался стукачом. Как сообщает в своих «мемуарах» товарищ Отто, было перехвачено письмо Каннегисера Помперу. Каннегисер излагал в нем план бегства и говорил, что 85 000 рублей на подготовку побега даст Лазарь Рабинович.
Участвовали (или не участвовали?) в подготовке побега и другие лица… Из допроса бывшего прапорщика, а ныне конторщика акционерного общества Крымских климатических станций и морских купаний Григория Константиновича Попова видно, что Каннегисер предполагал привлечь к организации побега и его.
«Числа около 15 сентября ко мне пришел один господин в военной форме и передал записку от Леонида, в которой он просил помочь в материальном отношении, а также оказать помощь в побеге, который он, Каннегисер, думал совершить. Я передал принесшему записку господину 250 рублей, а также передал два адреса лиц, которые знали Леонида и которые, по моему мнению, могли помочь ему. Принимать участие в организации побега я не намеревался, так как считал это бредом больного человека».
Г. К. Попов тут, мягко говоря, лукавит. Е. С. Банцер показала на допросе, что Попов сам приходил к ней и выяснял, кто из родственников Каннегисера остался на свободе, то есть все-таки не ограничился передачей денег, а что-то пытался предпринимать в соответствии с указаниями Леонида из тюрьмы.
Разумеется, об этом можно было бы и не говорить. Как и в случае разрабатываемого Леонидом нападения на Гороховую, 2, вся «организация» нынешнего побега находилась с самого начала под контролем чекистов, и поэтому ни о каком побеге не могло быть и речи.
Но тут интересно другое.
Леонид Каннегисер никогда не был подлецом. Судя по его письму, адресованному князю П. Л. Меликову, судя по показаниям, которые он дал на допросах, сама мысль, что из-за его поступка пострадают безвинные люди, была нестерпимой для него.
И вот тут, в тюрьме, его словно бы подменили… Легко, не задумываясь, он втягивает самых дорогих ему людей — своих родных и друзей — в авантюры, которые могут закончиться для них расстрелом.
Конечно, ему было всего двадцать два года, он увлекался романом «Граф Монте-Кристо», но ведь то, что он делает, сидя в тюрьме, никакой юношеской романтикой не объяснить — это клинический случай тупого и равнодушного ко всему и всем идиотизма.
Прожекты нападения с бомбами на Гороховую, 2 или побега из Кронштадтской тюрьмы могли возникнуть только у человека, который или совершенно не понимал, что такое Петроградская ЧК, или у человека, который абсолютно точно знал, как эта самая ЧК устроена. Похоже, что последнее предположение гораздо ближе к истине, нежели первое…
Поразительно, но все лица, арестованные за попытку подготовить нападение на Петроградскую ЧК, как и все участники подготовки побега Леонида Каннегисера из Кронштадтской тюрьмы, были освобождены.
22 декабря 1918 года Н. К. Антипов сочиняет целую пачку постановлений, каждое из которых по гуманности своей сделало бы честь любому самому гуманному судопроизводству.
«Каннегисер Софья Самуиловна, получив от Леонида Каннегисера записку с просьбой принять меры для организации побега, стала вести разговоры с подателем записки о плане побега Леонида Каннегисера, но ввиду трудности побега отказалась.
Чрезвычайная Комиссия постановила Каннегисер Софью Самуиловну считать виновной в попытке организации побега, но ввиду того, что она действовала без соучастия в этом деле какой-либо политической организации и что она сама отказалась от этой попытки, считать предварительное заключение достаточным за совершенный проступок и Каннегисер Софью Самуиловну освободить, дело прекратить, все отобранное при аресте возвратить».
«Ввиду непричастности Каннегисер Ольги Николаевны к убийству Урицкого (к подготовке нападения на Гороховую она была причастна. — Н. К.) дело о ней прекратить, ее освободить, все отобранное при аресте возвратить».
Точно такие же «постановления» пишет Н. К. Антипов 22 декабря и по поводу Розы Львовны Каннегисер, и Григория Константиновича Попова, и других родственников и друзей Леонида, арестованных за попытку организовать его побег.
«Гуманизм» товарища Антипова был столь необыкновенен, что забеспокоилось даже начальство тюрьмы. Уже 21 декабря в Чрезвычайную комиссию полетели тревожные депеши:
«Уведомляю Чрезвычайную Комиссию для сведения, что согласно требования № 317 выданы конвою 20 сего декабря для доставления в Комиссию на допрос к тов. Антипову арестованные Каннегисер Аким Самойлович, Каннегисер Елизавета Акимовна, Каннегисер Ольга Николаевна, Каннегисер Роза Львовна, Каннегисер Софья Самойловна, Помпер Тереза и обратно в Дом не возвращены.
Каннегисер Софья Исааковна в Доме предварительного заключения не содержится. Комиссар Дома предварительного заключения».
Поразительно и то, что товарищ Антипов прекращает дела лиц, связанных с убийцей «дорогого товарища Урицкого», единолично, не ставя в известность даже своего непосредственного начальника — нового шефа ПетроЧК Варвару Николаевну Яковлеву. Еще поразительней, что через неделю после того, как все арестованные по этому делу были освобождены (самого Леонида Каннегисера расстреляли в октябре 1918 года), а дело закрыли, товарища Антипова назначили председателем Петроградской ЧК.
Разумеется, взлет в карьере Антипова — а к тому времени, когда его все-таки расстреляли, он был уже заместителем председателя Совета Народных Комиссаров СССР — только предположительно можно связать с «гуманным» разрешением дела Каннегисеров. Но, скажите, чем объяснить весьма странный вопрос двоюродной сестры Леонида Ольги Николаевны, просившей посланца «переговорить с Каннегисером»: «Берет ли он на себя последствия для отца после своего побега?»
Понятно, что речь здесь шла не столько о моральных последствиях — мучения совести, если отца из-за этого расстреляют, — сколько о самой возможности таких последствий. И Леонид, который не был ни трусом, ни подлецом, тем не менее подтвердил готовность убежать…
А сделать это он мог, только совершенно точно зная, что ни с отцом, ни с матерью, ни с сестрами в ЧК ничего плохого случиться не может. Очевидно, знали это и люди, которые пытались организовать побег…
Но тогда позволительно задать такой вопрос: если влияние сионистской организации в Петроградской ЧК было столь сильным, то отчего же все-таки расстреляли самого Леонида?
И вот тут-то мы и вынуждены снова напомнить, что Леонид самовольно переступил через иудейскую мораль, запрещающую еврею убивать еврея, а переступив, сам вывел себя из зоны гарантированной для евреев безопасности. Он как бы перестал быть евреем.
И тут мы снова еще раз должны вспомнить о семейной версии мотива убийства — Леонид Каннегисер мстил Моисею Соломоновичу Урицкому за убийство своего друга, еврея Владимира Борисовича Перельцвейга. Версия эта была затем подтверждена самим Каннегисером и принята как официальная. В историческую литературу она вошла как некий бесспорный факт. Между тем с этой версией надо, конечно, еще разобраться…
8
Как известно, Владимир Борисович Перельцвейг проходил по делу о контрреволюционном заговоре в Михайловском училище. Том самом артиллерийском училище, в которое после Февральской революции был зачислен и Леонид Каннегисер.
Сам Владимир Борисович Перельцвейг в Михайловском училище не учился. Он закончил Казанское военное училище и служил в 93-м пехотном запасном полку. Кроме того, он вел весьма странную, не то провокаторскую, не то осведомительскую деятельность.
«В отношении с курсантами и рабочими, — показал Владимир Борисович на допросе, — я был очень откровенен, говоря часто о возможности бегства властей из Петрограда, причем защищать его пришлось бы нам. Приблизительный процент добровольцев в будущую армию можно было бы распространить на весь город или уезд. Я часто говорил также о возможности рабочего движения, которое может быть использовано немецко-монархической партией. Я предупреждал рабочих об организации и старался соорганизовать и учесть количество сознательных рабочих, могущих сопротивляться этому движению».
Нетрудно догадаться, что работа эта осуществлялась Владимиром Борисовичем в рамках программы Всемирной Сионистской организации, ставившей своей главнейшей задачей «охрану еврейства перед лицом грядущих потрясений». О принадлежности же Перельцвейга именно к организации сионистского направления можно судить по названиям клубов, где его инструктировали.
Проводя свою работу, Владимир Борисович Перельцвейг встретился в конце июня 1918 года с бывшим прапорщиком Василием Константиновичем Мостыгиным.
«Встретя Владимира Борисовича Сельбрицкого (так представился ему Перельцвейг. — Н. К.), я разговорился с ним о настоящем положении. Разговор шел о положении России и выйдет ли Россия из настоящей войны окрепшей или нет. В разговоре мы оба пришли к заключению, что хорошего от Германии ждать нельзя и поэтому, если Германия победит, то от России ничего не останется…»
Разговор двух двадцати летних прапорщиков, очевидно, другим и быть не мог, точно так же, как ничем другим, кроме решения вступить в какую-либо организацию, не мог и кончиться.
«Владимир Борисович предложил мне вступить в организацию для борьбы за Учредительное собрание… После этого разговора я был у Сельбрицкого на квартире два раза, один раз вместе со своим товарищем Сергеем Орловым».
Сергей Федорович Орлов, курсант Михайловского артиллерийского училища, был на год старше Мостыгина, но житейского и политического опыта у него было, похоже, еще меньше, и он тоже клюнул на удочку, закинутую Перельцвейгом.
«Мостыгин предложил мне поехать к некому Владимиру Борисовичу на Каменноостровский проспект. Мы поехали с ним. Владимир Борисович предложил мне вступить в организацию правых эсеров на жалованье 200 рублей. Обещал он дать мне оружие (револьвер)… Я приехал затем в училище и предложил двум товарищам Арнаутовскому и Кудрявцеву вступить в эту организацию.
В день выступления левых эсеров, я виделся с Владимиром Борисовичем (он вызвал меня по телефону) у него на квартире. Он начал меня расспрашивать, как у нас в училище относятся к выступлению. Я ответил, что курсанты все разошлись, а у Выборгского совета выставлены пулеметы.
Затем я виделся с Владимиром Борисовичем в его квартире еще раз, и присутствовал при этом еще один офицер, бывающий у него каждый день…»
Завербованным Орловым Ивану Михайловичу Кудрявцеву и Георгию Сергеевичу Арнаутовскому было одному девятнадцать, другому — восемнадцать лет.
Арнаутовский на следствии показал: «Недели две тому назад получил от Орлова предложение поступить в какую-то организацию за жалованье в 200 рублей. Во вторник, девятого июля, он в обеденное время предложил мне съездить на Каменноостровский за деньгами и револьверами. Там нас встречали какие-то два молодых человека, похожих на офицеров. Денег они нам не дали так же, как и револьверов, а только говорили, что нам надо разъединить телефон и снять часового у ворот. Когда мы вышли, то я сказал Орлову, что эти люди мне не нравятся и что я больше туда не поеду».
Но, пожалуй, наиболее ярко заговорщицкая деятельность освещена в показаниях девятнадцатилетнего Ивана Михайловича Кудрявцева. Когда следователь спросил, не является ли Кудрявцев членом партии правых эсеров, Иван Михайлович искренне возмутился:
«На вопросы, считающие меня правым эсером, я категорически отвергаю и говорю, что я совершенно с сентября 1917 года ни в каких правых организациях не участвовал. Готов в любой момент идти защищать Советскую власть до последних сил».
Если бы Ивана Михайловича через несколько дней не расстреляли, можно было бы, пожалуй, и улыбнуться его словам. Ведь надо же, какой матерый политик — уже целый год не участвует в правых организациях! А раньше, когда еще восемнадцати лет не исполнилось, вот уж небось поучаствовал…
Ивана Михайловича Кудрявцева Орлов тоже увлек двумястами рублями и револьвером, но — увы! — ни рублей, ни револьвера Иван Михайлович, как, впрочем, и все другие участники заговора, от Владимира Борисовича не получил.
«Я не знаю, что кому он предлагал или нет… — сокрушался Иван Михайлович на допросе. — Но он все время искал кого еще взять, но так и не успел, уже арестовали…»
Выдал Орлова курсант Василий Андрианович Васильев.
«В пятницу, за неделю до его ареста, курсант Орлов на мой вопрос, нет ли чего нового, сказал, что есть, но почему-то сразу не сказал, а обещал сказать. После пяти часов вечера он позвал меня в помещение буфета и сцросил: к какой партии я принадлежу. Я ему ответил, что я беспартийный. Тогда он сказал, что в воскресенье встретил в Летнем саду знакомого офицера, который предложил ему вступить в их организацию. Но он, Орлов, один не желает, а вот, если вступлю я, тогда вступит и он. На мой вопрос, что это за организация, он ответил, что это организация правых эсеров, а также и левых. И предупредил меня, что скоро должно быть выступление, в котором должны принять участие и мы. В случае нашего согласия мы получим по двести рублей денег и револьвер. Когда я у него спросил, есть ли в организации наши инструктора, то он ответил: хорошо не знаю, но кажется, что есть. Больше в этот день он ничего не сказал, лишь под конец заявил: подумай и скажи завтра, тогда ты в понедельник получишь деньги и оружие. В субботу утром я сказал курсанту Посолу об этом и спросил: «Что делать?» Он ничего не сказал, а пошел и заявил комиссару Михайлову».
Немедленно был начат розыск, и скоро курсовой комиссар Михайлов отправил в Петроградскую ЧК депешу, озаглавленную «Дело о контрреволюционном заговоре в Михайловском артиллерийском училище и академии».
11 июля чекисты провели обыски и аресты курсантов и преподавателей училища, а 13-го начались допросы.
Никакого заговора, разумеется, не было и в помине.
Николай Михайлович Веревкин, бывший штабс-капитан, а ныне инструктор-преподаватель училища, сказал на допросе:
«О выступлении и заговоре на курсах узнал лишь от военного комиссара, присутствовавшего на допросе моем у следователя. Все слухи о заговоре считаю ложными. Никакое выступление курсов или отдельной группы лиц безусловно считаю невозможным, и даже не представляю себе, как можно давать значение какому бы то ни было доносу. Вся обстановка жизни и службы на курсах противоречит этому».
Он сказал и о том, что технически невозможно было бы выкатить орудия и начать стрельбу из них, хотя бы уже потому, что патронов на курсах, кроме учебных и образцовых, нет.
Но так считал Николай Михайлович Веревкин, который, отвечая на вопрос, к какой партии он принадлежит, сказал, что «принадлежит к партии порядочных людей».
Безусловно, что Николай Михайлович принадлежал совершенно к другой партии, нежели петроградские чекисты.
19 августа состоялось заседание Чрезвычайной комиссии, на котором курсантов Орлова, Кудрявцева, Арнаутовского, бывшего прапорщика Мостыгина, преподавателя Веревкина и Перельцвейга приговорили к расстрелу.
Постановление по делу о контрреволюционном заговоре в Михайловском училище — весьма любопытный документ, и поэтому приведем его целиком.
В заседании Чрезвычайной Комиссии 19 августа, при отказавшихся от участия в голосовании Урицком и Чумаке, единогласно постановлено: Орлова, Кудрявцева, Арнаутовского, Перельцвейга, Мостыгина и Веревкина расстрелять. Воздержались по вопросу о расстреле Арнаутовского Иванов и Смычков, по вопросу о расстреле Веревкина воздержался Иванов. Дело о Попове, Рукавишникове и Дитятьеве прекратить, переведя этих лиц, как бывших офицеров, на положение интернированных. Дело о Дитятьеве выделить, продолжить по нему расследование.
Председатель М. Урицкий.
Надо добавить тут, что сей удивительный документ (л. 52) написан собственноручно Моисеем Соломоновичем Урицким, отказавшимся, как тут написано, от участия в голосовании.
9
Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о деле курсантов Михайловского училища и Владимира Борисовича Перельцвейга. В официальном документе по поводу убийства Урицкого было сказано: «Из опроса арестованных и свидетелей по этому делу выяснилось, что расстрел Перельцвейга сильно подействовал на Леонида Каннегисера. После опубликования этого расстрела он уехал из дому на несколько дней — место его пребывания за эти дни установить не удалось».
Переживал… Леонид Каннегисер знал не только Владимира Борисовича Перельцвейга, но и, возможно, Кудрявцева, Арнаутовского. В любом случае он не мог не знать, что Перельцвейг буквально заманил этих девятнадцатилетних мальчишек под расстрел.
Так что переживания, конечно, были, и очень серьезные, очень драматичные. Тем более то, что сделал Перельцвейг, делал и сам Каннегисер. В его деле (т. 1, л. 95–96) есть показания студента Бориса Михайловича Розенберга о том, что Каннегисер говорил ему: «К моменту свержения Советской власти необходимо иметь аппарат, который мог бы принять на себя управление городом, впредь до установления законной власти в лице Комитета Учредительного собрания, и попутно сделал мне предложение занять пост коменданта одного из петроградских районов. По его словам, такие посты должны организовываться в каждом районе. Район предложил выбрать самому. На мой вопрос, что же я должен буду сейчас делать на названном посту, он ответил: «Сейчас ничего, но быть в нашем распоряжении и ждать приказаний». Причем указал, что если я соглашусь, то могу рассчитывать на получение прожиточного минимума и на выдачу всех расходов, связанных с организацией».
И хотя Каннегисер набирал штат будущих комендантов городских районов, а Перельцвейг лишь будущих солдат — не трудно заметить сходство методов. Деньги обещались сразу по получении согласия, а дальше завербованные должны были находиться «в нашем распоряжении», чтобы в нужный момент перерезать телефонный провод, снять часового или же принять на себя управление городским районом…
Конечно, можно предположить, что все это — игра в казаков-разбойников, только в варианте 1918 года, но, судя по показаниям Перельцвейга, на игру это не похоже. Скорее всего, такое задание и Перельцвейгу, и Каннегисеру было дано Сионистской организацией, к которой они принадлежали.
В любом случае мстить Урицкому за расстрел Перельцвейга было бессмысленно, потому что Урицкий сделал все, чтобы спасти Перельцвейга, и — небывалый случай в истории ПетроЧК — отказался участвовать в голосовании по этому вопросу. Законов иудаизма товарищ Урицкий, все свое детство постигавший основы Талмуда, не нарушил. Еврейской крови на нем не было.
В свете этих фактов иное значение приобретают визит Каннегисера в Петроградскую ЧК незадолго до убийства им Урицкого, те таинственные переговоры, которые вел Каннегисер по телефону с Урицким.
Марк Алданов пишет в своем очерке:
«За несколько времени до убийства Каннегисер сказал с усмешкой одному своему знакомому:
— NN, знаете, с кем я говорил по телефону?
— С кем?
— С Урицким».
Марк Алданов отмечает, что ни минуты не сомневался он в верности сообщения NN. «Не сомневаюсь, ибо я знал Леонида Каннегисера. Это был его стиль».
Это подтверждает и председатель ПетроЧК Н. Антипов в своих «мемуарах», опубликованных в «Петроградской правде».
«Установить точно, когда было решено убить товарища Урицкого, Чрезвычайной Комиссии не удалось, но о том, что на него готовится покушение, знал сам товарищ Урицкий. Его неоднократно предупреждали и определенно указывали на Каннегисера, но товарищ Урицкий слишком скептически относился к этому. О Каннегисере он знал хорошо».
Так о чем же мог говорить Леонид Каннегисер с Моисеем Соломоновичем Урицким, чем было вызвано «сильнейшее волнение», охватившее Леонида в августовские дни восемнадцатого года?
Мы уже говорили: две стихии боролись в его душе… Еврейская среда, иудейская мораль, Сионистская организация — все это с одной стороны. Как сказала на допросе Роза Львовна Каннегисер: «Мы принадлежим к еврейской нации и к страданиям еврейского народа мы, то есть наша семья, не относимся индифферентно».
А с другой стороны, было ощущение себя, с самых малых лет, потомственным русским дворянином, было общение с юнкерами, дружба, презрение к смертельной опасности, любовь к России… По словам Г. Адамовича, «Леонид был одним из самых петербургских петербуржцев, каких я знал… Его томила та полу-жизнь, которой он жил».
И еще, конечно же, была поэзия, были стихи, в которых Каннегисер и так и эдак примерял на себя смерть…
Или так:
«Каннегисер, — как писал Георгий Иванов, — погиб слишком молодым, чтобы дописаться до «своего». Оставшееся от него — только опыты, пробы пера, предчувствия. Но то, что это «настоящее», видно по каждой строке».
А еще была революция, страшная смута, переустройство, перетряска самих основ жизни. Но это тоже с одной стороны… С другой — мимикрия семейной среды, метаморфозы, происходящие с отцом, о котором едко писали в стихотворном посвящении в газете «Оса»:
И. С. Каннегисеру
И может быть, ко всему этому Леонид Каннегисер и смог бы привыкнуть, но в восемнадцатом году ему было только двадцать два года, а кому в двадцать два года не кажется, что он сумеет переделать мир? Кого можно убедить в этом возрасте, что точно так же, как он, думали десятки, сотни, тысячи людей до него?
Можно предположить, что самым страшным для Каннегисера, когда он узнал о расстреле Перельцвейга и курсантов Михайловского училища, были не переживания по поводу горестной судьбы товарищей-сверстников. Гораздо страшнее и ужаснее было осознание, что и он, Леонид Каннегисер, — бог знает кем он только не представлял себя в романтических мечтаниях! — мог оказаться точно в такой же ситуации, как Владимир Перельцвейг, точно так же мог бы обречь на смерть ни в чем не повинных мальчишек, а главное, от него точно так же, как от Перельцвейга, отказались бы те, кто отдал ему приказ вести разговоры о вербовке.
И, конечно, не сама смерть пугала его, а то, что он — такой единственный! — оказывался просто пешкой в руках других людей.
И вполне возможно, что это осознание и возникло в Каннеги-сере, когда Моисей Соломонович Урицкий объяснял-таки ему, что не причастен к смерти Перельцвейга.
Несомненно, что если Урицкий и принадлежал к той же организации, что и Каннегисер, то занимал в ее иерархии гораздо более высокую ступень. Тем не менее это не значит, что достаточно откровенного разговора между ними не было.
Зачем-то ведь звонил Урицкому Каннегисер, зачем-то ведь своею рукой написал Моисей Соломонович то самое «Постановление» о расстреле, где прямо записано, что он отказался от голосования. И, разумеется, не Леонида он опасался, а просто не хотелось ссориться с весьма влиятельной в еврейских кругах семьей. С усмешкой смотрел Урицкий на юношу, не понимая, что становится в эту минуту живым воплощением той морали, против которой взбунтовался Леонид. Урицкий никогда не отличался ни особым умом, ни достаточной тонкостью. Самодовольно улыбался он, не скрывая даже, какие бездны посвящения разделяют их.
Несомненно, что личностные качества Урицкого сыграли тут немалую роль. В отличие от того же Алейникова, члена ЦК Сионистской организации, которого знал Каннегисер, Урицкий был откровенным мерзавцем. Персонифицировать именно Урицкого с сионистским злом, вроде бы и охраняющим каждого отдельного еврея, но вместе с тем использующим для этого самые гнусные и подлые приемы, Каннегисеру было просто психологически легче.
И, возможно, именно тогда Каннегисер и сказал Урицкому, что убьет его — откуда-то ведь возникли в ЧК слухи, что Урицкий заранее знал об угрозе убить его. Урицкий не поверил в это. Он засмеялся. Он и представить не мог, что Каннегисер, принадлежащий к ортодоксальному еврейству, сумеет переступить через главный принцип еврейства — не убивать друг друга…
Каннегисер сумел. Через несколько дней он выстрелил Урицкому в затылок, обрывая гнусную жизнь этого подонка. И стрелял он, как уже говорили мы, не только в Урицкого…
Разумеется, о содержании разговора Каннегисера и Урицкого можно говорить только предположительно, как и о том, что чувствовал Каннегисер во время этого разговора. Все записи Каннегисера по этому поводу, если они и были, уничтожены.
Тем не менее мы привели эту версию, ибо только она и позволяет объяснить те немыслимые, неправдоподобные факты, с которыми сталкиваешься, работая с документами дела.
Мы не знаем также о содержании разговора Ф. Э. Дзержинского с Л. И. Каннегисером уже после убийства М. С. Урицкого. Или разговор этот шел с глазу на глаз, или же протокол допроса также уничтожен.
И опять-таки можно только догадаться, почему это было сделано. Дзержинский — очень крупный революционер, до революции он был приговорен к каторге, на которую, как известно, ссылали таких людей лишь за убийства. И, конечно, разговор убийцы с убийцей об убитом убийце явно не предназначался ни для чужих ушей, ни для истории.
Но очень может быть, что именно на этом допросе и показал Дзержинский написанное рукой Моисея Соломоновича Урицкого «Постановление», доказывающее непричастность Урицкого к убийству Перельцвейга.
Какие цели преследовал этим Дзержинский, понятно, но реакция Каннегисера была неожиданной для него. Вместо смятения, которое должен был вызвать этот документ в Леониде, Дзержинский увидел, что молодой человек облегченно вздохнул…
Понял ли Дзержинский, что не в Урицкого стрелял Леонид Каннегисер из револьвера системы «кольт», а в ту мораль, носителем которой являлся и он, Дзержинский, и масса других евреев — большевиков и неболыпевиков?
И уж наверняка не сообразил Дзержинский, что именно сейчас окончательно и точно понял Каннегисер, как устроена ЧК.
Характерно, что, вернувшись в камеру после разговора с Дзержинским, и начинает Каннегисер разрабатывать план своего побега. Теперь он точно знал, что никому, кроме него самого, осмелившегося перешагнуть через заповеди Талмуда, ничего плохого в ЧК сделано не будет.
Он не ошибся…
Еще в августе отец его, Иоаким Самуилович Каннегисер, подал прошение украинскому консулу: «Представляю при сем документ о принадлежности моей к дворянству Виленской губернии, покорнейше прошу о зачислении меня в Украинское подданство со всем моим семейством» (т. 6, л. 15), но после расстрела Леонида надобность в перемене гражданства отпала. Иоаким Самуилович продолжал жить со своим семейством в Петрограде, не подвергаясь никаким преследованиям. Благополучно были отпущены и другие лица, арестованные товарищем Отто. И Яков Самуилович Пумпянский, и Юлий Иосифович Лепа, и Максимилиан Эмильевич Мандельштам, и Александр Рудольфович Помпер, и Лазарь Германович Рабинович, и Иосиф Иванович Юркун, и Рафаил Григорьевич Гольберг, и Шевель-Мовша Аронович Лурье, и Давид Соломонович Гинзбург, и Рейнгольд Эдуардович Розентретер, и Александр Давидович Пергамент, и Яков Леонтьевич Альбов, и Виктор Хаймович Фридштейн, и Адель Исааковна Натансон, и Григорий Израйлевич Гордон, и Елена Венедиктовна Блох, и десятки других благополучно были отпущены из тюрьмы и продолжали заниматься своими делами, словно и не было никакого террора, словно не в кровавой замятие уже вовсю бушующей гражданской войны жили они, а в каком-то очень уютном, удивительно правовом, как теперь любят выражаться, государстве.
Впрочем, они действительно жили в правовом государстве. В том государстве, вход в которое неевреям был закрыт…
10
И все-таки надо сказать, что и среди евреев не было единодушия в осуждении поступка Каннегисера. Мы уже приводили свидетельство Марка Алданова, оценивавшего поступок Каннегисера отлично от Дзержинского и Зиновьева.
Но это произошло уже годы спустя, когда наметилась трещина между евреями и евреями-большевиками. Между тем в деле об убийстве Урицкого немало подобных свидетельств и из того же восемнадцатого года.
Во второй том подшит любопытный донос члена Петросовета Абрама Яковлевича Шепса на доктора Моисея Иосифовича Грузенберга.
«При первой встрече, которая была после убийства т. Урицкого, у нас зашел разговор на политическую тему, причем Грузенберг не знал, кто я такой. Грузенберг стал говорить о большевиках и Советской власти самые грязные вещи. Я ему не возражал с целью вызвать его на откровенность.
В следующий раз Грузенберг сказал: «В скором времени я (то есть Грузенберг) буду стоять во главе карательного отряда и поголовно всех причастных к Советской власти вырежу без всякой пощады…»
В ответ на мой вопрос, кто такой Каннегисер, который убил Урицкого, Грузенберг ответил: «Это из самой лучшей семьи Петрограда, и даже священный долг его был убить Урицкого. Я даже не остановился бы благословить моего сына, чтобы он убил такого мерзавца» (л. 215).
Правда, из допроса арестованного Моисея Иосифовича Грузенберга выяснилось, что Абрам Яковлевич Шепс и сам был далеко не ортодоксальным большевиком:
«Около недели назад перед моим арестом я был приглашен к детям мне неизвестного Шепса в качестве врача. При разговоре жена Шепса говорила о пользовании ее сына врачом, который во время тяжелой болезни сына нередко заводил разговоры о нарастающем в известной части русского общества антисемитизме. На это я ответил, что и я среди своих русских пациентов замечаю резкое недовольство евреями, и ответил, как противоположность, что дело Бейлиса, напротив, произвело в свое время в известной части русского общества сдвиг в пользу евреев.
Провожая меня, Шепс продолжил разговор о деле Бейлиса, говорил об его советах моему брату, одному из защитников Бейлиса. Для меня было ясно, что это не соответствует действительности, ибо Шепс моему брату никаких советов не давал. Тогда же Шепс стал говорить, что собирается отправить свою семью обратно в Швейцарию, и у нас зашел разговор о средствах. Шепс сообщил, что кроме службы в качестве председателя Контрольной комиссии он продолжает службу в предприятиях Бажолина… И Бажолин все возместит, потому что он, Шепс, состоя на советской службе, всячески старается отстоять интересы предприятий Бажолина…»
Конфликт между Грузенбергом и Шепсом возник вовсе не из-за оценки поступка Каннегисера. Эмигрант из Швейцарии, сразу поступивший на ответственную советскую службу, Абрам Яковлевич Шепс был неумеренно самовлюблен, хвастлив, а главное — неприлично жаден.
«Прощаясь, Шепс просил разрешения зайти за рецептом на белую муку для его больного сына… Я написал ему рецепт на муку. Шепс указал, что по такому рецепту он получит муку в ничтожном количестве и попросил переписать рецепт на спирт… сказал, что за спирт можно получить муку в таком количестве, что он охотно бы уступил мне значительную часть…»
Разумеется, Грузенберг расценил это предложение примерно так же, как если бы Абрам Яковлевич предложил ему сообща стащить чей-нибудь кошелек, и немедленно выгнал Шепса.
Тогда обозленный Шепс и написал донос в ЧК.
Историю эту мы рассказали для того, чтобы показать, у каких евреев мог найти Каннегисер понимание, а у каких — нет. История эта показывает также, что жадные, малообразованные, малокультурные евреи образца шепсов, Зиновьевых, урицких, дорвавшихся до власти, были заинтересованы в еврейской взаимовыручке гораздо больше, нежели евреи, принадлежавшие к среде Каннегисеров или Грузенбергов. Донос Шепса показывает также, что рано или поздно — вспомните слова Моисея Иосифовича: «Я бы благословил своего сына, чтобы он убил такого мерзавца» — Леонид Каннегисер должен был появиться. Это была единственная реакция высшего еврейского общества на полуграмотных, воровато-жадных евреев-большевиков, захвативших власть в стране.
И опять-таки, хотя бы уж из чувства страха, которое внушали евреям-большевикам эти семейства, не могли еврейские мерзавцы и подонки из ПетроЧК предпринять что-либо против этих семейств. Это потом, когда укрепится большевистская власть, начнутся перемены и во взаимоотношениях групп еврейства. В тридцатые годы, когда уже вовсю разгорится еврейско-кавказская война, красный террор настигнет и эти семейства. Многие из тех, чьи фамилии привели мы в списках освобожденных Антиповым по делу Каннегисера арестантов, снова будут возвращены в камеры НКВД, чтобы уже больше не выйти оттуда…
11
В ноябре 1918 года следователи Эдуард Морицевич Отто и Александр Юрьевич Рикс были освобождены от ведения дела об убийстве Урицкого. Оба они получили назначение в Эстонию. Отто — председателем ЧК Эстляндской трудовой коммуны, Рикс — наркомом финансов и членом Президиума ЧК.
Когда так называемая Эстонская Советская Республика пала, они вернулись назад в Петроград и, конечно же, оказались не у дел в здешней ЧК. Это было тем обиднее, что за месяцы, проведенные в Эстонии начальником ЧК, в Эдуарде Морицевиче убеждение, что «расстрелифать нато фсех честно и еврееф тоже» — только окрепло.
Хмурый, ходил Отто в свободное от расстрелов время по помещениям ЧК и думал, думал. Наконец в мае 1919 года чекистское счастье, как показалось тогда товарищу Отто, улыбнулось ему. В мае начали «разгружать» архивы Петроградской ЧК, и во дворе, на Гороховой, 2, складывали костры из ненужных дел. Среди этого предназначенного для сожжения хлама Эдуард Морицевич и увидел знакомые ему папки с делом об убийстве товарища Урицкого. Буквально из огня вытащил их товарищ Отто…
«В деле было много обвинительного материала, — говорил он, докладывая на Президиуме ПЧК и ВЧК, — как протоколов допросов, так и вещественных доказательств, и — почему-то получилось так, что много обвинительного материала было выброшено из дела, и, как говорили, было во время уборки в столе ушедшего из ЧК Антипова. Оттуда, во время чистки комнат, с прочим мусором его стали таскать на двор для сжигания. Странно, что Антипов, хорошо зная про существование этого материала, послал дело об убийстве тов. Урицкого в Москву (то есть послал почти пустые крышки этого дела) после освобождения, преступников.
Найденный нами среди хлама во время сжигания обвинительный материал тщательно подобран, сшит…
Узнав, что в Москве производится расследование по делу Каннегисера, следователи Отто и Рикс считают своим долгом составить настоящий доклад для препровождения его в Москву в ВЧК вместе с случайно уцелевшими от уничтожения вещественными доказательствами».
Мы не знаем, обрадовались ли московские следователи нежданному подарку, зато нам хорошо известна судьба самих дарителей. Вскоре они были уволены из ЧК. Александр Юрьевич некоторое время еще работал по финансовой части, а Эдуард Морицевич вернулся к прежней специальности фотографа — заведовал фотолабораторией в Государственном Русском музее.
Затем оба они были расстреляны как участники террористической организации «Фонтанники»…
И тем не менее отправленная ими в ноябре девятнадцатого года посылка все-таки дошла до адресатов, и сейчас мы, те, кому и была адресована она, смогли узнать тайны ПетроЧК, которые пытались скрыть верные ученики Моисея Соломоновича Урицкого — Бокий, Антипов, Иоселевич…
12
ПО РАДИО. ВСЕМ, ВСЕМ! КО ВСЕМУ ЦИВИЛИЗОВАННОМУ МИРУ ОТ СОВЕТА КОМИССАРОВ СОЮЗА КОММУН СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ.
Фактическими убийцами Володарского, Урицкого, покушения на Ленина и Зиновьева являются англо-французы…
Подлые душители свободы пошли на все… Товарища Урицкого они убили потому, что товарищ Урицкий получил в свои руки нити целого английского заговора в Петрограде…
При появлении в здании посольства представителей нашей комиссии по борьбе с контрреволюцией английские заговорщики во главе с офицером Кроме открыли стрельбу, убили нашего товарища Янсона и тяжело ранили товарищей Шейкмана и Бортновского, которые в настоящий момент находятся при смерти.
Г. Зиновьев
Ф. Дзержинский
Военный комиссар В. Позерн
А. Луначарский
2 сентября 1918 года.
Эта радиограмма, опубликованная потом в различных газетах, показывает, какая паника охватила большевиков после того, как еврейка Фанни Каплан выстрелила в Ленина, а еврей Леонид Каннегисер убил Урицкого. Паника рождалась, конечно, не от самого факта покушения. Втравливая русский народ в гражданскую войну, едва ли, при всей своей неумности, большевики рассчитывали, что это пройдет для них безнаказанным. Едва ли… Так что сам факт террористических актов не мог быть для них неожиданностью. Поразило большевиков другое. Евреи убивали евреев — вот это действительно вызывало шок.
На следующий день после убийства Урицкого чекистами был совершен налет на английское посольство, а в понедельник, 2 сентября, произведен массовый расстрел.
Чекиста товарища Петерса трудно было заподозрить в гуманизме, но и он назвал первые дни сентября в Петрограде — «истерическим террором».
Истерика захлестывала речи на заседаниях, статьи в партийных газетах, истерика диктовала постановления о расстрелах.
«Каннегисер — двоюродный брат Филоненко. Еврей, хотя и дворянин… — писала в те дни «Петроградская правда». — Непосредственно убийцей тов. Урицкого, быть может, и впрямь руководили только идейные соображения. Но в действительности руку убийцы направляли англо-французские империалисты и банда черносотенного воронья».
Товарищ Позерн, один из ближайших друзей Урицкого, на траурном заседании Петросовета сказал:
«Нелегка была та черная работа, которую нес тов. Урицкий и которая отрывала его от рабочих масс. В то время, когда во всех советских районах все спали, на Гороховой, 2 светилась лампада, где тов. Урицкий должен был обдумывать каждый росчерк своей руки об арестах…
Тов. Урицкий не имел личной жизни, не имел семьи. Вся жизнь, все мысли и желания его растворялись в успехах движения общего дела. Этот скромный человек был высшим идеалом человечества, способный раствориться в целом коллективном творчестве».
Слова «человек» и «еврей», «человечество» и «еврейство» для т. Позерна были синонимами, и он говорил на заседании Петросовета о скромном еврее, который был, по его мнению, «высшим идеалом человечества», и не понимал: как такого еврея мог убить еврей…
Насколько мучительным был этот вопрос для всех евреев-большевиков, показывает и то, что все «лучшие умы» большевистской партии пытались ответить на него.
Николай Бухарин, например, написал даже статью «Ленин — Каплан, Урицкий — Каннегисер».
«Тов. Урицкий, — писал Бухарин, — четверть века стоявший на своем посту, как бессменный часовой, известный пролетариату по меньшей мере четырех стран, знающий чуть не все европейские языки, имеющий семилетнюю тюрьму и закаливший свои нервы, как сталь…
А с другой стороны — юнкер, бегущий после убийства пролетарского вождя под сень английской торговой палаты, человечек, заявляющий, что он — «еврей, но из дворян», — прямо типичная фигура, про которую «глас божий» говорил когда-то «учись — студентом будешь, не научишься — офицером будешь». Боящийся своего еврейства, напирающий на свое дворянство и в то же время объявляющий себя социалистом юный белогвардеец — разве это не достаточно «яркая» фигура? К тому же двоюродный брат Филоненки — палача, того самого Филоненки, который писал когда-то палаческие шпаргалки для генерала Корнилова».
Напомним, что сам Урицкий в свое время назвал Филоненко организатором убийства Володарского. Но это попутное замечание. Никакие родственные связи здесь были неприемлемы для большевиков. Идя по родственным связям, им пришлось бы встать на путь, который и предлагали чекисты Отто и Рикс, то есть евреям — расстреливать евреев.
Выход, и выход весьма «неадекватный», был все-таки найден.
Еще 31 августа «Красная газета» написала: «За кровь товарища Урицкого, за ранение тов. Ленина, за покушение на тов. Зиновьева, за неотомщенную кровь товарищей Володарского, Нахимсона, латышей, матросов — пусть польется кровь буржуазии и ее слуг — больше крови!»
Анатолий Мариенгоф так вспоминал эти дни:
«Стоял теплый августовский день… По улице ровными каменными рядами шли латыши. Казалось, что шинели их сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди несли стяг, на котором было написано: «Мы требуем массового террора».
Поскольку террора требовали и газеты, и латыши, то евреи-большевики не смогли им отказать в этом.
Народный комиссар внутренних дел Петровский обратился ко всем Советам с циркулярной телеграммой:
Убийство тов. Володарского, тов. Урицкого и покушение на тов. Ленина, массовый расстрел товарищей на Украине, в Финляндии и у чехословаков, открытие заговоров белогвардейцев, в которых открыто участвовали правые эсеры, белогвардейцы и буржуазия, и в то же время отсутствие серьезных репрессий по отношению к ним со стороны Советов показало, что применение массового террора по отношению к буржуазии является пока словами. Надо покончить, наконец, с, расхлябанностью, с разгильдяйством.
Надо всему этому положить конец.
Предписывается всем Советам немедленно произвести арест правых эсеров, представителей крупной буржуазии, офицерства и держать их в качестве заложников. При попытке скрытия или при попытке поднять движение немедленно применять массовый расстрел безоговорочно.
Местным губисполкомам и управлениям принять меры к выяснению всех лиц, которые живут под чужой фамилией с целью скрыться.
Нам необходимо немедленно, раз и навсегда, обеспечить наш тыл от всякой белогвардейской сволочи и так называемых правых эсеров. Ни малейшего колебания при применении массового террора.
Народный комиссар внутренних дел Петровский.
«Россией сейчас распоряжается ничтожная кучка людей, к которой вся остальная часть населения, в громадном большинстве, относится отрицательно и даже враждебно, — писала об этих днях Зинаида Гиппиус. — Получается истинная картина чужеземного завоевания. Латышские, башкирские и китайские полки (самые надежные) дорисовывают эту картину. Из латышей и монголов составлена личная охрана большевиков, китайцы расстреливают арестованных».
В картине, нарисованной Зинаидой Гиппиус, отсутствует главный составляющий и определяющий все элемент — еврейство. Он как бы подразумевается, но — вот она, подлинная либеральная вышколенность! — не называется.
Фигура умолчания для либеральной писательницы весьма типичная. И тем не менее и она не в силах скрыть растерянность, охватившую людей этого круга в сентябрьские дни восемнадцатого года. Если большевиков охватил шок от сознания, что теперь евреи стреляют в евреев, то и в либеральном лагере переживали не меньший шок от сознания, какие формы обрело равноправие евреев, за которое они всю жизнь боролись.
Понять, как понималось большевиками равноправие евреев и как оно осуществлялось, мы и пытались в этой книге. Мы ничего не придумывали, а приводили только факты. Действительно… еврей Яков Григорьевич Блюмкин убил человека. И не просто человека, а иностранного посланника, и не просто убил, а воспользовался для этого документами ВЧК, скомпрометировав тем самым эту организацию (если ее, конечно, еще можно было скомпрометировать). За все это он заочно был осужден на три года лишения свободы, но отсидел меньше месяца, потому что, когда явился с повинной, был немедленно амнистирован и возвращен на ответственную работу.
Леонида Николаевича Боброва, о судьбе которого мы писали, рассказывая о «Каморре народной расправы», расстреляли только за то, что он взял якобы у Злотникова один экземпляр прокламации для ознакомления.
Родственники Леонида Иоакимовича Каннегисера пытались организовать вооруженный налет на Гороховую, 2, где размещалась ПетроЧК… Чекисты считали этот факт доказанным, тем не менее всем арестантам наказание было ограничено теми месяцами, что они уже просидели под следствием.
Зато Василия Мухина расстреляли только за то, что он якобы дал 200 или 300 рублей на печатание прокламаций.
Понять что-либо в этой логике невозможно, если не вспомнить, что и Блюмкин, и Каннегисеры были евреями, а Бобров и Мухин — русскими.
Поэтому, хотим мы того или не хотим, но необходимо признать, что законы для евреев и неевреев, установленные большевиками, были принципиально разными. Неевреев расстреливали иногда только за то, что человек чем-то не понравился следователю, зато еврей мог застрелить иностранного посланника или выстрелить в вождя пролетариата (Яков Блюмкин и Фанни Каплан) и отделаться сравнительно незначительным наказанием. Тут мне могут возразить, что вот Леонида Иоакимовича Каннегисера все-таки ведь расстреляли. Но — об этом мы тоже уже говорили — не будем забывать, что Леонид Иоакимович убил не графа Мирбаха, а еврея — Моисея Соломоновича Урицкого. Если бы Моисей Соломонович был каким-нибудь французом или англичанином, может быть, судьба Леонида Иоакимовича и сложилась бы иначе.
Убийство шефа ПетроЧК — крайний случай. Практически же, и это мы тоже должны признать, еврей после победы большевиков мог делать в России все что угодно, совершать любое преступление, заранее зная, что никакого наказания за это не понесет.
Это и называлось в большевистском понимании равноправием евреев, ради которого столько трудилась русская интеллигенция, в жертву которому была принесена вся Россия.
Конечно же, запоздалое понимание того, как осуществляет свое «равноправие» местечково-большевистское еврейство, повергло в шок как русских либералов, так и многих еврейских интеллигентов.
Но было уже поздно. Страна стремительно погружалась во мрак гражданской войны и кровавого хаоса. В пятницу, 6 сентября, в «Красной газете» начали публиковаться списки заложников…
«Город был мертв и жуток… — описывал осень восемнадцатого года в Петрограде Владислав Ходасевич. — По улицам, мимо заколоченных магазинов, лениво проползали немногочисленные трамваи. В нетопленых домах пахло воблой. Электричества не было…»
Ходасевич тогда совсем немного провел в Петрограде времени и поэтому не успел заметить, что электричество все-таки иногда включали, когда проводились повальные обыски.
Мы уже не раз обращались к записным книжкам Александра Блока.
Его записью, сделанной 31 декабря 1918 года, и хотелось бы завершить повествование о самом коротком и самом страшном в истории России годе:
Слухи о закрытии всех лавок. Нет предметов первой необходимости. Что есть — сумасшедшая цена. Мороз. Какие-то мешки несут прохожие. Почти полный мрак. Какой-то старик кричит, умирая от голоду. Светит одна ясная и большая звезда…
ЖИВЫЕ ПРОТИВ МЕРТВИ
Перечитывая «Поднятую целину» М. Шолохова
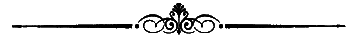
1
Прошлым летом я перечитывал «Поднятую целину» Михаила Шолохова. Помню, зашел ко мне приятель, человек образованный и весьма начитанный. Увидев лежащую на диване книгу, он спросил:
— А это кто читает?
— Я…
— Ты?! — В голосе приятеля звучало неподдельное удивление, даже недоумение какое-то. — А зачем?!
— Ну, как — зачем? — пожал я плечами. — А зачем вообще книги читают? Отчасти, наверное, для удовольствия, отчасти из желания разобраться в жизни, в истории…
— Так ведь это же книги! — сказал приятель, перебивая меня. — А я про «Поднятую целину» тебя спрашиваю.
— А ты сам-то читал этот роман? — поинтересовался я.
— В школе проходили… — ответил приятель. — А чтобы читать, другие книги имеются.
И так было непоколебимо его убеждение, что не допускало и самой возможности спора. И как-то Очень грустно стало. Писательские судьбы — увы! — редко бывают счастливыми, но писательская судьба Михаила Шолохова и в этом смысле отличается. Он рано приобрел признание, будучи еще совсем молодым человеком, вошел в ранг классика, но это — внешняя сторона дела. За внешней атрибутикой громкого успеха — чернота ненависти, которая сопровождала писателя всю жизнь. Его «Тихий Дон» почти сразу, после публикации первых книг, был объявлен плагиатом, была создана специальная комиссия, перед которой писатель отчитывался, доказывая, что он сам написал роман. Этой разборкой дело не ограничилось. На протяжении десятков лет целая армия прокуроров от литературоведения кормилась, подыскивая подходящую кандидатуру на роль подлинного автора. Не окончились эти разговоры и после смерти Михаила Александровича. Уже в годы «перестройки» некий Правдюк сумел сделать себе карьеру (стал руководителем телекомпании «Петербург — 5-й канал»), регулярно обливая грязью Шолохова.
Вдаваться в анализ потоков лжи, которые направлял на телезрителей этот «исследователь», — дело заведомо бессмысленное. В ход шло все, все помои антишолоховедения были процежены сквозь голубоватый свет телеэкрана.
Но о самом подлом аргументе, которым издавна уже пользовались завистники писателя, сказать нужно. Шолохов, утверждали они, потому не мог написать «Тихого Дона», что он написал «Поднятую целину»… В этом «аргументе» ложь не только в покрое (почему же это писатель, написавший сильную книгу, не может написать слабую?), но и в самом постулате, что «Поднятая целина» — якобы слабая книга. А подлость в том, что, отстаивая право писателя на неудачу, мы как бы априори признаем неудачей одно из самых выдающихся произведений русской литературы.
И в этом смысле судьба второго шолоховского романа оказалась еще более печальной, нежели судьба «Тихого Дона». В случае с «Тихим Доном» ложь направлена была против автора, в случае с «Поднятой целиной» — против самого романа. Понятно, что изучение литературы в школе прививает учащимся иммунитет к чтению классической литературы, но, пожалуй, и тут шолоховской «Поднятой целине» не повезло особенно сильно. «Поднятую целину» не только не читают, но и пиетета, подобного тому, который каждый нечитатель испытывает, например, к гончаровскому «Обломову», тоже нет. В читательском общественном сознании «Поднятая целина» безоговорочно занесена в разряд лживых книг, воспевавших казенную коммунистическую идеологию.
Приятель, о котором я упомянул в начале статьи, конечно же, не единственный пример подобного отношения. Среди нечитате-лей, отвергающих «Поднятую целину», мы найдем немало честных и совестливых людей, искренне убежденных, что второй роман Шолохов написал, руководствуясь сугубо меркантильными интересами, что в «Поднятой целине» он старательно обошел все острые проблемы эпохи, все опасные углы…
Но подумаем, не спеша и не раздражаясь, какую правду не сказал Шолохов в «Поднятой целине»? Может быть, он ничего не сказал о раскулаченных? Промолчал о том, как проходила коллективизация? А как же тогда Фрол Дамасков? А как же бывший красноармеец Тит Бородин? А куда денешься от истерического рассказа Андрея Разметнова, кричащего Давыдову и Нагульнову:
— …Я… с детишками не обучен воевать!.. На фронте — другое дело! Там любому шашкой, чем хочешь… И катитесь вы под разэтакую!.. Не пойду!.. Я что? Кат, что ли? Или у меня сердце из самородка?.. У Гаева детей одиннадцать штук! Пришли мы — как они взъюжались, шапку схватывает! На мне ажник волос ворохнулся! Зачали их из куреня выгонять… Ну, тут я глаза зажмурил, ухи заткнул и убег за баз! Бабы — по-мертвому, водой отливали сноху… детей… Да ну вас в Господа Бога!..
У Нагульнова, как помнит читатель, при этих словах Разметнова начинает дергаться мускул щеки, глаза загораются, а у Давыдова «медленно крылась трупной синевой» незавязанная щека.
Или, может быть, о так называемых нарушениях соцзаконности промолчал в «Поднятой целине» М. А. Шолохов? А как же тогда подпоручик Лятьевский, левый глаз которого выбил на допросе сотрудник краевого управления ОГПУ товарищ Хижняк?
Или само начало колхозного строительства идеализирует Шолохов? Ничего не говорит, как вышедшим из колхоза после статьи И. В. Сталина «Головокружение от успехов» единоличникам не возвращают принадлежавших им лошадей и быков, весь сельскохозяйственный инвентарь, перенеся расчеты на осень и в результате не давая им вспахать и засеять даже те никудышные, выделенные взамен прежних наделы на Рачьих прудах, и тем самым принуждая их к возвращению в колхоз?
Да нет же… Пишет Шолохов и о раскулачивании, и о жестоком принуждении к колхозной жизни, звучат в его романе и голоса бывших белогвардейцев, рассказывающих о своей правде. Другое дело, что в отличие, например, от Василия Белова в «Канунах» Шолохов не идеализирует кулаков, или, вернее, тех людей, которых по решению актива записали в кулаки, и белогвардейские офицеры, мечтающие поднять восстание, тоже весьма далеки от идеала. Но ведь такими, наверное, они и были, при всем при том, что судьба их, конечно же, не может не вызвать сочувствия…
Вот я и повторяю вопрос: какую же правду, о которой нам потом поведали обличители Сталина или писатели-деревенщики, обошел в «Поднятой целине» М. Шолохов? Мне, конечно же, возразят, дескать, Шолохов пишет и о том, как выгоняли зимою из родных, дедами построенных домов «кулацкие» семьи с детишками, как везли их на Север на верную смерть (вспомните: Тимофей Рваный рассказывает, как погиб в дороге его отец), и о жестокости коммунистов тоже пишет, но все это на периферии повествования, а в. центре — образы коммунистов — Давыдова, Нагульнова, Разметнова, Майданникова, и это их глазами видим мы события коллективизации, под их углом зрения воспринимаем все происходящее в Гремяченском сельсовете. Вот это верно. Хотя верно только отчасти. Трудно сказать, что Яков Лукич Островнов или, например, живущие у него есаул Половцев и подпоручик Лятьевский размещены Шолоховым на периферии повествования. Но верно, верно, что образы коммунистов, организаторов колхоза, не вымазаны Шолоховым черной краской, как это сделано у того же Василия Белова, и хотя и далеки от идеала, но показаны с нескрываемым сочувствием. Безусловно, верно и то, что — «вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову, отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, текущая откуда-то с верховьев Гремя-чего буерака…» — Шолохов любил их и открыто признавался в своей любви к этим героям.
Это верно, как верно и то, что именно этой любви писателя к своим героям-коммунистам и не могут простить Шолохову его критики и недоброжелатели. Эта любовь писателя, который сам в ней не властен, как не властен в своей любви и любой другой человек, настолько застит глаза критикам Шолохова, что они уже и не замечают, что роман «Поднятая целина» совсем не о коммунистах и белогвардейцах, не о борьбе организаторов колхозов с «кулаками», а совсем о другом…
2
«В конце января, овеянные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады. В полдень где-нибудь в затишке (если пригревает солнце) грустный, чуть внятный запах вишневой коры поднимается с пресной сыростью талого снега, с могучим и древним духом проглянувшей из-под снега, из-под мертвой листвы земли».
Так начинается «Поднятая целина». Эта первая фраза — камертон к дальнейшему повествованию, в ней — ключ к замыслу всего романа. Стоит лютая зима, и вот среди зимнего холода, где-нибудь в затишке, вдруг возникает чуть внятный запах весны, пробуждения.
Январскими холодами 1930 года появляются на хуторе Гремя — чий Лог два незнакомца. Один — есаул Половцев.
«Над чернью садов, тянувшихся по обеим сторонам узкого проулка, над островами тополевых левад высоко стоял ущербленный месяц. В проулке было темно и тихо. Где-то над речкой голосисто подвывала собака, желтел огонек. Всадник жадно хватнул ноздрями морозный воздух, не спеша снял перчатку, закурил, потом подтянул подпругу, сунул пальцы под потник и, ощутив горячую, запотевшую конскую спину, ловко вскинул в седло свое большое тело…»
Как в классической драме, одновременно с Половцевым появляется в Гремячем Логу и двадцатипятитысячник Семен Давыдов.
«Он проснулся от холода, взявшего в тиски сердце, и, открыв глаза, сквозь блещущие радужным разноцветьем слезинки увидел холодное солнце, величественный простор безлюдной степи, свинцово-серое небо у кромки горизонта и на белой шапке кургана невдалеке — рдяно-желтую, с огнистым отливом, лису…»
Давыдов и Половцев — противники. Но оба они приехали на хутор, чтобы переустроить здешнюю жизнь. Давыдов хочет сделать здешних казаков — колхозниками, Половцев — превратить их в повстанцев. Давыдову предстоит опираться в своей деятельности прежде всего на Макара Нагульнова, секретаря партячейки, Половцеву — на «культурного хозяина», Якова Лукича Островнова.
И если мы внимательно прочтем первые страницы романа, прочтем их, не вспоминая известного по учебникам сюжета, то наверняка заметим, что никакого предпочтения кому-либо из героев Шолохов не оказывает. На первых страницах Половцев и Островнов выглядят даже более симпатично, вызывают большее читательское уважение, нежели собравшийся послушать Давыдова гремяченский актив.
«Тридцать два человека… — пишет Шолохов, — дышали одним дыхом. Давыдов не был мастером говорить речи, но слушали его вначале так, как не слушают и самого искусного сказочника».
Говорил же Давыдов о том, что хлеборобов от бедности может выручить только трактор. Факт. А для трактора надо объединяться в колхозы.
Насчет тракторов действительно сказка. Когда еще они появятся (в романе у Шолохова этих тракторов так и не будет), а самое главное, что и они, трактора, как это известно нам, не приведут колхозные хозяйства к процветанию. И дело тут не в отрицании пользы механизации, а в превращении ее в этакую универсальную палочку-выручалочку. Тем более что не такой уж и безобидной оказывается «сказка» Давыдова. Он, конечно, не мастер говорить речи, но линию партии проводит твердо, и линия эта весьма хитрая.
О кулаке на собрании бедноты начинает говорить не Давыдов, не Макар Нагульнов, а Павел Любишкин, готовый в колхоз «с потрохами» пойти. Только одно условие у него: «Жилы кулаку перережьте, тогда пойдем! Отдайте нам его машины, его быков, силу его отдайте…»
«— Что же ты стучишь, ежели открыто? — отвечает ему Давыдов. — Уничтожить кулака как класс, имущество его отдать колхозам, факт!»
Вот тогда, на этом условии, и начинается запись в колхоз. «При подсчете поднятых рук оказалось тридцать три. Кто-то, обеспамятев, поднял лишнюю».
Тридцать три — не случайная цифра. Это символ высшей духовной зрелости. Тридцать три года было в земной жизни Спасителю нашему, Иисусу Христу. Едва ли число это случайно в романе Шолохова. Ни для сюжета романа в целом, ни для сцены собрания, утверждающего к раскулачиванию кандидатуры хуторских казаков, никакой разницы нет двадцать или сорок человек пришло на собрание. Тридцать два человека нужно писателю именно для того, чтобы прозвучало число тридцать три. Правда, получается оно, когда кто-то, «обеспамятев, поднял лишнюю» руку. Фраза, если отбросить ее мистическую наполненность, звучит не по-шолоховски неуклюже. Действительно, разве бывает у человека лишняя рука? Оказывается, бывает. У этих людей, соединившихся в злобном стремлении перерезать жилы удачливым хуторским хозяевам, забрать их силу, лишние не только руки, но и души…
Сцена собрания бедноты и гремяченского актива занимает четвертую главу романа. В третьей же — беседа Половцева с Остров-новым. Есаул Александр Анисимович Половцев тоже говорит с Яковом Лукичом Островновым о колхозах. Половцев тоже рассказывает свою сказку о колхозах, только агитирует он Островнова вступить в боевую группу.
«— …Не только быков, но и детей у тебя отберут на государственное воспитание. Все будет общее: дети, жены, чашки, ложки. Ты хотел бы лапши с гусиным потрохом покушать, а тебя квасом будут кормить. Крепостным возле семьи будешь», — говорит он.
В словах Половцева о колхозах правды больше, чем в речах Давыдова, — так колхозы и замышлялись Лениными, Троцкими, бухариными. Кроме того, за спиною Половцева стоит опыт героического русского сопротивления. И Островнов — человек опытный и умный, осторожный и расчетливый — совершает роковой шаг. Взяв благословение у матери, восьмидесяти летней старухи, которую несколько месяцев спустя заморит голодом, подписывает клятву, предложенную ему Половцевым.
Клятва начинается словами: «С нами Бог!» Этой клятвой и завершается третья глава, а дальше идет сцена собрания гремяченского актива и бедноты. Слово «Бог» ни разу не прозвучит на собрании, но возникнет число «тридцать три», когда кто-то, обеспамятев, поднимет лишнюю руку.
Слово «обеспамятев» по-шолоховски предельно точное. Не «сгоряча», не «сдуру», а именно «обеспамятев». Позабыв, что вся религиозная мистика для собравшихся здесь неприемлема, что все это «только опиум для народа».
3
Сейчас, оглядываясь из девяностых годов на советскую историю, мы ясно видим, что чужеродные для России коммунистические идеи, принесенные сюда Лениными и Троцкими, после неисчислимых страданий и рек пролитой крови оказались уроднены Россией настолько, что стали ненавистными для духовных последователей троцких, бухариных и кагановичей. В высшей степени символично, что именно тогда духовные наследники Троцкого и Ленина и запретили коммунистическую партию, когда в России возникла своя компартия.
Этот процесс мучительного «уроднения» и рисует Михаил Шолохов в «Поднятой целине».
Вспомните о «холоде, взявшем в тиски» сердце Давыдова, когда он въезжает в Гремячий Лог. Вспомните о «трупной синеве», которой медленно крылась его щека, когда он услышал сказанное поперек раскулачиванию слово Разметнова. Перед нами не человек. Или — вернее — не вполне человек. Большевистская нелюдь, для которой не существует людей, ибо все они разделены на «товарищей» и «классовых врагов». Поэтому и самые жестокосердные решения принимает двадцатипятитысячник Давыдов, не волнуясь, не испытывая никакой жалости.
«— Сейчас мы приступаем к обсуждению кулаков, — говорит он. — Вынесем мы постановление к высылке их из пределов Северо-Кавказского края или как?
— Подписуемся! — кричат возбужденные мыслью поделить чужое добро активисты. — Под корень их!
— Нет, уж лучше с корнем, а не под корень», — поправляет их Давыдов.
Под стать ему и секретарь партячейки Макар Нагульнов. Когда во время истерики Разметнова трупной синевой кроется щека Давыдова, Нагульнов «вкогтился в крышку стола, держал ее, как коршун добычу». И лицо его — «одевавшееся мертвенной пленкой».
Он тоже нелюдь сейчас. И когда человеческие чувства зашевелились в недостаточно очерствевшем (или, вернее, недостаточно омертвевшем) Разметнове, Нагульнова охватывает ярость.
«— Гад! — кричит он. — Как служишь революции? Жа-ле-е-ешь? Да я… тысячи станови зараз дедов, детишек, баб… Да скажи мне, что надо их в распыл… Для революции надо… Я их из пулемета… всех порежу!»
Исследователи до сих пор не обращали внимания на необыкновенную близость шолоховского Макара Нагульнова Копенкину из платоновского «Чевенгура».
«Копенкин надеялся и верил, что все дела и дороги его жизни неминуемо ведут к могиле Розы Люксембург. Эта надежда согревала его сердце и вызывала необходимость ежедневных революционных подвигов. Каждое утро Копенкин приказывал коню ехать на могилу Розы…
— Роза-Роза! — время от времени бормотал в пути Копенкин — и конь напрягался толстым телом.
— Роза! — вздыхал Копенкин и завидовал облакам, утекающим в сторону Германии: они пройдут над могилой Розы и над землей, которую она топтала своими башмаками. Для Копенкина все направления дорог и ветров шли в Германию, а если и не шли, то все равно окружат землю и попадут на родину Розы.
Если дорога была длинна и не встречался враг, Копенкин волновался глубже и сердечней…
— Роза! — уговаривал свою душу Копенкин и подозрительно оглядывал какой-нибудь голый куст: так же ли он тоскует по Розе. Если не так, Копенкин подправлял к нему коня и ссекал куст саблей: если Роза тебе не нужна, то для иного не существуй — нужнее Розы ничего нет».
Мысли Копенкина о Розе Люксембург почти текстуально совпадают с мечтаниями Нагульнова о мировой революции:
«— Я весь заостренный на мировую революцию, — рассказывает про себя он. — Я ее, любушку, жду… А баба мне — тьфу и больше ничего».
Как и Копенкин, Нагульнов убивал много лет подряд кого ни попадя «равнодушно, но насмерть», правда, порою у него в уголках губ закипает пена, но в такую минуту Нагульнов готов убить и соратника.
«— Зарублю-у-у-у! — а сам уже валился на бок, левой рукой хватая воздух в поисках ножен, правой судорожно шаря невидимый эфес шашки».
Конечно, Копенкин — фантом, все человеческие чувства и мысли выжжены в нем бредовой идеей. Нагульнов — более реалистический персонаж, он вынужден жить среди живых людей и свою, сжигающую его, как и Копенкина, бредятину он должен сдерживать в себе. Но вот избил Нагульнов Банника, вытребовал у него расписку, в которой тот написал под диктовку: «Я, бывший активный белогвардеец… беру обратно свои слова, невозможно оскорбительные для ВКП(б)… и Советской власти, прошу прощения перед ними и обязываюсь впредь, хотя я и есть скрытая контра… но Советской власти… я вредить не буду…» — и счастлив этой своей победой, и снятся после нее Нагульнову идущие по степи эскадроны. И не может понять Нагульнов ни возмущения Разметнова, ни осуждения Давыдова.
«— Обдумал? — спрашивает у него Давыдов.
— Обдумал! — отвечает Нагульнов. — Мало я ему, сукину сыну, вложил. Убить бы надо!»
Запах мертвечины, которым несет и от Давыдова, и от Нагульнова, очень хорошо чувствует Лушка, побывавшая женой одного и любовницей другого.
«— У вас кровя заржавели от делов…» — скажет она Давыдову.
И от Нагульнова, и от Давыдова уходит она к сыну кулака Тимофею Рваному, уходит, потому что он — живой. В любовном соперничестве за Лушку оба раза Тимофей выходит победителем. И хотя и Нагульнов, и Давыдов не признаются себе в этом, жестоко страдают они от любовного поражения. Нагульнов, стиснув зубы, принимается за изучение английского языка, который потребуется ему для его вечной возлюбленной — мировой революции, а Давыдов уезжает на пахоту, в тяжелой непривычной работе пытается одолеть тоску. Давыдов так никогда и не узнает, что Лушка как бы по его указанию получает у колхозного кладовщика продукты и кормит этим колхозным добром сбежавшего из ссылки Тимофея Рваного.
Тимофея Рваного выследил и убил Макар Нагульнов. Убил не за Лушку, а все за ту же нежно любимую им мировую революцию. Он, во всяком случае, так думал, когда убивал.
Сцена убийства Тимофея Рваного чрезвычайно важна и сюжет-но, и для идеи всего романа в целом. Но еще существеннее, каким видит Нагульнов своего убитого соперника…
«Умолкший после выстрела коростель снова заскрипел, несмело и с перерывами. Стремительно приближался рассвет. Росла, ширилась багряная полоска на восточной окраине темно-синего неба. Уже приметно вырисовывались купы заречных верб. Макар встал, подошел к Тимофею. Тот лежал на спине, далеко откинув правую руку. Застывшие, но еще не потерявшие живого блеска глаза его были широко раскрыты. Они, эти мертвые глаза, словно в восхищенном и безмолвном изумлении любовались и гаснущими неясными звездами, и тающим в зените опаловым облачком, лишь слегка посеребренным снизу, и всем безбрежным небесным простором, закрытым прозрачной, легчайшей дымкой тумана».
Тимофей и после смерти жадно вбирает в себя красоту земли. И в этом смысле, и после смерти он более живой, чем живой Нагульнов.
И дальше одна из самых гениальных страниц романа. Диалог живого и мертвого соперников.
«Макар носком сапога коснулся убитого, тихо спросил:
— Ну что, отгулялся, вражина?
Он и мертвый был красив, этот бабий баловень и любимец. На нетронутый загаром, чистый и белый лоб упала темная прядь волос, полное лицо еще не успело утратить легкой розовинки, вздернутая верхняя губа, опушенная мягкими черными усами, немного приподнялась, обнажив влажные зубы, и легкая тень удивленной улыбки запряталась в цветущих губах…
Ни недавней злобы, ни удовлетворения, ничего, кроме гнетущей усталости, не испытывал теперь Макар, спокойно разглядывая убитого».
Сцена написана, конечно, мастерски. Нагульнов не крикнул, а тихо спросил. Тимофей не мог ответить, но он ответил на обращенный к нему вопрос удивленной улыбкой, запрятавшейся в цветущих губах. И Нагульнов, привычный к разговору с убитыми им, спокойно разглядывая Тимофея, понял этот ответ. Понял, что, и убитый, Тимофей Рваный остается живее его, и сразу гнетущая усталость навалилась на плечи. Он победил, но победа обернулась поражением.
Макар Нагульнов, верный рыцарь мировой революции, готовый ради нее пустить в распыл тысячи детишек и баб, ломается. Он выпускает запертую в сельсовете Лушку — эту изобличенную пособницу классового врага. Более того, он предупреждает ее об опасности.
«— Зараз же иди домой, собери в узелок свои огарки и ступай из хутора навсегда, иначе тебе плохо будет… Тебя будут судить», — говорит он.
Это несомненная измена всему тому делу мировой нелюди, которому так страстно и беззаветно служил Нагульнов. Он пожалел пособника классового врага, он забыл о мировой революции, он расслабился, он начал жить по человечьим законам. Впрочем, сейчас ли ночью изменил Нагульнов делу мировой нелюди? Может быть, эта измена была совершена им, когда, позабыв об учебнике английского языка, застыл он у раскрытого окна, вслушиваясь в перекличку гремяченских петухов? Когда спасал предназначенного на убой петуха с полюбившимся ему голосом? Ведь дело это для мировой революции совершенно ненужное, а значит, и вредное?
Наверное, так… Но сейчас Нагульнов предает мировую революцию уже открыто и бесповоротно.
«— Дай мне сельсоветские ключи, — попросил Макар.
Разметнов, догадываясь, все же спросил:
— Хочешь Лушку выпустить?
— Да.
— Зря!
— Молчи! — глухо сказал Макар. — Я ее все-таки люблю, подлюку…»
А как же «любушка» мировая революция? А как же быть с клятвой Нагульнова, что ему бабы «тьфу и больше ничего»? Когда он кривил душой, тогда или сейчас? А может быть, и не кривил? Может быть, и тогда и сейчас он искренен? Просто сейчас очнулся от копенкинского обморока, захотел жить по-человечески, а не как троцкистская нелюдь?
Лушка сразу поняла, что произошло с Нагульновым.
«…Лушка, провожая его глазами, остановила на нем долгий взгляд, низко склонила в поклоне свою гордую голову. Быть может, иным представился ей за эту последнюю в их жизни встречу всегда суровый и немножко нелюдимый человек? Кто знает…»
4
Схожая метаморфоза происходит в «Поднятой целине» и с Семеном Давыдовым. Могучий и древний дух проглянувшей из-под снега, из-под мертвой листвы земли пробуждает и его омертвевшую душу. Как помнит читатель, окрещенный было «железным аршином», в дальнейшем Давыдов становится «любушкой Давыдовым», за безликими кулаками, середняками, бедняками, вопреки всякой логике классовой борьбы, всаженной в его голову троцкими-бухариными-лениными, начинает различать он лица живых людей, начинает жить их заботами и в результате и сам оживает.
И это и есть — поднятая целина. О тех залежных землях, которые собираются распахивать в гремяченском колхозе, в романе говорится мимоходом. Зато о поднятой целине человеческих душ, омертвевших, подобно душе Копенкина, после трудармий Льва Давидовича Троцкого, после расстрелов тамбовских крестьян и кронштадтских матросов, учиненных «гениальным» полководцем Тухачевским, об этой целине говорится на каждой странице шолоховского романа…
После работы на пахоте, после встречи с «чистой, как зоренька в погожий день», Варюхой Давыдов возвращается на хутор пешком.
«Чтобы сократить путь, он свернул с дороги, зашагал напрямик, целиною, но не прошел и полкилометра, как вдруг словно переступил какую-то невидимую черту и оказался в ином мире: уже не шуршал о голенища сапог зернистый аржанец, не пестрели вокруг цветы, куда-то исчезли, улетучились пряные запахи пышного цветущего разнотравья, и голая, серая, мрачная степь далеко распростерлась перед ним.
Так безрадостна была эта выморочная, будто недавним пожаром опустошенная земля, что Давыдову стало как-то не по себе…»
Описание Бирючьей балки, куда выбрел Давыдов, вроде бы и не обязательно для сюжета, ничего не происходит здесь с ним, кроме того, что он как бы со стороны видит самого себя, того, каким был, когда пожаром братоубийственной гражданской войны выжгло его душу… Разожженная троцкими-лениными-зиновьевыми война не закончилась ни в двадцать первом, ни в двадцать втором году. Если мы обратимся к справочникам, то легко обнаружим, что все двадцатые годы шла война по уничтожению русского народа. Возьмем две цифры. Одну из «Демографического словаря» (М., 1985, с. 271, табл. I), показывающую численность страны в 1920 году, а другую — из справочника «Народонаселение стран мира» (М., 1984, с. 9) — численность населения СССР в 1926 году. Так вот, в 1920 году на территории СССР (без Польши, Финляндии, Прибалтики, западных областей Белоруссии и Украины) проживало 158 миллионов человек. К 1926 году численность населения сократилась до 147 миллионов. Учитывая, что 158 миллионов дали бы за эти годы естественный прирост в 18 миллионов, мы, произведя несложные арифметические операции, получим 29 миллионов человек, погибших неестественной смертью за эти годы. Перейдя Затем к делению, мы получим совершенно ошеломляющую цифру — каждый год, после того как закончилась гражданская война, страна продолжала терять по шесть миллионов своих сограждан расстрелянными, заморенными голодом. Больше, чем во время Великой Отечественной войны… В те годы, когда Совнарком возглавлял В. И. Ленин, а ВЧК — Ф. Э. Дзержинский — люди, вызывающие у наших «демократов» гораздо большую приязнь, нежели И. В. Сталин, отправивший в лагеря и на расстрел множество палачей русского народа.
Фигура Сталина сложная и неоднозначная. Об объективной оценке его и сейчас, спустя сорок с лишним лет после его гибели, говорить невозможно — так густо вымазаны черной краской все его поступки. Но уже и сейчас ясно, что его заслуга в освобождении страны от троцких-бухариных-зиновьевых-каменевых очевидна. Вероятно, Яков Аркадьевич Яковлев (Эпштейн), бывший в 1929–1934 годах наркомом земледелия СССР, был репрессирован с нарушением некоторых норм прав человека, но ведь виновность Якова Аркадьевича в уничтожении миллионов русских и украинских крестьян очевидна, и за эти бесчисленные жизни, к гибели которых он не мог быть непричастным, и понес он свое наказание.
В «Поднятой целине» М. Шолохов не касается процессов, происходивших в кремлевских коридорах. Та борьба, что велась там, в романе изображается в ее конечном проявлений, воздействии ее на реальную жизнь рядовых тружеников. И если мы внимательнее посмотрим, проследим, когда же начинается перелом в омертвевших душах Нагульнова и Давыдова, когда же начинают оживать они, то обнаружим, что этот перелом совпадает со сценами появления статьи И. В. Сталина «Головокружение от успехов».
«— …Меня эта статья Сталина, как пуля, пронизала навылет, и во мне закипела горючая кровь…» — говорит пьяный Нагульнов.
Драма, которую переживает он, страшна и безвыходна.
«…Зачем вы мне Троцкого на шею вешаете, взналыгиваете меня с ним, что я с ним в цобах ходил?.. Я такой грамоты, как Троцкий, не знаю…» — говорит он. И тут все правда. И в цобах с Троцким Нагульнов, как и платоновский Копенкин, как сотни тысяч обманутых ленинско-троцкистской фразеологией русских мужиков, не ходил, но свято верил их словам, свято верил, что стоит уничтожить еще несколько миллионов своих собратьев, и тогда и наступит счастье на земле для всех. Всех перипетий кремлевской борьбы И. В. Сталина с троцкистскими упырями Макар Нагульнов не знал и не мог знать. Статья Сталина — полная неожиданность для него. Все его нутро, пропитанное троцкистской идеологией, восстает против сталинской статьи. «Я эскадрон водил и на поляков и на Врангеля и знаю: раз пошел в атаку — с полдороги не поворачивай назад!» — «рычит» он, не желая даже задуматься, что сейчас эскадрон он собирается вести против своих же станичников.
Нагульнов настолько искренен в своей замороченности, что становится абсолютно беззащитным. К партии Троцкого он прирастал не «ученым хрящиком, а сердцем и своей пролитой за эту партию кровью». И теперь, когда эта партия становится сталинской, он готов и ошибки свои признать, но не может сразу оторваться от того, к чему прирос.
«— Так в чем же дело? — спрашивает у него Давыдов.
— Статья неправильная», — отвечает Нагульнов.
Нагульнова легко уничтожить. И, вероятно, в этом и был расчет участников кремлевской борьбы, чтобы с истинных троцкистов перенести удар на таких, как Макар Нагульнов, замороченных ими малограмотных мужиков, — это великолепно описано Шолоховым, когда Нагульнова исключают на бюро райкома из партии — но сейчас Нагульнова спасает Давыдов. Уже звучит в его голове готовая формулировка обвинения, но тут: «Путаник, но ведь страшно свой же!» — как озарение возникает в нем мысль.
Свой… Статья И. В. Сталина помогает Давыдову осознать, кто свои, а кто чужие даже и в той партии, которую он всю целиком считал своей. И отсюда уже можно сделать и следующий шаг: принять свой народ как свой, принять свою Отчизну как свою. То, чего больше всего боялись Ленин, Троцкий и их духовные последыши — нынешние правители России.
5
Статья И. В. Сталина «пронизала навылет» не только Макара Нагульнова. Борьба с нею ведется сразу с двух направлений. В романе Шолохова это, с одной стороны, Половцев и подобные ему организаторы восстания против Советской власти, для которых после сталинской статьи наступают нелегкие времена — народ не желает восставать; а с другой — районные и окружкомовские партийные начальники, которым в скором времени придется отвечать за все совершенные ими преступления против народа, и во всяком случае — наверняка — расстаться с насиженными местами.
Приехавший в Гремячий Лог заврайзо Беглых советует Давыдову придерживаться классового принципа при возвращении скота выходцам из колхоза.
«— То есть? — спрашивает Давыдов.
— Ну, это тебе должно быть понятно и без «то есть»! Бедняку отдать, а середняку пообещать на осень. Понятно?»
Давыдову не понятно, но Беглых дискутировать не собирается.
«— Это не наша установка, а окружкома! — говорит он. — И мы, как солдаты революции, обязаны ей беспрекословно подчиняться».
Фразеология знакомая. «Солдаты революции» тут как пароль, по которому проверяется, свой ли Давыдов. Те в партии, против кого направлена статья Сталина и вся его линия, спешно ищут сейчас своих. И если бы Давыдов оставался своим для них, если бы неуклонно проводил он директиву окружкома, если бы жестоко пресекал все случаи самовольного возвращения своего имущества вышедшими из колхоза гремяченцами, кто знает, может быть, и сбылся бы план Половцева, может быть, и заполыхало бы восстание на Дону, а там, глядишь, и какой-нибудь Тухачевский приспел бы, чтобы из орудий, как в Тамбовской губернии, расстреливать целые деревни, снова бы заполыхала столь любезная троцкистским упырям гражданская война, снова бы реками полилась русская кровь.
И это не парадокс, а логика освобождения от навязанного Лениным — Троцким мифа о классовой борьбе, что партийные начальники становятся, по существу, союзниками организаторов восстания.
Разумеется, «Поднятая целина» — не исторический роман, в центре внимания писателя не конкретные исторические фигуры, а художественные образы людей того времени. Давыдов и Половцев, Нагульнов и Островнов — они только могли бы стать Железняками и Мамонтовыми, Махно и Чапаевыми, если бы заполыхал снова огонь войны. Он не заполыхал. Его удалось затушить вовремя, и удалось потому, что все герои романа медленно и трудно, но успели осознать себя своими между собой. Это, конечно, не означает наступления всеобщей идиллии, каждому придется платить и за ошибки свои, и за прозрения, но перешагнуть через главное, снова сделаться способными ставить к стенке тысячи детишек и баб по одному только движению бровей товарища Троцкого они уже не смогут.
«Каждое утро, еще до восхода солнца, Яков Лукич Островнов, накинув на плечи заношенный брезентовый плащ, выходил за хутор любоваться хлебами. Он подолгу стоял у борозды, от которой начинался зеленый, искрящийся росинками разлив озимой пшеницы. Стоял неподвижно, понурив голову, как старая, усталая лошадь, и размышлял: «Ежели во время налива не дунет «калмык», ежели не прихватит пшеничку суховеем, огрузится зерном колхоз, будь он трижды Богом проклят!»
Так начинается вторая книга «Поднятой целины». В начале первой книги Островнов подписывает клятву, начинающуюся словами «С нами Бог!». Теперь снова вспоминает он о Боге, посылая его проклятие на колхоз, в котором состоит сам, а значит, и на свою голову. Всего несколько месяцев разделяют эти сцены, но какие разительные перемены произошли в герое. Если Нагульнов и Давыдов яснеют, становятся чище с каждой страницей романа, отряхнув с себя чужеродную мертвь, то Островнов запутывается в своей жизни все сильнее. И точная шолоховская лексика безошибочно фиксирует это. Вышел полюбоваться хлебами, стоит понурив голову… А впереди у Якова Лукича еще горенка, в которой придется ему заморить голодом собственную мать, ту мать, у которой в начале первой книги просил он благословения, и это придется ему сделать именно ради того дела, на которое и благословлялся он. Старуха умрет, изжевав беззубыми деснами забытую на лежанке кожаную рукавицу… Впереди еще весь смертный ужас, сквозь который предстоит пройти Островнову и провести свою семью.
Раздвоенность, подпольность — эти губительные для человеческой души состояния, погубят и душу хорошего человека Якова Лукича.
Из этой страшной бездны один только Половцев и сумел выкарабкаться. В конце романа во время ареста на квартире у него нашли двадцать пять томов сочинений Ленина.
«— Это принадлежит вам? — спросили у Половцева.
— Да.
— А для чего вы имели эти книги?
Половцев нагловато усмехнулся:
— Чтобы бить врага — надо знать его оружие…»
Если воспринимать этот диалог сквозь призму троцкистско-ленинского мракобесия, то ничего, кроме выспренней пустоты, не обнаружится в нем. Более того, совершенно в противоречии с ним и дальнейшее поведение Половцева, охотно выдающего всех своих сподвижников по заговору.
Но есть, есть и другой смысл в этом диалоге, который начисто снимает все противоречия. Половцев ведь не говорит, какого врага собирается он бить, а это отнюдь не очевидно.
Мы уже говорили, что восстание было бы одинаково выгодно и троцкистским упырям, и главарям белогвардейского заговора.
Половцев понял это, когда к нему приехал с директивами о начале выступления агроном краевого сельхозуправления, бывший полковник генштаба Никольский-Седой.
Этот «генштабист» приказывает Половцеву с двумястами повстанцами форсированным маршем идти на Миллерово, разбить расквартированный там кадровый полк Красной Армии и далее двигаться в направлении Ростова.
«— Господин полковник… — говорит Половцев, — …вы меня посылаете ввязываться в бой с кадровым полком Красной Армии. Не кажется ли вам, что это невыполнимая задача при моих возможностях и силах?»
Ответ «генштабиста» Никольского удивительно напоминает ответ, данный Давыдову заврайзо Беглых: «…Мы как солдаты революции обязаны ей беспрекословно (установке окружкома. — Н. К.) подчиниться… Никаких разговоров и дискуссий! Скот держи зубами и руками. Не выполнишь посевной план — голову оторвем!»
Никольский же говорит так:
«Я думаю, напрасно вас произвели в есаулы в свое время. Если вы в трудную минуту колеблетесь и не верите в успех задуманного нами предприятия, то вы ничего не стоите как офицер русской армии! И вы не подумайте мудрить и строить ваши самостийные планы!..»
Первая часть «Поднятой целины» вышла в свет в тридцать втором году, вторая книга — в шестьдесят первом, когда вместе с невинно осужденными оказались реабилитированными и тысячи палачей русского народа, когда под прикрытием разоблачения культа личности Сталина пошла массированная обработка общественного сознания, ставящая задачей вновь привести к власти последышей Ленина — Троцкого — Бухарина. Во времени романа между двумя книгами проходят недели, в жизни автора и всей страны — десятилетия, целые эпохи.
Шолохов не замыкает романную линию, объединяющую партийных начальников из окружкома и бывших генштабистов, непосредственно готовивших восстание, эта линия замыкается сама в ответе Половцева, прозревшего, с каким врагом ему нужно бороться.
И совсем не случайной, а очень точной детально становится «наглая» улыбка Половцева. Ведь он говорит сейчас в лицо чекистам, которых он очень хорошо, как и сам Шолохов, знал, то, что этим чекистам меньше всего хотелось бы услышать.
Они, эти чекисты, эти партийные начальники из окружкома, эти бывшие генштабисты, сделавшиеся агрономами краевого сель-хозуправления, были своими между собой, и все вместе они были против половцевых, давыдовых, нагульновых. Мертвь, нелюдь против живых.
6
Шолохов — один из величайших реалистов и правдолюбов нашего века. Конечно же, если бы он писал об истории колхозного строительства, ему пришлось бы провести Давыдова и Нагульнова через страшные испытания. Почему этого не сделал Михаил Александрович, нам неизвестно. Весь его роман ограничен событиями 1930 года. Его роман не о колхозах. Он о пробуждении душ и о той ненависти, которую вызывает у нелюди это пробуждение.
О «счастливой» колхозной жизни напишут другие писатели.
Охотников сделать это за хорошую оплату в советской литературе сыскать было нетрудно. Илья Григорьевич Эренбург вспоминал, как в 1935 году Исаак Эммануилович Бабель, этот любимец наркома Ежова, а заодно и любовник жены наркома, рассказывал на парижском конгрессе о жизни современной советской деревни.
«Бабель не читал своей речи, он говорил по-французски свободно, весело и мастерски, в течение пятнадцати минут он веселил аудиторию несколькими ненаписанными рассказами. Люди смеялись, и в то же время они понимали, что под видом веселых историй идет речь о сущности наших людей и нашей культуры: «У этого колхозника уже есть хлеб, у него есть дом, у него есть даже орден. Но ему этого мало. Он хочет теперь, чтобы про него писали стихи…»
Нужно обладать особым бесстыдством, чтобы говорить такое после искусственно организованного (урожай тридцать второго года был на двенадцать процентов ниже обычного, а госпоставки на сорок четыре процента выше) в 1932–1933 годах голода на Украине, Кубани, Северном Кавказе, когда крестьяне вымирали миллионами.
«Он хочет теперь, чтобы про него писали стихи…» Пятнадцать минут веселить этим аудиторию, три года спустя после введения указа от 7 августа 1932 года, предусматривающего заключение в лагеря за кражу колосков.
Речь здесь идет, разумеется, не просто о лицемерии, не только об извращенно-садистской насмешке над миллионами умерших с голоду крестьян, а о каком-то сатанинском действе…
И, конечно, закрывая печальную и мудрую книгу Шолохова, совсем не хочется думать об авторе так и не написанного романа «ЧеКа», но все же трудно отделаться от ощущения, что грянувший в доме Якова Лукича «страшный в ночной тишине… рокот ручного пулемета» не летом 1930 года раздался, а посреди столь прославленной нашими демократами «хрущевской оттепели». И это тогда: «Сраженный, изуродованный осколками гранаты, Нагульнов умер мгновенно, а ринувшийся в горницу Давыдов, все же успевший два раза выстрелить в темноту, попал под пулеметную очередь».
Впрочем, это и не ощущение, а факт, как любил говорить Давыдов. Ведь как раз тогда, осенью 1960 года, и «отпели донские соловьи дорогим <шолоховскому> сердцу Давыдову и Нагульнову, отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, текущая откуда-то с верховьев Гремячего буерака…»
ВЛАСОВ ДО ВЛАСОВА
Судьба генерала
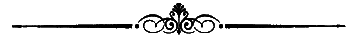
Управление особых отделов НКВД отношением за № 4 (7796 от 7.11.1941 г.) сообщило, что компрометирующих материалов на т. Власова не имеется.
Зав. сектором Управления кадров ЦК ВКП(б)Фролов. 24.2.42
Августовским утром 1946 года загремели засовы на дверях камер Лефортовской тюрьмы. С лязгом поднимались и опускались решетки, блокирующие переходы… Арестованных выводили на тюремный двор.
Последним был высокий, чуть сутулящийся арестант в круглых очках. Солнечный свет ослепил его, и он замедлил шаги, но конвоир подтолкнул его вперед к кирпичной стене, возле которой была сооружена виселица. Здесь на невысокой, сколоченной из свежих досок скамеечке с завязанными за спиной руками стояли одиннадцать человек. На шеи им уже были накинуты петли.
Высокого, чуть сутуловатого арестанта провели вдоль этого строя.
Мимо бывшего генерал-майора Василия Федоровича Малышкина…
Мимо бывшего бригадного комиссара Георгия Николаевича Жиленкова…
Мимо бывшего генерал-майора Федора Ивановича Трухина…
Мимо бывшего генерал-майора береговой службы Ивана Алексеевича Благовещенского…
Мимо бывшего генерал-майора Дмитрия Ефимовича Закутного…
Мимо бывшего полковника Виктора Ивановича Мальцева…
Мимо бывшего полковника Сергея Кузьмича Буняченко…
Мимо бывшего полковника Григория Александровича Зверева…
Мимо бывшего полковника Михаила Александровича Меандрова…
Мимо бывшего подполковника Владимира Денисовича Корбукова…
Мимо бывшего подполковника Николая Степановича Шатова…
Их было одиннадцать — бывших соратников по Русской освободительной армии и Комитету освобождения народов России. Двенадцатая петля висела пустая.
Под этой петлей и поднялся на низенькую скамеечку бывший генерал-лейтенант, бывший заместитель командующего Волховским фронтом, бывший командующий 2-й Ударной армией Андрей Андреевич Власов.
Было ему в этот день — сорок пять лет.
1
Сохранились две автобиографии Андрея Андреевича Власова.
Одна — казенная, написанная еще до войны для служебных надобностей. Она так и озаглавлена: «Автобиография на комбрига Власова Андрея Андреевича». Другая — «художественная». Это — открытое письмо, составленное в немецком плену, озаглавленное длинновато, но зато очень определенно: «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом». При всей пропагандистской направленности «Открытое письмо» можно считать мемуарами генерала Власова, ибо здесь он пытается решить ту же, что и любой мемуарист, задачу — осмыслить свой жизненный путь.
Поскольку никаких иных материалов о довоенной, а особенно дореволюционной жизни Власова почти не сохранилось, его автобиографии приобретают для историка первостепенное значение. И хотя и тут и там Власов не вполне искренен, но сопоставление текстов позволяет понять многое в характере создателя Русской освободительной армии.
Меня ничем не обидела Советская власть… — писал он в «Открытом письме», опубликованном газетой «Заря» 3 марта 1943 года. — Я — сын крестьянина, родился в Нижегородской губернии, учился на гроши, добился высшего образования. Я принял народную революцию, вступил в ряды Красной Армии для борьбы за землю для крестьян, за лучшую жизнь для рабочего, за светлое будущее русского народа. С тех пор моя жизнь была неразрывно связана с жизнью Красной Армии…
Но это мемуары… В автобиографии, созданной еще в бытность Власова командиром 99-й стрелковой дивизии, вопрос о высшем образовании и причине вступления в Красную Армию излагался несколько иначе:
Родился 1 сентября 1901 года в селе Ломакине, Гагинского района, Горьковской области в семье крестьянина-кустаря. Жена, Анна Михайловна Власова (девичья фамилия Воронина), — уроженка той же местности. Главное занятие родителей моих и жены до Октябрьской революции и после — земледелие. Хозяйство имели середняцкое…
Я окончил сельскую школу. После чего на средства родителей и брата был отдан учиться в духовное училище, как самое дешевое в то время по плате обучения. С пятнадцати лет, занимаясь подготовкой малолетних детей (репетитор), я сам зарабатывал себе средства на право обучения. По окончании духовного училища в гор. Нижнем Новгороде два года учился в духовной семинарии — до 1917 года на правах иносословного (т. е. не духовного звания. — Н. К.). В 1917 году после Октябрьской революции поступил в XI Нижегородскую единую трудовую школу 2-й ступени, которую и окончил в 1919 году. По окончании 2-й ступени поступил в 1919 году в Нижегородский государственный университет по агрономическому факультету, где и учился до призыва в РККА.
В Красную Армию Власова призвали 5 мая 1920 года и «за землю для крестьян, за лучшую жизнь для рабочего, за светлое будущее русского народа» сражаться ему пришлось недолго. В октябре 1920 года, после завершения Нижегородских пехотных курсов командного состава РККА, молодого красного командира отправили на врангелевский фронт, но добрался он туда, когда боевые операции были завершены и начались карательные — расстрелы десятков тысяч сдавшихся белогвардейских офицеров.
Разумеется, особой разницы в изложении событий тут нет, и все же, как мы видим, акценты в «Открытом письме» чуть-чуть смещены. В 1943 году Власову почему-то было важно, чтобы его осеняла слава участника гражданской войны… А реальный послужной список — участие в разгроме крестьянских отрядов Маслака и Каменюка — для борьбы за «землю для крестьян, за светлое будущее русского народа» — явно не подходил… Как, впрочем, не подходила для имиджа народного героя и вся последующая служебная карьера Андрея Андреевича.
Еще более существенны разночтения в пункте образования. В университете Власов провел менее года, и его слова «учился на гроши, добился высшего образования» не соответствуют истине.
В самой последней автобиографии, созданной уже в ходе судебного заседания 30 июня 1946 года, Власов дал на сей счет более объективные сведения: «.. окончил два класса духовной семинарии и курсы «Выстрел».
Высшего образования у Власова не было. Это существенно. Но еще более существенны попытки обойти этот вопрос. И тут мы должны вспомнить, что «Открытое письмо» Власов писал, ощущая (или пытаясь ощутить) Себя национальным героем, вождем и будущим спасителем России. И расстановка акцентов, смешение правды и выдумки в нем — принципиальны. Они показывают, каким Власов хотел быть, как хотел выглядеть в глазах своих сподвижников.
Повышение своего образовательного ценза тоже можно объяснить правилами конструирования имиджа. К высшему образованию в нашей стране тогда относились с большим уважением.
Но все же были, были тут и иные, подсознательные мотивы.
Власов все-таки получил в юности начатки серьезных знаний, которые позволяли ему, по крайней мере, ощущать недостаточность своего образования для той работы, которой приходилось заниматься. У большинства советских военачальников, вспомните тех же Буденного или Ворошилова, даже и сожаления такого не возникало. Но для понимания судьбы и характера Власова еще важнее другое… И, ощущая явную недостаточность образования, Власов не считал возможным прервать свою карьеру для учебы.
Между тем поначалу карьера Власова складывалась довольно скучно и заурядно. До июля 1922 года Власов занимал должность командира взвода, а затем — роты в 14-м Смоленском полку 2-й Донской стрелковой дивизии, расквартированной в бывшей Донской области и Воронежской губернии.
Менялись номера дивизии и полка… Из 2-й дивизия сделалась 9-й, а полк был переименован вначале в 5-й Смоленский, а затем — в 26-й Ленинградский. Но в карьере Власова, в его жизни существенных изменений не происходило. Начальник полковой школы… Командир стрелкового батальона, временно исполняющий должность начальника штаба полка… Обычная, захолустная армейская судьба.
Вспоминая в 1943 году свою первую армейскую десятилетку, Власов напишет:
Будучи командиром Красной Армии, я жил среди бойцов и командиров — русских рабочих, крестьян, интеллигенции, одетых в серые шинели. Я знал их мысли, их думы, их заботы и тяготы. Я не прерывал связи с семьей, с моей деревней и знал, чем и как живет крестьянин.
И вот я увидел, что ничего из того, за что боролся русский народ в годы гражданской войны, он в результате победы большевиков не получил.
Я видел, как тяжело жилось русскому рабочему, как крестьянин был загнан насильно в колхозы, как миллионы русских людей исчезали, арестованные, без суда и следствия. Я видел, что расшатывалось все русское, что на руководящие посты в стране, как и на командные посты в Красной Армии, выдвигались подхалимы, люди, которым не были дороги интересы русского народа.
Нет никаких оснований для сомнений в искренности этого признания. Все двадцатые годы Андрей Андреевич служил в центральных районах России, наверняка 2-я Донская дивизия принимала участие и в расказачивании, и в укрощении крестьянских волнений — и не видеть, не понимать, что происходит, Власов просто не мог. Человеком он был неглупым да и находился не в таких чинах, чтобы не сталкиваться с царившим вокруг произволом. Так что он, действительно, многое видел, многое понимал.
Другое дело, что, и понимая все, и не помышлял тогда о карьере народного заступника, освободителя России. Даже и в мыслях не прикидывал на себя эти красивые, но невероятно тяжелые одежки.
Более того… С годами армейской службы то раздвоение сознания, когда приходится служить тому, что ненавистно тебе, становилось для Власова привычным, и он словно бы и забыл, что можно жить как-то иначе.
Священник РОА, отец Александр Киселев, приводит в своей книге довольно интересный эпизод:
«Как-то будучи наедине с женой, Власов критиковал новый правительственный декрет, которому была посвящена свежая газета. Вошел близкий сотоварищ-офицер. Власов с полуслова перешел на восторженно-восхваляющий тон по поводу того декрета, который он только что критиковал. По уходе офицера жена Власова с горечью сказала:
— Андрей, разве так можно жить?!»
Вопрос очень наивный. Анне Михайловне Власовой можно только посочувствовать. Хотя и сделалась она женой красного командира, но деревенская простота и непосредственность то и дело прорывались в ее словах и поступках, и жить с Андреем Андреевичем ей было нелегко. Как, впрочем, и самому Власову. Он не чувствовал себя счастливым в семейной жизни. Жена, как ему казалось, не понимала его. Не понимала, что он уже и не может жить иначе. Объяснить это он тоже не мог: рискованно было затевать такой разговор.
И Андрей Андреевич молчал, все сильнее отдаляясь от жены.
Забегая вперед, скажем, что только война помогла решить Власову семейную проблему. Отправив 22 июня 1941 года в Горьковскую область к родителям жену, Власов уже никогда больше не вспоминал ее.
Но это произойдет через десять лет, а пока расставаться с Анной Михайловной будущий генерал не спешил. Тем более что в тридцатом году решил вступить в партию.
С точки зрения карьеры решение, безусловно, правильное. Сложнее было совладать с собственными чувствами, со своей совестью, но тут — Власов уже завершал тогда армейскую «школу» — тоже все было в полном порядке. Излишней откровенностью Андрей Андреевич никогда не страдал, да и полковая выучка тоже не прошла напрасно. Судя по рассказу отца Александра Киселева, уже тогда Власов виртуозно умел скрывать и свои мысли, и свои чувства.
2
Как и должно ожидать, с момента вступления в партию в карьере Власова наступает перелом.
В ноябре 1930 года его переводят из Ленинградского стрелкового полка в Ленинградский военный округ. Если мы вспомним, что под Ленинградом, при неудачной попытке деблокады города, и закатилась звезда советского генерал-лейтенанта Власова, то здесь обнаружится явная фатальная связь. Постигнуть ее, разумеется, невозможно, но ощущение такое, будто кто-то большой и нездешний хохочет над человеком, вздумавшим перехитрить самого себя.
Впрочем, до развязки в этой недоброй шутке еще далеко, а пока в Ленинграде Власов начинает проходить «курсы» своего университета…
За семь ленинградских лет Власов успел послужить:
1. Преподавателем тактики в объединенной школе им. Ленина.
2. Помощником начальника учебного отдела.
3. Помощником начальника первого сектора второго отдела Ленинградского военного округа.
4. Помощником начальника отдела боевой подготовки ЛВО.
5. Начальником учебного отдела курсов военных переводчиков разведывательного отдела ЛВО.
Справедливости ради заметим, что в 1933 году, когда Власова перевели в штаб Ленинградского военного округа, он попытался продолжить и более традиционное образование — поступил на вечернее отделение академии РККА. Однако после первого же курса — карьера не оставляла времени для учебы — академию покинул.
Но если традиционные военные науки Власову и не удалось постигнуть, то технологию работы советских штабов, военную бюрократию он изучил в совершенстве.
Без преувеличения можно сказать, что именно здесь, в Ленинграде, выработалась в Андрее Андреевиче Власове та феноменальная убежденность советских военачальников, что позволяла им без колебания браться за любое дело. Показав, что он одинаково успешно командует батальоном, преподает тактику, направляет обучение военных переводчиков, не владея ни одним языком, Власов доказал свое право быть сталинским полководцем.
Семь лет — немалый срок. Но именно столько лет потребовалось Власову, чтобы переступить с должности начальника штаба полка на должность командира полка.
В июле 1937 года это знаменательное в зкизни Андрея Андреевича Власова событие наконец-то случилось. Он начал командовать 215-м стрелковым полком.
Но за плечами у него уже остался семи летний курс «военно-бюрократического института», и в должности командира полка Власов не засиделся. Буквально через несколько недель его назначили начальником второго отдела штаба Киевского Особого военного округа, а оттуда — ив командиры дивизии.
Успешному продвижению Власова к высоким должностям, безусловно, способствовали и чистки, проходившие в это время в армии.
Потом в «Открытом письме» А. А. Власов напишет:
С 1938 по 1939 год я находился в Китае в качестве военного советника Чан Кайши. Когда я вернулся в СССР, оказалось, что за это время высший командный состав Красной Армии был без всякого повода уничтожен по приказу Сталина… Террор распространился не только на армию, но и на весь народ. Не было семьи, которая так или иначе избежала этой участи. Армия была ослаблена, запуганный народ с ужасом смотрел в будущее, ожидая подготовляемой Сталиным войны…
Работой и постоянной заботой о порученной мне воинской части я старался заглушить чувство возмущения поступками Сталина и его клики.
Пафос этих обличений несколько расходится с приводимыми в том же «Открытом письме» сетованиями, дескать, «на командные посты в Красной Армии выдвигались подхалимы, люди, которым не были дороги интересы русского народа». Тут явная неувязка. Ведь если следовать логике, Власов должен был одобрять Сталина, поскольку тот уничтожал «подхалимов», «людей, которым не были дороги интересы русского народа».
Ну и, конечно, не все было благополучно тут и с датами. Чистки в армии начались задолго до командировки Власова в Китай. И если сам он под чистки не попал, то уклониться от участия в них никак не мог.
В общественной работе всегда принимал активное участие, — писал Власов в своей довоенной автобиографии. — Был избран членом военного трибунала округа…
Как сообщает биограф Власова А. Колесник, в 1937–1938 гг. Власов «был членом военного трибунала в Ленинградском и Киевском военных округах. Знакомясь с его деятельностью в этой роли, не удалось обнаружить ни одного оправдательного приговора, вынесенного по его инициативе».
Некоторые называют этот феномен человеческой психики «двойным дном». Однако для человека, который, подписывая приговоры военного трибунала, старается заглушить в себе «чувство возмущения поступками Сталина и его клики», термин не вполне подходит. Тут не о двойном дне надо говорить, а о некоем удивительном сплаве искренности и лицемерия, где один компонент не может быть отделен от другого логически-механическим путем. Да и иные методики анализа тоже не приводят к истине — слишком уж сложен сплав.
Конечно, будучи еще командиром роты и батальона, Власов видел, кто и как поднимается на более высокие посты. Сочувствовать этим людям Власов не мог, во-первых, в силу не слишком высоких моральных качеств выдвиженцев, а во-вторых, потому что они преграждали путь наверх таким командирам, как он. Поэтому-то он и не проявлял никогда инициативы, чтобы вынести оправдательный приговор. Но при этом Власов принадлежал к армейской элите, по которой наносился удар, и сам мог оказаться на скамье подсудимого. Но, с другой стороны, Власов — человек, закончивший семь курсов военно-бюрократического университета в штабе ЛВО, не мог не понимать, что так открывается путь и для его карьеры, и для карьеры тех, кому «дороги интересы русского народа».
И все это при том, что, как писал А. А. Власов в довоенной автобиографии, «никаких колебаний не имел. Всегда стоял твердо на генеральной линии партии». Вот уж воистину чудный характер, где благородство легко перетекает в подлость, где предельная осторожность сливается с самопожертвованием, а искренность оборачивается лицемерием.
Надо сказать, что сам Власов в сплаве своего характера даже и не пытался разобраться. В мемуарах он просто уезжает от самого сложного периода своей жизни в Китай.
В Китае Андрей Андреевич Власов действительно был, но позднее, когда в чистках окончательно выковался его характер. В Китае Власов, как и многие другие военачальники того времени, проходил последнюю проверку на право занимать высшие должности, сдавал, если продолжать нашу метафору, государственный экзамен за весь предшествовавший семи летний курс обучения.
3
В Китае Власов служил под фамилией Волков. Вначале он был назначен начальником штаба советского военного советника генерала Черепанова, после состоял военным советником при генерале Янь Сишане, губернаторе Шаньси, уговаривая того присоединиться к Чан Кайши. После отзыва Черепанова в Москву Власов исполнял обязанности военного советника при Чан Кайши.
Сведения о службе Власова в Китае крайне обрывочны и противоречивы. Одни биографы (С. Фрелих) утверждают, что Власов действительно проявил здесь незаурядный полководческий талант, и якобы в Китае тогда был даже выпущен плакат, на котором изобразили Власова и Янь Сишаня, ведущих войска в сражение с японцами. Другие (С. Стеенберг) намекают на не меньший, чем на полях сражений, успех Андрея Андреевича в постели жены Чан Кайши…
Когда Власов, выдержавший трудный экзамен, был отозван на Родину, Чан Кайши якобы наградил Власова золотым орденом Дракона (по другим сведениям — орденом Луны), а супруга будущего генералиссимуса подарила «своему дорогому товарищу Волкову» золотые часы.
По свидетельству тех же биографов, во время промежуточной посадки в Алма-Ате сотрудники НКВД произвели обыск и конфисковали все доказательства жизни Андрея Андреевича за пределами СССР. Багаж, отправленный по железной дороге, тоже не прибыл к месту назначения. Остался Андрей Андреевич и без ордена, и без золотых часов…
Впрочем, едва ли он сожалел об этом, потому что экзамен был выдержан, и с этого момента начинается новый виток в его блистательной карьере.
Вот ее даты…
Конец 1939 года. Должность командира 99-й стрелковой дивизии 6-й армии, дислоцированной в городе Перемышль.
Май 1940 года. А. А. Власов избран членом Перемышльского горкома ВКП(б).
4 июня 1940 года. СНК СССР присвоил Власову звание генерал-майора.
25—27 сентября 1940 года. На инспекторском смотровом учении, проведенном народным комиссаром обороны — Маршалом Советского Союза товарищем С. К. Тимошенко, дивизия, которой командовал А. А. Власов, получила «хорошую оценку» и была награждена переходящим знаменем Красной Армии.
3 октября 1940 года. В газете «Красная звезда» опубликована статья А. А. Власова «Новые методы учебы», где автор вдосталь цитирует А. Суворова и напирает на полезность политзанятий.
9 ноября 1940 года. В газете «Красная звезда» опубликована статья П. Огина и Б. Кроля «Командир передовой дивизии» об А. А. Власове.
17 января 1941 года А. А. Власов назначен командиром 4-го механизированного корпуса КОВО.
6 февраля А. А. Власов награжден орденом Ленина.
23 февраля 1941 года. Газета «Красная звезда» перепечатала статью А. А. Власова «Новые методы учебы».
Это хронология жизни.
А вот характеристики на Андрея Андреевича Власова:
Находясь в особо трудных условиях, показал себя как достойный большевик нашей Родины…
Практически здоров и вынослив в походной жизни. Имеет стремление от службы уйти в строй.
Энергичен в решениях, инициативен…
Генерал-майор Власов непосредственно руководит подготовкой штабов дивизии и полков. Он уделяет много внимания состоянию учета и хранению секретных и мобилизационных документов и хорошо знает технику штабной службы.
Его авторитет среди командиров и бойцов дивизии высок.
Генерал-майор Власов… лучше и быстрее других воспринял личные указания народного комиссара о перестройке боевой подготовки…
Под этими характеристиками, выдержки из которых мы процитировали, стоят разные подписи. Есть здесь и подпись командующего войсками КОВО генерала армии Жукова.
Для нас, живущих после войны, имя Жукова значит многое. И напоминаю я о его подписи под хвалебной характеристикой на генерала Власова не для того, чтобы оскорбить память великого полководца. Нет… Подпись Жукова свидетельствует лишь о том, что тогда А. А. Власов был точно таким же, как все генералы Красной Армии.
И опять-таки справедливости ради отметим, что восхождение Андрея Андреевича Власова отнюдь не было безоблачным. Нашлись и у него недоброжелатели. В январе 1940 года в парторганизацию и в органы поступило заявление, дескать, Власов не тот, за кого себя выдает. Скрыл, дескать, свое семинарское прошлое.
К счастью для Власова, парторганизация повела себя вполне пристойно. 10 января 1940 года она отправила ответ в органы: «Парторганизации было известно о том, что т. Власов окончил духовную семинарию до его вступления в партию».
Это парторганизации, действительно, было известно. Это Андрей Андреевич Власов никогда и не скрывал.
И все-таки, даже и пытаясь отвлечься от того, что мы знаем о дальнейшей судьбе Андрея Андреевича Власова, перечитывая эти служебные характеристики, трудно сказать, чего в нем было больше — настоящей инициативы и энергичности или того подобия инициативы и энергичности, которые хотелось видеть начальству. Впрочем, о ком из тогдашних генералов можно было сказать это с полной уверенностью?
4
Великая Отечественная война переменила все, но и она не сумела нарушить блистательный ход карьеры генерала.
22 июня 1941 года в 3 часа 00 минут генерал-майор Власов получил приказ о приведении войск в полную боевую готовность.
24 июня его 4-й механизированный корпус получил приказ разгромить прорвавшуюся в районе Немировки немецкую группировку.
Приказ этот запоздал. Главная угроза возникла 24 июня не в районе Немировки. Танковые колонны немцев нанесли удар в направлении Луцк — Дубно, угрожая расчленить войска фронта. По приказу генерал-полковника М. П. Кирпоноса 4-й и 15-й корпуса три дня вели ожесточенные бои, пытаясь прорвать оборону противника. Сделать это им не удалось, и 1 июля начался отвод войск.
3 июля корпус генерал-майора Власова был переброшен в район Бердичева, чтобы не допустить прорыва немцев к Житомиру. Здесь планировалось сосредоточить значительную группировку советских войск (4, 15, 16, 36 и 37-й механизированные корпуса, 5-й кавалерийский корпус, 49-я стрелковая дивизия), но контрудар так и не состоялся.
Скоро корпус А. А. Власова был отведен в район Киева.
«Когда мы с Кирпоносом подбирали кандидатуру на должность командующего 37-й армией, которую мы формировали для обороны Киева… — пишет в своих воспоминаниях Н. С. Хрущев, — управление кадров Киевского военного округа рекомендовало нам назначить Власова…»
Разумеется, как истинный партиец, Хрущев не собирался брать на себя ответственность за это назначение. Он позвонил Маленкову, ведавшему кадровыми вопросами в Центральном Комитете.
— Какую рекомендацию ты мог бы дать на генерала Власова?
— Ты не можешь себе представить, — ответил Маленков, не хуже Хрущева чувствовавший партийную ответственность, — что творится вокруг. Вся наша работа остановилась. У меня здесь нет ни одного человека, чтобы тебе помочь. Поступай так, как считаешь нужным, и бери на себя всю ответственность.
«Мне не оставалось ничего иного, как положиться на рекомендации, полученные от других военных… — сокрушенно признавался Н. С. Хрущев. — Опираясь на них, мы с Кирпоносом решили этот вопрос положительно, назначив Власова командующим. Он взялся за дело решительно и энергично. Он сколотил свою армию из отступающих и вырвавшихся из немецкого окружения частей и на деле доказал, что мы сделали правильный выбор. Он всегда спокойно держался под огнем, обеспечивал твердое и разумное руководство обороной Киева. Он выполнил свой долг и не позволил немцам взять Киев фронтальной атакой с ходу. И когда Киев в конце концов пал, то это произошло в результате обхода и сосредоточения немецких войск значительно восточнее города. А не потому, что Власов не обеспечил жесткой обороны…»
Разумеется, Хрущев вынужден был защищать Власова, но похоже, что Власов и в самом деле не совершил никаких ошибок при обороне Киева. Как известно, 10 августа 1941 года 37-я армия предприняла контрудар на рубеже Шуляны — Мышеловка — Корчеватое и успешно держала оборону до 15 сентября, пока танковые клинья немцев не соединились в районе Лохвицы и четыре армии (5, 21, 26, 37-я) не оказались в котле.
17 сентября 1941 года Военный совет 37-й армии телеграфировал: «Угроза переправ Киеву с востока. Части в течение двадцатидневных боев малочисленны, сильно утомлены, нуждаются в отдыхе и большом свежем подкреплении. Связи с соседями нет. Фронт с перерывами. Восточный берег без сильных резервов не удержать… Прошу указаний».
18 сентября М. П. Кирпонос отдал приказ о выходе армий из окружения. В 37-й армии этого приказа так и не получили, и только в ночь на 19 сентября ее главные силы начали сниматься с позиций.
Это было первое окружение для Власова. Из этого окружения он сумел выйти.
Некоторые исследователи утверждают, что из окружения Власов вышел, заразившись триппером.
Впрочем, возможно, это и выдумка.
5
В очерке о Власове без рассказа о женщинах не обойтись. И не ради пикантности повествования. Нет. В отношениях с женщинами характер генерала раскрывается, пожалуй, даже глубже, нежели в боевых операциях; отношения с женщинами во многом определяют и его судьбу…
До войны, если не считать романа с супругой будущего генералиссимуса Чан Кайши, Власов считался примерным семьянином. Сердечные увлечения, если и были, то кратковременные. Ни на семейной жизни, ни на карьере красного командира они не отражались. Впрочем, могло ли и быть иначе? Политорганы никогда не поощряли семейных измен.
Все изменилось в июне сорок первого года, когда Власов отправил супругу в Горьковскую область к родителям. Вот тогда-то, подобно многим генералам-фронтовикам, он и ощутил чувство неведомой доселе свободы.
Это даже такая шутка была… Дескать, залог мужской бодрости на войне — жены не могут попрекать своих мужей за измены. Для солдат и офицеров с «передка» проку от такой свободы не много, но офицеры тыла, генералы, если хотели, свободой могли насладиться.
Так было и с сорокалетним генералом Власовым.
Летом сорок первого года начинается его военно-полевой роман с двадцатичетырехлетней Агнессой Подмазенко.
В восемнадцать Агнесса первый раз вышла замуж, но, родив вскоре сына, с мужем разошлась и, сплавив ребенка родителям, поступила в Харьковский мединститут, который и закончила в июне 1941 года. После выпуска ее сразу отправили на фронт. Здесь и встретилась Агнесса с генералом Власовым или, как сама утверждала потом на допросах, «вышла за него замуж».
Невозможно представить, чтобы летом сорок первого года генерал Власов занимался бракоразводным процессом со своей супругой Анной Михайловной, но что-то он молодой врачихе, видимо, обещал, потому что в сорок третьем году Агнесса совершенно искренне считала Власова своим законным мужем.
Зато фронтовую жизнь Агнессы «муж» устроил основательно и прочно. Подмазенко была зачислена на должность старшего врача медпункта штаба 37-й армии.
Семейная жизнь новобрачных была достаточно счастливой. Скоро Агнесса забеременела. Ребенка своего, которого благополучно родила, она назвала потом, кстати сказать, Андрюшей. Правда, показать его отцу не удалось. Тогда уже завершалась трагедия 2-й Ударной армии…
Но это впереди. Пока же Власов вывозил молодую жену из киевского котла. Относился он к ней заботливо и без нужды старался не волновать. Поэтому, пока ехали на штабных машинах, идущих позади частей прорыва, Агнесса и не подозревала, что они в окружении.
«Фактически об окружении немцами 37-й армии я узнала 26 сентября. Ввиду сильного обстрела дороги, по которой следовала наша колонна, ехать на машинах стало невозможно, и по приказанию Власова все машины были уничтожены в лесу между селами Березанью и Семеновкой. Тут же все разбились на небольшие группы, и каждая самостоятельно стала выходить из окружения…»
Эти показания арестованная Агнесса Павловна Подмазенко дала 28 июня 1943 года на допросе, закончившемся ровно в полночь.
В июне сорок третьего следователя интересовало: не помышлял ли уже тогда Власов об измене.
— Нет, — ответила Подмазенко, — напротив… Власов давал высокую оценку действиям частей Красной Армии в районе Киева и заявлял, что, если бы немецкие войска не окружили Киев, они не смогли бы его взять. Успехи немцев он рассматривал как временные и противопоставлял им исторические факты, когда при первоначальных неуспехах в войне русские выходили победителями… Никаких отрицательных настроений он не высказывал и только желал быстрее соединиться с частями Красной Армии.
Разумеется, Агнесса Подмазенко, хотя и спала в одной постели с генералом, в вопросах военной тактики и стратегии разбиралась чисто по-женски.
И тем не менее похоже, что именно так, как рассказывала Подмазенко, и мыслил командующий 37-й армией. Действительно, если бы немецкие войска не окружили Киев, они не смогли бы его взять… Мысль необыкновенно глубокая. Буквально ощущаешь, как ошеломила она генерала, рассчитывающего, что немцы будут брать город в лоб, укладывая дивизию за дивизией перед позициями 37-й армии. И нет сомнения, что именно так и поступил бы сам Власов, не стал бы прибегать к подлым уловкам, из-за которых потом вынуждены командующие армиями слоняться по лесам…
Я иронизирую не над Власовым. Точно так же думали тогда многие советские генералы. Осенью сорок первого года они, такие умудренные и ловкие, в совершенстве изучившие все штабные интриги, знающие что и где можно говорить, как и что нужно докладывать, не понимали и не могли понять, почему не останавливаются немецкие армии. Мысль, что имеющегося у них опыта не достаточно для этого, просто не приходила им в головы.
Впрочем, слово «опыт» здесь не вполне уместно. Летом сорок первого года вермахтовские генералы противоборствовали не генералам противника, а колхозным бригадирам, одетым в генеральскую форму.
Начальник Генерального штаба С. М. Штеменко пишет в своих мемуарах, что об обстановке на фронте, о положении наших и немецких войск в Генштабе зачастую узнавали не из докладов и сообщений, поступающих из армейских частей, а названивая по обычному телефону председателям сельсоветов.
Мысль, что с такой информацией невозможно было воевать на этой войне, не посетила Штеменко и после Победы.
«Мы и в дальнейшем, — писал он в своих мемуарах, — когда было туго, практиковали такой способ уточнения обстановки. В необходимых случаях запрашивали райкомы, райисполкомы, сельсоветы и почти всегда получали от них нужную информацию».
И обращение к истории тоже понятно. Тут уже подсознание включилось. Обидно, конечное дело, что своего ума, своих талантов не хватает, но ведь не где-то, в России генеральствуем, а Россия — такая страна… Поднатужится, родимая, прольет малость побольше крови, но выстоит, победит немцев со всеми ихними стратегиями, не подведет своих генералов.
И еще на одно выражение Агнессы Подмазенко я бы обратил внимание. Власов «никаких отрицательных настроений не высказывал и только желал быстрее соединиться с частями Красной Армии».
Глагол «соединиться» тоже, как мне кажется, не Подмазенко придуман. Власов шел по лесу с политруком и любовницей, но продолжал ощущать себя — достойное восхищения самоуважение! — некоей войсковой единицей, которая должна не просто выйти в расположение советских частей, а именно соединиться с армией. Хотя и не осталось ничего от 37-й армии, но идею армии Власов нес в себе и сам ощущал себя как бы армией.
И тут, опять-таки, не столько важно, как ощущал себя сам Власов, сколько то, что именно так думали, так ощущали Власова люди, от которых зависела его дальнейшая судьба.
Существует версия, что 10 ноября состоялась первая встреча А. А. Власова с И. В. Сталиным.
— Что вы думаете о положении дел под Москвой, товарищ Власов? — спросил Сталин.
— Мобилизация необученных рабочих без поддержки регулярных военных резервов бессмысленна, товарищ Сталин, — ответил Власов.
— С резервами и дурак, товарищ Власов, сумеет удержать Москву, — сказал Иосиф Виссарионович, однако вскоре отдал распоряжение о назначении Власова командующим 20-й армией.
Для Власова наступал его звездный час.
О деятельности Андрея Андреевича Власова в должности командующего 20-й армией мы еще будем говорить, а пока вернемся к Агнессе Павловне Подмазенко.
В 20-й армии Подмазенко пробыла до 27 января 1942 года, пока ее не демобилизовали по беременности. Рожать она уехала к матери в город Энгельс, надеясь сразу после родов вернуться к Власову на фронт.
Во всяком случае, об этом она писала Власову в феврале 1942 года.
«Андрюшенька! Родной, поздравляю тебя с годовщиной Красной Армии и желаю тебе крупных побед над фашистами. Хотелось бы в этот большой день быть рядом с тобой, чтобы еще больше чувствовать радость, пусть этот день будет днем смерти для всех фашистских захватчиков. От тебя получила только одно письмо, тебе послала много писем, пиши, милый, чаще, хотя бы несколько слов, чтобы знала, что ты здоров.
Получила от Жени две открытки и одно письмо, в котором она поздравляет тебя с победой, наградой и повышением, желает всех благ в жизни. Кроме того — привожу дословно ее слова — скажи А. А., что он должен более внимательно относиться ко мне, пусть не забывает, что женился он на тебе, не спросив моего согласия, так я могу обидеться и отнять тебя у него, скажу, что самой мне нужна, а то он ни разу мне не написал, понимаю, что «Русь от недруга спасает», но все-таки.
Дальше она пишет о себе: «обеды изумительно влияют на фигуру, стала очень «изящной». Я с сожалением ей ответила, что не могу этим же похвастаться. Если будет у тебя хотя бы минута свободная, черкни ей несколько слов, она послала тебе несколько открыток… Но помни, что хотя твои письма к ней и не смогут пройти моей цензуры, не вздумай написать, что ожидаешь не только встречи!
Милый, я живу сейчас только письмами. У нас тут есть одно кино, репертуар которого очень разнообразен, а именно, вот уже целый сезон идет «Свинарка и пастух». Я предпочитаю лучше перечитывать 1000 раз твое единственное письмо…
У нас есть наушники, которые иногда только трещат, но мне даже и в треске слышится: «Говорит Западный фронт. Уничтожено бесчисленное количество фашистов, точное число подсчитывают уже несколько дней…»
Андрюшенька! О себе пиши все, меня ведь интересует каждая мелочь, вплоть до того, меняешь ли ты каждый день платки или предпочитаешь ходить с грязными??? Как Кузин заботится о тебе? Передай, что за неисполнение моих инструкций он понесет большое наказание. Андрюшенька! Сейчас живу только тем, что в мае буду с тобой вместе на фронте. И не думай иначе. Еще раз, или как один наш профессор говорит, «исче», пишу, что, если Кузина не будет к 2–3 мая, сама добьюсь посылки на фронт. Маму оставлю с ребенком и возьму какую-нибудь женщину, чтобы мама могла справиться. Остался март и апрель, февраль я уже не считаю. Ты даже не можешь представить себе, как я скучаю и как хочу тебя видеть…
Любящая тебя твоя Аня».
Вот такое письмо. Молодая женщина готова растерзать любого, кто усомнился бы, генеральша ли она; но вместе с тем и сама порою не верит, что так все и есть. От этого и сбои в повествовании, клятвы в любви, перемежаемые как бы шутливыми угрозами. Агнесса Павловна действительно и Власова любила, и ощущать себя генеральшей тоже хотела.
Она не знала и не могла знать, что ее письмо не застанет Власова под Москвой, потому что генерала отправят к тому времени на Волховский фронт. И, конечно же, не знала она и того, что уже давно занято место «жены» генерала. Новой женой Власова стала Мария Воронова. Была она на восемь лет старше Агнессы, специальность тоже была другая — повар… Но вместе с тем кое-что было и общее. Как и Агнесса, Мария Воронова начала армейскую службу с постели генерала Власова.
С Вороновой отбыл Власов на Волховский фронт, с Вороновой отправился в уже окруженную немцами 2-ю Ударную армию. С Вороновой пытался Власов выйти из окружения, как некогда выходил под Киевом из окружения с Агнессой Подмазенко. Впрочем, рассказ об этом впереди, а пока, завершая печальную историю, построенную на исповеди Агнессы Петровны в камере НКВД, скажем, что жизнь Андрея Андреевича Власова на войне была по. — мужскому яркой и насыщенной.
6
«Начальнику Главного управления кадров Красной Армии. Генерал-майор Власов сможет быть направлен не ранее 25–26 ноября связи продолжающимся воспалительным процессом среднего уха — начальник штаба ЮЗФ Бодин — зам. нач. военсанупра ЮЗФ Бялик, Васюкевич».
Эта телеграмма была отправлена, когда уже вовсю шло формирование 20-й армии, командующим которой 20 ноября назначили генерал-майора Власова.
Прогноз докторов оказался неверным.
Власов продолжал болеть и 4 декабря 1941 года, когда закончилось сосредоточение войск армии, и 6 декабря, когда армия получила приказ наступать на Солнечногорск.
Не было Власова в армии и 10 декабря, когда войска вышли на рубеж Векшино — Никольское. Город Солнечногорск 12 декабря 1941 года 20-я армия тоже брала без Власова.
Судя по воспоминаниям начальника штаба 20-й армии генерал-майора Л. М. Сандалова, Андрей Андреевич прибыл в армию, когда она уже вышла на подступы к Волоколамску.
«В полдень 19 декабря в г. Чисмены начал развертываться армейский командный пункт. Когда я и член Военного совета Куликов уточняли на узле связи последнее положение войск, туда вошел адъютант командующего и доложил нам о его приезде. В окно было видно, как из остановившейся у дома машины вышел высокого роста генерал в темных очках. На нем была меховая бекеша с поднятым воротником, обут он был в бурки. Это был генерал Власов. Он зашел на узел связи, и здесь состоялась наша первая с ним встреча.
Показывая положение войск на карте, я доложил, что командование фронта очень недовольно медленным наступлением фронта и в помощь нам бросило на Волоколамск группу Катукова из 16-й армии. Куликов дополнил мой доклад сообщением, что генерал армии Жуков указал на пассивную роль в руководстве войсками командующего армией и требует его личной подписи на оперативных документах.
Молча, насупившись, слушал все это Власов. Несколько раз переспрашивал нас, ссылаясь, что из-за болезни ушей он плохо слышит. Потом с угрюмым видом буркнул нам, что чувствует себя лучше и через день-два возьмет управление армией в свои руки полностью. После этого разговора он тут же на ожидавшей его машине отправился в штаб армии, который переместился в Нудоль — Шарино».
20 декабря Волоколамск был освобожден.
В последующие дни немцы предприняли ряд мощных контратак, но все они были отражены.
Наступление на Западном стратегическом направлении, завершившееся в начале января 1942 года, было первым серьезным успехом Красной Армии в ходе войны. Советские войска вышли на рубеж Селижарово, Ржев, Боровск, Мосальск, Белев, Мценск, Новосиль, отбросив немцев на 100–250 километров от Москвы.
Сталин, которому до этого приходилось ломать голову, как наказывать своих генералов, теперь осыпал их наградами, званиями и почестями.
Вместе с другими чествовали и Андрея Андреевича Власова.
6 января 1942 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта..
13 января фотография Власова вместе с фотографиями других руководителей контрнаступления была помещена во всех центральных газетах.
22 февраля А. А. Власов был награжден орденом Ленина.
Ордена, звания и слава доставались Власову, если судить по воспоминаниям Л. М. Сандалова, за сражения, которые выигрывала армия, пока он лечил свое ухо… И соблазнительно, забегая вперед, провести аналогию с трагедией 2-й Ударной армии, виновником гибели которой тоже был не Власов. И тут и порассуждать бы, насколько условна вообще персонификация побед и поражений на войне. Аналогии и рассуждения эти напрашиваются, ибо они отражают реальность военно-бюрократической машины, где и генералы, командующие армиями, порою так же не вольны в своих решениях, как и рядовые бойцы… Но все же, понимая это, необходимо удержаться на зыбкой границе обобщения и не впасть в еще большую неправду о войне, чем та, которую долгое время навязывали нам. Все-таки были и у нас генералы, которые, вопреки объективным условиям, вопреки инерции бюрократической машины, сами определяли исход той или иной операции. Их было совсем немного, их смело можно назвать исключениями из общего правила, но это именно они сформировали то стратегическое мышление, которое по-настоящему заработало только в сорок четвертом году и которое и привело нас к Победе.
Разумеется, на примере московского контрнаступления смешно даже говорить об этом. По своим масштабам операция имела скорее политическое, нежели военное значение. Но по политическим соображениям приказано было считать ее выдающейся победой. И роль генералов, командовавших крупными соединениями войск в этом сражении, когда, навалившись всей тяжестью, километр за километром выдавливали немцев, оттесняя от Москвы, была столь обезличена, что не имело никакого значения, какой генерал-майор, Сандалов или Власов, командует армией.
Медленно ползла вперед армия, когда приказы подписывал Сандалов, медленно продвигалась она, когда Власов принял командование. Столь же медленно наступали и другие армии. Скорость иногда увеличивалась, но только за счет вливаемых в армию резервов.
Можно было как угодно называть отдельные моменты этого наступления — в начале января перед 20-й армией была поставлена задача провести «наступательную армейскую операцию в зимних условиях по принципам теории глубокой операции» — но тактика при этом не менялась.
Перед началом Волоколамской операции 20-ю армию усилили двумя стрелковыми бригадами, пятью артиллерийскими полками, двумя дивизионами «катюш», вторым гвардейским кавалерийским корпусом с танковой бригадой и пятью лыжными батальонами.
7 января Власов утвердил план операции. Армия должна была наступать на Шаховскую в двадцатикилометровой полосе. Начало планировалось на 9 января.
Из-за сильного снегопада авиация не могла поддержать войска, но 10 января в 9.30, после артподготовки, дивизии пошли в атаку и продвинулись вперед на два километра. 11 января — еще на три. 12 января Власов приказал ввести в прорыв кавалерийский корпус, но Жуков отменил это решение до прорыва обороны на всю тактическую глубину. Только к вечеру армии удалось пробиться на глубину в семь километров.
Но и дальше наступление развивалось столь же мучительно трудно. В день продвигались не более пяти километров, а 25 января вышли к Гжатским оборонительным позициям и здесь, у «линии фюрера», остановились.
Прорывать ее наличными силами было уже невозможно. Это понимал Власов, это понимали и в Ставке…
Вот боевая характеристика на генерал-лейтенанта Власова, выданная 28 января 1942 года:
Генерал-лейтенант Власов командует войсками 20-й армии с 20 ноября 1941 года.
Руководил операциями 20-й армии: контрударом на город Солнечногорск, наступлением войск армии на Волоколамском направлении и прорывом оборонительного рубежа на реке Лама.
Все задачи, поставленные войскам армии, тов. Власовым выполняются добросовестно.
Лично генерал-лейтенант Власов в оперативном отношении подготовлен хорошо, организационные навыки имеет. С управлением войсками армии — справляется вполне.
Должности командующего войсками армии вполне соответствует.
Под этой характеристикой подпись командующего войсками Западного фронта генерала армии Жукова…
7
Георгий Константинович Жуков — человек не сентиментальный. Если требовалось для дела, он не жалел ни солдат, ни генералов.
Власову Жуков дал положительную характеристику. Значит, считал, что Власов справляется с обязанностями командарма и менять его незачем — другие генералы, возможно, будут еще хуже.
Талант таких стратегов и организаторов, как Жуков, в том и заключается, что они всегда размещают свои проекты и планы в той реальности, с которой приходится иметь дело.
Так что отнесемся к аттестации Жуковым Власова с пониманием, как с пониманием должны мы отнестись и к тому, что происходило с Власовым в декабре 1941 года и начале 1942-го.
Цену победам своей армии Власов, очевидно, знал сам. Но ведь понимал и то, что это все-таки были победы. Впервые брали наши войска города, а не сдавали немцам. Психологически это очень важно. Как и другие советские генералы, Власов наконец-то обретал уверенность в своих силах.
Л. М. Сандалов, нарисовавший сцену появления А. А. Власова в 20-й армии, писал свои воспоминания, уже зная, что Власов — изменник, и это настраивало на определенный лад. Отчуждение и плохо скрытая неприязнь, как нам кажется, не из декабря сорок первого года, а из более позднего времени.
Но сохранились рассказы и той поры. Они существенно отличаются от описания Сандалова.
Перед штурмом Волоколамска у Власова побывал американский журналист Ларри Лесюер. Лесюера поразила популярность Власова среди бойцов, его оптимизм. Французская журналистка Эв Кюри встречалась с Власовым уже после взятия Волоколамска. Молодой генерал произвел на нее впечатление крупного стратега. Власов беседовал с Эв Кюри о Наполеоне и Петре Первом, о Хайнце Гудериане и Шарле де Голле. Эв Кюри написала о Власове, что это один из самых перспективных советских генералов, чья слава быстро растет.
Встречался с Власовым и Илья Эренбург.
Следуя своей концепции, что вся мировая история совершается возле него и он обязательно должен присутствовать при всех поворотных моментах в судьбах известных людей, Эренбург смещает в своих воспоминаниях встречу с Власовым на тот мартовский день, когда Власову позвонил Сталин, вызывая его в Ставку за назначением на Волховский фронт.
Однако, если не обращать внимания на эту особенность творческой манеры Эренбурга, следует признать, что портрет Власова, созданный Ильей Григорьевичем, — самый удачный и точный во всей литературе о Власове.
«Пятого марта 1942 года я поехал на фронт по Волоколамскому шоссе. Впервые я увидел развалины Истры, Ново-Иерусалимского монастыря… Я поехал через Волоколамск. Возле Лудиной горы в избе помещался КП генерала А. А. Власова.
Он меня изумил прежде всего ростом — метр девяносто, потом манерой разговаривать с бойцами — говорил он образно, порой нарочито грубо и вместе с тем сердечно. У меня было двойное чувство: я любовался и меня в то же время коробило — было что-то актерское в оборотах речи, интонациях, жестах. Вечером, когда Власов начал длинную беседу со мной, я понял истоки его поведения: часа два он говорил о Суворове, и в моей записной книжке среди другого я отметил: «Говорит о Суворове, как о человеке, с которым прожил годы…»
О чем Власов мог говорить с Эренбургом?
Конечно, ему хотелось заинтересовать влиятельного журналиста, но вместе с тем ему нужно было показать себя генералом, и он слегка поддразнивал уважаемого Илью Григорьевича.
Как и всякий русский, воспитанный в православии человек, Андрей Андреевич Власов не был антисемитом. Даже оказавшись в Германии, он не затрагивал там еврейскую тему. И вместе с тем настороженность и насмешливость по отношению к евреям присутствовала во Власове всегда.
В похожем на донос рапорте бывший адъютант Власова майор Кузин «осветил» и эту черту характера своего начальника.
«За время моего наблюдения за Власовым в Двадцатой армии я убедился, что он не мог терпеть евреев. Он употреблял выражение «евреи атаковали военторг» и т. д., и он форменным образом разогнал работников военторга, по национальности евреев. Власов говорил, что воевать будет кто-либо, а евреи будут писать статьи в газеты и за это получать ордена».
Так что, принимая во внимание и эту черту характера Власова, можно понять, с каким удовольствием поддразнивал Андрей Андреевич Илью Григорьевича.
Тем более что сделать это было нетрудно.
Говорил Власов про Суворова, чье имя вместе с именами других русских полководцев еще только начинало снова вводиться в обиход. Возвращение дорогих русскому сердцу имен, конечно же, не могло не беспокоить наших интернационалистов. Но поскольку исходило оно непосредственно от Сталина, то и возмущаться было страшновато. Вот и вынужден был Илья Григорьевич, поерзывая, внимать бесконечным байкам о Суворове, которыми пересыпал свой разговор Власов.
Суворов, как известно, чрезвычайно гордился тем, что он — русский, и всегда щеголял своей русскостью.
Однажды он остановил щеголеватого офицера и поинтересовался, давно ли тот изволил получать письма из Парижа…
— Помилуйте, ваше сиятельство! — ответил незадачливый франт. — У меня никого нет в Париже.
— А я-то думал, что вы родом оттуда… — сказал Суворов.
Не менее зло высмеивал Александр Васильевич и заграничную сановную глупость и пустословие. Вступая в Варшаву, он отдал такой приказ: «У генерала Н. взять позлащенную карету, в которой въедет Суворов в город. Хозяину кареты сидеть насупротив, смотреть вправо и молчать, ибо Суворов будет в размышлении».
Наверняка ввернул Власов в разговор и язвительное замечание Суворова, дескать, жалок тот полководец, который по газетам ведет войну. Есть и другие вещи, что ему надобно знать…
Разумеется, в нашей попытке реконструировать разговор Власова с Эренбургом много гипотетичного, но все же исходные моменты этого разговора вычисляются достаточно точно.
Первые реальные победы, первая всенародная слава или, вернее, предощущение этой славы, впервые дарованная возможность не стесняться, что ты русский, а гордиться этим, с гордостью называть имена русских героев, все это пьянило Власова. И это упоительное, захлестывающее генерала ощущение и заставляло Эренбурга любоваться Власовым, но вместе с тем и коробило его. Тем более что и актерство, подмеченное Эренбургом, тоже наверняка прорывалось в жестах и словах Власова. Ведь он столько лет, всю в общем-то сознательную жизнь, старался не выдать «иррационального», как писал А. В. Луначарский, пристрастия к русскому типу лица, к русской истории, что сейчас походил на человека, только что, после долгих лет болезни, вставшего с постели. Он идет, но ноги еще непослушны ему, человек, прежде чем ступить, думает, как нужно поставить ногу, и от этого все движения чуть карикатурны…
Национальные чувства Власова, пафос его и восторг были глубоко чужды интернационалисту Эренбургу, но само ощущение пробивающихся в человеке потаенных доселе сил — захватывало.
«На следующий день солдаты говорили со мной о генерале, хвалили его: «простой», «храбрый», «ранили старшину, он его закутал в свою бурку», «ругаться мастер»…
Мы поехали назад. Машина забуксовала. Стоял сильный мороз. На КП девушка, которую звали Марусей, развела уют: стол был покрыт скатеркой, горела лампа с зеленым абажуром, и водка была в графинчике. Мне приготовили постель. До трех часов утра мы говорили; вернее, говорил Власов, рассказывал, рассуждал. Кое-что из его рассказов я записал. Он был под Киевом, попал в окружение; на беду, простудился, не мог идти, солдаты его вынесли на руках. Он говорил, что после этого на него косились. «Но тут позвонил товарищ Сталин, спросил, как мое здоровье, и сразу все переменилось». Несколько раз в разговоре он возвращался к Сталину. «Товарищ Сталин мне доверил армию. Мы ведь пришли сюда от Красной Поляны — начали чуть ли не с последних домов Москвы, шестьдесят километров отмахали без остановки. Товарищ Сталин меня вызвал, благодарил…» Многое он критиковал… Говоря о военных операциях, добавлял: «Я солдатам говорю: не хочу вас жалеть, хочу вас сберечь. Это они понимают…»
Среди ночи Власов разнервничался: немцы осветили небо ракетами, перебрасывая пополнение.
Рано утром Власова вызвали по ВЧ. Назад вернулся взволнованный.
— Товарищ Сталин оказал мне большое доверие… — сказал он Эренбургу и добавил, что получил назначение на Волховский фронт.
«Мгновенно вынесли его вещи. Изба опустела. Сборами командовала Маруся в ватнике. Власов взял меня в свою машину — поехал на передний край проститься с бойцами».
8
Здесь мы подходим к поворотному в судьбе Андрея Андреевича Власова моменту — назначению его на Волховский фронт. Официально он назначался заместителем командующего фронтом, но похоже, что у Сталина были насчет Власова более серьезные намерения.
В уже цитировавшихся нами воспоминаниях Хрущев пишет:
«Когда Власов оказался изменником, Сталин вызвал меня и зловещим тоном напомнил мне о том, что именно я выдвинул Власова на пост командующего 37-й армией. В ответ я просто напомнил ему, кто именно поручил Власову руководство контрнаступлением под Москвой и даже предполагал назначить Власова командующим Сталинградским фронтом. Сталин оставил эту тему и больше никогда не возвращался к ней…»
Никита Сергеевич — большой выдумщик. Разумеется, никогда бы не посмел он напоминать Сталину о его промахе. Не те отношения были…
И тем не менее разговор этот состоялся. Только не в реальности, а в воображении самого Хрущева. Узнав о предательстве Власова, Хрущев вспомнил о своем промахе в Киеве в августе сорок первого года и, ожидая вызова к Иосифу Виссарионовичу, десятки, а может, и сотни раз перебирал все аргументы в собственную защиту. Сталин по каким-то своим соображениям так и не стал укорять Никиту Сергеевича проколом с Власовым, но Хрущев каждый раз ждал этого разговора, трусил и наконец ему стало казаться, что разговор состоялся на самом деле… Поэтому свидетельство Хрущева, что Сталин обдумывал, не назначить ли ему Власова на Сталинградский фронт, не кажется нам нереалистичным. И тут нас не должно смущать то обстоятельство, что как таковой Сталинградский фронт был образован только 12 июля 1942 года. Подготовительная работа велась, когда Власов еще не сдался в плен, и фамилию Власова Сталин вполне мог назвать в списке возможных кандидатур на должность командующего. Забегая вперед, напомним, что формально с конца апреля 1942 года Власов не имел никакой должности (Волховский фронт был тогда расформирован).
Но если при обсуждении кандидатур на должность командующего Сталинградским фронтом летом сорок второго года фамилия Власова только называлась в списке других, то назначение Власова командующим Волховским фронтом было вопросом недель и дней.
Во всяком случае, сам Власов после разговора со Сталиным именно так и считал.
Об этом свидетельствуют и показания Марии Игнатьевны Вороновой, той самой «Маруси в ватнике», о которой упоминает И. Г. Эренбург.
На допросе в НКВД 21 сентября Мария Игнатьевна рассказала, что знает Власова с 1942 года по 20-й армии, а затем и по 2-й Ударной.
— В сорок втором году, — рассказывала Воронова, — в феврале поступила как вольнонаемная на службу в 20-ю армию. Служила в системе военторга шеф-поваром. В полевых условиях, после Наро-Петровска, была переведена работать в столовую Военного совета 20-й армии. В начале марта 1942 года Власов был вызван в Москву, куда взял, кроме своего непосредственного подчиненного состава, и меня, как повара. Из Москвы, ввиду назначения Власова главнокомандующим на Волховский фронт, он выехал туда, с ним уехала и я…
Безусловно, Воронова специфический свидетель. Едва ли она разбиралась во всех тонкостях званий и должностей. Тем не менее ее показания интересны. Это свидетельство того, как понимали новое назначение генерала в свите Власова. Судя по показаниям Вороновой, здесь считалось, что Андрей Андреевич едет на Волховский фронт первым лицом.
И, видимо, так оно и было, и вопрос о переводе Власова в командующие фронтом должен был решиться сразу по приезде.
Подтверждает это и то, что сопровождали Власова люди, облеченные чрезвычайными полномочиями, достаточными для передачи фронта новому командующему.
Чтобы понять, что же случилось на Волховском фронте и почему Власов не был назначен командующим, нам придется вернуться назад, в декабрь сорок первого года, и вспомнить, как разворачивались события здесь, в болотах Ленинградской и Новгородской областей.
9
Основные военные кампании планируют на лето или на зиму. Война не прерывается, конечно, и весной, и осенью, но русское бездорожье сковывает маневр, и как-то само собой получается, что в межсезонье самая смелая генеральская стратегия упирается в солдатский окоп, в сырую траншею.
В распутицу нечего делать генералу на войне, и в эту пору — самое время подвести итоги, прикинуть, вверх или вниз покатится твоя карьера, — раскладывается в штабах генеральский пасьянс.
В марте 1942 года генеральский пасьянс для командующего Волховским фронтом Кирилла Афанасьевича Мерецкова раскладывался очень плохо.
Мерецков был уже и начальником Генштаба, и заместителем наркома обороны, а до этого командовал военными округами, но июль и август сорок первого года провел в камере НКВД, где следователь Шварцман резиновой дубинкой выбивал из него признание в шпионаже.
Спасла Кирилла Афанасьевича, как утверждает легенда, шутка Никиты Сергеевича Хрущева. Узнав, что Мерецков сидит в тюрьме, Хрущев восхитился: «Вот хитрый ярославец! Все воюют, а он в тюрьме отсиживается!»
Иосифу Виссарионовичу шутка понравилась, и 9 сентября 1941 года Мехлис и Булганин отвезли Мерецкова на Северо-Западный фронт. В ноябре сорок первого Мерецков командовал 4-й армией, взявшей Тихвин, а после освобождения города — и Волховским, только что сформированным, фронтом.
Но в марте сорок второго все победы для Мерецкова, казалось, остались позади. Директиву Ставки «разбить противника, обороняющегося по западному берегу реки Волхов, и… главными силами армий выйти на фронт Любань — ст. Чолово», чтобы затем решить задачу по деблокаде Ленинграда, Мерецкову выполнить не удалось. В марте его обессиленные армии, измотанные в бессмысленных боях, не сумели даже выйти на названный рубеж. Тот рубеж, с которого планировалось начать основную операцию.
Среди причин провала наступления нельзя не упомянуть и о том, что предпочитая милую сердцу еще по временам финской кампании лобовую атаку, Мерецков равномерно рассредоточил танки и орудия по всему фронту. В результате он не сумел — тихвинская группировка немцев была зажата с трех сторон нашими армиями — использовать стратегически выгодное положение и растратил живую силу армий на вытеснение немцев за Волхов. Только в конце декабря преодолели наши войска этот рубеж.
Личное письмо Сталина, полученное Мерецковым перед Новым годом, не только не приободрило Кирилла Афанасьевича, а повергло в панику.
Сталин писал:
«Уважаемый Кирилл Афанасьевич! Дело, которое поручено Вам, является историческим делом. Освобождение Ленинграда, сами понимаете, великое дело. Я бы хотел, чтобы предстоящее наступление Волховского фронта не разменивалось на мелкие стычки, а вылилось в единый мощный удар по врагу. Я не сомневаюсь, что Вы постараетесь превратить это наступление именно в единый и общий удар по врагу, опрокидывающий все расчеты немецких захватчиков. Жму руку и желаю Вам успеха. И. Сталин. 29.12.41 г.»
Возможно, полководец, подобный Г. К. Жукову, и решился бы объяснить Сталину, что план этот уже невозможно осуществить наличными силами фронта, но — слишком свежа была память в Кирилле Афанасьевиче о допросах в НКВД — Мерецков струсил и запаниковал. Тогда и была совершена роковая ошибка. Мерецков ввел в наступление 2-ю Ударную армию, не дожидаясь прорыва немецкой обороны.
Как и положено в такой спешке, войска вводились в наступление без достаточного обеспечения продуктами и боеприпасами. Чтобы только добраться до линии фронта, 2-й Ударной пришлось преодолеть немыслимые трудности…
«Шли только ночью, днем укрывались в лесу. Путь был нелегким. Чтобы пробить дорогу в глубоком снегу, приходилось колонны строить по пятнадцать человек в ряду. Первые ряды шли, утаптывая снег, местами доходивший до пояса. Через десять минут направляющий ряд отходил в сторону и пристраивался в хвосте колонны. Трудность движения усугублялась еще и тем, что на пути встречались незамерзшие болотистые места и речушки с наледью на поверхности. Обувь промокала и промерзала. Подсушить ее было нельзя, так как костры на стоянках разводить не разрешалось. Выбивались из сил обозные кони. Кончилось горючее, и машины остановились. Запасы боеприпасов, снаряжения, продовольствия пришлось нести на себе»[108].
Вот этим солдатам, смертельно уставшим уже по пути к фронту, и предстояло, согласно директиве Ставки, «прорвать… укрепленные позиции, разгромить… живую силу, преследовать неотступно остатки разбитых частей, окружить и пленить их…».
Сохранилась запись телефонного разговора К. А. Мерецкова со Ставкой, состоявшегося 10 января.
«У аппарата Сталин, Василевский. По всем данным у вас не готово наступление к 11 числу. Если это верно, надо отложить на день или два, чтобы наступать и прорвать оборону противника. У русских говорится: поспешишь — людей насмешишь. У вас так и вышло, поспешили с наступлением, не подготовив его, и насмешили людей. Если помните, я вам предлагал отложить наступление, если ударная армия Соколова не готова, а теперь пожинаете плоды своей поспешности…»
Следуя примеру нынешних антисталинистов, тут можно было бы порассуждать о коварстве Сталина, который, отправив две недели назад личное письмо Мерецкову, спровоцировал командующего Волховским фронтом на неподготовленное наступление. Но можно взглянуть на вопрос и с другой стороны. В письме ведь даже и намека нет на необходимость ускорить начало операции. Напротив, Сталин подчеркнул, что наступление не должно разменяться на мелкие стычки. Вот и сейчас он самолично сдерживает Кирилла Афанасьевича, дает дни, чтобы все-таки подготовиться к прорыву.
Другое дело, что Мерецков был уже так перепуган, что не способен был ничего понимать. Кирилл Афанасьевич не понимал даже и того, что Сталин ждет от него не рапорта о начале наступления, а конкретного результата — деблокады Ленинграда.
Его реакция на разговор со Сталиным была мгновенной. В этот же день он сместил командующего 2-й Ударной армией генерал-лейтенанта Г. Г. Соколова, замешкавшегося с наступлением…
«В ночь на десятое января, — вспоминал о своем назначении Н. К. Клыков, меня вызвали в Папоротино, где размещался штаб 2-й Ударной армии. Здесь уже находились Мерецков, Запорожец и представитель Ставки Мех лис.
Выслушав мой рапорт о прибытии, Мерецков объявил:
— Вот ваш новый командующий. Генерал Соколов от должности отстранен. Генерал Клыков, принимайте армию и продолжайте операцию.
Приказ был совершенно неожиданным для меня. Как продолжать? С чем? Я спросил у присутствующего здесь же начальника артиллерии:
— Снаряды есть?
— Нет. Израсходованы, — последовал ответ».
Далее Клыков рассказывает, как долго он торговался с Мерецковым из-за каждого снаряда, пока тот не пообещал армии три боекомплекта.
Для справки отметим, что по штатному расписанию для прорыва требовалось пять боекомплектов и еще по два боекомплекта полагалось на каждый последующий день наступления… Мерецков отправлял армию на прорыв практически безоружной.
Еще печальнее обстояли дела с обеспечением медицинской помощью.
«Войска уже в бою… — вспоминал потом А. А. Вишневский, — а две армии не имеют ни одного полевого госпиталя».
Вот так и началось это роковое для 2-й Ударной армии наступление. Очень скоро, уже 17 января, 54-я армия, израсходовав весь боезапас, остановилась, и все усилия по прорыву сосредоточились на направлении Спасская Полисть — Любань. Справа здесь наступала 59-я армия, слева 62-я, в центре — 2-я Ударная.
«Наш полк начал наступление на укрепление немцев Спасской Полисти, — пишет связист Иван Дмитриевич Никонов. — По открытой местности, без всяких оборонных сооружений. Шли врассыпную, связисты наступали вместе с пехотой. Противник открыл по нам автоматный, пулеметный, минометный, артиллерийский огонь, и самолеты летали по фронту, стреляли из пулемета и бомбили. Все летело вверх, заволакивало снежной пылью и землей. Ничего было не видать. Падали убитые, раненые, живые. Некоторые от снарядов, вместо того чтобы упасть в воронку, стали бегать. Так погиб мой один, казалось, неглупый, командир отделения и некоторые бойцы… После такого огня ничего не разберешь, кто тут живой и кто мертвый, не знаешь и не поймешь сразу, кто где и что с ним. Обыкновенно на вторые или третьи сутки приходилось ночью ползать и проверять, сколько осталось живых. Подползешь, пошевелишь, который не убит, а замерз — мертв… Перед позициями немцев все было избито снарядами, устлано трупами и даже кучами трупов, так как раненые тянулись, наваливались на трупы и тоже умирали или замерзали. У нас ячеек или траншей никаких не было. Ложились в воронки и за трупы, они служили защитой от огня противника… Состав полка пополнялся маршевыми ротами и батальонами. Патронов давали по одной-две обоймы, приходилось брать у раненых и погибших…»
Тем не менее, спустя неделю кровопролитных боев, удалось пробить брешь в немецкой обороне. Произошло это у Мясного — запомним это название! — Бора… В прорыв сразу ввели 13-й кавалерийский корпус, а следом за кавалеристами втянулись и остатки 2-й Ударной. Коммуникации ее в горловине прорыва прикрыли 52-я и 59-я армии.
Уже тогда было ясно, что наступление провалилось. Измотанные в тяжелых боях дивизии не способны были даже расширить горловину прорыва — о какой же деблокаде Ленинграда могла идти речь?
Но это, если руководствоваться здравым смыслом… У Мерецкова были свои резоны. Он требовал, чтобы армия продолжала наступать — об этом он докладывал в Ставку.
В те дни, когда под Москвой генерал Власов беседовал с корреспондентами о стратегии современной войны, 2-я Ударная армия, уклоняясь от Любани, где оборона немцев была сильнее, все глубже втягивалась в пустыню замерзших болот, в мешок, из которого ей уже не суждено было выбраться… Власов ничего еще не знал об этой армии, как ничего не знал и о генеральском пасьянсе, раскладываемом в здешних штабах…
Между тем бодрые доклады М. С. Хозина и К. А. Мерецкова не ввели Сталина в заблуждение. Уже в феврале он начал понимать, что план деблокады Ленинграда провалился, и в связи с этим решил поменять командующих фронтами. В Ленинград, чтобы заменить М. С. Хозина, отправился Л. А. Говоров, на Волховский фронт — А. А. Власов.
10
Как мы уже говорили, Андрей Андреевич прилетел в Малую Вишеру в компании Ворошилова, Маленкова и Новикова — лиц, облеченных чрезвычайными полномочиями. И казалось, уже ничто не может изменить судьбы опального командующего, но для Мерецкова все вышло по пословице — не было бы счастья, да несчастье помогло.
В середине марта началось резкое потепление. Снежные дороги и грунтовые пути, проложенные через болота, вышли из строя. На огневые позиции бойцы таскали снаряды на себе.
С наступлением весны началось и наступление немцев… И случилось то, что и должно было случиться — девятнадцатого марта коридор у Мясного Бора оказался закрытым. Немцы завязали мешок, в который загнал Кирилл Афанасьевич Мерецков 2-ю Ударную армию.
Это окружение стало первой ласточкой в серии наших поражений сорок второго года и настолько поразило Сталина, что, позабыв о решении поменять командующего, он приказал Мерецкову выехать в войска и лично организовать прорыв. Кирилл Афанасьевич приказ выполнил. Десять дней самоотверженно бросал он на штурм немецких укреплений все имеющиеся в его распоряжении части, вплоть до личного состава курсов младших лейтенантов, пока 29 марта не доложил Сталину, что «части противника, оседлавшие дорогу, отброшены в северном и южном направлениях».
Доклад этот содержал изрядную долю лукавства. Конечно, если смотреть по карте, то так и получалось — вот освобожденная от немцев перемычка… Ударная армия деблокирована… Но в реальной местности освобожденный от немцев коридор пришелся на те участки болота, пройти по которым было уже почти невозможно.
«Коридор как бы пульсировал, — вспоминал генерал-майор И. Т. Коровников, — то сужаясь, то расширяясь. Но в поперечнике он был уже не 11–14 километров, а всего два с половиной — два, сокращаясь порою до нескольких сот метров. Прицельный огонь все чаще сменялся выстрелами в упор. Нередко завязывались рукопашные схватки».
«Дороги окончательно раскисли, а та, которая ведет во 2-ю Ударную армию, уже несколько раз перехватывалась противником. Ее сейчас, по существу, нет — сплошное месиво. По ней могут пробраться только небольшие группы бойцов и подводы, и то лишь ночью».
Но так говорили непосредственные участники событий, а у Мерецкова и в мемуарах: «…во 2-ю Ударную армию опять пошли транспорты с продовольствием, фуражом, боеприпасами».
Явно подводила память Кирилла Афанасьевича, когда он вспоминал о своих взаимоотношениях с Власовым.
«По-видимому, Власов знал о своем предстоящем назначении. Этот авантюрист, начисто лишенный совести и чести, и не думал об улучшении дел на фронте. С недоумением наблюдал я за своим заместителем, отмалчивающимся на совещаниях и не проявляющим никакой инициативы. Мои распоряжения Власов выполнял очень вяло. Во мне росли раздражение и недовольство. В чем дело, мне тогда было неизвестно. Но создавалось впечатление, что Власова тяготит должность заместителя командующего фронтом, лишенная ясно очерченного круга обязанностей, что он хочет получить «более осязаемый» пост. Когда командарм-2 генерал Клыков тяжело заболел, Власов был назначен приказом Ставки командующим 2-й Ударной армией».
Может, насчет «раздражения и недовольства», которые росли в нем, Мерецков и прав, но с назначением Власова во 2-ю Ударную, он явно что-то путает. В начале апреля Мерецков сам командировал туда Власова во главе специальной комиссии Волховского фронта.
«Трое суток члены комиссии беседовали с командирами всех рангор, с политработниками, с бойцами», а 8 апреля «был зачитан акт комиссии, и к вечеру она выбыла из армии».
«— Все, мрачно сказал Клыков, распрощавшись с нею, и машинально начал перебирать содержимое в ящиках своего рабочего стола. Предчувствие не обмануло его: несколько дней спустя он был смещен с поста командующего».
Эти свидетельства (Г. Е. Дягтерев. Таран и щит. М., 1966; П. Я. Егоров. Маршал Мерецков. М., 1974) несколько противоречат письму, отправленному Мерецковым Клыкову и Зуеву 9 апреля 1942 года:
«Оперативное положение наших армий создает группировке противника примерно в 75 тысяч смертельную угрозу — угрозу истребления его войск. Сражение за Любань — это сражение за Ленинград».
Однако, как нам кажется, противоречие это порождено не ошибками документалистов, а причудливостью штабной интриги, которую реализовывал тогда сам Кирилл Афанасьевич. Оставим на его совести оценку стратегической обстановки на фронте и попытаемся понять, зачем вообще отправлено это письмо…
Не трудно заметить, что оно как бы скопировано с письма Сталина, полученного самим Мерецковым перед началом наступления. И, конечно, Мерецков не мог не понимать, какое впечатление оно произведет на Клыкова…
Быть может, девятого апреля 2-я Ударная армия еще способна была вырваться из окружения (пятого апреля немцы снова закрыли брешь у Мясного Бора), но вести наступление, чтобы окружить семидесятипятитысячную группировку немцев, она просто не могла.
Этого не мог не понимать и сам Мерецков, по-семейному, с законной супругой Евдокией Петровной, с сыном и родственниками обосновавшийся в Малой Вишере.
Реакция генерала Клыкова известна. Получив послание Мерецкова, он немедленно заболел и его вывезли на самолете в тыл.
И вот тут и возникает вопрос, а не этого ли и добивался Кирилл Афанасьевич? Не являлся ли его план «заболеть» Клыкова составной частью интриги, направленной против Власова.
Удалить своего заместителя и возможного преемника на посту командующего фронтом Мерецкову, безусловно, хотелось. И, конечно, когда представился случай запереть Власова в окруженной армии, вдалеке от средств связи со Ставкой, Мерецков не упустил его. Тем более что и причина удаления была вполне уважительной — 2-я Ударная армия находилась в критическом положении, и присутствие там заместителя командующего можно было объяснить этой критической ситуацией.
Дальше же возникают разночтения. Некоторые исследователи полагают, что Власов восьмого апреля вернулся вместе с комиссией в штаб фронта. Между тем сохранилась лента аппарата Бодо, зафиксировавшая переговоры Мерецкова с членами Военного совета 2-й Ударной армии, которая свидетельствует о противоположном.
Мерецков (Зуеву): Кого выдвигаете в качестве кандидата на должность командарма?
Член Военного совета Зуев: На эту должность кандидатур у нас нет. Считаю необходимым доложить вам о целесообразности назначения командующим армией генерал-лейтенанта Власова.
Власов: Временное исполнение должности командующего армией необходимо возложить на начальника штаба армии полковника Виноградова.
Мерецков и Запорожец (Власову): Считаем предложение Зуева правильным. Как вы, товарищ Власов, относитесь к этому предложению?
Власов: Думаю, судя по обстановке, что, видимо, придется подольше остаться в этой армии. А в отношении назначения на постоянную должность, то, если на это будет ваше решение, я его, конечно, выполню.
Мерецков: Хорошо, после нашего разговора последует приказ.
Приказа о назначении Власова командующим 2-й Ударной армией так и не последовало. Власов оставался заместителем командующего фронтом…
Спихивая своего преемника в гибнущую, окруженную армию, Кирилл Афанасьевич шел на серьезное нарушение порядка. Обычно назначение нового командующего происходило в присутствии представителя Ставки. Процедура, может, и бюрократическая, но необходимая. Ставка должна была представлять, какую армию принимает новый командующий.
Что значило такое назначение для Власова, тоже понятно. Он оказался в армии, неспособной сражаться, и сам не мог ни вытребовать дополнительных резервов, как это обыкновенно делалось при назначении (вспомните рассказ о назначении во 2-ю Ударную Н. К. Клыкова), ни просто объяснить представителю Ставки, что он уже такой принял армию. Напомним, что, согласно докладам К. А. Мерецкова, армия сохраняла боеспособность, снабжение ее шло нормально, и она готова была и дальше наступать на Любань…
Бывший сослуживец Власова по 4-му механизированному корпусу (этим корпусом Власов командовал в начале войны), бригадный комиссар Зуев, столь неосмотрительно «порадевший» Власову при нынешнем назначении, наверное, не понимал всего трагизма положения армии и самого Власова, но Власов не понимать этого не мог. Он не мог отказаться от назначения, но и сделать что-либо для спасения армии тоже не мог.
Однако и Власов даже и не догадывался тогда, насколько неблагоприятным окажется для него генеральский пасьянс, раскладываемый в штабах…
11
Увлекшись реализацией комбинации, связанной с устранением возможного преемника, Кирилл Афанасьевич Мерецков просмотрел опасность, подкравшуюся совсем с другой стороны.
В конце марта, когда недоучившиеся лейтенанты ходили в штыковую, чтобы, выстилая своими телами топи болот, пробиться к окруженной армии, генерал М. С. Хозин провел в Москве блистательную штабную интригу. Доложив в Ставке, что Любанская операция сорвалась из-за отсутствия единого командования войсками, он предложил объединить Ленинградский и Волховский фронты, возложив командование ими на него, Хозина.
Возможно, что Хозин и сам понимал, насколько трудно будет командовать девятью армиями, тремя отдельными корпусами и двумя группами войск, а заодно и Балтийским флотом, разделенными к тому же занятой противником территорией… Но ведь для другого и задумывалось объединение. Уже прибыл в Ленинград Говоров, и Михаилу Семеновичу, оказавшемуся почти в таком же, как и Мерецков, положении, нужно было позаботиться о создании достойной генеральской должности для себя.
Это и было осуществлено. 23 апреля по решению Ставки Волховский фронт преобразовали в Волховскую особую группу Ленинградского фронта. Говоров остался в Ленинграде, а Хозин отправился командовать армиями Кирилла Афанасьевича Мерецкова.
Мерецков узнал об этом только тогда, когда генерал Хозин с директивой Ставки в кармане «ив весьма веселом настроении» появился в штабе фронта.
Штабную игру Кирилл Афанасьевич проиграл. Его контринтрига — Мерецков, пытаясь сохранить фронт, докладывал в Ставке о необходимости ввода в район прорыва 2-й Ударной армии 6-го гвардейского стрелкового корпуса — успеха не имела. Кириллу Афанасьевичу холодно объявили, что судьба 2-й Ударной армии не должна волновать его, поскольку он назначен заместителем командующего Юго-Западным фронтом.
Новое назначение для Мерецкова было понижением в должности, и он тяжело переживал, еще не зная, что как раз это понижение и спасет всю его карьеру.
Для судьбы Андрея Андреевича Власова реорганизация фронтов обернулась катастрофой. Ставка так и не утвердила его в должности командующего 2-й Ударной армией, а должность заместителя командующего фронтом пропала вместе с самим фронтом. «Сталинский полководец» — так должна была называться книга об Андрее Андреевиче, которую уже писал майор К. Токарев, — оказался как бы подвешенным в воздухе. Из состояния «забытости» его могла вывести только победа, но никаких, даже мнимых побед, 2-я Ударная одержать уже не могла.
12
Ранняя весна 1942 года надежнее, чем немецкие дивизии, заперла 2-ю Ударную в болотах, и к концу апреля ее судьба определилась бесповоротно.
Обмороженные, изголодавшиеся, завшивевшие бойцы недели и месяцы — без смены! — проводили в болотных топях, и только смерть могла избавить их от мучений.
Отрапортовав в Ставку, что коммуникации армии восстановлены, К. А. Мерецков обманул Москву. Установленным под его руководством коридором невозможно было снабжать армию, и уже с середины апреля хлеба выдавалось менее половины нормы, других же продуктов вообще не было. Некомплект в дивизиях доходил до семидесяти процентов. Танковые части лишены горючего, артиллерия — снарядов.
Мы уже цитировали воспоминания связиста Ивана Дмитриевича Никонова о том, как прорывала 2-я Ударная армия немецкую оборону. Послушаем его рассказ о том, что стало с армией в конце апреля.
«…В полку было несколько десятков человек. Подкреплений больших не было. Если и поступало десятка по два человек, и то в основном из расформированных тыловых частей. Но надо было показывать, что мы еще сильны, и мы сначала вели наступательные операции. Хотя артиллерии у нас не было, а патроны — поштучно. Оставленное гусевцами орудие было без снарядов. Вновь прибывающие из тыловых частей пока имели только силу. Таскали на себе снаряды, патроны со станции Дубовик. От гусевцев остались и две лошади, не могущих идти. Их съели. Потом собрали потроха, брошенные ноги, кожу, кости. Сухарей иногда давали граммы. Старшина Григорьев И. Н. всегда скрупулезно их делил. Один отвернется, чтобы не видеть паек, а другой, показывая на пайку, кричал: «Кому?». Отвернувшийся называл фамилию. Место болотное, кушать нечего, зелени нет. У пехотинцев лопаток нет, а в болоте яму не выроешь, и так вода. Из мха, прошлогодних листьев, сучьев нагребешь вокруг себя бруствер и лежишь. Немец твое место засекает, высунешься — сразу убьет. Что рука достает, то и ешь. Появились случаи самоуничтожения. Сначала одиночные, потом сразу трое, из них двое командиров. Комиссар Ковзун собрал нас, кто мог прийти, и стал говорить: «Это же недопустимо! Это — ЧП! Надо провести решительную работу по этому вопросу, против таких действий!» В разборе выяснилось, что они от голода обессилели и не могли уже повернуться. Все молчали, только я спросил: «Ну, а что делать? Когда уже совсем обессилели? Не сдаваться же немцам?» Комиссар ничего не ответил…»
Перехватывает дыхание, когда читаешь эти бесхитростные свидетельства человека, еще в этой жизни прошедшего сквозь пучину адских мучений и выжившего, не сломавшегося… И, отрываясь от бесхитростных записей Ивана Дмитриевича, снова и снова пытаешься понять тех генералов, которые обрекали во имя своей карьеры десятки тысяч Никоновых на лютую смерть…
На штабных картах передвигаются ведь не живые люди, а полки и дивизии. И флажочки, обозначающие их, не багровеют от крови, если даже и гибнут в этих дивизиях люди. Очень близко, почти у самой цели стояли на карте флажки наших дивизий. Всего пятнадцать километров с севера, всего пятнадцать с юга отделяли их от Любани. И так легко было передвинуть флажки на карте, а после этого почти незаметного движения — ордена, звания, слава… Как же отдать в таких условиях приказ об отходе? Невозможно…
…Когда думаешь, сколько ума, сил, энергии было потрачено М. С. Хозиным в штабных интригах, становится страшно. Еще страшнее делается, когда видишь, что, проявляя чудеса изворотливости, генерал стремился, по сути дела, к своей собственной гибели. Ведь буквально через месяц, когда случится неизбежное и немцы приступят к ликвидации армии, Хозин все равно будет смещен. Так что же, какая злая сила гнала генерала к краю пропасти?
На примере карьеры Андрея Андреевича Власова мы пытались показать, как взращивались, как выковывались характеры определенной части советских генералов. Эти «сталинские полководцы» обучались лишь одному движению — вперед. Это касалось и военной доктрины, не помешавшей, впрочем, сдать противнику половину территории страны, но прежде всего — личной карьеры. Продвинуться в карьере после понижения удавалось не многим…
Исходя из этого и нужно оценивать поступки и решения К. А. Мерецкова и М. С. Хозина. Другое дело сам А. А. Власов. Он — жертва штабных интриг. И дело тут не в особых моральных качествах Власова, а просто в реальном раскладе сил. Если бы он оставался в штабе Волховского фронта, возможно бы, тоже сумел сплести нечто достойное его высокого звания, но — увы! Кирилл Афанасьевич Мерецков лишил его возможности проявить талант в этой области. Сейчас в руках у Власова была только армия, армия эта была обречена на гибель, и вместе с нею обречен был и сам Власов.
Андрей Андреевич понимал это, но свыкнуться с такой мыслью было трудно.
«Находясь при 2-й Ударной армии… — рассказывал на допросе майор Н. Кузин, — Власов давал понимать, что он имеет большой вес, ибо неоднократно говорил, что особое поручение Москвы и что он имеет прямую связь с Москвой. Во 2-й Ударной армии Власов хорошо дружил с членом Военного совета Зуевым и начальником штаба Виноградовым. С Зуевым они вместе работали до войны в 4-м корпусе. В беседах с Зуевым, Виноградовым Власов неоднократно говорил, что великие стратеги — это он по адресу товарища Мерецкова — завели армию на гибель. Власов по адресу Мерецкова говорил так: звание большое, а способностей… и дальше не договаривал, но давал понимать. Судя по разговору Власова, он не хотел никого понимать и хотел быть хозяином. Власов во 2-й Ударной армии не любил начальника Особого отдела Шашкова. Это Власов не раз высказывал Зуеву, а один раз даже скомандовал Шашкову выйти из землянки…»
Майор Кузин, конечно, не литератор, да и показания в НКВД — весьма специфический жанр, но все же состояние Власова в апреле 1942 года здесь передано достаточно точно.
Рассказывая о прямой связи с Москвой, которую он якобы имеет, Власов, конечно, блефовал. И блеф этот нужен был не столько для того, чтобы усилить свой авторитет в штабе армии — тут, как мы видим, Андрей Андреевич чувствовал себя полным хозяином: мог высказаться по поводу полководческих талантов Мерецкова, мог выгнать из землянки начальника Особого отдела армии, — сколько для того, чтобы убедить самого себя.
Идея связи с Москвой становится в апрельские дни у Власова просто навязчивой.
Власову казалось, что его доклад в Ставке сможет изменить ситуацию, если не на Волховском фронте, то в его собственной судьбе наверняка.
Видимо, с осуществлением этой идеи и связана командировка адъютанта майора Кузина. В начале мая тот вылетел на самолете из окруженной армии и отправился в Москву.
На допросе в НКВД майор Кузин о цели своей командировки предпочел умолчать. Из показаний же Агнессы Павловны Подмазенко мы узнаем, что якобы 27 мая она получила письмо от Власова, сообщившего ей, что командировал своего адъютанта, чтобы тот привез ее на фронт.
Опровергать показания Агнессы Павловны, хотя само письмо Власова и не сохранилось, трудно. Во-первых, не в интересах Агнессы Павловны было наговаривать на себя такое, а во-вторых, Подмазенко просто не могла узнать в городе Энгельсе о факте командировки в Москву капитана Кузина иначе, как от самого Власова.
Но, с другой стороны, даже и понимая, что быт генералов на войне существенно отличался от окопного, даже и допуская, что Власов был безумно влюблен в Агнессу Подмазенко, намерение его ввезти любимую «жену» в окруженную, гибнущую армию, мягко говоря, вызывает недоумение.
Скорее всего командировка Кузина в Энгельс была только предлогом или, по крайней мере, попутной целью. Главное же заключалось в другом. Вероятно, Власов хотел передать в Ставку, минуя свое непосредственное начальство, какие-то бумаги. Быть может, он полагал, что в Москве, узнав о подлинном положении дел, предпримут соответствующие меры. Быть может, рассчитывал просто напомнить о себе. Так или иначе, но в успехе командировки Кузина он не сомневался. Поэтому и попросил Кузина на обратном пути, уладив дела в Москве, заехать в город Энгельс и привезти Агнессу Подмазенко.
И, очевидно, это-то и позволило Мерецкову назвать своего заместителя «авантюристом, лишенным совести и чести».
Взгляд Мерецкова — взгляд из того времени, когда Власов был объявлен предателем. Тем более этот взгляд — взгляд человека, желавшего позабыть, что в гибели 2-й Ударной армии есть и его вина… И все же в чем-то Кирилл Афанасьевич прав. Авантюрная жилка, конечно же, была во Власове, и она удивительным образом уживалась с его поразительной, порою переходящей в преступную бездеятельность, осторожностью.
Впрочем, в этом Власов не был исключением…
Попав в фактически окруженную армию, он повел себя точно так же, как повела бы себя в подобной ситуации определенная часть генералов того времени. И в этом его судьба — во всяком случае, до 22 июня 1942 года, дня неудавшегося прорыва из окружения, — аккумулирует самую суть генеральской судьбы…
Прекрасной была цель: освободить Ленинград, спасти от голодной смерти многие сотни тысяч людей… Полководец, совершивший это в январе сорок второго, сделался бы народным героем.
Но в январе сорок второго для этого полководцу и нужно было быть народным героем. Увы… Ни Кирилл Афанасьевич Мерецков, ни Михаил Семенович Хозин, ни Андрей Андреевич Власов явно не подходили на эту роль. Они не способны были возвыситься над заботами о собственной карьере, и в результате с ними случилось то, что всегда происходит с людьми, поставленными на гребне событий и не способными переломить течение их… Мерецкова от этой печальной участи, как мы уже говорили, спасла забота Михаила Семеновича. Сам Хозин оказался навсегда сброшенным с командных высот. Еще печальнее оказалась судьба Власова.
Впрочем, в последних числах апреля, когда еще можно было предпринять энергичные меры для спасения хотя бы части армии, до того дня, когда, заложив руки за спину, опустив голову, Власов будет стоять, словно нашкодивший школьник, перед ступеньками крыльца штаба 18-й немецкой армии, оставалось еще больше двух месяцев.
13
В нелегких заботах проходил для генералов апрель. Наконец, устроив служебные дела, М. С. Хозин решил заняться и вверенными ему армиями. Тридцатого апреля он отдал приказ, согласно которому 59-я армия должна была выбить немцев из района Спасской Полисти. После этого следовало «подготовить к выводу в резерв фронта 4-ю гвардейскую и 372-ю стрелковые дивизии, а также 7-ю отдельную бригаду». Все — что и куда выводить — было предусмотрено в директиве, но случилась небольшая накладка: в тот день, когда был отдан этот приказ, немцы приступили к ликвидации окруженной 2-й Ударной армии.
«Тридцатого апреля вражеская артподготовка длилась больше часа. Стало темно, как ночью. Лес горел. Вскоре появилась вражеская авиация. Переправы через Волхов разбиты. Враг рвется по всему фронту… На одну из рот 38-го полка гитлеровцы обрушили огонь такой силы, что в роте осталось лишь несколько человек. Но они продолжали защищать «Долину смерти» — так окрестили заболоченную местность между реками Полистью и Глушицей».
В первых числах мая немцам удалось прорвать оборону вдоль дороги из Ольховки на Спасскую Полисть. С севера они вклинились почти до Мясного Бора. Уже полностью лишенные снабжения, бойцы 2-й Ударной армии продолжали сражаться.
«Солдаты, черные от копоти, с воспаленными глазами от многодневной бессонницы, лежали на зыбкой земле, а подчас прямо в воде и вели огонь по противнику. Они не получали ни хлеба, ни пищи, даже не было хорошей воды для питья. Ели солдаты крапиву, осиновую и липовую кору».
«Оценка местности к этому времени была весьма тяжелой… Все зимние дороги были залиты водой, для гужевого и автотранспорта не проходимы… Коммуникации в данный период распутицы и артминометпого огня противника были совершенно закрыты. Проход был временами доступен только отдельным людям».
Последняя цитата взята нами из докладной записки Военному совету Волховского фронта, поданной 26 июня 1942 года генерал-майором Афанасьевым. Понятно, что докладная записка не тот жанр, где оттачивается стилистика, но выражение «в период распутицй и артминометного огня» достойно, чтобы остаться в памяти. Это не оговорка. Интенсивный и губительный огонь немецкой артиллерии с тридцатого апреля стал для 2-й Ударной армии столь же привычной деталью пейзажа, как и набухшие водой болота.
«Наша авиация работает здорово… — записал в дневнике немецкий офицер Рудольф Видерман. — Над болотом, в которого сидят русские Иваны, постоянно висит большое облако дыма. Наши самолеты не дают им передышки».
И вот только в конце мая, когда армия практически была уничтожена, Ставка дала директиву на отвод ее. Не на выход из окружения, а на отвод. Но и эту директиву Ставки во 2-й Ударной получили с большим опозданием.
«Хозин медлил с выполнением приказа Ставки… — докладывал 1 июля 1942 года помощник начальника управления Особого отдела НКВД Москаленко, — ссылаясь на невозможность выводить технику по бездорожью и необходимость строить новые дороги».
В это невозможно поверить, но в начале июня действительно начали строить дороги, чтобы протащить через топи застрявшие в болотах орудия и танки. Ну, а о живых людях, конечно, забыли…
«30 мая я был ранен в ногу и попал в полевой медсанбат, который располагался здесь же в лесу… — вспоминает участник тех боев Н. Б. Вайнштейн. — Рассчитан медсанбат был на 200–300 раненых, а на третий день июня там их было несколько тысяч… Со мной рядом на нарах лежали раненые с гниющими ранами: в них заводились белые черви. Некоторые из-за ранения позвоночника не могли двигаться: делали под себя. Стоны, вонь. Пришлось выбираться наружу, хоть и холодно, но чисто. Мы подружились с лейтенантом — у него были ранения лица и рук, — я все делал руками, а он ходил, искал заячий щавель, крапиву и дохлых коней. Это были кони, павшие зимой, вмерзшие в землю и оттаявшие сейчас в болотах. Сохранившиеся куски гнилого мяса заталкивались в коробку из-под немецкого противогаза (она из металла), и она бросалась в огонь. Через два-три часа, зажав нос, мы ели похлебку и жевали то, что получилось… Кто увлекался похлебками — начали распухать. Очень много таких умирающих появилось… Лежит человек огромный, голова, как шар, глаз почти не видно, они скрыты. Дышит, но уже ничего не чувствует… Нас можно было брать почти без сопротивления, но добраться до нас было невозможно — от разрывов лес и болото были перемешаны, чуть шагнешь в сторону — и провалишься по грудь…»
2-я Ударная предпринимала отчаянные попытки вырваться из мешка, но все было бесполезно.
«4 июня 1942 года. 00 часов 45 минут.
Ударим с рубежа Полисть в 20 часов 4 июня. Действий войск 59-й армии с востока не слышим, нет дальнего действия артогня. Власов».
Прорыв этот не удался. Более того… Смяв почти безоружные порядки 2-й Ударной армии, немцы заняли Финев Луг и вышли в тылы.
Шестого июня М. С. Хрзин вынужден был доложить в Ставку, что армия окружена. Ставка немедленно сместила его с должности.
Как вспоминает К. А. Мерецков, восьмого июня раздался неожиданный звонок. Звонил Жуков:
— Срочно приезжайте как есть…
Мерецков сел в машину и, весь «в окопной грязи», даже не успев переодеться, был доставлен в приемную ВГК. Поскребышев тоже не дал ему привести себя в порядок, сразу ввел в кабинет, где в полном составе шло заседание Политбюро.
— Мы допустили большую ошибку, товарищ Мерецков, объединив Волховский и Ленинградский фронты… — сказал Сталин. — Генерал Хозин, хотя и сидел на волховском направлении, дело вел плохо. Он не выполнил директивы Ставки об отводе 2-й Ударной армии. Вы, товарищ Мерецков, хорошо знаете Волховский фронт. Поэтому мы поручаем вам с товарищем Василевским выехать туда и во что бы то ни стало вызволить 2-ю Ударную армию из окружения, хотя бы даже без тяжелого оружия и техники. Вам же надлежит немедленно по прибытии на место вступить в командование фронтом.
Так и была поставлена точка в том генеральском пасьянсе, о некоторых головоломных комбинациях которого мы рассказывали. В тот же день, к вечеру, Мерецков прилетел в Малую Вишеру.
14
«Обстановка выглядела довольно мрачной. Резервы отсутствовали. Нам удалось высвободить три стрелковые бригады и ряд других частей, в том числе один танковый батальон. На эти скромные силы, сведенные в две группы, возлагалась задача пробить коридор шириной полтора-два километра, прикрыть его с флангов и обеспечить выход войск 2-й Ударной армии…»
Как мы уже рассказывали, Мерецков пробивал коридор в марте. Судя по его воспоминаниям, генералу и сейчас удалось прорвать окружение. Странно только, что немцы даже и не заметили этого.
Начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-полковник Ф. Гальдер, скрупулезно отмечавший изменение обстановки на фронтах, записывал в те дни: «обстановка без изменений», «существенных изменений не произошло», «серьезные атаки с востока отбиты», «наступление у Волхова отражено», «атаки на Волхове опять отбиты»… «На Волхове ожесточенные атаки при поддержке танков отбиты с большим трудом»… «На Волховском участке снова тяжелые бои. Вражеские танки проникли в коридор… Полагаю, что противник оттянет свои силы. В котле начинает ощущаться голод».
Увы. Но записи Гальдера совпадают в точности с донесениями, поступающими из окруженной армии.
«Военному совету Волховского фронта. Докладываю: войска армии в течение трех недель ведут напряженные ожесточенные бои с противником… Личный состав войск до предела измотан, увеличивается количество смертных случаев, и заболеваемость от истощения возрастает с каждым днем. Вследствие перекрестного обстрела армейского района войска несут большие потери от арт-минометного огня и авиации противника… Боевой состав соединений резко уменьшился. Пополнять его за счет тылов и спецчастей больше нельзя. Все, что было, взято. На шестнадцатое июня в батальонах, бригадах и стрелковых полках осталось в среднем по нескольку десятков человек. Все попытки восточной группы армии пробить проход в коридоре с запада успеха не имели. Власов. Зуев. Виноградов».
«20 июня. 3 часа 17 минут. Начальнику штаба фронта. Части 2-й Ударной армии соединились в районе отметки 37,1 и севернее ее с прорвавшимися танками и небольшой группой пехоты 59-й армии. Пехота, действующая с востока, на реку Полисть еще не вышла. Артиллерия с востока не работает. Танки не имеют снарядов».
«20 июня. 12 часов 57 минут. Начальнику ГШКА. Начальнику штаба фронта. Копия: Коровникову и Яковлеву. Прошу понять, что части восточной группы настолько обескровлены, что трудно выделить сопровождение для танков. Оборона противника на реке Полисть не нарушена. Положение противника без изменений. Пехота 52-й и 59-й армий на реку Полисть с востока не вышла. Наши части скованы огнем противника и продвижения не имеют. Прошу указаний на атаку пехоты 52-й и 59-й армий с востока. Прорвавшиеся 11 танков не имеют снарядов».
«21 июня 1942 года. 8 часов 10 минут. Начальнику ГШКА. Военному совету фронта. Войска армии три недели получают по пятьдесят граммов сухарей. Последние дни продовольствия совершенно не было. Доедаем последних лошадей. Люди до крайности истощены. Наблюдается групповая смертность от голода. Боеприпасов нет… Власов. Зуев».
«Бойцы уже падали и умирали… — вспоминал о тех днях Иван Константинович Никонов. — Вижу, боец Александров встал, хватается руками за воздух, упал, опять встал, упал — и готов. Увижу, как зрачков не стало, — конец. Пришел Загайнов… принес несколько кусков подсушенной кожи с шерстью и кость сантиметров пятнадцать длины. Шерсть обжег и съел эту кожу с таким вкусом, что у меня в жизни ни на что больше такого аппетита не было. У кости все пористое съел так, как раньше, а верхний слой сжег и углем съел. Так все делали. У голодного человека зубы такие крепкие, как у волка».
Появились в армии и случаи людоедства. В докладной записке, подготовленной 6 августа 1942 года для Абакумова, указывалось, что начальник политотдела 46-й стрелковой дивизии Зубов задержал бойца, когда тот пытался вырезать «из трупа убитого красноармейца кусок мяса для питания. Будучи задержан, боец по дороге умер от истощения».
15
В эти дни Власов не только посылал радиограммы о бедственном положении армии в различнейшие штабы, но и напряженно работал, пытаясь со своей стороны разорвать кольцо окружения.
Как вспоминал водитель Власова Н. В. Коньков, «ежедневно из штаба армии в район Мясного Бора выезжали, а позже ходили пешком командующий армией генерал-лейтенант Власов или член Военного совета армии дивизионный комиссар Зуев. До 20 июня у командования была полная уверенность в том, что окружение будет прорвано.
20 июня я слышал от бойцов и командиров, что командующий запросил по радио штаб фронта о том, что вырваться из окружения не удается, что предпринять с техникой и материальной частью? Каков был ответ на радиограмму, я не знаю, но на следующий день технику начали уничтожать… Командование приказало сосредоточить все силы для удара в районе Мясного Бора. Генерал-лейтенант Власов отправил на передовую так же две роты по охране штаба армии. Я и еще человек восемь шоферов остались при штабе в качестве охраны и в боях в этот день участия не принимали. На следующий день командование издало приказ всеми имеющимися силами идти на штурм обороны немцев в районе Мясного Бора. Этот штурм намечался на вечер 22 июня, и в этом штурме принимали участие все: рядовой состав, шофера, командующий армией, начальник Особого отдела армии и работники штаба армии… Командующий армией и работники штаба держались спокойно и стойко и в момент штурма шли вместе с бойцами. Штурм начался часов в девять-десять вечера, но успеха не имел, так как наши части были встречены сильным минометным огнем…»
Николай Васильевич Коньков не знал, что шатающимся от голода бойцам 2-й Ударной армии все же удалось совершить невозможное — они пробили со своей стороны немецкие укрепления. Согласно донесению капитана госбезопасности Колесникова, направленному под грифом «Совершенно секретно» в Особый отдел Волховского фронта, в этот день из окружения вышло 6018 раненых и около 1000 здоровых.
Раненым повезло больше. Их отправили в госпиталь (потому они и сосчитаны точно), из остальных («около 1000 здоровых») был сформирован отряд полковника Коркина, который снова загнали в «Долину смерти». Воистину злой рок висел над бойцами 2-й Ударной армии. Целыми уйти из этого ада не дозволялось никому.
Интересно, что в этот же день начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии Ф. Гальдер записал в своем дневнике: «Потери сухопутных войск на Восточном фронте с 22 июня 1941 года по 10 июня 1942 года: ранено — 27 282 офицера, 915 575 унтер-офицеров и рядовых; убито — 9915 офицеров, 256 302 унтер-офицера и рядовых; пропало без вести — 887 офицеров, 58 473 унтер-офицера и рядовых. Общие потери сухопутных войск (без больных) составили 1 268 434 человека».
Такие записи немецкий генерал-полковник делал регулярно три раза в месяц на протяжении всей войны. Я не собираюсь выдавать Гальдера за образец «солдатолюбия», но, очевидно, в нашем Генеральном штабе подобных подсчетов никто не вел.
16
Но вернемся к Андрею Андреевичу Власову.
Колонну, в которой шли штабисты армии, немцы встретили минометным огнем, и она вынуждена была отойти. Отчаяние сквозит в радиограмме, посланной из штаба 2-й Ударной сразу, как только стало ясно, что прорыв не удался.
«23 июня 1942 года. 1 час 2 минуты. Войска армии после прорыва силами 46-й стрелковой дивизии вышли на рубеж Безымянного ручья, 900 метров восточнее отметкиf 37,1, и только в этом районе встретились с частями 59-й армии. Все донесения о подходе частей 59-й армии к реке Полисть с востока — предательское вранье…»
Утром 23 июня окончательно сломленная во время ночного штурма 2-я Ударная армия еще держала оборону по линии Глухая Кересть — Новая Кересть — Ольховка, но вечером немцы прорвались в район посадочной площадки в Новой Керести, а к 16.00 просочились к КП армии. И хотя к восьми часам вечера немецких автоматчиков от КП удалось отбить, было понятно, что армия доживает последние часы.
«23 июня 1942 г. 22.15. Противник овладел Новой Керестью и восточнее. Проход восточнее реки Полисть вновь закрыт противником… Активных действий с востока не слышно. Артиллерия огонь не ведет. Еще раз прошу принять решительные меры по расчистке прорыва и выхода 52-й и 59-й армий на реку Полисть с востока. Наши части на западном берегу Полисти. Власов. Зуев. Виноградов».
«23 июня 1942 г. 23.35. Бой на КП штаба армии, отметка 43,3. Помощь необходима. Власов».
Что происходило в 52-й и 59-й армиях, понятно. Мерецкову не удалось организовать штурмовую группировку такой силы, которая способна была проломить немецкую оборону. И, как всегда в таких случаях, — снова горькая правда о неудаче обильно разводилась лукавством, и в общем-то и незначительные преувеличения успехов, складываясь воедино, превращались в настоящий, как и было приказано, прорыв. К этому лукавству подталкивал генералов и сам характер болотистой местности, где сплошной линии обороны не могло быть ни у нас, ни у немцев…
Но для задыхающейся в кольце гибнущей армии успокоительные сообщения о прорыве окружения звучали насмешкой.
«24 июня 1942 г. 00.45. Прохода нет, раненых эвакуировать некуда — Вас вводят в заблуждение… Прошу Вашего вмешательства».
Утром 24 июня немецкие автоматчики Прорвались к штабу армии, и все командование перешло на КП 57-й стрелковой бригады.
Отсюда и ушла в штаб фронта последняя радиограмма…
«24 июня 1942 г. 19.15. Всеми наличными силами войск армии прорываемся с рубежа западного берега реки Полисть на восток, вдоль дорог и севернее узкоколейки. Начало атаки в 22.30… Прошу содействовать с востока живой силой, танками и артиллерией 52-й и 59-й армий и прикрыть авиацией войска с 3.00 25 июня 42 г. Власов, Зуев, Виноградов».
К 22.00 колонна, в которой выходил на этот раз и Власов, переместилась в район КП 46-й стрелковой дивизии, откуда в 24.00 двинулась к пункту отхода. В голове колонны шли два взвода роты Особого отдела, вооруженные двенадцатью ручными пулеметами, и взвод сотрудников Особого отдела НКВД с автоматами. Дальше двигались начальник ОО А. Г. Шашков, Военный совет армии, отделы штаба армии. Замыкал шествие взвод роты Особого отдела.
Согласно сводке Генерального штаба, составленной на основе доклада К. А. Мерецкова, «25 июня к 3 часам 15 минутам согласованным ударом 2-й и 59-й армий оборона противника в коридоре была сломлена, и с 1 часа 00 минут начался выход частей 2-й армии».
Человеку, не искушенному в стилистике штабных документов, может показаться странным, что выход окруженной армии начался за два с лишним часа до того, как удалось сломить оборону противника. Однако никакого противоречия тут нет. Ведь эту безумную атаку шатающихся от голода бойцов и называл Кирилл Афанасьевич «выходом из окружения». Столь же чудесно было переосмыслено и появление нескольких бойцов 2-й Ударной, прорвавшихся сквозь немецкие порядки.
Его облекли в более приятную для генеральского уха формулировку почти победной реляции: «оборона противника сломлена».
Но несколько бойцов и офицеров прорвались и на этот раз. Они и рассказали, как происходил прорыв…
«Все становилось безразличным, часто впадали а полудрему, забытье. Потому совершенно не ясно, откуда взялись силы, когда… мы начали выходить. Выходить — не то слово. Ползли, проваливаясь в болото, вылезли на сухую поляну, увидели своих танкистов — наши танки, развернув башни, били по фашистам. Но немцы простреливали эту поляну — на ней живого места не было. Одно место я даже (вспомните, что автор воспоминаний Н. Б. Вайнштейн в первых числах июня был ранен в ногу — Н. К.) перебежал. Что руководило направлением — куда бежать, — тоже не ясно, инстинкт какой-то, даже осколочное ранение в плечо показалось пустяком в этом содоме».
Еще менее удачной была судьба штабной колонны. Около двух часов ночи вся группа, согласно показаниям генерал-майора Афанасьева, попала под «артминометный заградительный огонь. Группы в дыму теряются. Одна группа во главе с Зуевым и начальником Особого отдела с отрядом автоматчиков… ушла от нас вправо. Мы с группой Власова, Виноградова, Белищева, Афанасьева и др. ушли сквозь дым разрывов влево… Пройти вперед не смогли. И мы решили идти обратно на КП 46-й стрелковой дивизии, куда вернулся и штаб 46-й дивизии. Ждали момента затишья, но, увы, с запада противник прорвал фронт и двигался к нам по просеке во взводных колоннах и кричал: «Рус, сдавайся!» Мне былоттриказано организовать оборону КП, но противник продолжал нажимать, увеличил свои силы, увеличился огонь по КП. Нужно отметить, что тов. Власов, несмотря на обстрел, продолжал стоять на месте, не применись к местности, чувствовалась какая-то растерянность или забывчивость… Заметно было потрясение чувств… Было немедленно принято решение, и Виноградов взялся за организацию отхода в тыл к противнику с выходом через фронт опять к своим…»
Почти никому из руководства 2-й Ударной не удалось выйти из окружения. Начальник Особого отдела армии А. Г. Шашков был ранен еще в ночь на 25 июня и застрелился. Комиссар Зуев погиб через несколько дней, напоровшись на немецкий патруль возле железной дороги. Начальник штаба Виноградов, который так и не узнал о присвоении ему звания генерал-майора, тоже погиб. Но сам Власов уцелел…
Сведения о нем начиная с 25 июня становятся все обрывочней, пока не прекращаются совсем.
Как явствует из рапорта, поданного на имя начальника Особого отдела НКВД Волховского фронта, заместитель начальника 00 НКВД 2-й Ударной армии капитан госбезопасности Соколов пытался 25 июня отыскать Власова, но это ему не удалось.
«Мы обнаружили шалаш, где Власов находился, но в этом шалаше была только одна сотрудница военторга по имени Зина, которая ответила, что Власов находился здесь, но ушел к командиру 382-й дивизии, а затем якобы имел намерение перейти на КП 46-й дивизии».
В 13.30, когда Соколов отыскал Зину, дорогу на КП дивизии уже перерезали немецкие автоматчики, и капитан прекратил поиски Власова.
Видел Власова начальник политотдела 46-й стрелковой дивизии майор Александр Иванович Зубов (тот самый, который несколько дней назад задержал красноармейца-людоеда).
«В 12 часов дня 25 июня, — рассказывал он, — штаб 2-й Ударной армии и штаб 46-й дивизии находились в лесу в одном месте. Командир дивизии Черный мне сообщил, что мы сейчас идем в тыл противника, но командующий Власов предупредил, чтобы не брать лишних людей и лучше стремиться остаться одним. Таким образом, нас осталось из штаба 2-й Ударной армии 28 человек и не менее было из штаба 46-й дивизии. Не имея питания, мы пошли в Замошеское болото и шли двадцать пятого и двадцать шестого. Вечером мы обнаружили убитого лося, поужинали, а утром двадцать седьмого июня начальник штаба 2-й Ударной армии, посоветовавшись с Власовым, принял решение разбиться на две группы, так как таким большим количеством ходить невозможно. В два часа дня мы раскололись на две группы и разошлись в разные стороны».
Об этом же говорил и генерал-майор Афанасьев: «Тов. Виноградов договорился с тов. Власовым, что надо разбиться на маленькие группки, которые должны сами себе избрать маршрут движения и планы своих действий. Составили списки и предложили нам двигаться. Перед уходом… стал спрашивать Власова и Виноградова, они мне сказали, что еще не приняли решения и что они пойдут после всех».
Это последнее известие об Андрее Андреевиче Власове.
Где-то после двух часов дня 27 июня 1942 года след Власова теряется вплоть до 12 июля, когда генерал был взят в плен немцами в крестьянской избе в деревне Туховичи.
17
Исчезновение Власова удивительно уже и потому, что, как известно из доклада штаба Волховского фронта, «для розыска Военного совета 2-й Ударной армии разведотделом фронта были высланы радиофицированные группы». Они вели поиск Власова, но никаких следов генерала не обнаружили.
То же самое касается и разрозненных групп красноармейцев, блуждавших по лесу в поисках выхода к своим. Им тоже не довелось встретиться с Власовым. Если мы добавим, что весь район активно прочесывался немцами, то исчезновение Власова становится совсем удивительным.
Вместе с тем, судя по фотографии, сделанной на станции Сиверская, где Власов, как нашкодивший школьник, стоит возле крылечка немецкого штаба, за две недели, проведенные неведомо где, он не особенно сильно исхудал. А это значит, что и забиться в непроходимую глушь, чтобы отсидеться там, Власов тоже не мог.
Разгадку этого нужно искать в самом составе группы, с которой ушел Власов. Кроме его «жены», Марии Игнатьевны Вороновой, в группе был и начальник штаба армии Виноградов. Скорее всего и ему, и Власову был известен какой-то запасной, неиспользованный КП, где имелся запас продуктов. Там и надеялись они отсидеться, чтобы потом, когда закончится прочесывание местности, еще раз попытаться перейти через линию фронта.
Другого объяснения загадочному исчезновению Власова найти невозможно.
Мария Игнатьевна Воронова на допросе в НКВД тоже обошла этот вопрос. «Примерно в июле месяце 1942 года под Новгородом немцы обнаружили нас в лесу и навязали бой, после которого Власов, я, солдат Котов и шофер Погибко вырвались в болото, перешли его и вышли к деревне. Погибко с раненым бойцом Котовым пошли в одну деревню, мы с Власовым в другую. Когда мы зашли в деревню, нас приняли за партизан. Местная «Самоохова» дом окружила и нас арестовали. Нас посадили в колхозный амбар, а на другой день немцы, предъявили Власову его портрет, вырезанный из газеты, и Власов был вынужден признаться, что он действительно генерал-лейтенант Власов. До этого он рекомендовался учителем-беженцем.
Немцы, убедившись, что они поймали генерал-лейтенанта Власова, посадили нас в машину и привезли на станцию Сиверскую в немецкий штаб. Здесь меня посадили в лагерь военнопленных, находящийся в местечке Малая Выра, а Власова через два дня увезли в Германию».
Несколько иначе, но сходно, хотя по совершенно другим источникам, описывает пленение Власова в своей книге Е. Андреева.
«12 июля 1942 года Власов был обнаружен в крестьянской избе деревни Туховичи офицером разведки немецкого 38-го корпуса капитаном фон Шверднером и переводчиком Клаусом Пельхау. До этого они нашли труп, принятый ими за тело Власова, и решили проверить, не скрывается ли в избе кто-либо. Когда Власов услышал шаги немцев, он вышел и сказал: «Не стреляйте, я — Власов». 13 июля Власова отвезли к генералу Линдеману, командующему 18-й армией, в штаб-квартиру в Сиверской… 15 июля его повезли в Летцен, туда прибыли 17-го, и там его допрашивало немецкое командование. Несколько дней спустя его перевезли в Винницу, на Украине, где был лагерь для особо важных пленников».
Свои показания Мария Игнатьевна Воронова дала 21 сентября 1945 года в Барановичах, куда вернулась из Германии. Но не только три с лишним года разделяли ее рассказ с неделями, проведенными в волховских болотах… Ведь когда Воронова, освободившись из лагеря, разыскала Власова, тот был уже женат на вдове эсэсовского офицера Хейди Биленберг, и Вороновой пришлось довольствоваться должностью прислуги.
Обиду эту она так и не простила Андрею Андреевичу и, сообщая об июльских событиях 1942 года, то и дело сбивалась на рассказ о своей сопернице: «Проживая в Берлине, Власов женился на немке Биленберг — бывшей жене известного крупного немецкого миллионера, убитого на Северном Кавказе в эту войну. При наступлении Армии Власов с миллионершей Биленберг рассчитывал удрать в Америку, но был схвачен представителями Красной Армии…»
Впрочем, иного от Марии Игнатьевны трудно было и ожидать. Человек она не военный. В армию ее загнала нужда, а служба здесь оказалась специфически не армейской. Об этом, кстати, говорил и адъютант Власова майор Кузин: «Мария Игнатьевна считалась поваром-инструктором при военторге, но фактически не работала. Почувствовав хорошее отношение Власова, она частенько устраивала истерику, а Власов ухаживал за ней, как за ребенком». Поэтому-то к ее рассказу о пленении Власова нельзя относиться безоговорочно. Что-то Воронова успела позабыть, что-то казалось ей несущественным… Но это «что-то», быть может, и является самым важным.
Не все сходится и в реконструкции, сделанной Екатериной Андреевой. Фон Шверднер и Клаус Пельхау вначале находят труп, принятый ими за генерала Власова, а потом производят обыск избы, где скрывается Власов… Вообразить, что это происходит в населенной деревне — трудно.
Все эти многочисленные противоречия и несостыковки, как нам кажется, снимаются, если допустить, что немцы обнаружили Власова с его подругой на каком-то запасном КП 2-й Ударной армии, где и отсиживались наши герои до поры до времени.
Во всяком случае, в донесении, составленном Л. П. Берия для И. В. Сталина, плецение Власова излагалось иначе. «14 июля германское радиовещание в сводке верховного командования передало: «Во время очистки недавнего волховского котла обнаружен в своем убежище и взят в плен командующий 2-й Ударной армией генерал-лейтенант Власов».
18
Конечно же, это очень важно — понять, где провел Власов две недели после неудавшегося прорыва до своего пленения немцами. Но еще важнее понять, что думал и что чувствовал он в эти недели…
Пейзаж нам известен. Лесные дебри, болото… Чахоточная, сочащаяся водою земля. Земля второго дня Творения, когда Господь еще не собрал воду, «которая под небом, в одно место», когда еще не явилась суша, названная потом землею… Выпавшие из общего счета событий недели тоже как-то связаны с этим пейзажем. Часы, минуты, дни, словно бы разбухая от болотной сырости, перепутались между собой, пока время совсем не исчезло.
В том последнем прорыве у Мясного Бора Власов, как вспоминают очевидцы, потерял очки, и видимый мир расплывался перед его глазами. Расплылись и казавшиеся ранее неколебимыми отношения. Между Власовым и Вороновой с первого дня отношения эти были предельно простыми и ясными — баба при генерале… Теперь же и они в потайном убежище, где вынужден был отсиживаться Власов, уродливо искривлялись, и получалось, что уже не Воронова находилась при Власове, а Власов при Вороновой — генерал при бабе. Наверное, Воронова была неплохой женщиной, но к отсиживанию в убежище она явно не подходила.
Екатерина Андреева пишет в своей книге, что Власов якобы вспоминал потом, будто «во время его скитаний по лесу начал понимать, осознавать ошибки правительства. Он пересмотрел свою судьбу, но решил, что не будет кончать жизнь самоубийством. Он сравнивал себя с генералом Самсоновым, который в августе 1914 года во время первой мировой войны тоже командовал 2-й армией. Убедившись, что он не оправдал доверия своей страны, Самсонов застрелился. По словам Власова, у Самсонова было нечто, за что он считал достойным умереть, он же, Власов, не собирался кончать с собою во имя Сталина».
Вполне возможно, что Власов именно так и объяснял сподвижникам отказ от самоубийства. Такая мотивировка была для них проще и понятнее, а главное, не требовала и от Власова особенной откровенности. На самом же деле проблема эта для Власова, конечно, не сводилась к вопросу: достоин или не достоин Сталин, чтобы во имя него можно было отдать жизнь.
Власов был достаточно смелым человеком. Судя по воспоминаниям И. Эренбурга, рассказавшего, как ездил Андрей Андреевич на «передок», чтобы проститься с солдатами, или по показаниям участников штурма Мясного Бора, запомнивших, что Власов стоял во время боя, «не применяясь к местности», особого страха быть убитым в нем не было, вернее, этот страх успешно контролировался всем армейским воспитанием. Но между этой смелостью и решительностью к самоубийству — огромная разница… Тем более для Власова, который, возможно, если бы не помешала революция, принял священнический сан. Ни армейская школа, ни штабные университеты не сделали его атеистом.
Подтверждением, что отказ от самоубийства не трусость, как полагают некоторые, а сознательный акт выбора, пусть и мучительного, но сужденного тебе Пути, который ты обязан пройти до конца, служит и то, что Власов отверг вариант самоубийства и в сорок пятом году, когда второй раз сдался в плен, теперь уже советским войскам. На этот раз никаких иллюзий по поводу собственной судьбы у него не могло быть. Власов знал и о неизбежных мучениях и о столь же неизбежной, предстоящей казни, но, и зная все наперед, самоубийством опять не воспользовался. Такого выхода для него просто не существовало.
Повторяю, что нам ничего наверняка не известно об Андрее Андреевиче Власове с того момента, как, разбившись на мелкие группы, остатки 2-й Ударной армии начали самостоятельно выходить из окружения… Все, сказанное здесь, — предположительно. Мы лишь отсекаем то, чего не могло быть. Занятие не слишком увлекательное, но в мифологизированной судьбе Власова необходимое. Сподвижники хотели видеть в нем героя, титана, бросившего вызов большевистскому режиму.
Власов не был ни героем, ни титаном. Но не был он и предателем, сознательно заведшим армию в окружение, чтобы сдать ее врагу. Это тоже миф, который усиленно навязывался советской пропагандой. Настолько усиленно, что он проник даже в формулировки судебного следствия, которое констатировало: «Власов… в силу своих антисоветских настроений изменил Родине и перешел на сторону немецко-фашистских войск, выдал немцам секретные данные о планах советского командования, а также клеветнически характеризовал Советское правительство и состояние тыла Советского Союза».
Нет нужды доказывать, что, проведя три месяца в окруженной армии, едва ли владел Власов какой-то представляющей для немцев интерес стратегической информацией. Тем более что уже следующая формулировка обвинения начисто отрицает предыдущую: «Клеветнически характеризовал… состояние тыла Советского Союза». Но ведь клеветническая характеристика подразумевает дезинформацию. Какие же планы тогда выдал Андрей Андреевич Власов, если он дезинформировал, путал немцев?
Это не казуистика.
Привычные уху советского человека надуманные формулировки обвинения заменяли формулировку истинной вины, которая ни в каких доказательствах не нуждалась. Генерал Власов сдался в плен и уже тем самым совершил тягчайшее преступление. Ведь еще 16 августа 1941 года в СССР был издан приказ № 270, согласно которому офицеры, занимавшие командные должности и сдавшиеся в плен, рассматривались как изменники, а их семьи арестовывались и подвергались репрессиям.
Об этом приказе знал А. А. Власов, и оказавшись в лагере военнопленных в Виннице.
19
Для западных исследователей, граждан так называемых цивилизованных стран, вопрос о причинах измены Власова решается просто и без затей.
«Если государство предоставляет гражданину защиту, — рассуждают они, — оно вправе требовать от него лояльности, а если гражданин лоялен к государству, оно обязано предоставить ему защиту».
Отказавшись подписать Женевское соглашение, Советское правительство лишило своих граждан необходимой защиты, а следовательно, и граждане не обязаны были сохранять в плену верность ему.
Рассуждение само по себе вполне логичное, но к Власову абсолютно неприменимое хотя бы уже потому, что большевистский режим снял с себя заботу не только о пленных, но и — это мы видим на примере 2-й Ударной армии — о солдатах, и о всех остальных гражданах…
Фашизм многое роднило с большевизмом. Тоталитаризм… Культ вождя… Об этом написано немало. А вот о том, что сходным в большевизме и фашизме было и отношение к русским, почти не пишут, хотя без этого невозможно разобраться в самой сущности вроде бы враждебных друг другу идеологий.
Ненависть эта была обусловлена тем, что страна наша не вписывалась и не могла вписаться в идеологию превосходства избранной (в фашизме — немцы, у большевиков — евреи) нации. Как известно из истории, Россию создали не столько даже цари и военачальники, сколько Святые и Подвижники русской православной церкви. И объединялась страна не по национальному признаку, а на основе русской Веры — Православия. Казак, встретив в степи незнакомца, никогда не спрашивал о его национальности, а просил лишь показать крест, ибо Крест Господень и соединял живущих здесь. Одновременно с оформлением государственности происходило и слияние православия с русской национальной идеей. Русский национальный тип в своих характернейших проявлениях — равнодушии к особенно тщательному обустройству земной жизни, безразличии к форме земного правления — тоже существенное проявление православия, осуществленного уже на уровне нового национального сознания.
Это же национальное сознание определяло и чрезвычайно высокий уровень патриотизма. Но в отличие, например, от той же Германии гордость возникала здесь не оттого, что ты — русский, а оттого, что ты православный, что твоя страна — хранительница истинных устоев христианства.
И в отличие от национального патриотизма, патриотизм этот действовал на другие нации иначе — не порабощая их, не подчиняя себе, а приобщая их к православию, вбирая их в православие, в русскость.
Именно православное сознание народа и обусловило ту трагедию, которая разыгралась в семнадцатом году. Идеи коммунизма были обманчиво близки идеям православной русскости. Ленин, Троцкий и их сподвижники, безусловно, обманывали массы, увлекая их не совсем теми идеями, которые предполагали осуществить на практике, но, обманывая, а затем и осуществляя свои подлинные замыслы, были вынуждены в известной степени корректировать их, приспосабливая под русское православное сознание, и не тут ли и надо искать источники их иррациональной ненависти к России вообще и к каждому русскому в частности. Со временем в истинных адептах большевизма, которые, и уничтожив церкви, не сумели разрушить русское православное сознание, эта «иррациональная» русофобия сделалась сущностной, превратив сами большевистские идеи в простой антураж.
Этот экскурс в историю необходим для понимания русского человека сорок второго года. Идеи большевизма были уже отторгнуты православно-русским самосознанием, и Сталин совершенно ясно понимал, что не поддерживаемый жестокой карательной системой большевистский режим потеряет всякое значение для населения оккупированных территорий. Поэтому своевременно были приняты меры, чтобы предельно обострить отношения населения с оккупантами. Многочисленные партизанские отряды совершали диверсии, цель которых, кажется, только в том и заключалась, чтобы вызвать ответные репрессии, и тем самым лишить русское население возможности искать и находить в немцах союзников, а не врагов. Замысел этот, если не принимать во внимание его поразительную — о какой лояльности правительству может тут идти речь? — бесчеловечность, можно отнести к самым гениальным изобретениям Сталина, и реализация его вполне уравновесила упущенную стратегическую инициативу. Население вынуждено было защищать ненавистный режим, поскольку оккупационный режим был еще более жестоким.
Нельзя сказать, чтобы немцы не поняли своей ошибки. Йозеф Геббельс еще 25 апреля 1942 года записал в своем дневнике, что правильнее было бы вести войну против большевиков, а не против русского народа. Увы… Мнение Геббельса так и не превратилось в четко выраженную политическую линию, поскольку противоречило самой сущности фашистской идеологии.
Тем не менее на уровне эксперимента идея эта прошла проверку. И проведен эксперимент был на Андрее Андреевиче Власове…
20
Опытным вермахтовским пропагандистам не составляло труда помочь пленному генералу освободиться от пут привычных, но по сути глубоко чуждых и ненавистных большевистских догм.
Столь же нетрудно было внушить погруженному в мрак отчаяния, но тем не менее сохранившему всю энергию честолюбия генералу, что нынешнее состояние его не только не завершение карьеры, а лишь начало ее. Но карьеры совершенно новой, карьеры — спасителя Отечества, России.
Все это понятно и объяснимо. Человек по своей природе устроен так, что может поверить в любое несбыточное мечтание, если реальность не оставляет ему места в жизни. Гораздо сложнее понять другое… Фашистов Андрей Андреевич Власов знал. Он освобождал от них города и села под Москвой, сам находился на оккупированной территории и не видеть, как относятся они к русским, не мог. Поэтому-то и не вполне понятно, как вермахтовским пропагандистам все-таки удалось убедить его, что немцы станут союзниками в борьбе за новую, небольшевистскую Россию.
В. Штрик-Штрикфельд — офицер, непосредственно занимавшийся обработкой Власова, — написал целую книгу «Против Сталина и Гитлера», в которой подробно рассказал о взаимоотношениях с генералом. Наиболее интересно в этой книге свидетельство того, что, обрабатывая Власова, Штрик-Штрикфельд сам нисколько не кривил душою, а искренне считал, что Германия должна воевать не с Россией, а с большевизмом.
И, зная это, трудно не согласиться с Екатериной Андреевой, утверждавшей, что, «живя в СССР, Власов привык к ситуации, когда система террора пронизывает всю жизнь и критиковать официальную политическую линию без санкции свыше весьма рискованно. Поэтому, когда немецкие офицеры проявляли открытую враждебность нацистской политике, Власов делал заключение, что это отражает какие-то директивы, а значит, в политике могут наступить изменения».
Рассуждение это не противоречит тому, что мы знаем о Власове. Андрей Андреевич, в совершенстве постигший принципы советской военной бюрократии, и предположить не мог, что в германской армии невысокого ранга офицер может высказывать противоречащие официальной доктрине идеи. Ему, знающему, как строго обстоят дела с подобной самодеятельностью в советской армии, казалось, что В. Штрик-Штрикфельд рассказывает то, что уже твердо решено в немецких верхах. Поэтому-то, вопреки очевидности, и поверил он — так хотелось поверить в это! — что политика немцев по отношению к России и в самом деле изменится.
Сохранилась фотография — Власов в лагере военнопленных в Виннице. В гимнастерке без знаков различия, с ежиком едва отросших волос, с оттопыренными ушами… Стоит, заложив руки за спину… Вид у него очень мирный, почти не отличим Андрей Андреевич от какого-нибудь сельского учителя. Но это — на первый взгляд… Стоит присмотреться, и замечаешь горькие складки в уголках плотно сжатых губ. Да что складки… Все мышцы лица словно бы окаменели, взбугренные в судорогах страшной мыслительной работы.
Это страшная фотография. Она даже страшнее той, что сделана во дворе Лефортовской тюрьмы 2 августа 1946 года. Из-за круглых ободков очков смотрят на нас глаза человека, еще не решившего ничего, еще не понявшего, что ему делать и как жить дальше… Смотрят прямо на нас, уже знающих: на что этот человек решится и что будет делать дальше…
10 сентября 1942 года Власов подпишет свою первую листовку, составленную с помощью отдела «Вермахт пропаганда».
«Есть только один выход… — будет сказано там. — Другого история не дает. Кто любит свою родину, кто хочет счастья для своего народа — тот должен всеми силами и всеми средствами включаться в дело свержения ненавистного сталинского режима, тот должен способствовать созданию нового, антисталинского правительства, тот должен бороться за окончание преступной войны, ведущейся в интересах Англии и Америки, за честный мир с Германией».
А потом будет знаменитое выступление в Смоленске, где Власов объявит, что свергнуть Сталина должны сами русские и что национал-социализм навязан России не будет, поскольку «чужой кафтан не по русскому плечу».
И будут триумфальные поездки по прифронтовым городам — Пскову, Гатчине…
Агитация Власова встревожила Москву. И это понятно. Под угрозой оказалась сама возможность пусть и ценою бесчисленных жизней русских, украинцев, белорусов, но поддерживать в населении ужас перед немцами. Видимо, поэтому и начинается с сорок третьего года — до сих пор о судьбе Власова молчали — мощная антивласовская пропаганда.
Столь же отрицательно отнеслись к попытке Андрея Андреевича Власова подредактировать национал-социалистическую идею и в Берлине.
Гитлер был взбешен теми политическими выводами, что делали военные из выступлений Власова. Ясно и четко было объявлено, что никакой Русской освободительной армии создаваться не будет и все выступления плененного генерала — лишь пропагандистский ход, рассчитанный к тому же не на жителей оккупированных территорий, а на действующую советскую армию. Власовское турне было немедленно прервано. Власова перевезли в Берлин, существенно ограничив его деятельность.
Впрочем, трудно было ожидать иной реакции Гитлера. Как мы уже говорили, по отношению к России, к русским, фашизм ни в чем не отличался от большевизма.
Какая-то горькая ирония ощущается в том, что, создавая свое детище, Комитет освобождения народов России и Русскую освободительную армию, Власов, по сути дела, повторяет свою карьеру в Красной Армии. Только когда В. Штрик-Штрикфельд знакомит Власова с Хейди Биленберг, только когда, отчасти и через свою новую жену, начинает завязывать Власов отношения с высшим эсэсовским руководством, только тогда, после встреч с Гиммлером, и обретает наконец реальность его проект.
21
Как верный сын своей Родины я добровольно вступаю в ряды вооруженных сил Комитета освобождения народов России; перед лицом своих земляков я торжественно клянусь, что буду честно, до последней капли крови сражаться под командованием генерала Власова за благо моего народа против большевизма…
Это слова из присяги, текст которой был утвержден 16 апреля 1945 года.
Эти слова, страшные своими последствиями для тех, кто произносил их, добровольцы РОА говорили меньше чем за месяц до капитуляции Германии… Говорили, обрекая себя вместе со своим командующим на страшный крестный путь в большевистских тюрьмах и лагерях… И их были не единицы, а десятки тысяч, даже и тогда, меньше чем за месяц до капитуляции Германии.
Ответственность за десятки тысяч солдат своей Русской освободительной армии — тоже на совести Андрея Андреевича Власова, и не о них ли думал он, когда:
— Именем Союза Советских Социалистических Республик Военная коллегия Верховного суда СССР под председательством генерал-полковника юстиции Ульриха в закрытом судебном заседании в городе Москве тридцатого, тридцать первого июля и первого августа 1946 года рассмотрела дело по обвинению…
Руководствуясь статьями 319–320 УПК РСФСР, Военная коллегия Верховного суда Союза ССР приговорила:
…всех подвергнуть смертной казни через повешение…
звучали слова приговора.
Не этих ли солдат видел Андрей Андреевич Власов, когда неловко накинутой петлею очки сдвинуло и хлопотавший с петлей энкавэдэшник сорвал их с бывшего генерала?
Не за этих ли солдат и молился бывший семинарист Власов, когда выбили из-под его ног скамейку, и сразу резко вверх дернулись кирпичные стены и тут же словно бы упали вниз — когда не стало никаких стен вокруг, только небесная синь, только проплывающее внизу облачко…
И все-таки, думая сейчас о судьбе солдат РОА и судьбе генерала Власова, что-то удерживает нас, чтобы объявить их дело, их загубленные ими самими жизни абсолютно бесполезными для России. Мы знаем, что после войны Сталин сумел все-таки остановить русофобскую истерию, пытался тогда Сталин — это невозможно отрицать — и остановить геноцид русского народа. Эта передышка для России оказалась недолгой. Уже при Хрущеве вновь начинает разрастаться правительственная русофобия. Но ведь была эта передышка, и она многое определила для страны. И возможно, что, принимая свои, крайне непопулярные в полит-бюровско-цековских кругах решения, думал И. В. Сталин и о Власове, о той, как по мановению волшебной палочки, возникшей в самые последние дни войны многотысячной Русской освободительной армии…
Наверное, многие будут возмущены сделанным мною предположением. Что ж… Это еще один повод, чтобы задуматься, почему русские книги и русские исследования не объединяют нас, русских, а служат лишь поводом для разъединения нас. Странно это и очень грустно.
МАРШ МЕРТВЫХ КОМАНД
Мужество Валентина Пикуля
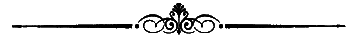
1
Недавно Антонина Ильинична Пикуль, вдова Валентина Саввича Пикуля, показала мне найденное в архиве писателя стихотворение. Называлось оно «Марш мертвых команд».
Валентин Саввич Пикуль никогда не публиковал при жизни своих стихов, если не считать песенок, которые распевают, например, герои его романа «Три возраста Окини-сан». И я нарушаю установленную писателем традицию только потому, что как-то удивительно точно перекликаются образы стихотворения с моими сегодняшними мыслями о Пикуле.
Сейчас отчетливее, чем раньше, видишь, что Пикуль, — это не только десятки увлекательных книг, но и образ жизни, судьба, в которой с годами все явственнее проступают очертания русской судьбы.
В. С. Пикуль никогда не жил легко. Он сам говорил, что после 1968 года «много лет проплывал в страшной «зоне молчания», как плывут корабли в чужих водах, чутко вслушиваясь в эфир, который сами они не смеют потревожить своими позывными».
«Не смел потревожить…» — здесь, конечно, для красоты слога. Никогда, даже в самые трудные годы, не поддавался Валентин Саввич страху. Во всю силу в эфире десятилетий застоя звучал его голос. Правда, слышали его не только свои, но и враги. И били, били по Пикулю из орудий всех калибров.
Сейчас много написано, как травили у нас А. И. Солженицына, Б. Л. Пастернака… Пикуля травили по-другому. Само имя его вызывало у представителей нашей образованщины шок. Да и как было реагировать иначе, если все романы Пикуля безоговорочно были объявлены второсортной литературой, если даже прикосновение к ним грозило оставить несмываемое пятно на репутации: а в самом деле, уж не черносотенец ли ты? Право же, такая травля — еще страшнее открытых гонений… Люмпен-интеллигенция оказалась ничем не лучше люмпен-пролетариата…
Так, в разрывах тяжелых снарядов, в густых клубах клеветы, и шел по водам десятилетий застоя корабль Валентина Пикуля. К нему боялись приближаться. Близкие друзья предавали его, но сам Пикуль оставался неуязвим…
Кажется, тогда и заговорили вдруг, что секрет успеха пикулевских романов обусловлен не талантом Пикуля, а просто пробудившимся у наших сограждан интересом к истории…
Как-то даже неловко объяснять нелепость подобного утверждения. Да, бесспорно, интерес к истории рос. Но разве Пикуль монопольно работал в историческом жанре? Конечно нет. Одновременно с Пикулем на ниве беллетристики трудились десятки, сотни других писателей…
Это очевидное противоречие своих рассуждений противники Пикуля не замечали или старались не замечать. Признавая популярность писателя, они всегда уточняли, что это «дешевая популярность», соглашаясь, что созданную Пикулем историю не перепутаешь, не заменишь никакой другой, обязательно добавляли, дескать, это «история для бедных»…
Разумеется, читатели Пикуля чаще всего не замечали возводимых на их пути к книгам писателя критических заграждений. Сам Пикуль — увы — не замечать организованной против него кампании не мог. И вот неуязвимый, казалось бы, корабль Пикуля начали сотрясать взрывы мин замедленного действия. И рвались они внутри самого корабля.
Как-то незаметно Пикуль и сам поверил в коварную выдумку недоброжелателей. Не раз и не два повторял он: «Популярность моих исторических романов — печальная популярность. К великому сожалению, у нас плохо знают родную историю. Будь у нас лучше поставлено историческое образование, а соответственно — и воспитание историей, будь у нас больше прозаиков, пишущих о родном прошлом, может, и не было бы такого интереса к моим романам».
Подобные высказывания Валентина Саввича можно было бы объяснить его необыкновенной скромностью, если бы не сквозила в них безмерная, отчаянная усталость. Так легко завоевав любовь читателей, Пикуль и десятилетиями титанического труда не сумел заслужить хотя бы уважительного отношения к себе коллег и критиков.
В последнем интервью на вопрос, пишутся ли книги о его творчестве, Пикуль ответил:
— Нет! И знаете почему — боятся… Ведь те, кто о Пикуле отзывается хорошо, тем ходу нет. Поэтому и многие историки или ругают меня, или молчат. Некоторые из них пытались в свое время за меня вступиться, но кончилось для них все это очень плохо — они лишились должностей, кафедр. Постепенно создавали такую обстановку… чтобы человек вроде бы ушел по своему желанию.
Интервью было напечатано уже после смерти Валентина Саввича…
2
Я обрел самостоятельность в тринадцать лет, когда на крышу моего дома в Ленинграде посыпались первые немецкие зажигалки, которые я тушил, дежуря на чердаке… — писал о себе Валентин Пикуль. — В четырнадцать лет, держа в руках посиневшую от стужи винтовку, я дал воинскую присягу. В пятнадцать начал воевать, как все взрослые люди. В шестнадцать стал командиром боевого поста, а в семнадцать лет уже начал писать свой первый роман…
Вот такая биография. Жесткий ритм ее задавала война. Словно маршевая музыка — в тринадцать лет, в четырнадцать, в пятнадцать… — звучат даты жизни. Но не нужно обманываться бравурной мелодией марша. В жизни все было труднее и совсем не так красиво, как это выглядит издалека…
Война постучала в сороковом, когда Ленинград после прорыва линии Маннергейма превратился в госпиталь, заполненный ранеными и обмороженными солдатами. Эту примету ленинградской жизни сорокового года вспоминают редко. Валентину Пикулю — он учился в четвертом классе — раненые и обмороженные солдаты врезались в память. Запомним это. Пикуль шел на войну, зная, что такое война, зная, что ждет его.
Жил он тогда вдвоем с матерью — Марией Константиновной Карениной. Отец Савва Михайлович Пикуль закончил инженерно-экономический институт и работал на верфи под Архангельском.
В июне сорок первого года Валентин Пикуль закончил пятый класс, еще не зная, что этот класс станет для него последним…
Впрочем, началась война, а с нею и блокадная жизнь Ленинграда. Вместе с приятелями Пикуль дежурил на чердаке во время налетов.
Ребята соревновались, кто больше потушит зажигалок. Пикуль потушил пять. Ну, а когда с предзимними холодами наступил голод, немецкий летчик так ловко положил рядышком два фугаса, что один из них разорвал квартиру соседей, а другой вырвал из-под квартиры Пикулей помещение пивной, и квартира повисла в воздухе, держась только на перекрытиях… Квартира, как вспоминал Пикуль, вдруг наполнилась пылью, и нечем стало дышать. Когда удалось выбить дверь, первым человеком, которого увидел Пикуль, была соседка. Она несла на руках мертвую девочку… Лестница была залита кровью. Пикуль успел еще удивиться жуткой тишине, но тут словно бы выпали из ушей заглушки — со всех сторон обрушились стоны, крики отчаяния. Кое-как, второпях собрали вещи и переехали в тот же день на Малодетскосельскую, где у бабушки Василисы Минаевны Карениной и провели страшную зиму. Ели столярный клей, пили — был такой «продукт» в блокадном Ленинграде — настой из земли, смешанной с золой сожженных Бодаевских складов.
Весной шатающегося от голода Валентина Пикуля эвакуировали на Большую землю. По дороге многие эвакуированные умирали. Их вытаскивали из грузовика и складывали на льду. Пикуль дорогу выдержал. Он добрался с матерью до Вологды, а оттуда отправился к отцу в Архангельск. Нашел его…
Впрочем, встреча была недолгой. В Саламбале формировался батальон морской пехоты, и вместе с этим батальоном уходил на фронт и Савва Михайлович. Перед отъездом, правда, он все-таки сумел пристроить жену на работу во флотский экипаж. Это и спасло его сына. На Саламбале[109] на тринадцатилетнего подростка навалилась цинга. Гнили ноги, лежать и даже стоять было больно. Легче становилось, только когда начинал бегать. Целыми днями Пикуль пил хвойный настой и бегал по пирсу, пытаясь убежать от болезни.
13 июля 1942 года Пикулю исполнилось четырнадцать. За день до этого был образован Сталинградский фронт, а в день своего рождения, крикнув из двери матери: «Скоро вернусь!» — Валентин Пикуль убежал из дома. Его приняли в Соловецкую школу юнг.
Долгие годы отец Пикуля — Савва Михайлович — считался пропавшим без вести, и только спустя сорок лет узнал сын о последних минутах его жизни.
«Утром числа 20 сентября 1942 года, — напишет сослуживец Саввы Михайловича Д. Трунцов, — прямо к нашему подвалу подкатила машина с гитлеровскими автоматчиками. Мы были готовы к их встрече. Не успели немцы выпрыгнуть из автомашины, как наши бойцы забросали их гранатами. Почти все фашисты были убиты, лишь один из них успел дать короткую очередь из автомата. Его пули попали в голову парторга батальона Саввы Пикуля, пробили каску. Комиссар батальона Сушкевич незамедлительно доставил Пикуля на берег Волги, чтобы переправить в госпиталь. Однако переправа уже не работала и находилась под постоянным вражеским обстрелом. Для раненых ночью был сколочен плот, и началась переправа. В том месте ширина Волги составляет 1300 метров. Поэтому до рассвета добраться до левого берега не удалось. Налетели фашистские самолеты и расстреляли раненых…»
В декабре сорок второго года в лесу на Соловках, сжимая рукавом шинели — перчаток не было — ледяной, промерзший ствол винтовки и повторяя посиневшими на морозе губами слова воинской присяги, Валентин Пикуль еще не знал, что отец уже погиб и он сейчас занимает в боевом строю отцовское место…
О школе юнг Пикулем написана книжка «Мальчики с бантиками». Почти все фамилии героев — настоящие. Себя Валентин Саввич назвал в книге Савкой Огурцовым. В повести описана и бухта Савватеева, и Странноприимный дом, где и размещалась школа.
Учеба была суровой. Летом и осенью жили ребята в землянках. Полчища комаров вились над островом, а спать приходилось нагишом. Утром — побудка и по-прежнему нагишом — пять километров пробежки. Затем — четверками, одна за другой, — в ледяное озеро. Шла война, подростки, которым не исполнилось и пятнадцати лет, дали присягу, и с них спрашивалось как со взрослых бойцов.
Среди документов В. С. Пикуля сохранилась пожелтевшая характеристика, выданная по окончании школы:
За время пребывания в школе юнг проявил себя дисциплинированным, исполнительным юнгой. К службе и учебе относится честно и добросовестно, физически и политически развит. Культурный и уважлив в обращении. Общественный с товарищами. Порученное задание выполнял быстро и в срок. Специальность рулевого изучил отлично. Может быть использован по специальности.
Командир 1-й роты старший лейтенант Кравченко.
После школы юнг, намерзнувшись на Соловках, многие просили направление на Черноморский флот. Пикуль выбрал Северный.
Эсминец «Грозный», на который определили его, занимался конвойными операциями, ходил на поиск немецких подводных лодок. Последний год войны Пикуль встретил на «Грозном», будучи уже командиром боевого поста. Было ему тогда шестнадцать лет.
— Когда меня спрашивают, — рассказывал он многие годы спустя, — не жалею ли я о том, что вместо школьного учебника в пятнадцать лет держал штурвал боевого корабля, я совершенно искренне отвечаю — нет, не жалею. И сегодня, с высоты прожитых лет, я еще яснее, чем раньше, вижу, что ни один учебник никогда не дал мне столько знания жизни, людей, как тот суровый опыт, что получил я в годы войны.
В 1945 году эсминец «Грозный», вернувшись из Северной Норвегии, участвовал в Параде Победы. На север от Мурманска выстроились в море боевые корабли Северного флота. Гремели фанфары.
Гром победных фанфар слышался Валентину Пикулю и в эшелоне, заполненном такими же, как он, фронтовиками. Остались позади сопки и голые скалы Заполярья. Эшелон шел в Ленинград. На груди у Пикуля сверкали медали, а в кармане бушлата лежала справка, свидетельствующая о двадцати шести месяцах общего стажа плавания на миноносце. Еще лежало в кармане направление на учебу в Ленинградское подготовительное военно-морское училище…
На перроне в Петрозаводске Пикуль увидел позабытые за годы войны яблоки. Жалованья за двадцать месяцев войны как раз хватило, чтобы купить одно яблоко. Оно, как вспоминал Пикуль, оказалось кислым.
И с учебой Пикулю тоже не повезло, да и не могло повезти, потому что нужно было наверстывать те четыре года, которые провел он не за школьной партой, а на палубе боевого корабля. Через несколько месяцев его отчислили за неуспеваемость по всем предметам.
Правда, через четыре года, как вспоминает его сокурсник Виктор Конецкий, «в наше первое Балтийское высшее военно-морское училище приехал на читательскую конференцию писатель Валентин Пикуль… И те самые военно-морские педагоги, которые отчислили его из училища, вынуждены были сидеть с ним вместе в президиуме». Подробность, конечно, интересная, но, как видим, до сидения в президиуме Пикулю предстояло прожить эти четыре года. Что же это были за годы?
Покинув училище, Пикуль совершает еще один крутой поворот в жизни, потребовавший от него, быть может, не меньше решимости, чем бегство на фронт пять лет назад. Пикуль решил «посвятить себя литературе». Принять такое решение в семнадцать лет несложно, труднее его осуществить. Кроме таланта нужно и упорство, и трудолюбие. Пикулю упорства хватило.
Он уже успел жениться. У него была семья. Днем нужно было работать. Ночью он садился писать. Как выдерживал такую жизнь, непонятно. Только в сорок седьмом году стало по легче, удалось устроиться на блатную работу — начальником секретной части гидротехнического отряда Северо-Западного бассейнового управления. На работе Пикулю выделили отдельный кабинет. В кабинете стоял сейф, где лежали два пистолета и казенные деньги. По вечерам заглядывали здоровяки-водолазы: стрельнуть взаймы на выпивку. Ссориться с водолазами не хотелось, и Пикуль охотно ссужал их из казенных денег. Что еще должен делать начальник секретной части, девятнадцатилетний Пикуль не знал, и через полгода с блатной работой пришлось расстаться.
Впрочем, он уже завершил свой первый роман «Курс на солнце» и в начале 1948 года отнес в редакцию журнала «Звезда». Только что вышло печально знаменитое постановление по журналам «Звезда» и «Ленинград». Редакционный портфель был пуст, и с молодым, никому не известным автором сразу заключили договор, выплатили аванс, но роман так и не напечатали. «К счастью», как добавлял сам Пикуль, вспоминая этот эпизод. И тут же пояснял, что он, как и большинство писателей, пришедших в литературу из сырых фронтовых траншей и со скользких палуб кораблей, чувствовал, что надо писать, но не всегда понимал, как это делается.
Кой-какие литературные навыки можно было получить в литературном кружке, которым руководил поэт Всеволод Рождественский. Этот кружок Пикуль усердно посещал… Рекомендуя Валентина Пикуля в Союз писателей, Вс. Рождественский писал:
Валентин Пикуль, занимавшийся в руководимой мною творческой группе… явился автором ряда рассказов, обнаруживших в молодом авторе несомненное литературное дарование. В это же время он начал работу над большим романом из боевой жизни нашего Северного флота — «Океанский патруль».
В 1948 году начинают появляться в печати первые рассказы Пикуля. Подписаны они были псевдонимом — П. Рыжов. А через два года был закончен и роман «Океанский патруль».
Роман выпустило Ленинградское отделение издательства «Молодая гвардия» в 1954 году. Издательство закрывало тогда свое Ленинградское отделение, роман Пикуля был последней книгой, выпускаемой им. Почти вся редакция была распущена, работали только типографские машины. Вечером Пикуль забирал толстую пачку корректур, а утром приносил порою заново переписанный текст.
Роман «Океанский патруль», как и все рассказы, подписанные псевдонимом, В. С. Пикуль в дальнейшем считал своей неудачей. Авторская оценка «Океанского патруля» представляется мне излишне суровой. Хотя в «Океанском патруле» Пикуль еще не тот Пикуль, которого мы знаем сейчас, но роман интересен хотя бы тем, что стал прологом к будущему Пикулю, к тем произведениям, что принесли писателю заслуженную славу.
3
«Океанский патруль» — самое традиционное и по форме и по содержанию произведение Пикуля. Роман написан в духе и жанре той послевоенной литературы, которая стремилась как бы «пере-воевать» войну с меньшими потерями Советской Армии, с меньшей виной конкретных исторических лиц. Через двадцать лет Валентин Пикуль напишет о своей настоящей войне, и тогда в миллионах читательских сердец отзовутся болью страницы его скорбного реквиема морскому каравану PQ-17. Но для этого должны пройти два десятка лет, а в «Океанском патруле» Пикуль действительно пытается «перевоевать» войну. И прежде всего свою собственную.
В романе много сюжетных линий, он переполнен трагическими разлуками и счастливыми встречами, действие перемещается с борта «Аскольда» в тесные отсеки немецкой подводной лодки, из оленеводческого колхоза — в дом норвежского священника. Аскольдовцы одерживают победу за победой, а немцы всегда несут потери. Герои по-романному бессмертны. Смытого штормовой волной юнгу Рябинина конечно же подберет «Аскольд», которым командует отец юнги — старший Рябинин. Преследуемый ротой немецких егерей советский солдат благополучно спасается, перебравшись через горный хребет, преодолеть который не могли и прославленные альпинисты…
Сейчас, когда советская литература создала великую литературу о великой войне — здесь можно вспомнить повести Вячеслава Кондратьева и Юрия Бондарева, Виктора Курочкина и, кстати, роман-реквием самого Пикуля, — легко иронизировать над «Океанским патрулем». Широкие батальные полотна, эпичность, к которой следовало бы сделать приставку «псевдо» или хотя бы ограничить ее спасительным «как бы», определяют дух романа. Вопреки природе своего таланта Пикуль стремится использовать всю положенную романную атрибутику, и приходится только удивляться, как, ловко сводя концы с концами, выстраивает он романный сюжет. Кстати говоря, критикам, упрекающим Пикуля за языковые огрехи, было бы интересно проанализировать язык «Океанского патруля». Если вырывать из него такие, например, описания: «Попробовал медведь край парусины жевать, но скоро надоело, и он ушел куда-то — весь кудлатый, ленивый и совсем не белый…», и сопоставлять их со столь же произвольно вырванными фразами из зрелых романов Пикуля, легко впасть в заблуждение и, оценивая язык писателя в отрыве от содержания, лишь с точки зрения некоей абстрактной «чистоты стиля», обнаружить регресс.
Помимо превосходного описания белого медведя в «Океанском патруле» немало столь же превосходно выписанных страниц. Но вот беда — все эти красоты стиля, умелая, а порой и утонченная деталировка, которые мы находим в «Океанском патруле», оказались не нужными Пикулю для того, чтобы сказать то, что он должен был сказать. И совершенно прав был Пикуль, выводя «Океанский патруль» из числа своих романов. Это не плохой роман, но это не его роман. Совсем другое было предназначено сказать писателю Валентину Пикулю, и ему еще только предстояло отыскать свой материал, свои принципы организации его.
«Океанский патруль» — вещь наиболее автобиографическая у Пикуля (если не считать, разумеется, «Мальчиков с бантиками»). И тут тоже кроется некая парадоксальность. У большинства писателей автобиографические произведения — самые лучшие. У Пикуля же наоборот. Роман, полнее других, казалось бы, вобравший в себя непосредственный опыт автора, оказался самым неудачным.
Найти ответы на эти вопросы, разрешить возникшие парадоксы позволяет нам сопоставление жизни самого юнги Пикуля с линией семьи Рябининых, протянутой через весь роман. Разумеется, ни в коем случае не пытаюсь я идентифицировать юнгу Рябинина и юнгу Пикуля, капитана «Аскольда» и батальонного комиссара, погибшего на сталинградской переправе, но некоторое родство литературных персонажей и живых людей все же проступает и в биографических совпадениях, и в идентичности описания войны в «Океанском патруле» с мыслями и мечтаниями четырнадцатилетнего подростка, убежавшего в сорок втором году в школу юнг.
Судьба юнги Рябинина сложилась гораздо удачнее или — вернее! — ярче, чем военная биография Пикуля. И не только потому, что Рябинин смелее или сильнее, нежели сам автор «Океанского патруля». Просто оба юнги воевали на разных войнах. Один — на придуманной, другой — на настоящей, мучительно-трудной, буднично-серой и такой страшной войне…
«Я сильно укачивался… — напишет В. С. Пикуль в своей автобиографии. — Но когда раздавался звонок, зовущий к смене вахты, я — хоть и на карачках! — шел на свой гиропост обслуживать механизмы… После войны, когда штурман в боевой характеристике отметил, что мореходные и боевые качества отличные, я возразил ему:
— Какие же отличные качества, если я по углам травил, как кошка худая?
На это мне было отвечено:
— Это ничего не значит. Отказов от тебя не было, вахту нес исправно, техника в гиропосту работала хорошо».
Поэт Юрий Воронов — человек одного с Валентином Пикулем поколения, — размышляя о судьбе военных подростков, писал:
Слова о том, что «мы не будем ни старше, ни взрослее, чем тогда», на войне, могут быть с полным правом отнесены к большинству писателей военного поколения, и к Валентину Саввичу в частности. Он всегда говорил, что время, проведенное в школе юнг, а затем на эсминце «Грозный», — главное в его жизни. Человек, уже награжденный многими орденами, с мальчишеской гордостью носил на лацкане пиджака медальку-значок Соловецкой школы юнг. И конечно, это главное время жизни, этот главный жизненный опыт и стали главным материалом всего последующего творчества писателя.
Что было на той, не схожей с романтическими мечтаниями, грязной и тяжелой войне? Что помогало человеку даже в самых отчаянных передрягах, среди голода, холода и мучительной усталости оставаться человеком? Праведный гнев защитников Родины? Суровая солдатская дисциплина? Боль за убитых и замученных близких? Да! Да! Да! Но было еще и — вспомните неунывающего Василия Теркина! — вовремя сказанное словцо, грубоватая солдатская шутка, история, рассказанная бывалым боцманом. Было то главное, что хотелось сказать и не удалось сказать Пикулю, повествуя о судьбе своего сверстника, юнги Рябинина, ставшего в «Океанском патруле» боцманом.
Итак…
Матросский кубрик… Недолгие минуты затишья… На боцмана, знающего все, смотрят матросы. Он должен рассказать этим людям всю правду. Ведь, может быть, через час, а может быть, уже через несколько минут прозвучит сигнал — колокол громкого боя, и эти люди займут согласно боевому расписанию посты и будут сражаться и умирать с той Правдой, которую сейчас услышат они…
Вспоминая о своей войне, Валентин Саввич говорил, что смысл многих боевых операций, в которых участвовал эсминец «Грозный», был не понятен ему. Например, поход в Карское море… Зачем был предпринят он? Уже потом, читая воспоминания о войне наших и зарубежных военачальников и флотоводцев, начал понимать он смысл тех боевых операций. Ощущение, кстати говоря, знакомое многим фронтовикам. Только читая мемуары, начали они разбираться в смысле того, что делали на войне. Только тогда и начала сходиться малая «окопная» правда со стратегической, «генеральской» правдой, только тогда начали осознавать многие, что сделанное ими, те бесчисленные и бессмысленные жертвы, свидетелями которых пришлось стать, не всегда были бессмысленными.
В романе «Моонзунд» Пикуль повторит мысль, которая мучила его еще на «Грозном». Вспомните: «Летом 1915 года якоря «Ган-гута» часто выбирались в клюзы, волоча с грунта на лапах многие тонны иловой грязи, в которой билась, не желая умирать, всякая придонная живность… Начинались утомительные рейдирования до Ревеля и обратно, чтобы — за бастионами минных банок — сторожить устье Финского залива на случай прорыва к столице германских кораблей. Внешне же эти «ползания» через море представлялись матросам, несведущим в высокой стратегии штабов, бесполезными и дурацкими. Им казалось, что адмиралы лишь создают перед Ставкой видимость боевой службы, дабы оправдать свои чины и жалованье. От этого недоверия к высшему командованию флота в экипажах росло глухое недовольство…»
Разумеется, другая война, другие отношения между людьми… Но какая бы ни была война, все равно ведь имеет право человек знать: почему, за что он умирает? Другое дело юный боцман Рябинин из «Океанского патруля». Вот он умеет найти нужные слова, чтобы объяснить личному составу поставленную задачу, умеет соединить ее с решением главной — освободить Родину от захватчиков, уничтожить фашизм.
Рябинин — очень условный персонаж. Как мы уже говорили, он не из реальной войны, не из подлинной жизни Пикуля, а из его юношеских фантазий. Создать полнокровный, вошедший в сознание читателей образ боцмана, рассказывающего людям, собравшимся перед боем, главную Правду, удастся писателю Пикулю, хотя как такового этого персонажа и нет в его книгах. Просто есть человек, знающий очень много, сказитель, рассказывающий свои удивительные и вместе с тем такие понятные истории… Но этот образ Пикулю еще предстояло найти. Двадцатишести летний писатель даже и не догадывался, каким трудным будет его путь к нему…
4
Мужества Пикулю было не занимать… Немало отваги потребовалось, чтобы в семнадцать лет бесповоротно определить свою судьбу, усевшись за писательский стол. Но какая же требовалась духовная зрелость, чтобы, будучи молодым писателем, к которому пришел первый успех — «неудачный» роман Пикуля «Океанский патруль» трижды переиздавался массовым тиражом, — воздержаться от соблазна и дальше идти по проторенной дороге. Пикуль сумел…
Ясно понимая, что, если я не займусь самообразованием, писателя из меня никогда не выйдет, я начал изо дня в день, как на работу, ходить в Публичную библиотеку. Запоем читал русскую и советскую классику, штудировал книги по искусству, по русской истории, делал выписки, составлял конспекты.
Эту перемену в характере Пикуля точно уловил Даниил Гранин. 5 июня 1955 года в своей рекомендации в СП СССР Валентину Пикулю он писал:
«Роман «Океанский патруль» идейно направленное произведение. Он воспитывает нашу молодежь в патриотическом духе, не сглаживая трудностей войны, показывая силу идеи советского строя и нравственную силу советского человека…
Единственно, что меня смущает, — это склонность Пикуля к выпивкам. И все же, наблюдая последнее время за его поведением, я надеюсь, что сегодня это обстоятельство уже не может препятствовать его приему в Союз».
Принимали Пикуля в Союз писателей на заседании правления Ленинградской организации СП СССР 11 октября 1956 года. Протокол заседания предельно краток, и не стоило бы упоминать о нем, если бы не одно обстоятельство. Рассказывая о себе, Валентин Пикуль упомянул, что работает над историческим романом «Аракчеевщина».
Лично меня удивил этот факт, потому что я сам слышал от Валентина Саввича об «Аракчеевщине», только уже в 1988 году. Пикуль упомянул это название, перечисляя романы, которые еще предстоит написать ему. Написать его он — увы! — так и не успел. Это к вопросу о «поспешности», с которой якобы писал свои книги Валентин Пикуль. Нет… Он всегда долго и очень напряженно обдумывал будущий замысел, хотя и довольно быстро потом переносил его на бумагу. Правда, как он сам рассказывал, когда он начинал писать, полностью отключался от мира, никуда не выходил из дома, ни с кем не разговаривал по телефону, не смотрел телевизор, ни с кем не общался. Ел всего раз в сутки и поддерживал себя только крепким чаем. И никаких выходных в период работы не позволял себе. Никаких праздников. Несколько раз встречал за рабочим столом даже Новый год…
Поразительно и другое. Как и меня в 1988 году, членов правления в пятьдесят шестом почему-то очень заинтересовала эта работа. Позабыв о «склонности Пикуля к выпивке», его начали расспрашивать, как он представляет себе Аракчеева. Пикуль ответил. К сожалению, протокол заседания правления — не стенограмма, и понятно, что многое в нем пропущено. Пропущены и те слова Пикуля, из-за которых так насторожились все. А то, что насторожились, — факт. Председательствующий даже вынужден был вмешаться, напомнил (и это зарегистрировано в протоколе), что они собрались обсуждать не «царского сатрапа» Аракчеева, а молодого советского писателя Пикуля…
Прежде чем объяснить, что же все-таки насторожило членов Правления в обращении Пикуля к аракчеевщине, напомню, что уход Пикуля от заинтересовавшей его эпохи, дело в общем-то обычное в русской литературе. Как известно, собравшись писать роман о декабристах, Лев Толстой год за годом сдвигал повествование, и роман «Война и мир» как раз и завершается накануне восстания. Параллель, на мой взгляд, чрезвычайно любопытная. Я не собираюсь насильственно «сближать» двух таких разных писателей, но очевидно, что Пикуль, по сути дела, повторил «толстовский» путь. От времен Аракчеева, от восстания декабристов он тоже ушел в глубь времени, сдвинув свое повествование уже не на годы, а на целые столетия. Как и Толстой, в прошлом искал он разгадку последовавших затем событий. И, подобно Толстому, остановился, как перед непреодолимой преградой, накануне событий, которые и дали первый толчок к раздумьям. Между прочим, и в другой серии своих предреволюционных романов («Три возраста Окини-сан», «Богатство», «Каторга», «На задворках великой империи», «Моонзунд», «Нечистая сила») Пикуль тоже не доходит до самой революции, останавливается «у последней черты».
Как тут не поверить в существование некой мистической, а возможно, и непостижимой тайны нашей истории, которая не замечается основной массой историков, но перед которой бессильно опускают руки даже такие титаны, как Лев Толстой. И не это ли приближение к тайне и почувствовали тогда, 11 октября 1956 года, в сбивчивом рассказе молодого автора «идейно направленного» «Океанского патруля» члены Правления? И насторожились. Потому что всегда настораживало у нас приближение человека к роковым тайнам отечественной истории. А может, я и преувеличиваю. Может, смутило просто вольнодумство Пикуля, ощущение, что Пикуль выходит в свой поиск в истории и, забывая о таких удобных и ясных, для него же и наработанных схемах, по-своему пытается осмыслить исторические события.
Так или иначе, но заседание 11 октября 1956 года закончилось для Валентина Пикуля благополучно. После резонной реплики председательствующего все дружно проголосовали «за».
Я не знаю, сохранились ли в архиве Пикуля какие-то черновики, и поэтому не могу судить, как далеко продвинулся он в своей первой попытке постигнуть заинтересовавшую его эпоху. Но очевидно, что путь в этом направлении был проделан немалый.
Меня нисколько не удивляет, что «необразованный», с пятью классами, Пикуль сумел так быстро нащупать в истории то, мимо чего большинство исследователей проходило не задумываясь. Педагогика вообще, а советская в особенности, помимо знаний вдалбливает в головы учащихся и определенные стереотипы мышления, которые как раз и препятствовали бы поиску, который вел Пикуль. Как на работу, несколько лет ходил Пикуль в Публичную библиотеку. Чтение его не было «программным». Как и всякий самоучка, Пикуль читал не то, что положено, а то, где мог найти ответы на мучившие его вопросы. Не надо забывать и того, что хотя ему только еще перевалило тогда на третий десяток, но обладал он уже гигантским — как иначе определить годы войны? — жизненным опытом. Ответы на мучившие его вопросы Пикуль нашел на страницах русской истории, той истории, о которой в пятидесятые годы старались не вспоминать.
5
Семь лет разделяют выход в свет романа «Океанский патруль» и публикацию «Баязета». Семь лет напряженного и столь долгое время не имевшего практически никакого выхода труда. Жил все эти годы Пикуль на деньги от переизданий «Океанского патруля», а сам занимался историей.
Как и все, что делал до сих пор Пикуль, новое увлечение целиком, без остатка, захватило его. Поражает упорство, с которым преодолевал он свой дилетантизм. Именно в начале пятидесятых приступил Пикуль к созданию картотеки, в которой скапливались сведения о людях, оставивших хоть какой-то след в отечественной истории. Работе над картотекой В. С. Пикуль отдал сорок лет, и к концу жизни она насчитывала сотни тысяч карточек. Сама по себе эта картотека — гигантский, представляющий большую научную ценность труд, ибо с ее помощью можно получить сведения о любом — большом и малом — историческом деятеле.
В историю Пикуль ушел с той же безоглядностью, как когда-то уходил на войну, а позже — в занятия литературой. И, отвлекаясь от последовательного изложения фактов его биографии, должен сказать, что с ним произошла история, очень типичная для большинства талантливых русских самоучек. История и книги по истории как бы стеной встали между ним и реальной жизнью, сжимая пространство бытия до размеров квартиры. Биографии, собранные в ящиках картотеки, да бесконечные стеллажи с книгами, с папками русских портретов и стали тем обществом, в котором жил Пикуль, откуда черпал он необходимую для жизни и творчества информацию. Этим и объяснялась странность его образа жизни.
Впервые попав в квартиру Валентина Саввича Пикуля в Риге, я долго не мог отделаться от ощущения, что оказался и не в квартире совсем, а совершенно в другом измерении. Заставленные книгами комнаты, завешанные портретами так, что и места свободного на стенах не оставалось, как-то удивительно напоминали обклеенный изнутри картинками матросский сундучок, нежели обычное жилище… И внутри этого волшебного сундучка и жил Валентин Саввич Пикуль вместе со своими историями.
Ну а в том, что сундучок был волшебным, никакого сомнения не возникало. Почти физически ощущал я, как размывается в этой квартире время. Стремительно двигался Валентин Саввич по своему жилищу, и трудно было уследить, как мгновенно перемещается он от книжных стеллажей к ящикам картотеки, от картотеки к «портретной», где собраны в папках портреты, кажется, всех исторических деятелей России. Но, главное, Валентин Саввич как бы одновременно существовал и с тобою и с теми людьми из давно минувших времен, судьбы которых занимали его воображение, — генералом Моро, императором Александром Первым, фельдмаршалом Кутузовым… И когда, обнаружив какую-то примечательную подробность из их жизни, какое-то интересное пересечение их судеб с судьбами других людей, начинал рассказывать он об этом — невольно забывалось, что речь идет о людях, которые жили столетия назад. Возникало ощущение, что пришел сосед или приятель и рассказывает потрясающую новость из жизни соседей или наших общих знакомых. И только постепенно, привыкнув, начал понимать я, что Валентин Саввич о своих знакомых и рассказывает. О тех людях, к которым привык, которых знает гораздо лучше, чем даже близких людей, чем коллег по профессии. Их проблемы волновали его нисколько не меньше, чем то, что совершалось сейчас.
Однажды мы сидели в его рабочем кабинете — я редактировал тогда книгу Валентина Саввича, — и, отвлекшись от рукописи, я заметил вдруг прибитый к книжному стеллажу генеральский погон. Тройной вензель украшал его…
— Первый раз такой вижу… — сказал я.
— Да… — ответил Валентин Саввич, и лицо его сделалось каким-то смущенным, растерянным. — Я уже давно его хозяина ищу. Столько книг перерыл и все равно — никак не нападу на след. А ведь этот генерал и Александру Первому служил, и Николаю Первому, и Александру Второму… Полвека в армии провел, а я найти не могу.
Больше в тот вечер нам так и не удалось поработать, потому что снова потянуло Пикуля к книжным стеллажам, снова он начал копаться в картотеке. И бесполезно было окликать его — куда-то далеко-далеко уже ушел он, и такое лицо было у него, словно не книги перебирал, а бродил, заглядывая в чужие квартиры, спрашивая у хозяев: не видели ли, не слышали ли чего про генерала, а то ведь пропал с концами…
И вот опять я забежал вперед… В квартиру на тихой рижской улочке Весетас мы еще вернемся, а пока…
Когда Пикуль с головой ушел в историю, все глубже и глубже закапываясь в «Аракчеевщине», жил он в Ленинграде, совсем в другой квартире. Описание ее сохранилось. Владимир Бут, познакомившийся с Пикулем в те годы, рассказал и о его жилище, и о тогдашнем достатке Валентина Саввича…
«Мансарда под самой крышей старого «доходного» дома, куда привел меня Валентин, показалась непривычно просторной — оттого, наверно, что была… абсолютно пуста, словно отсюда накануне вывезли всю мебель. Ни стола, ни единого стула, ни кровати, ни шкафа… «На чем же он сидит, ест, спит? На этих ящиках, что ли?» — один большой, застланный газетой и два поменьше лепились к широкому полукруглому окну. В углу приткнулся рулон свернутого матраса. Над ним развешаны на гвоздях тельняшка, рубаха на плечиках, замызганный черный бушлат и прочая нехитрая одежонка. На полу возле двери керосинка с закопченной сковородкой, бачок для воды, кружка, ведро… И вот еще одна неожиданность: с кричащей этой убогостью никак не вязалось бросившееся в глаза невиданное богатство — вся глухая стена мансарды представляла собой огромный, от пола до потолка забитый книгами стеллаж. Корешки плотно прижатых друг к другу толстых томов отсвечивали кожей, золотым тиснением…»
Вот так и жил тогда Валентин Саввич.
Дела его шли далеко не блестяще. Кроме семейных неурядиц — в эти годы Пикуль разошелся со своей первой женой, — мешала и неуверенность в успехе будущей работы. Через несколько лет напряженного труда Пикуль убедился в «неподъемности» избранной темы. И вот опять — выбор. Ведь мог же Пикуль и из уже накопанного материала смастерить какой-нибудь роман или, на худой конец, повестушку… Конечно мог. Но не прельстился и этим путем. Ему не хотелось писать «какой-нибудь» роман, он должен был написать то, что обязан был написать.
Отчасти из-за отшельнического образа жизни Пикуля, а во многом благодаря стараниям нашей критики, специализировавшейся на «разоблачении» писателя, установилось и до сих пор бытует мнение, что с нашей действительностью романы Пикуля никоим образом не связаны. Мнение это глубоко ошибочное. Пикуль не укрывался от действительности в истории, а с помощью истории пытался ответить на вопросы, которые ставила перед ним жизнь.
Наверное, когда-нибудь о жизни и творчестве В. С. Пикуля будут написаны обстоятельные монографии и будущему исследователю на основании пока еще неизвестных и недоступных документов по дням удастся проследить, как шла работа над «Аракчеевщиной», как постепенно — толстовский путь — привыкал Пикуль к прогулкам по прилегающим к избранной им эпохе десятилетиям. Ему было тяжело еще и потому, что предстояло не только найти какие-то ответы, но и найти самого себя. Ведь он, как мы уже говорили, не собирался писать какой-нибудь роман…
Прогулки по соседним десятилетиям открывали перед Пикулем неизвестный, удивительный мир, в котором — он это чувствовал! — так легко и просторно можно уместиться со всеми своими мыслями… Не хватило Пикулю только какого-то толчка… И таким толчком, как он свидетельствовал сам, стала книга Сергея Смирнова о защитниках Брестской крепости.
Сейчас, когда в самой крепости сооружен гигантский музей, когда о подвиге ее защитников написаны сотни книг, сняты десятки фильмов, как-то и не верится, что целых пятнадцать лет о героической обороне упорно молчали. О подвиге Бреста ничего не сообщалось в военных сводках, забыли о нем и после войны. Мифические герои — сержант Иванов уничтожил сто пятьдесят гитлеровцев, боец Петров подбил семь немецких танков — заполняли страницы газет, а о том настоящем подвиге, о котором и нужно было бы трубить повсюду, молчали. И объясняется это, как мне кажется, не только неразберихой первых месяцев войны. Нет… Всем этим мехлисам и Ворошиловым причудливая, наспех сколоченная ложь казалась более правдивой, нежели то, что происходило в Бресте, где уже окруженные, потерявшие управление подразделения продолжали удерживать рубежи, хотя никто и не зачитывал им — ни шагу назад! — приказа № 227, хотя и не стояли за их спинами заградотряды.
Книга Сергея Смирнова, рассказавшая об этом забытом подвиге, оказала огромное влияние на всю нашу литературу о войне. Оказала она большое влияние — Валентин Саввич всегда подчеркивал это — и на творчество Пикуля.
Зарево великого подвига защитников Брестской крепости по-новому осветило не только первые месяцы Великой Отечественной войны, но и всю войну. Отблески этого света легли и на прошлые десятилетия. И не их ли и различил Валентин Пикуль, когда, пробираясь в глухой черноте позабытых времен, наткнулся на развалины крепости Баязет, заслонившей путь турецкой армии во время войны 1877–1878 годов?..
В тот вечер он и вывел на бумаге слова: «Офицера трясла лихорадка. Трясла не вовремя — на службе, на кордоне…» — слова, с которых начинался не роман, а весь писатель Пикуль, знакомый сейчас миллионам людей.
Всю жизнь потом В. С. Пикуль считал самым трудным — найти первую фразу, которая сразу бы захватила внимание читателей, в которой сразу бы автор отчетливо «заявил» себя. И вот эта фраза была найдена. Первая в романе «Баязет», первая во всем творчестве Валентина Саввича Пикуля?..
6
Какой бы роман Пикуля мы ни открыли, с первого же абзаца, как в омут, втягивает нас сказовая интонация в авантюрную круговерть событий:
«Один император, два короля и три маршала с трудом отыскали себе для ночлега избу потеплее» («Париж на три часа»).
«Это случилось недавно — всего лишь сто лет назад. Крепкий ветер кружил над застывшими гаванями… Владивосток — небольшой флотский поселок — отстраивался неряшливо и без плана, а каждый гвоздь или кирпич, необходимый для создания города, прежде совершал кругосветное плавание…» («Три возраста Окини-сан»).
«В ночь на 21 марта 1810 года французскому консулу при Сен-Джемском дворе, барону Сегье, крупно повезло. Он играл… лихорадочно делая ставки на удвоение…» («Пером и шпагой»).
Так и поступает умелый рассказчик, стремящийся с первых же слов завладеть вниманием слушателей. Первые фразы у Пикуля как бы вбирают в себя, аккумулируют все содержание романа, переливаются разгорающимся в будущем повествовании огнем.
Вся фантастичность авантюры генерала Мале, отнявшего у Наполеона на несколько часов Париж, полностью вмещается в необычность ситуации, когда в крестьянскую избу втискиваются один император, два короля и три маршала, очерченной в первой фразе. Точно так же выявлены характер героя романа «Пером и шпагой» — кавалера-девицы де Бона, вся причудливость времени Семилетней войны, когда русские армии брали Кенигсберг и Берлин, и лишь для того, кажется, громили армии Фридриха Великого, чтобы буквально через несколько лет будущий русский император Петр Третий, с гордостью слабоумного, принял пожалованный ему Фридрихом чин генерал-майора прусской службы… Безумное, азартное время — рай для всяческих авантюристов и игроков, когда можно «лихорадочно делать ставки на удвоение».
Мы уже говорили, что наша критика не жаловала Пикуля. Серьезные статьи о нем и сейчас еще можно пересчитать по пальцам[110]. Впрочем, не в чести у наших литературоведов был и сам жанр сказовой прозы. И как-то так получилось, что до сих пор массовый читатель связывает сказовую прозу лишь с именами Бажова, Шергина, Писахова да еще с некоторыми произведениями Лескова. Чаще же сказом называют стилизованные под простонародную речь поделки. Сказовая проза, реализуемая в больших формах, вообще на долгие годы выпала из поля зрения наших литературоведов… И не отсюда ли полное непонимание Пикуля, встречающееся даже среди его поклонников? Не отсюда ли оголтелое неприятие его определенной частью нашей читающей публики?
В своей «автомонографии» (он все-таки не утерпел и хотя и не написал, но наговорил С. И. Журавлеву целую книжку своих размышлений) Пикуль пытается объясниться с читателем, говорит, что нередко критик, познакомившись с каким-то одним источником и найдя там разночтение с романом, спешит поделиться своим возмущением, не подозревая, что существуют и другие документы, другие источники, трактующие исторические события иначе.
Честно говоря, «автомонография» Валентина Пикуля меня разочаровала. Пикуль не теоретик, а художник, и в своих романах он сформулировал свое понимание истории гораздо глубже и полнее, нежели в любой из «бесед». Посмотрите сами, как размышляют его герои об истории, как они заигрывают с историей, как посмеиваются над историей. Не случайно ведь одна из любимейших Пикулем сцен — сцена, когда герои и не догадываются еще, что стали участниками исторического события, когда они совершенно не готовы — не одеты, не похмелены, не собраны — к историческому моменту.
Тут надо вспомнить, что отношение исторических персонажей к будущей истории и отношение исследователя к ним — взаимосвязаны. И если историк безоглядно доверится словам и суждениям того или иного персонажа, то как раз он-то и может впасть в полную нелепость. Примером этому служит повесть ленинградского писателя В. Сосноры «Спасительница отечества», где Петр Третий показан не как русский император, а как голштинский офицер. Заметим, что внук Петра Первого и на самом деле был голштинским офицером. И вот получается удивительный результат: Петр Третий превращается в невинную жертву своей сластолюбивой и расчетливой жены — Екатерины Второй. Более того… Высокая душа, необыкновенная христианская кротость, какое-то удивительное «голштинское» благородство открываются вдруг в характере этого недоумка, одного из самых необразованных и жестоких российских правителей. При этом В. Соснора не особенно и передергивает исторические факты. Он лишь полностью доверился словам и суждениям самого Петра Третьего.
То, что исторические персонажи зачастую лгали гораздо больше, чем все историки, вместе взятые, Пикуль, конечно, понимал. Это понимание дается любому советскому человеку со школьной скамьи. Лгали ленины и троцкие, лгали сталины и хрущевы, лгали брежневы и черненки. Лгут и нынешние правители-демократы — все эти горбачевы и ельцины.
В своих романах Валентин Пикуль с трудом сдерживает усмешку, когда тот или иной персонаж тщится встретить исторический момент, приготовившись — застегнув на все пуговицы сюртук, приняв подобающую позу, заранее придумав подходящую фразу. И в этом — вспомните Наполеона из «Войны и мира» — опять-таки он сходится с Толстым. Театральность жестов, красивые, заранее отрепетированные перед зеркалом фразы для Пикуля, как и для Толстого, первый признак неправды, несоответствия подлинной истории. Как и Лев Толстой, Валентин Пикуль ясно понимал, что история — не театральные подмостки, и всегда она совершается как бы «кое-как». Всегда в нужный момент люди, которым предстояло совершить историческое деяние, были не одеты, не застегнуты, не готовы. Но эти люди и совершали то, что определено было им совершить, и, охая, жалуясь на свои не имеющие никакого отношения к истории, тем не менее мучающие их болячки, торопливо одевались, натягивали парики, не понимая, что главное уже сделано ими, и исторический миг, к которому наряжаются они, уже остался в истории.
И конечно, симпатия Пикуля как раз на стороне «неодетых» персонажей, ибо именно так, «кое-как» и вершится история…
И когда Пикуля упрекают порою, что, дескать, не Сергей Марин накинул удавку на шею императора Павла, а скорее всего Яков Скарятин, а Сергей Марин в это время удерживал солдат караула, встревоженных непонятным шумом, как-то не задумываются, что в принципе совершенно неважно и никакого значения не имеет, в чьих руках оказалась удавка, а кто стоял в коридоре не стреме. Важно другое. Важно, что и этот разговор был подготовлен кое-как, на авось. И все могло кончиться иначе, если бы, спасая заговорщиков, иначе сошлись обстоятельства, и история страны тоже могла бы пойти по-другому. Может быть, лучше, но скорее всего по-прежнему, «кое-как». Ибо именно это «авось» и «кое-как» и ограничивали и произвол деспотии, и «священные» порывы заговорщиков-революционеров. И кстати говоря, Пикуль гораздо более достоверен, нежели его оппоненты, вкладывая удавку в руки Сергея Марина, ибо Марин был куда более активным участником заговора, нежели Яков Скарятин, у которого — в действительности это тоже точно неизвестно — случайно оказался в руках шарф. Но, повторяю, Пикуль пишет не о Сергее Марине или Якове Скарятине, а об «авось» и «кое-как», которые и определяли всю послепетровскую историю нашей страны.
И ярче всего, точнее можно было рассказать об этом в жанре сказовой прозы. Единство содержания и формы здесь абсолютное, как абсолютно точно и соответствие жизненного опыта Пикуля рассказываемым им историям. Не только Пикуль нашел те истории, которые так блестяще сумел рассказать, но и сама эта, кажется, и не замечаемая никем история дождалась наконец-то своего сказителя. Смыкались, соединялись «кое-как» и «авось» минувших столетий с теми «кое-как» и «авось», что определяли поступки власть предержащих советских деятелей, соединялись сделавшийся боцманом юнга Рябинин и переваливший на четвертый десяток писатель Пикуль.
Если взглянуть на библиографический список произведений В. С. Пикуля, то можно заметить, что чаще всего писатель обращался к наиболее трудным моментам нашей истории — к бироновщине, к начальному периоду наполеоновских войн, к русско-японской войне… Но о чем, собственно, и должен рассказывать боцман матросам, которым, покинув кубрик, снова и снова предстоит смотреть в лицо смерти? О великих героях? О славных и громких страницах нашей истории? Нет… Он рассказывает о тех временах, когда история шла совсем кое-как, когда нелепости, не в пример нынешним, громоздились одна на другую, когда царило полное предательство, и поражение было бы неминуемо, если бы не народный дух, если бы не великая сила патриотизма, если бы не бесконечная любовь к своей родине. Вот и Камчатка — самая дальняя окраина нашей земли (роман «Богатство»)… Защита ее не была предусмотрена ни штатными расписаниями, ни приказами министерств и губернаторских служб… И если и удалось отстоять Камчатку, то не благодаря правительственным указаниям, а вопреки им. И не ради будущих выгод и почестей шли они на смерть, а потому что Камчатка была их Родиной, отдать которую они не могли никому.
Вот такие истории, прозвучавшие в перерыве между боями, и способны вернуть силу израненному бойцу, стойкость духа — измученному солдату. В этих историях и заключена та высшая Правда, исказить которую не могут никакие мелкие неточности.
Более того, как мне кажется, «исторические вольности», а также шероховатости языка, «небрежности» не случайны в прозе Пикуля. Они обусловлены самой атмосферой матросского кубрика и чрезвычайно конструктивны для сказовой прозы. Если же придирчивым редакторским пером расчистить нагромождения фактов, достоверность которых неустановима научным путем, то не исчезнет ли по окончании этой работы и сам Пикуль, а главное, то, что составляет основу его произведений? Не исчезнет ли при этом сам образ сказителя — человека, рассказывающего необыкновенные и крайне поучительные истории? Не превратятся ли романы Пикуля в заурядные и достаточно скучные исторические повествования, которыми наводнен сейчас книжный рынок? Пикуль пытался сам проделать такой эксперимент и, закончив работу над романом «Моонзунд», захватил рукопись на все лето на дачу. Два месяца, как он рассказывал, «он был Флобером». Оттачивал фразу за фразой… После перечитал то, что получилось, и понял, что роман нужно выбрасывать. К счастью, дома оставался второй экземпляр текста, с которого началась «флоберовская» работа, и он-то и был отправлен в издательство. Есть мудрая немецкая поговорка: нельзя требовать от пива вкуса вина. И это не значит, что пиво хуже, чем вино, это совершенно разные напитки…
Сказовость прозы Пикуля зачастую определяет и направленность его взгляда на своих героев. Чаще всего в центре повествования — особы значительные: полководцы, дипломаты, цари, крупные администраторы. Один критик как-то язвительно заметил, что взгляд Пикуля на них — взгляд из передней, из кухаркиной комнаты, из лакейской. При всей недружелюбности к Пикулю отмести это высказывание напрочь трудно. Ведь действительно, Александр Первый и Кутузов из «Войны и мира» и Александр Первый и Кутузов из романа В. Пикуля «Каждому свое» — люди не знакомые друг с другом. Не прав же язвительный критик в другом. Взгляд автора на высокопоставленных героев направлен не из передней, а из матросского кубрика. Образовательный ценз у обитателей передней, может быть, и повыше, и к сильным мира сего они поближе, но цель подглядывания — разная. Одним нужно не пропустить момент, когда пальто подавать, другим — когда к орудиям становиться.
Взгляд Пикуля на своих высокопоставленных героев хотя и не эпический, но от этого не становящийся менее объективным. Это взгляд человека, рассказывающего, как он представляет себе этих людей. Пикуль зачастую предумышленно упрощает тот или иной персонаж. Его задача — предельно кратко и ярко, а главное, понятно рассказать о людях, которых его слушатели никогда не видели и не увидят. Ум внимающих боцману-рассказчику матросов не изощрен в историко-филологических изысканиях, для него безразлично, как звали того или иного приятеля кавалера-девицы де Бона или какие именно ордена получил тот или иной наполеоновский маршал. Важнее узнать другое. О том, что было время, когда существовал чрезвычайно одаренный проходимец, и никто не знал, где его Родина, какой стране он служит и кто он вообще такой — мужчина или женщина? Что властолюбивый, движимый лишь собственным честолюбием корсиканец залил кровью все европейские страны…
Сам жанр сказового повествования подталкивает Пикуля к известной деформации исторических событий. Как правило, исторический персонаж не только «опрощается», но для описания его привлекаются детали быта, не свойственного персонажам, но более понятного и близкого слушателям. Например, султан у Пикуля вполне может «заливать за галстук».
Но вот что удивительно. Точно такими же приемами пользуется и такой замечательный мастер слова, как Н. Лесков в «Левше», изображая императора Александра и атамана Платова:
«…государь ему говорит:
— Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там, — говорит, — такие природы совершенства, что как посмотришь, то уж больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся.
Платов ничего государю не ответил, только свой грабоватый нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки-кислярки, дерябнул хороший стакан, на дорожний складень Богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было.
Думал: утро ночи мудренее».
Любопытно сопоставить это описание с описанием императора и Кутузова у Пикуля:
«30 ноября Михайла Илларионович Голенищев-Кутузов, князь Смоленский, въехал в Вильно, потрясенный увиденным.
— Господи, да что же это такое? — говорил старик, всплескивая руками. — Ведь я тут губернаторствовал… Чистенький городочек был. Матерь моя, Пресвятая Богородица…
Пленных заставили убирать трупы. Крючьями цепляя покойников, они просто шалели от удивления: из отрепьев так и сыпались часы, бриллианты, слитки золота, жемчуга. По ночам казаки тайком от начальства примеряли на себя мундиры королей и маршалов, они хлестали пикантное кловужо из фургонов Наполеона, отрыгивали благородным шамбертеном:
— Вкуснота! И в нос шибает. А дух не тот…
В декабре Александр приехал в Вильно, где его встречал Кутузов; через лорнетку разглядывая павших французских лошадей, император удивлялся отсутствию хвостов:
— Михаила Ларионович, отчего они англизированы?
— Энглизированы — да, только на русский манер. С голоду они, бедные, хвосты одна другой обгрызали…»
Как мы видим, сходство описаний очевидное…
И тут нужно сказать еще об одном чрезвычайно важном для творческой судьбы В. Пикуля моменте. К сожалению, он и сам не очень-то ясно осознавал природу своего таланта. Сказовость его прозы — не осознанный литературный прием, а скорее реализованное на уровне подсознания ощущение как надо писать.
Сказовая манера повествования была органичной для Пикуля, для самой природы его таланта, и именно там и достигал он наивысшей художественной выразительности, где полностью погружался в сказ, и именно тогда и блекло его повествование, когда терял он сказовую интонацию..
Когда-нибудь еще будет по достоинству оценено, как много сделано В. Пикулем для развития сказовой прозы. Рисуя своих героев, рассказывая об исторических событиях, Пикуль одновременно и размышляет над ними, отвлекаясь от сюжета, комментирует тот или иной поступок героя, его слова. Ровное повествование в любой момент может прерваться непосредственным обращением к читателю: «Я клянусь!», «Поверьте!»… Открывая романы Пикуля, мы попадаем в стихию сказовой прозы. Разговорные интонации сообщают особую окраску повествованию, а многие «неправильности» и «пережимы» при внимательном чтении вдруг оказываются очень правильно и точно расставленными, ибо не столько даже сюжетное мастерство определяет успех прозы Валентина Пикуля, а тот, как мы уже говорили, образ сказителя — этого мудрого, многое испытавшего и пережившего на своем веку человека, который витает над описаниями похождений героев и проходимцев, над интригами царских дворов различных государств и столетий; образ того рассказчика, которого мы — продолжаем начатую метафору — встретили в душной тесноте матросского кубрика. Образ, позволяющий рассказать ту высшую Правду, которую так хотелось услышать четырнадцатилетнему краснофлотцу-юнге Пикулю и которую удалось рассказать русскому писателю Валентину Саввичу Пикулю.
7
Вот мы и подошли к тому времени, когда корабль Пикуля вплыл в «страшную зону молчания»…
В 1962 году Пикуль перебирается из Ленинграда в Ригу. Внешне все выглядело благопристойно — на Ригу выменяла свою квартиру Вероника — женщина, с которой решил связать судьбу Пикуль. На самом деле переезд более походил на бегство.
Атмосфера вокруг Пикуля в Ленинграде накалялась. В романе «Из тупика» Пикуль описал отца писательницы Веры Кетлинской. Кетлинской это не понравилось.
Конечно, мало ли кому что не нравится… Вера Кетлинская, автор романа о молодежи, мужающей в непримиримой классовой борьбе, была, разумеется, влиятельным человеком, но едва ли она достигла бы таких успехов в борьбе с Пикулем, если бы ее революционно-классовое чутье не было взято на вооружение ленинградской русофобствующей люмпен-интеллигенцией.
Существуют десятки, сотни, тысячи способов, чтобы уязвить писателя. И все они, и самые грубые, и самые изощренные, были испробованы на Пикуле. Его представляли то алкоголиком — об этом даже писали в газетах, то антисемитом — это было пострашнее… Каждый раз его обходили при распределении квартир. Квартиры давали кому угодно — в Союзе писателей квартирная проблема стояла не так остро, как в городе, — только не Пикулю, который так и продолжал жить в своей мансарде.
Его обходили и с переизданиями, переносили книги из плана в план, хотя чьих еще книг так ждал тогда читатель? Пикулю отказывали даже в командировках, необходимых для работы… А бесчисленные уколы в статьях? В союзовском справочнике перепутали даже отчество Пикуля… Перечисление больших и малых несправедливостей можно вести бесконечно.
Можно было ходить, требовать, возмущаться, доказывать… Можно… Но лучше — сберечь силы для книг, которые еще предстояло написать. Пикуль выбрал второй вариант, уехал в Ригу, оставшись на учете в Ленинградской писательской организации.
Как вспоминал в своем последнем интервью Пикуль, сразу же возник вопрос об исключении его из СП СССР. «Спасибо Виктору Конецкому, который был на том собрании и сказал, что это всех вас надо исключить из Союза писателей, а не Пикуля».
Оставаться, переехав в Ригу, на учете в Ленинградской писательской организации у Пикуля были свои причины. Во-первых, как мне кажется, он не мог допустить, чтобы восторжествовали недоброжелатели. Ленинградские издательства, в которых долгие годы выходили все книги Пикуля, были тогда издательствами региональными и чужаков, неленинградцев, они просто не печатали. И понятно, что, снимись Пикуль с учета, все было бы сделано противниками Пикуля, чтобы ни одна его книга не увидела света в Ленинграде. Пикуль прекрасно понимал это. Не нужно забывать и того, что издательства и журналы еще не гонялись в 1962 году за его рукописями, и он просто и из практических соображений не мог позволить себе лишиться ленинградских издательств.
Рига вполне, казалось бы, устраивала Пикуля. Здесь у него появилась своя квартира; здесь, только номинально связанный с Союзом писателей, обретал Пикуль необходимое для работы уединение и спокойствие духа.
В тишине лучше работается… — говорил Валентин Саввич. — Был такой святой Нил Синайский, живший в XI веке. Я не знаю, смогу ли дословно процитировать, что он завещал, но вот суть: «Наложив узду на челюсти своя, этим ты причинишь чувствительнейшую боль всем поносителям и хулителям твоим», то есть молчание. И это молчание — единственный способ борьбы, потому что они очень бы хотели, чтобы я им отвечал. А зачем? Мое дело — работать за столом.
Что ж… Ответ, вполне достойный русского писателя.
Пикулю довелось дожить до времен, когда Рига стала столицей суверенной Латвии, а латвийской культуре начали противопоставлять «русское бескультурье». По сему и эту сторону жизни Пикуля не обойти. Помимо того, что Пикуль воссоздал в своих романах жизнь старой Риги — об этой полурусской-полунемецкой истории города не очень-то и любят вспоминать деятели Народного фронта, — Пикуль составил еще и подробную опись немецкого кладбища в Риге, которое вскоре — «культурные латыши» провели по кладбищу автомагистраль — было уничтожено. Пикуль описал и заросшее крапивой немецкое кладбище в Тарту, где разыскал могилу известного ученого приамурского генерал-губернатора Унтербергера. А рядом обнаружил две символические могилы его сыновей — героев своего романа «Моонзунд» — братьев Унтербергеров, не покинувших гибнущий корабль. Можно, конечно, обсуждать, насколько вклад Пикуля обогатил прибалтийское краеведение, но бесспорно, что такая деятельность вносит существенные коррективы в постановку вопроса о нашествии «русского бескультурья» на культурную Прибалтику в послевоенные годы. Мне приходилось встречаться со многими латышами, но, пожалуй, я не встречал человека, который бы знал историю Риги так же, как Валентин Саввич Пикуль… Хотя, конечно, не краеведческой работе были посвящены его силы все эти годы.
Если просто взглянуть на список книг Пикуля, то уже в одном перечислении их ощущаешь мощный размах его работы.
1961 год. Издан роман В. Пикуля «Баязет».
1962 год. Роман «Париж на три часа».
1964 год. Первый том романа «На задворках великой империи».
1966 год. Второй том романа «На задворках великой империи».
1968 год. Роман «Из тупика».
1970 год. Роман «Реквием каравану PQ-17».
1972 год. Роман «Пером и шпагой».
1973 год. Роман «Моонзунд».
1974 год. Повесть «Мальчики с бантиками» и первый том романа «Слово и дело».
1975 год. Второй том романа «Слово и дело».
1976 год. Книга миниатюр «Из старой шкатулки».
1977 год. Роман «Битва железных канцлеров».
1978 год. Роман «Богатство».
1979 год. Роман «Нечистая сила». (Изуродованный цензурой, он вышел в журнале «Наш современник» под названием «У последней черты».)
1981 год. Роман «Три возраста Окини-сан».
1983 год. Книга «Над бездной».
1984 год. Два тома романа «Фаворит».
1985 год. Романы «Каждому свое» и «Крейсера».
1986 год. Роман «Честь имею».
1987 год. Роман «Каторга» и книга размышлений «Живая связь времен».
Как величественно уже одно только это перечисление. Какая несокрушимая поступь! Какой бездной таланта и творческой энергии должен обладать писатель, чтобы создать столько книг, каждая из которых прочно входила в сознание миллионов читателей, коренным образом меняя их представление об отечественной истории.
Это подвиг. Великий подвиг писателя. Это и есть воплощение в жизнь стершихся от частого употребления слов: «Никто не забыт и ничто не забыто». Как мы уже говорили, на своих встречах с читателями Валентин Саввич Пикуль этим и объяснял успех своих книг. Они заполняли «белые пятна» нашей истории, рассказывали о событиях, которые по вполне понятным причинам, по воле идеологов, вознамерившихся превратить русский народ в некое сообщество «манкуртов», старательно обходились советскими исследователями. Интуитивно «юнга Пикуль», и в своих отшельнических занятиях историей оставшийся в самой народной гуще, уловил эту вопиющую несправедливость и решил исправить ее, отважился рассказать об истории, которая старательно замалчивалась, но знать которую народ хотел и должен был знать, ибо это была его, народа, история…
Бездна труда и мужества потребовалась Пикулю для осуществления своей цели. Удивительно, но в его книгах нет вымышленных героев. Даже самые второстепенные персонажи имеют своих реальных прототипов. Объяснить это можно только тем, что Пикуль всегда воспринимал конкретных исторических лиц как своих знакомых, с которыми можно дружить, с которыми можно ссориться, успехи которых радовали его, а неудачи — огорчали. Не случайно историю страны он всегда стремился показать через историю семей. «Домашность» истории Пикуля, «семейность» — очень характерная черта его творчества. Его истории, разумеется, не могут заменить ученые труды, но они приобщают к родному в этой истории.
Сказитель, человек, рассказывающий свои истории, зависит от аудитории сильнее, нежели эпический повествователь. И если мы попробуем сопоставить приведенный нами список романов Пикуля с конкретными событиями и настроениями в жизни страны, то обнаружим, что между ними существует довольно четкая взаимосвязь.
Начало шестидесятых — время первых целинных урожаев. Но целина была придумана не хрущевскими советниками, и освоение ее началось не в конце пятидесятых. Целину начали осваивать в конце прошлого и особенно активно в начале нынешнего века. И был накоплен гигантский опыт, который, кстати, позабыли и Хрущев, и его советники, и это обернулось потом настоящей экологической катастрофой… Роман «На задворках великой империи» как раз и рассказывал о настоящих первоцелинниках.
Нетрудно провести параллели между безвременьем и интригами семидесятых годов и временем бироновщины, изображенном в романе Пикуля «Слово и дело». И совсем уже навеянным кремлевским развратом конца семидесятых годов выглядит роман «Нечистая сила». И разве случайно так ополчилась на него вся придворная камарилья?
В 1991 году газета «Русский вестник» напечатала мой очерк «Русская доля Валентина Пикуля». Через несколько недель после публикации я получил пакет от москвича Константина Ивановича Гвоздева.
«Дорогой Николай Михайлович! — писал К. И. Гвоздев. — Посылаю свое письмо-отзыв на пасквилянтские поползновения на В. С. Пикуля и его творчество, так и не увидевшее света, хотя побывало оно и в «Советской России» и в «Нашем современнике»… С глубоким уважением и признательностью Вам за статью «Русская доля».
Кроме письма-отзыва самого К. И. Гвоздева в пакета была копия письма, адресованного Валентином Саввичем самому Гвоздеву. Поскольку оно нигде не воспроизводилось, привожу его практически без купюр. Письмо это достаточно точно характеризует состояние Валентина Саввича Пикуля после публикации романа в «Нашем современнике».
«Дорогой Константин Иванович!
Никто меня в правление СП не вызывал, никто не сообщал о решении, — Михалков и его присные в своем амплуа. Нагадить и оболгать — вот главная задача придворной камарильи…
В отношении критики. Я смолоду взял за правило себе: никогда не отвечать на помои. Л Г во главе с сионистом Чаковским трижды публиковала обо мне, и все три раза — пасквили. Так что Вы сами понимаете — ко мне подбираются давно. Обращаться же к Маркову глупо по той простой причине, что этот человек дышит слепою и яростной ненавистью против меня. Вы советуете слишком наивно, чтобы я писал в газеты опровержение. Но, помилуйте, какая из наших газет осмелится это сделать? Все они давно запроданы… Если бы было иначе, они бы не выступили и против меня — это ясно как божий день.
Круг замкнулся! Русский писатель не хозяин в русской стране. Он не хозяин и в русской литературе.
Нет у меня уверенности и в том, что журнал НС напечатает моего «Фаворита». А уж Лениздат, конечно, откажет, ибо во главе Лениздата сейчас стоит Сухотин, который уже говорил кое-кому, что Пикуля ноги у него не будет. Да и как он может ослушаться приказа Даниила Гранина? Этот человек решает в Ленинграде все литературные вопросы.
Такова обстановка!
Надо смотреть правде в глаза: она безвыходна!
Будем надеяться, что наверху опомнятся и поймут, куда идет страна, в которой весь идеологический фронт отдан на откуп мировому еврейству, не знающему пощады ко всем, кто не рожден был евреем. Извечная формула: «измордуем и оплюем»! — вот главный тезис, которого они и придерживаются.
Выехать в Москву? Но об этом и речи быть не может, ибо жена моя больна и неподъемна. Что мне делать в этой Москве? Выслушивать оскорбления? Терпеть унижения?
Такова суть дела.
Журнал Вам высылаю заказной бандеролью, а не ценной. Не потому, что я жалею пятаков, а по той причине, что на Центр. Почтамт мне не выбраться — я не могу ходить.
С уважением Вал. Пикуль.
Обнимаю Вас! Большое Вам спасибо за поддержку.
Писано на третий день после нашего разговора по телефону».
Травля, развернутая против Пикуля после выхода изуродованной цензурой «Нечистой силы», совпала с личной трагедией писателя. Умерла Вероника Феликсовна… Потерю ее Пикуль переживал очень тяжело. Ему перевалило на шестой десяток, и в таком возрасте подобные потери зачастую оборачиваются непоправимой бедой… Пикуль прошел и сквозь это испытание. Хотя и «не хватало дыхания, чтобы жить», все отчаяние и боль утраты выплеснулись на страницы романа «Три возраста Оки-ни-сан», обозначенного в подзаголовке автором сентиментальным романом…
8
Оправиться после потери Вероники Феликсовны Валентину Саввичу Пикулю помогла Антонина Ильинична. Верной помощницей, настоящим другом вошла она в его жизнь, и Валентин Саввич не расставался с нею до своего смертного часа.
Кроме личной драмы — а потерю Вероники Пикуль переживал очень сильно, — возникли и бытовые неурядицы, начался спор с другими родственниками из-за библиотеки, которую в основном собрал сам Пикуль, но которая тоже почему-то попала в наследуемое имущество…
С этими напастями помогла справиться Пикулю Антонина Ильинична, но чем она могла помочь Пикулю в той неслыханной травле, что развернулась после публикации романа «У последней черты» («Нечистая сила»)?
По указке сверху на правлении Союза писателей РСФСР был рассмотрен вопрос о публикации в журнале «Наш современник» романа «У последней черты». Как было сказано в постановлении: «признана ошибочной публикация этого романа, страдающего существенными идейно-художественными изъянами и недостатками». Однако этим постановлением дело не ограничилось. Травля писателя велась по всем правилам, освоенным нашими будущими «демократами». В журналах печатались грубые, разносные статейки, появились даже лекторы-историки, которые разъезжали по стране с чтением разоблачительных лекций о Пикуле, сам Пикуль пачками получал анонимные письма, авторы которых интересовались: «Правда ли, Вы можете полноценно работать, только выпив бутылку водки?», «Откуда у вас такая библиотека и собрание исторических материалов? Говорят, Вы обменяли все это на продукты во время блокады?».
Спастись от этого можно было только в работе. В эти годы Пикуль окончательно замыкается в своей квартире. Именно тогда для него окончательно перестали существовать выходные и праздники, именно тогда начало размываться в его квартире время. Пикуль пишет, не давая себе передохнуть, роман за романом. Работа укрывала его от огня противника, работа становилась его ответом, обращающим в прах все возводимые на него нелепицы.
Пикуль поступил мужественно и достойно, как и положено русскому писателю, но, повторяю, один Бог знает, какой ценой далось ему это решение…
Конечно, этот разгул бесовщины, начавшийся после публикации романа «У последней черты», если и воздействовал на кого, то прежде всего на нашу запуганную интеллигенцию. По-прежнему книги Пикуля расходились, минуя книжные прилавки, по-прежнему они занимали самые первые места в книгообменах… И сложилась в результате просто парадоксальная ситуация. Журналам, которым для тиража, для подписки обязательно нужно было объявить какую-нибудь новую вещь Пикуля, приходилось в критических разделах разносить его.
Очень забавный казус случился с журналом «Сибирские огни». Тверской литературовед В. Юдин послал в этот журнал свою статью о В. С. Пикуле, в которой, ничего не передергивая, рассматривал творчество серьезного писателя, написавшего столько объемистых книг.
Скоро он получил ответ:
«Уважаемый Владимир Александрович!
Редакция нашего журнала решила воздержаться от публикации каких-либо материалов, связанных с творчеством В. С. Пикуля. По нашему мнению, этот писатель, при всей его популярности и читабельности, слишком вольно обращается с историческими фактами, вплоть до откровенной их фальсификации. В. Пикуля надлежит вначале основательней проверить, «проэкзаменовать» по истории, а уже затем судить о литературных и прочих достоинствах его романов. Так что пусть вначале тут свое авторитетное слово скажут историки.
Рукопись возвращаем.
Зав. отделом критики В. Шапошников.
17 июня 1985 г.»
Невероятно, но вскоре самому Пикулю была послана из редакции этого же журнала поздравительная открытка:
«Уважаемый Валентин Саввич!
От имени читателей-сибиряков, поклонников Вашего таланта, поздравляем Вас с праздником 1 Мая! Желаем Вам здоровья и новых творческих успехов. Хотелось бы надеяться, что Ваши новые произведения увидят свет и на страницах нашего журнала.
С глубоким уважением
редакция, отдел прозы «Сибирских огней».
К чести журнала, — это нужно отметить — еще при жизни В. С. Пикуля обновленная редколлегия «Сибирских огней» разобралась в инциденте и публично (см. «Сибирские огни», № 3 за 1990 г.) извинилась перед Пикулем, отмежевавшись от заявления бывшего заведующего отделом критики В. Шапошникова, вознамерившегося «проэкзаменовать» Пикуля по истории.’Но сколько было таких ретивых Шапошниковых?
И как ни старался замкнуться в своей работе, в своей квартире Пикуль, злобные голоса доносились и в его рабочий кабинет на тихой рижской улочке Весетас…
9
Чтобы вернуться, как и было обещано, в квартиру на улице Весетас, я должен чуть-чуть отклониться от темы и рассказать о предыстории своего знакомства с Валентином Саввичем Пикулем.
В конце 1984 года я начал работать редактором в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель». По доброй советской традиции на меня, как на новичка, сразу свалили не то чтобы самые трудные, но самые «заковыристые» рукописи. Был среди них уже сверстанный, но в последний момент остановленный и начисто забракованный цензурой экологический сборник, был сборник литераторов, именовавших себя «второй литературной действительностью» и сейчас широко печатающихся, а тогда подвергавшихся тщательному идеологическому изучению в обкоме партии. Был и роман Пикуля «Каждому свое». Причем, вручая мне рукопись Пикуля, главный редактор издательства и не скрывал сострадания ко мне… Признаться, меня это тогда несколько удивило. Все-таки переделывать зарубленный цензурой экологический сборник или возиться со стихами, которые следом за тобой будут тщательно изучать на предмет идеологической диверсии высокопоставленные чиновники, до сих пор не сумевшие договориться между собою, кто же — издательство, Союз писателей, обком партии или Комитет государственной безопасности — возьмет на себя ответственность за издание подобного сборника, казалось мне более сложным делом, нежели редактура пусть и сложного, но давно уже апробированного прозаика.
Вместе с рукописью романа мне вручили не менее пухлое, чем сам роман, издательское дело Пикуля. В разбухший от документов скоросшиватель были вшиты многочисленные рецензии историков и просто литераторов на отвергнутый издательством пикулевский роман. Помню, что меня сразу удивила специализация рецензий. Историки почему-то подробно анализировали композицию романа, характеры персонажей, язык Пикуля. Профессиональные литераторы, наоборот, концентрировали свое внимание на исторических несообразностях, замеченных ими в романе. Больно было смотреть и на рукопись нового романа Пикуля. На каждой странице теснились восклицательные и вопросительные знаки, построчные замечания не вмещались на поля и перелезали на оборотную сторону листа.
Посвятив несколько недель добросовестному изучению рецензий и постраничных (вернее, построчных) замечаний, я отправился в Ригу.
Все предостережения, все советы, которыми снабдили меня, провожая в «логово» Пикуля, начальники и сослуживцы ± оказались напрасными. Не было хищного беллетриста, готового загрызть редактора, не было и никакого логова. Была уютная, немного, правда, странно — книжные стеллажи заползали даже на кухню — обставленная квартира. С Валентином Саввичем мы знакомились за завтраком. Первое впечатление от Пикуля — он не вмещается в просторную кухню-столовую. Нет, он не громоздок. Он — обычного роста… Но очень неусидчивый и все время — и за завтраком! — движется. И вопросы его об издательстве, о ленинградской жизни тоже очень быстрые и какие-то суматошные… Получается, что за столом я сижу один, а хозяева все время движутся, и от этого и неловко поначалу, и как-то дискомфортно.
Впрочем, постепенно и довольно быстро понимаешь, что это — обычное состояние Валентина Саввича. Когда он не сидит за письменным столом — не может найти себе места, ощущает себя как бы не в своей тарелке. И только склонившись над листом бумаги, только усевшись за пишущую машинку или углубившись в чтение, он и находит свое место…
Но еще быстрее, чем я успел разобраться в этом, рассеялась настороженность, с которой встретил меня Пикуль. Даже не так, «рассеялась» — неточное слово. Валентин Саввич скинул с себя настороженность, как скидывает ребенок тяготящее его пальто. Не было никакого «прощупывания», о котором предупреждали меня еще в Ленинграде, я почти ничего не успел рассказать о себе, просто пил чай и старался понять, что же все-таки заботит Пикуля в судьбе его романа, и этого оказалось достаточно, чтобы Пикуль откинул столь не идущую ему настороженность и открылся вдруг… Ему было достаточно, чтобы человек хотя бы пытался его понять…
Первый день мне запомнился плохо. Работать в этот день мы так и не сели. «Нет-нет! — сразу решительно запротестовал Пикуль. — Надо пообтереться немного…» Решили прогуляться в Дзинтари. Сборы превратились в сплошную суматоху. Антонина Ильинична долго вызывала такси, Валентин Саввич, отвлекаясь от разговора — он показывал свою «покойницкую»: собранные им русские портреты, — то и дело интересовался, отчего все еще не приехала машина. Я, смущенный такими хлопотами, заикнулся было, что, дескать, Бог с ней, с Дзинтари, как-нибудь в другой раз… Досадуя, Валентин Саввич прервал меня — коли решено ехать в Дзинтари, значит, надо ехать. Наконец удалось заказать такси. Наконец Валентин Саввич надел — с медалькой школы юнг на лацкане — пиджак. Когда я заинтересовался значком, он подробно объяснил, а заодно рассказал, что все юнги стали настоящими людьми. Один водит поезда в метро, другой — директор завода, есть художники, музыкант, певец, летчик… — и все это, поминутно выбегая на балкон: посмотреть, не прибыла ли машина. Наконец такси прибыло. Сели. Поехали. Зачем ехали в Дзинтари — непонятно. Пили тепловатый, отвратительный кофе в каком-то кафе. Кафе выбирал Валентин Саввич. Десять лет назад, когда он еще выходил в город, кафе было очень хорошим. Я купил какую-то чепуху в магазине, потому что этот магазин — опять-таки десять лет назад — считался самым лучшим магазином в Риге. Потом смотрели на море. Потом опять искали такси. Ехали назад. «Ну, все… — облегченно сказал Валентин Саввич, сбрасывая с себя пиджак. — Мы дома. Вы тоже, Николай Михайлович, располагайтесь, как дома…»
Работать с Валентином Саввичем было просто. Еще проще оказалось общаться. В разговорах забывалось, что это — прославленный и любимый миллионами читателей писатель. Только раз я увидел, как настороженность снова возникла в Пикуле. Случилось это, когда в гости к нему приехал Виктор Конецкий. С Конецким, как мы уже говорили, Пикуль познакомился еще в Ленинградском подготовительном военно-морском училище. Вместе ходили на занятия в «кабинет молодого автора». Еще, судя по воспоминаниям писателей старшего поколения, дружил с Пикулем и Виктор Курочкин. Их троих якобы так и звали — три мушкетера. Пикуль, Курочкин, Конецкий. Все трое стали известными писателями. Потом Виктор Курочкин умер. Остались Пикуль и Конецкий. История чуть-чуть сентиментальная и трогательная.
К приходу Конецкого в кабинете Пикуля накрыт стол. Конецкий пришел не один — с компанией. Мы сидели у заставленного бутылками стола, и разговор почему-то не клеился. Пикуль вежливо показывал фотографии немецких генералов, Конецкий что-то рассказывал про Париж, про тамошнее русское кладбище, говорил, что и Пикулю не мешало бы съездить в Париж. Пикуль вообще не пил. Гости пили, но как-то неохотно, разочарованно. Скоро они вежливо простились и ушли. Я до сих пор не понимаю, что же случилось, но вечер явно не удался. Встреча друзей юности не состоялась.
Ночью я проснулся. На кухне горел свет. У газовой плиты, в пижаме, стоял Валентин Саввич и что-то помешивал в кастрюльке.
— Садитесь, Николай Михайлович… — предложил он. — Похлебаем супчику.
И поставил на стол бутылку, рюмки, разлил по тарелкам какое-то кашеобразное месиво.
— Ну, как? — спросил он и, не дожидаясь ответа, похвастал, что такой «супец» научился мастерить еще в юности. Главное его достоинство — необыкновенная сытность. Тарелки хватает на весь день.
Выглядело приготовленное месиво весьма подозрительно, но Валентин Саввич хлебал с нескрываемым удовольствием.
О супе пикулевской юности можно было бы и не вспоминать, если бы не открылся мне с таким запозданием тайный смысл ночного застолья. Помог его уразуметь, кстати, тот же Конецкий.
Шла редколлегия журнала «Нева». Говорили о прозе минувшего, 1987 года, о романе В. Дудинцева «Белые одежды», о других повестях и романах, напечатанных журналом. Говорили и о том, что журнал будет печатать в наступающем году. Журнальные дела тогда шли неплохо. Тираж рос. «Нева» входила в пятерку самых популярных в стране толстых журналов.
И вот посреди этого достаточно конструктивного разговора слово взял Конецкий и сказал, что ему непонятно, почему никто не высказал мнения о статьях, помещенных в двенадцатом номере под рубрикой «Портрет двумя перьями». Статьи эти были написаны мною и В. Кавториным. Я писал о сказовой природе романов Пикуля, мой оппонент доказывал, что книги Пикуля — «история для бедных».
— Я не понимаю! — с нажимом сказал Конецкий. — Не понимаю, как может руководить прозой (я заведовал тогда отделом прозы в «Неве». — Н. К.) человек, который защищает книги Пикуля.
Этот неприятный эпизод я вспоминаю не для того, чтобы подтвердить правоту слов Пикуля о печальной судьбе его защитников из последнего интервью… Нет! На моей служебной карьере нападки Конецкого не отразились. То, что получалось раньше, в 1987 году уже не проходило. И меня слова Конецкого не испугали, а удручили…
Повторяю, я не знаю, что произошло между Пикулем и Конецким в начале лета 1985 года, но ведь, что бы ни произошло, все равно оставались три десятилетия дружеских отношений… И вот, пожалуйста, — такая ненависть, слепящая и ум, и какой-никакой, а талант…
Я не раз сталкивался с предательством, но такое видел, пожалуй, впервые…
Тогда и вспомнил я про тот супчик одиночества, который но^ью, стоя в пижаме у газовой плиты, мастерил себе Пикуль… На прощание с другом юности… Без этого сваренного ночью супчика невозможно представить всю глубину отчаяния и одиночества, охватывавших порою Пикуля. И это — в 1985 году, когда уже был издан «Фаворит», принесший Пикулю бешеный успех. Тираж его приближался к миллиону экземпляров, но цена романа на черном рынке не падала. Телефон в квартире Пикуля не замолкал ни на минуту. Сам Пикуль трубку не снимал, а Антонина Ильинична, вернувшись с работы, часами сидела у телефона и записывала предложения издательств, журналов, киностудий — отрабатывала, как она говорила, вторую смену…
Что-то бешеное было в обрушившемся на Пикуля вихре славы, но — повторяю — я еще не встречал более одинокого человека… И одиночество это не было следствием сделавшегося с годами угрюмым характера, не было вызвано оно и возникающей с возрастом потребностью беречь душевные силы для работы. Это одиночество было вынужденным и даже противоестественным для Пикуля. Потребность в дружеском общении и участии нарастала в нем прямо пропорционально громкой славе…
В декабре 1985 года я снова поехал в Ригу, в дом творчества «Дубулты». Отредактированная мною книга «Под шелест знамен» уже вышла, и никакого повода для встречи с Пикулем не было. Тем не менее, когда незадолго до отъезда я позвонил, Валентин Саввич настоял, чтобы я зашел к нему. Я захватил напечатанный в еженедельнике «Ленинградский рабочий» очерк о Пикуле и отправился в Ригу.
Это была наша предпоследняя встреча…
Я рассказывал, что пикулевские романы представляются мне явлением сказовой прозы. Валентин Саввич терпеливо кивал, явно скучая от этого разговора. «Теоретизирования» всегда утомляли его…
Оживился Валентин Саввич, когда я пожаловался, что не могу выяснить судьбу сыновей Беринга…
— Я могу помочь… — сказал Пикуль и полез в свою картотеку, но и с ее помощью мы не сразу разыскали сыновей командора, пришлось обратиться к книгам — снова Пикуль ожил, оказавшись в своей стихии… Пока мы бродили по векам в поисках молодых Берингов, он успел по пути познакомить меня с множеством людей девятнадцатого века и всегда, завершая рассказ, с каким-то сожалением вставлял карточку в ящик. Видно было, что ему жалко расставаться с этим человеком…
Прощаясь, Валентин Саввич подарил свои только что вышедшие книги. Эти книги и читал я в оставшиеся дни в Дубултах…
С моря дул ветер, волны накатывались на берег, и шум прибоя, казалось, сливался со страницами «Моонзунда» — самой прекрасной книги о Балтике, которую приходилось мне читать. Проза Пикуля очень точно вмещала в себя и серый балтийский горизонт, и вскипающие, громоздящиеся бурунами волны на мелководье…
Море у Пикуля — совершенно особая стихия, которая во многих книгах, как и сказовая интонация повествователя, обладает особой животворящей силой. Об этом хорошо сказал и сам Пикуль: «Я целиком был поглощен эпохой Семи летней войны, походами Фридриха Великого, баталиями, дипломатией, интригами того времени, когда меня «вдруг» властно увлекло мое собственное прошлое. Со мной что-то случилось. Я как бы вновь испытал жестокие размахи качки, изнурительные ночные вахты, услышал завывания корабельных сирен, вновь увидел океан, задымленный кораблями союзных караванов… Так я пришел к написанию «Реквиема…»
Кажется, в ту ночь, читая под нестихающий шум прибоя «Моонзунд», я и понял, какой большой писатель — Пикуль.
…Поезд на Ленинград уходил вечером, а утром я купил в киоске местную газету «Советская молодежь» и увидел на последней странице интервью с В. С. Пикулем. С превеликим удивлением я обнаружил в этом интервью и свою фамилию. Отвечая на вопрос корреспондента, кого бы ему хотелось поздравить с наступающим Новым годом, Пикуль ответил: «Конечно, тех, с кем когда-то плавал — теперь многие из них заслуженные офицеры флота. Обязательно моего друга Джека Баранова, бывшего юнгу, который после войны водил поезда московского метро. Литераторов Николая Коняева, Юрия Ростовцева. С этими людьми мы легко понимаем друг друга…»
Я вспоминаю эти подробности, разумеется, не для того, чтобы подчеркнуть близость к Пикулю и задушевность наших с ним отношений. Нет… Я пишу это, чтобы показать, как дорого ценил Пикуль самое обыкновенное понимание и как редко встречал его, коли сумел в коротком абзаце перечислить всех друзей, еще не предавших его, всех людей, у которых встретил понимание. Я говорю это, чтобы читатель смог ясно понять, что известный, кажется, каждому человеку в нашей стране писатель Пикуль и на гребне своей славы был отчаянно одинок. Те снаряды, что рвались возле него, отпугивали и влиятельных в литературном мире друзей, и безвестных почитателей. Врагам Пикуля не удалось заставить замолчать его, но они сумели создать такой вакуум вокруг писателя, что любой другой человек на месте Пикуля просто не выдержал бы.
10
Пикуль спасался в работе.
Он работал до последнего дня своей жизни. Без выходных. Без праздников.
Дождался он и официального признания. В издательстве «Современник» выпустили его четырехтомник, ему наконец-то дали Государственную премию.
Эти желанные для многих знаки официального внимания и признания никак не отразились на характере жизни. Довольно равнодушно он встретил выход четырехтомника, в который не уместилась и десятая часть из написанного им, а Государственную премию даже не поехал получать.
Он спешил. Последние пять лет жизни, хотя они и вместили в себя работу над другими романами, были заняты обдумыванием «Сталинграда».
Летом 1990 года Пикуль поставил на свой рабочий стол фотографию отца, погибшего 21 сентября 1942 года на волжской переправе.
Отстукивая главу за главой, Пикуль смотрел на фотографию отца и вспоминал, не мог не вспоминать, как смотрел на него отец, когда, шатаясь от истощения, вошел четырнадцати летний Пикуль в его каюту…
Встреча отца и сына…
Встреча, так трогательно описанная в романе «Океанский патруль».
И вот все ближе вторая встреча. Встреча отца и ставшего уже взрослее его сына, встреча на сталинградской земле.
15 июля Пикуль закончил предпоследнюю главу первого тома «Сталинграда». В его романе шло 23 августа 1942 года. Меньше месяца оставалось до роковой ночи 21 сентября 1942 года.
В семь часов вечера Пикуль прилег отдохнуть. Спал беспокойно. Что снилось ему? Может быть, волжская переправа, плот, рев пикирующих самолетов, свист бомб, грохот разрывов…
В девять часов Пикуль резко встал, шагнул, но пол рабочего кабинета резко накренился, как сырая палуба эсминца «Грозный». Пикуль упал.
Когда вбежала в кабинет Антонина Ильинична, он был уже мертв. Смерть наступила мгновенно.
У стен Сталинграда погиб отец.
У стен Сталинграда оборвалась и жизнь сына.
В первом томе романа «Сталинград» так и осталась не дописанной последняя глава… 24 августа так никогда и не наступит в этом романе…
Валентину Саввичу Пикулю было шестьдесят два года и два дня.
Семь лет — небольшой срок… Но последние семь лет вместили в себя целую эпоху. Давно уже нет страны, за которую сражались отец и сын Пикули. Давно уже за границей, в Риге, очутилась вдова писателя — Антонина Ильинична Пикуль…
За семь последних лет наша страна испила столько унижения и позора, сколько, кажется, еще никогда не выпадало на её долю за предшествующие столетия. Оглушенные, задавленные бесправием, нищетой и разъединенностью, мы не то чтобы свыклись — свыкнуться невозможно! — но стараемся не думать об этом. И всегда, когда все-таки сталкиваешься с новой реальностью напрямую, в первое мгновение охватывает ощущение кошмара…
Об этом кошмаре нынешнего устройства жизни и думал я в первые минуты встречи с Антониной Ильиничной Пикуль, приехавшей в Санкт-Петербург по делам, связанным с установкой мемориальной доски писателю.
Судьбы русских писателей чаще всего были не очень счастливыми. Далеко не всем везло с выбором спутниц жизни. Пример Анны Григорьевны Достоевской — не правило. Не правило и пример Антонины Ильиничны Пикуль. За эти семь таких невероятно трудных лет ей все-таки удалось осуществить самую главную мечту Валентина Саввича — собрать воедино все его романы. Уже подготовлено и выпущено двадцать семь томов собрания сочинений В. С. Пикуля. Написана и издана книга воспоминаний «Из первых уст», пока, к сожалению, остающаяся единственным столь объемным и полным исследованием жизни и творчества Пикуля. Очень хорошая и честная книга… Готовится к изданию и каталог библиотеки Валентина Саввича — книга, которая заинтересует не только исследователей творчества Пикуля, но и библиографов, и историков.
Еще Антониной Ильиничной создана в Риге библиотека имени В. С. Пикуля.
6 января 1992 года, когда уже вовсю началось изгнание из Прибалтики «оккупантов», Антонина Ильинична обратилась с заявлением к командованию Северо-Западной группы войск:
«В связи со сложившейся обстановкой, вызванной ликвидацией библиотеки Дома офицеров ПрибВО… прошу оказать содействие в создании «Библиотеки В. С. Пикуля!»
«Библиотека В. С. Пикуля» будет предназначена для обслуживания прежнего контингента читателей и обеспечит возможность общения русских людей с национальным культурным наследием, творчеством В. Пикуля.
Для создания «Библиотеки В. С. Пикуля» необходимо приобретение помещения под библиотеку (50–60 кв. м).
Приобретение 3000 экз. книг русской классики, русского искусства и справочной литературы из нынешнего фонда библиотеки Дома офицеров.
Все расходы на приобретение как помещения, так и книг, содержание и обслуживание библиотеки будут оплачены мной, Антониной Ильиничной Пикуль — директором «Фонда В. С. Пикуля», который существует и осуществляет свою благотворительную деятельность со 2 июля 1991 года.
Кроме того, намерена предоставить в распоряжение организуемой библиотеки не менее 200 книг из личной библиотеки Валентина Саввича и все существующие издания его произведений.
Считаю долгом памяти не бросать на произвол судьбы людей, посвятивших жизнь служению Родине, для которых и о которых писал свои книги В. Пикуль, а продолжать им нести свет и радость, объединять их».
Все и было исполнено, как обещала Антонина Ильинична. И помещение — три комнаты в музее СЗГВ — было оплачено, и книги с мебелью, необходимой для библиотеки, выкуплены… И открылась библиотека, и пока работает, мирно уживаясь с музеем Яна Райниса, занявшим помещения, принадлежавшие раньше музею Северо-Западной группы.
«Библиотека В. С. Пикуля» сегодня продолжает «нести свет и радость», объединяет. А как будет завтра? Тем русским, что остались в городе, и Антонине Ильиничне тоже, скоро выдадут коричневые паспорта не граждан, а всего лишь постоянных жителей Латвии…
И как-то очень точно сошелся этот рассказ Антонины Ильиничны с рассказом о портрете Пикуля работы Анатолия Набатова, помещенном художником на выставке в Белом доме осенью 1993 года. Не мигая, смотрел со своего портрета Пикуль на рвущиеся в коридорах парламента снаряды… На русских людей, которых убивали свои же, русские…
Потом Антонина Ильинична показала мне стихи Валентина Саввича, с цитирования которых и начал я свои записки.
Нет нужды разбираться в литературных достоинствах этого стихотворения. Каждая строка его дышит мужеством и отвагой. Тем бесстрашием, которого так порою не хватает нам, живущим уже после кончины Валентина Саввича. Свыкшимися за последние семь лет с предательствами и компромиссами. И, может быть, это и субъективное ощущение, но мне казалось, что стихотворение Пикуля к нам, живущим в конце девяностых годов, и обращено.
И слушая рассказы Антонины Ильиничны Пикуль о чаепитиях, которые устраивает она в библиотеке, о просмотрах фильмов, снятых по произведениям писателя, — о всей той культурологической да и просто благотворительной работе, что ведется в библиотеке, снова и снова ловил я себя на мысли, что как раз об этом уже читал в книгах Валентина Саввича. Впрочем, иначе и не могло быть. То, что делала и продолжает делать Антонина Ильинична сегодня в Риге, так же мужественно и самоотверженно делали герои пикулевских «Баязета» или «Богатства». Помните, когда, забытые и преданные корыстным начальством, они продолжали исполнять свой долг, не благодаря, а вопреки всем решениям наверху. И не ради будущих почестей и выгод шли на смерть, а ради Родины, предать которую не могли ни по чьему велению…
АНГЕЛ РОДИНЫ
О посмертной судьбе Николая Рубцова
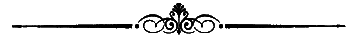
Ангел родины незлобливой моей…
К. Фофанов
Ужасные обломки
В крещенскую ночь на 19 января 1971 года убили великого русского поэта Николая Михайловича Рубцова. Ужасная судьба…
Ему было шесть лет, когда «от водянки и голодовки» умерла его мать. Старшую сестру, Галину, забрала к себе тетка — Софья Андриановна. Брата, Альберта, уже из детдома взяла в няньки мачеха. Николай Рубцов, не нужный никому, был оставлен в детдоме. Закончив семилетку, он работал матросом на судне и кочегаром на заводе, служил в армии и учился, нищенствовал и писал стихи. Его первая тоненькая книжка «Лирика» вышла в шестьдесят пятом году, а через десять лет стихи Рубцова издали в серии классиков — «Поэтическая Россия». В тридцать пять лет, впервые в жизни, обзавелся Рубцов постоянной пропиской, а спустя десять лет его именем назвали улицу в Вологде, в Тотьме поставили памятник ему на берегу реки.
Трагическая и исполненная подлинного величия судьба. И вместе с тем судьба очень русская, вобравшая в себя все сиротство, всю забытость России, всю ее силу и красоту. Николай Рубцов, хотя и были у него возможности, другой себе судьбы не искал. Только безусловное принятие судьбы своей Родины, только полное забвение себя и, как результат, обретение возможности плакать ее слезами, петь ее голосом, звенеть ее эхом…
Простая и такая безыскусная поэзия Рубцова — высшее проявление художественности. Она, как говорение из души в душу, вместе с тем позволяла поэту прозревать и будущее. И страны, и свое собственное.
Задолго до смерти Николай Рубцов написал знаменитое стихотворение:
Конечно, многие большие поэты угадывали свою судьбу, но у кого еще провидческие способности были развиты так сильно, как у Рубцова? И дело не только в том, что Рубцов совершенно точно предсказал день своей гибели… Он предсказал и то, что будет после его смерти.
1
Впервые об «ужасных обломках» я задумался, когда начались разговоры, дескать, неплохо бы перезахоронить Рубцова, перенести его могилку в Прилуцкий монастырь, поближе к туристским тропам. С этим трудно спорить. Разумеется, по месту, занимаемому в русской поэзии, Николаю Михайловичу действительно пристойнее покоиться рядом с могилой поэта Батюшкова, а не на обычном городском кладбище… Но, с другой стороны, все в душе восстает против этого. И вечный покой не надо без нужды нарушать, да и рядовое городское кладбище неотъемлемо от рубцовской судьбы, как и крохотная однокомнатная квартирка в пятиэтажной «хрущобе» на улице Яшина, что дали ему за полтора года до гибели…
И безусловно, что грядущее перезахоронение как-то связано с предсмертными словами Рубцова о гробе, выплывающем из затопленной могилы, но в последние годы все навязчивей мысль, что не только это свое перезахоронение прозревал Рубцов, когда говорил об «ужасных обломках»…
На Новый год Николай Михайлович ждал гостей из Николы — Генриетту Михайловну Меньшикову и дочку Лену. Купил елку, но наряжать не стал, собирался сделать это вместе с Леной. Увы… Метель замела дороги, и из деревни Николы невозможно стало выбраться. Лену не привезли. Новый год Рубцов встретил у пустой, так и не наряженной елки, сиротливо стоящей в переднем углу.
Пятого января вернулась в Вологду Людмила Дербина — женщина, которую Рубцов любил и с которой, как он думал, навсегда расстался.
Рубцов дома был один. Открыл дверь Дербиной и сразу лег на диван. Накануне у него был сердечный приступ.
«Я села на, диван, — пишет в своих воспоминаниях Дербина, — и, не стесняясь Рубцова, беззвучно заплакала. Он ткнулся лицом мне в колени, обнимая мои ноги, и все его худенькое тело мелко задрожало от сдерживаемых рыданий. Никогда еще не было у нас так, чтобы мы плакали сразу оба. Тут мы плакали, не стесняясь друг друга. Плакали от горя, от невозможности счастья, и наша встреча была похожа на прощание…»
Потом были долгие, почти бессвязные объяснения, потом примирение. 8 января, в Рождество, Рубцов и Дербина понесли заявление в загс… Регистрацию брака назначили на 19 февраля. Дербина выписалась из Подлесского сельсовета, вместе с Рубцовым сходила в ЖКО и сдала на прописку свой паспорт. Начала подыскивать себе работу в Вологде.
Все эти дни Рубцов не пил. Врач прописал ему лекарство, и сердечные боли стихли.
Замирает сердце и перехватывает дыхание, когда заново выстраиваешь события предсмертной недели Николая Михайловича Рубцова. Так бывает, когда обреченный человек перед самой своей кончиной вдруг освобождается от боли, терзавшей его последние месяцы, и близким этого человека кажется тогда, будто произошло чудо. Увы… Чуда не произошло и на этот раз.
В понедельник, 18 января, Рубцов отправился вместе с Дерби-ной в жилконтору. Здесь их поджидала неприятность — Людмилу не прописывали, не хватало площади на ее ребенка. Рубцов вспылил. Он пригрозил, что отправится к начальнику милиции, будет жаловаться в обком партии.
— Идите… Жалуйтесь… — равнодушно ответили ему, и Рубцов — тоскливо сжалось, заныло сердце! — понял, что на пути к житейскому счастью опять встает незримая стена инструкций и правил, прошибить которую еще никогда не удавалось ему.
И конечно, он сорвался. Возвращаясь из жилконторы, встретил приятелей. Когда Дербина тоже вернулась в квартиру, все уже были пьяными. Рубцов начал буйствовать, и компания разошлась, убегая от скандала.
Дербина попыталась уложить Рубцова в постель, но Рубцов вскочил, натянул на себя одежду и сел к столу, где стояло недопитое вино. Он закурил, а горящую спичку отшвырнул. Спичка упала к ногам Дербиной. Дербина представила, что спичка могла попасть в нее, и чуть не заплакала. Пытаясь убедить, что ничего все равно не случилось бы, что спичка все равно бы погасла, Рубцов зажег еще одну и тоже кинул.
«Я стояла как раз у кровати… Пока он бросал спички, я стояла не шевелясь, молча, в упор смотрела на него, хотя внутри у меня все кипело… Потом не выдержала, оттолкнула его и вышла в прихожую».
Рубцов допил вино и швырнул стакан в стену над кроватью. Осколки стекла рассыпались по постели, по полу. Рубцов взял гармошку, но тут же отшвырнул и ее. Словно неразумный ребенок, старающийся обратить на себя внимание и совершающий для этого все новые и новые безобразия, Рубцов разбил свою любимую пластинку Вертинского.
«Я по-прежнему презрительно молчала. Он накалялся. Я с ненавистью смотрела на него… И вдруг он, всю ночь глумившийся надо мной, сказал как ни в чем не бывало:
— Люда, давай ложиться спать. Иди ко мне».
Это спокойствие — как же это ничего не было?! — и возмутило сильнее всего Дербину.
— Ложись! Я тебе не мешаю!
— Иди ко мне!
— Не зови, я с тобой не лягу!
«Тогда он подбежал ко мне, схватил за руки и потянул к себе в постель. Я вырвалась. Он снова, заламывая мне руки, толкал меня в постель. Я снова вырвалась…
Нужно усмирить, усмирить! — билось у меня в мозгу. Рубцов тянулся ко мне рукой, я перехватила ее и сильно укусила…
Вдруг неизвестно отчего рухнул стол, на котором стояли иконы. Все они рассыпались по полу вокруг нас. Лица Рубцова я не видела. Ни о каком смертельном исходе не помышлялось. Хотелось одного, чтобы он пока не вставал…»
Вот так и случилось непоправимое.
В ту ночь соседка Рубцова проснулась от крика.
— Я люблю тебя! — услышала она. Последние слова, которые произнес Рубцов.
Когда опрокинулся стол с иконами, одна — это был образ Николая Чудотворца — раскололась пополам…
Все еще не опомнившись, Дербина прибрала в квартире, потом надела рубцовские валенки и пошла в милицию. Во время допроса она то смеялась, то плакала.
Через три дня Рубцова похоронили на пустыре, отведенном под городское кладбище. Там было тогда пусто и голо, только на вставленных в мерзлую землю шестах над новыми могилами сидели вороны…
2
Дербину судили. Срок она получила серьезный — восемь лет.
Обо всем этом, обо всех обстоятельствах трагедии, разыгравшейся в ночь на 19 января 1971 года в Вологде, написано много. И сейчас я вспоминаю эти подробности потому, что действительно сбывается пророчество Рубцова об «ужасных обломках», и сбывается так непоправимо страшно, что холодеет душа.
Еще работая над повестью, прочитал я переданные мне Глебом Горбовским машинописные воспоминания Людмилы Дербиной и поразился. Безусловно, Дербина талантливый и исключительно сильный человек. Но поражало не только это. Поразительно было, как свободно говорит она о том, о чем обыкновенно не говорят, о чем, в общем-то, и нельзя говорить.
Она убила человека. И какая разница, что такой цели — убить Николая Рубцова — у нее не было и не могло быть, если говорить не о ночи убийства, а обо всей истории их знакомства. Все равно — она убийца. В нашей жизни все случается так, как случается. И это и есть высшая справедливость. Другой справедливости, по крайней мере здесь, «на этом берегу», как говорил Николай Рубцов, нет и не будет.
Страшна участь убийцы поэта. Судьба Дантеса или Мартынова не может вызывать в нас сострадание, но — право же! — это печальные судьбы. И — право же! — даже некоторое уважение вызывает смирение, с каким приняли их убийцы Пушкина и Лермонтова.
Мы живем в другое время. И, замотанные нашими бесконечными перестройками и реформами, мы уже не всегда и замечаем, что нравственные нормы, по которым живет наше общество, давно уже сместились за ту черту, за которой нет и не может быть никакой нравственности.
Я — не судья Дербиной. Но что делать, если я не могу позабыть, как зашевелились на голове волосы, когда прочитал в аннотации к альманаху «Дядя Ваня», в котором были опубликованы воспоминания Дербиной, что это, дескать, воспоминания близкого друга Николая Рубцова. До сих пор я не могу позабыть жутковато-неприятного впечатления, оставшегося после просмотра фильма «Замысел» моего бывшего приятеля Василия Ермакова, в котором Людмила Дербина рассказывает, как и почему убила Рубцова.
Люди девятнадцатого века, даже такие, как Мартынов и Дантес, знали, что есть то, о чем нельзя говорить, то, в чем нельзя оправдываться, а тем более оправдаться. В наш век этого знания и понимания уже нет. И тут утешает, пожалуй, только одно. Даже бунт против Божиего Промысла — и он осуществляется все-таки по воле Божиего Промысла. Читая последний, весьма объемистый сборник стихов Людмилы Дербиной, я лишний раз убедился в этом.
Повторяю, что она по-своему талантлива и искренна. И в стихах она пишет не о какой-то абстрактной печали, а имея в виду конкретную и очень узнаваемую ситуацию…
начинает она свою исповедь, но — очень все-таки искренний человек! — печаль покаяния уже в следующей строфе вытесняется патетикой, незаметно превращающей в фарс все ее надуманное покаяние:
И дальше несколько искусственный надрыв: «Зову тебя, но ты не отзовешься» — смягчается лирической красивостью: «Крик замирает в гибельных снегах», и, словно бы уже вне воли самой поэтессы, переживание, происходящее в душе лирической героини, вытесняется ощущениями и мыслями самой Дербиной…
И так внешне красиво сформулирован вопрос, что не сразу и замечаешь антиэстетичность, антиэтичность этих строк.
Вспомните очень похожий образ у Александра Твардовского:
Но у Твардовского «облачко пыли» — «я». «Я» — убитый подо Ржевом, «я» — пришедший к вам, где ваши машины воздух рвут на шоссе, «я» — пришедший к живым — в таинственный момент слияния жизни и смерти в вечную жизнь. Антиэстетичность и антиэтичность Дербиной в том, что «ты» в ее стихах — это убитый ею поэт Рубцов. «Ты», убитый мною, поземкой вьешься у моих ног. Может, конечно, и не слабо задумано, но уж как-то совсем не по-православному, даже не по-человечески.
Обратив поэта в прах и в жизни, и в стихах, Дербина тут же пытается вознести его на небеса:
Не надо, однако, обманываться «серебряной», воздушной красивостью этих строк. Дербина если и возвеличивает прах Рубцова, то только потому, что таким образом возвышается и сама. Рубцов как бы и не существен тут. Эгоцентризм воплощается уже в какую-то уголовно-блатную поэтику сочувствия и сопереживания только самой себе:
Человек менее откровенный, менее бесстрашный и менее бесстыдный тут бы, очевидно, и поставил точку. Все-таки все уже сказано. Раз уж решено «черным платом траурным прикрыться», то чего же еще говорить? Дербина следом за этим апофеозом горечи и одиночества ставит, однако, «но», то «но», ради которого и написано стихотворение.
Читая эти и другие стихи Дербиной, все время ловишь себя на удивлении, насколько все-таки неглубоки они. Казалось бы, предельная раскрытость, распахнутость в самом тайном и сокровенном, и в результате — всего лишь некое подобие мастеровитости, этакое техническое упражнение, не рождающее никакого отклика в душе. Увы… Лукавство и не предполагает ни глубины, ни ответного сопереживания.
3
Быть может, и не стоило бы столь подробно анализировать стихи Дербиной, но разговор сейчас не только о поэзии, но и о симптомах той болезни, которой поражено наше общество, уже не различающее порой добро и зло. Ту укоренившуюся сейчас нравственную вседозволенность, при которой и возникает то, что я называю «феноменом Дербиной». Только в атмосфере вседозволенности, исчезновения каких-либо моральных запретов убийство гениального русского поэта может стать неким фундаментом для возвеличивания убийцей самой себя.
Одно из интервью убийцы называлось в газете «Она убивала Рубцова крещенской ночью». Другое — «Цветы для убийцы Рубцова». И тут уже, конечно, никуда не уйдешь от мысли об «ужасных обломках». Но вспомните еще раз, как заканчивается это стихотворение.
говорил Рубцов, прозревая на четверть века вперед. Он не знал. Не знали этого и живущие в то время его современники. Никто не знал, каким оно будет, наше время. Это знаем мы, живущие сейчас… И на что нам остается надеяться? Разве только на то, что сбудется все-таки до конца пророчество поэта и «ужасные обломки» все-таки уплывут…
Пути и дороги
Никто не знает, что нужно, чтобы родился великий поэт. Как остроумно было замечено, никому не пришло бы в голову выписывать из Африки эфиопа, чтобы обзавестись Пушкиным… Странными и неведомыми путями творится Божий Промысел, являя миру великих творцов, и только отблески этого сокровенного пути различаем мы, вглядываясь в их творения, в их судьбы.
Великий поэт не свободен в выборе своего Пути. Предпочтение более благоприятной, менее тернистой жизненной дороги всегда оборачивается потерей самого себя, оплачивается отказом от предназначения…
1
Ни о чем так много не писал Николай Рубцов, как о дороге, о Пути. Это мог быть «путь без солнца, путь без веры гонимых солнцем журавлей», или «глухое скаканье по следам миновавших времен», или просто — такая непростая! — «Старая дорога», где:
Рубцов отчетливее других ощущал отличие истинного Пути от механического передвижения, лишь имитирующего Путь. На рубцовской старой дороге царит покой, мир и гармония. По этой дороге, перекликаясь с прошедшими и проходящими, перемещаются не тела и чемоданы, а души людей…
Совсем другая картина в рубцовском «Поезде». Мы еще не успели различить в «грохоте и вое», «лязганье и свисте» «непостижимые уму силы», а уже непоправимо изменился пейзаж, и мы мчимся «в дебрях мирозданья», «посреди явлений без названья», и воочию является перед нами страшный облик:
Все совершается так стремительно и непоправимо, что мы как бы и не замечаем, что сверкающий огненным глазом «он» не просит нас посторониться, а требует отдать «ему» дорогу. Ту самую старую дорогу, на которой и совершается спасение души, где «июльские деньки идут в нетленной синенькой рубашке…».
Больше всего Рубцов боялся отдать свою дорогу, страх потерять ее всегда присутствовал в нем. Этот страх прорывается во всех «вокзальных» стихах. Даже когда крутится в голове веселенький, беззаботный мотивчик:
Даже когда такое беззаботное настроение, что на вопрос: «Какое место вам?» уже готов бездумный ответ: «Любое», и когда и дальше против твоей воли, сами срываются с языка страшные слова:
Вот тогда и срабатывает спасительный страх и, стряхнув с себя дурашливую веселость, спешит поэт исправить вырвавшуюся у него в эйфорийном состоянии оговорку.
Об «играх» Николая Михайловича Рубцова серьезный разговор у нас впереди. Впереди и разговор об особом характере его «советского» — усвоенного не через церковь, а через русский язык и литературу — православия. Сейчас пока нужно понять, что Рубцов отчетливо различал путь, ведущий к спасению, и путь, ведущий к гибели. И не только различал, но и воссоздал в своих стихах. Нетрудно заметить, что в отличие от движения «Поезда» движение по «Старой дороге» осуществляется как бы вне времени: «Здесь русский дух в веках произошел, и ничего на ней не происходит». Вернее, не вне времени, а одновременно с прошлым, настоящим и будущим. Эту одновременность событий легко можно проследить, например, по стихотворению «Видения на холме», где разновременные глаголы соединяются в особое и по-особому организованное целое. В умении ощущать одновременность прошлого и будущего и скрыт, очевидно, секрет удивительной прозорливости Николая Михайловича Рубцова.
2
Точно неизвестно, когда написано стихотворение «Я умру в крещенские морозы». Как вспоминает Валентина Алексеевна Рубцова, Рубцов говорил о своей смерти в крещенские морозы еще в шестьдесят пятом году, приехав к брату Альберту в Невскую Дубровку.
Предположительно в 1966 году написано Рубцовым и стихотворение «Седьмые сутки дождь не умолкает…». Очень интересно сопоставить эти стихи.
В «Седьмых сутках» девять строф, разбитых на три равные части. Три центральные строфы явно перекликаются с тремя центральными двустишьями стихотворения «Я умру…» Здесь те же образы затопленных могил, всплывающих гробов, ужасных обломков.
Сходство столь разительное, порою переходящее в самоцитату, что естественно предположить некую взаимосвязь первого двустишья «Я умру…» с первой частью стихотворения «Седьмые сутки…», а двустишья «Сам не знаю, что это такое» — с заключительной. Яркие зрительные образы плывущих стогов, крутящихся в водоворотах досок заслоняют мистический смысл происходящего. Между тем уже в первых строчках:
Рубцов подчеркивает, что речь идет о не совсем обычном дожде. Не случайно созвучие этих строк с грозным десятым стихом из седьмой главы книги «Бытия»: «Через семь дней воды потопа пришли на землю». Да и сами зрительные образы с каждой строкой сгущаются, и в них появляется несвойственная обыкновенному, пусть даже и очень сильному, наводнению апокалипсичность:
Удивительно точно перекликается и заключительное двустишие стихотворения «Я умру…» с последней частью «Седьмых суток». Потоп тут продолжается:
Что это такое? Явление новозаветных Ноев? Это впечатление подчеркнуто немногословной, библейски простой и суровой лексикой: «И на детей покрикивали строго. Спасали скот, спасали каждый дом…» Но похожесть только внешняя, обусловленная лишь похожестью ситуации. Описывая события, предваряющие Потоп, книга «Бытия» говорит:
«И воззрел Господь Бог на землю, и вот она растленна: ибо всякая плоть извратила путь свой на земле».
Об истинном пути и об извращенном мы уже говорили. Сошли ли герои рубцовского «Седьмого дня» с извращенного пути, вернулись ли на истинный? Увы… Некое внешнее сходство с последним ветхозаветным патриархом лишь подчеркивает духовную удаленность. Не раскаяние, не сокрушение о гибельности своих путей занимают мысли рубцовских героев, а — вспомните: «С надеждой и свистом промчались мои поезда»! — нелепая надежда, что, дескать, может, ничего и не произошло.
Но ведь и воды Потопа сорок дней «усиливались и весьма умножались», пока не скрыли и самые высокие горы. Однако герои рубцовского стихотворения не способны пока уразуметь неотвратимости грозной кары:
И хотя сомнения в вечности покоя сопоставимы с неспособностью уразуметь неотвратимость грозной кары, от истолкования заключительных частей пророческих стихотворений Рубцова приходится отказаться, поскольку они относятся к будущему, все еще не наступившему времени, в нашей системе «вневременного» анализа с ними связаны грядущие, еще неведомые нам события. Рубцов, если наше предположение верно, прозревал их. Но и он, прозревающий, достаточно точно определить их не смог.
«Сам не знаю, что это такое…» — признается он, но в этом признании видится не беспомощность, а какая-то удивительная рубцовская откровенность. Без видимого напряжения проникает его взгляд вперед, за пределы собственной жизни, но открывающееся там, дальше, почему-то неузнаваемо. Аналогов грядущим там событиям Рубцов не может найти…
3
Многие отмечают, что простота и незамысловатость стихов Рубцова обманчива. Едва мы начинаем анализировать эти стихи по обычной, наработанной советским литературоведением методике, мы рискуем оконфузиться. Горница у Рубцова — это не совсем та деревенская комната, в какой по обыкновению размещают приехавших гостей. Поезд — не тот поезд, на который садимся мы, чтобы доехать до другого города. И на рубцовской лодке, догнивающей на речной мели, не отправишься и после ремонта на рыбалку. Во всех зрелых стихах Рубцова все эти горницы, лодки, поезда возникают на стыке дневного сознания и сна, бытия и небытия. Они, как и знаменитые рубцовские ромашки, всегда «как будто бы не те». Событие или явление вообще становится предметом поэзии у Рубцова, лишь когда выявляется его вневременная, мистическая суть.
Другое дело, что Рубцов никогда не оставляет свою работу незавершенной, он доводит свои стихи до того уровня высшей художественности, когда они становятся самостоятельными явлениями духовного мира. И тогда-то и возникает то самое говорение из души в душу, когда стихотворение независимо от того, понимаем ли мы весь пройденный в этом стихотворении его автором путь, начинает звучать в нас.
Тем не менее понять этот путь необходимо, если мы пытаемся разобраться в Пути поэта, проследить, как происходило борение света и тьмы в душе автора, постигнуть тайный смысл, явленный в его гибели.
Успокоение
Перечень лишений, испытанных Николаем Михайловичем Рубцовым, нужно пополнить и тем, что ему так и не удалось выпустить ни одной своей книги в том составе и порядке, как бы хотелось ему самому. Первая книжка «Лирика» составлялась вообще без участия Рубцова. Книги «Звезда полей» и «Сосен шум» проходили в издательстве трудно и вместили в себя помимо рубцовских шедевров еще и те компромиссы, на которые вынужден был идти поэт, чтобы пробиться к читателю.
Говоря так, я не пытаюсь принизить заслуги первых редакторов Рубцова. Совершенно очевидно, что без их усилий встреча читателей с поэзией Рубцова не состоялась бы еще долгие годы. Но вместе с тем очевидно и другое. «Легализируя» поэзию Рубцова в советской литературе, редакторы по мере сил разбавляли зрелую лирику поэта бодрым пафосом ранних стихотворений, приглушали внутреннюю подсветку, что возникает в перекличке образов рубцовских стихов.
Наверное, в дальнейшем, получив выслугу лет, Рубцов и сам исправил бы положение, убрал следы редакторской работы из своих сборников, но — увы! — жизнь его оборвалась слишком рано…
1
В Государственном архиве Вологодской области я наткнулся на интересный рубцовский автограф[111]. Озаглавлен он — «Успокоение». Далее рукою Рубцова написано тридцать девять заголовков стихов.
Совершенно очевидно, что перед нами план небольшого — около одного печатного листа — сборника или раздела в сборнике.
Частично стихи, включенные Рубцовым в список, публиковались в прижизненных сборниках поэта, остальные стихи опубликованы уже после смерти в «Подорожниках» и «Последнем пароходе». Так что в этом смысле обнаруженный мною в архиве автограф поэта ничего нового не открывает. Но вот отбор стихотворений, размещение их относительно друг друга — ошеломительно непривычны…
Рубцов назвал свой сборник «Успокоение». Об успокоении говорится в двенадцатом стихотворении сборника.
Все стихотворение синтаксически необыкновенно мастерски вмещено в одно предложение. Основное пространство его занимает троекратное повторение обстоятельства времени — когда… когда… когда… Само же действие вмещено в два слова — мне грустно… А дальше, еще три строки, объяснение причины грусти. Грустно не от самого одиночества, а от невозможности приобщить друзей к «немеркнущим небесам», «земной святости», «небесному свету». Столь нехарактерная для поэзии Рубцова статичность стихотворения обусловлена замыслом. Дьявольские силы «Поезда» производят лязгающее, свистящее движение, а упокоение, обретение вечного покоя никакого движения и не предполагают.
И тут надобно вспомнить, что в православной традиции упокоение всегда воспринималось как высшая ступень нравственного совершенства человека. Отказываясь от грешной сутолоки страстей, человек обретает возможность преодолеть их, очиститься. Стремление хотя бы в старости обрести покой — заветная мечта православного человека, высший дар, который может он получить от судьбы.
Как всегда в стихах Рубцова, настоящее и будущее время смешиваются здесь, существуют одновременно. Стада идут дремать уже сейчас, река тоже несет небесный свет в настоящем времени, а упокоение только еще сойдет в будущем, но уже сейчас знает герой стихотворения эту радость.
По-видимому, не случайно стихотворение, являющееся духовной вершиной сборника и давшее название всему сборнику, помещено Рубцовым на двенадцатом месте. Начинается же сборник, как и все у Рубцова, очень просто:
Далее идет как бы описание прогулки. Ничего нарочитого в этом описании нет. «Иду в рубашке», «цветут ромашки», «на них ложится тень ветвей»…
Однако, если мы вспомним «Старую дорогу»:
обнаружится ритуально-точное повторение ключевых слов, объяснить которое случайным совпадением невозможно. Впрочем, если следовать гегелевской логике, этого мы пока еще не знаем. Так что описание летнего дня и не вызывает у читателя ничего, кроме узнавания дорогого каждому человеку пейзажа. Происходит безмятежно-расслабленное погружение в настоянный на запахе разогретой солнцем травы воздух июльского дня. Одновременно совершаются и некие магические действия, и вот реалистический пейзаж начинает размываться, и в нем проступает то, что видно рубцовским глазам:
Картина, что и говорить впечатляющая. Разбросанные в разных краях годы наших жизней соединяются в библейско-пастушьей простоте жизни. И все. Магический сеанс завершен. Вместе с пробуждением отдаляется от нас и чудное видение. Только смутное, неразборчивое эхо доносится издалека:
В. Даль в качестве иллюстрации к слову «покоить» приводит выражение: «Они взяли к себе деда, чтобы покоить его у себя». По Рубцову, «скромные труды» покоит солнце, то есть источник света, питатель самой жизни. Если мы вспомним, что труды эти с самого начала стихотворения были связаны с солнцем, светозарный характер их становится очевидным.
Но там, где есть свет, должна быть и тьма, доброму всегда противостоит злое, покою — сутолока, Богу — дьявол. Уже второе стихотворение «Жара» закрепляет тему противостояния Света и Тьмы как главную в сборнике. Начинается «Жара» с появления «вещей старухи»:
Стихотворное бытие этого персонажа коротко. Вещая старуха лишь обозначена как инициатор устроенного силами зла шабаша. Свист, лязганье, грохот рубцовского «Поезда» заменяют в «Жаре» мирные приметы летнего дня:
Все стремительно, все перенапряжено, все это обрушивается на светозарный мир предыдущего стихотворения. Страшные предчувствия томят все живое. И вот уже и барашки жалобно плачут, и лошади, топая, ржут, и даже могучий племенной бык и тот охвачен беспокойством. Вызванная вещей старухой сатанинская сила, разумеется, появляется. И нас не должно смущать, что, ощутив ее приближение, мы тут же видим, как ускользает она, трансформировавшись в «дьявольскую силу», вдруг сообщившуюся людям. Иначе и не бывает. Опереточная персонификация черной силы в образе черта с рогами и хвостом — мираж, самой силой зла и порождаемый для того, чтобы отвлечь внимание от главного ее местопребывания — человека. Вспомните, что и в Евангелии, где бесы даны, так сказать, в их объективной реальности, они ни разу не принимают видимых глазами очертаний. Зато «продукт жизнедеятельности» бесов, вселившихся в людей, налицо. Налицо он и в стихотворении Рубцова:
Ну а поскольку, в отличие от Евангелия, изгнать бесов, хотя бы из тех же барашков за неимением свиней, в «Жаре» некому, то неизгнанная бесовская сила достигает тут апогея:
2
Вопрос о том, был ли Рубцов православным человеком, выходит за пределы его биографии и принципиально важен для понимания эпохи, в которой жил Рубцов. С одной стороны, вся система образов в поэзии Рубцова ориентирована на православие и вне его не осуществима… Но, с другой стороны, ни в одних воспоминаниях не найдем мы свидетельства воцерковленности Рубцова или хотя бы попытки воцерковиться, предпринятой им. Нет подтверждений, был ли он вообще крещен… И хотя отсутствие подобных свидетельств тоже еще ни о чем не говорит, но все-таки с очень большой определенностью можно утверждать, что ни в детдоме, ни в Тотемском лесотехникуме, ни в Приютино, ни на флоте, ни на Кировском заводе, ни будучи студентом дневного отделения Литинститута Рубцов просто не имел возможности для тайного воцерковления. Вся его жизнь протекала в общежитской открытости, и любая подобная попытка была бы если и не осуждена соседями по кубрику или общежитской койке, то по крайней мере замечена. Относительная бесконтрольность появляется в жизни Рубцова уже после исключения его из Литинститута, но даже если он и занялся тогда своим воцерковлением, это ничего не меняет в постановке нашего вопроса, ибо к этому времени вся поэзия Рубцова уже проникнута духом православия. Поэтому правильнее, на наш взгляд, говорить не о воцерковленности Рубцова, а о постижении им православия через язык, через культуру.
Целое тысячелетие, миновавшее с крещения Руси, православное мировоззрение перетекало в русский язык, формируя его лексику, синтаксис и орфографию, и в результате воздвигло Храм, оказавшийся прочнее любого каменного строения.
После своей победы в семнадцатом году, разрушая и оскверняя церкви, расстреливая священников, большевики попытались разрушить и этот храм русского православия. Реформа орфографии, интервенция птичьего языка аббревиатур, насаждение полублатного одесско-местечкового сленга… Борьба с православными корнями языка шла такая же ожесточенная, как и со священниками, но языковой храм все-таки выстоял. Слово Божие продолжало жить в русском языке и в самые черные для православных людей дни. Равнодушные, казалось бы, давно умершие для православия люди против своей воли поминали Бога, произносили спасительные для души слова.
Попутно отметим, что с этой точки зрения вопрос о богооставленности России, муссируемый нашими «демократами», утрачивает свое однозначное толкование. Атеистическая тьма, сгущавшаяся над Россией во времена владычества «ленинской гвардии» и хрущевской оттепели, так и не сумела перебороть православной светоносности русского языка. И происходило чудо. Прошедшие через атеистические школы и институты люди, отдаваясь в работе со словом живой стихии языка, усваивали и начатки православного мировоззрения.
Особенно ярко это проявлялось в так называемой деревенской литературе. Определение «деревенщики», казалось бы, неточное — писатели этой школы не ограничивались деревенским материалом — и даже несет в себе некий пренебрежительный оттенок, но по сути верное, если говорить о православной красоте и глубине языка, в котором живут лучшие книги наших деревенщиков.
Вспомним о моде на иконы, на туристские поездки для ознакомления с церковными памятниками архитектуры, возникшей тогда в среде городской интеллигенции. Хотя тут, как часто бывает у интеллигенции, произошло смещение интересов с главного на сопутствующее — многих привлекала не сама православная вера, а сопутствующая материальная атрибутика, — это движение своей массовостью, а главное, сознанием православия как объективной ценности явно не вписывалось в советские атеистические планы.
Возвращаясь к судьбе Николая Михайловича Рубцова, подчеркнем, что его путь к православию, пролегающий не через церковь, а через русскую классическую поэзию, в общем-то очень типичен для литераторов, начинавших свой путь в конце пятидесятых годов. Рубцов, в силу своей необыкновенной одаренности, прошел по этому пути дальше других, но все равно это был, мягко говоря, не самый прямой путь. Сбиться с него не составляло труда, и многие, конечно же, сбивались, забредали в трясину интеллигентских компромиссов, улавливались в капканы различных вероучений. Этих искусов Рубцов, слава Богу, избежал… Но душа его, уже открытая Богу, церковной защиты от натиска враждебных человеку темных сил не имела. Тут невоцерковленный Рубцов мог рассчитывать только на самого себя.
В воспоминаниях можно прочитать, как находили на Рубцова темные силы, как, застигнутый ими, начинал возводить поэт химеры чудовищных построений, корежа при этом и свою собственную и окружающих людей жизнь. Потом он овладевал собою, сверхъестественным усилием выныривал из засасывающей темноты к свету и сразу яснел, стихал… Со временем Рубцов научился различать приближение темных сил. Порою ему удавалось уклониться от контакта с ними, иногда и противостоять. Но именно иногда. Не всякий раз. Впрочем, лучше об этом рассказано в самих рубцовских стихах.
Третьим в сборнике «Успокоение» Рубцов поставил стихотворение «Сапоги мои — скрип да скрип». В списке Рубцова оно обозначено заголовком «Таковы леса».
Рассуждения: «Таковы на Руси леса/Достославные, /Таковы на лесной Руси/Сказки бабушки. /Эх, не ведьмы меня свели /с ума-разума песней сладкою — /Закружило меня от села вдали Плодоносное время/Краткое…» — сделали бы честь любому толстокнижному материалу. По сюжету они идут следом за рассказом о приближении лесной нечисти, ощущаемом поэтом. Ведь не случайно он вспоминает вдруг о существовании этой нечисти: «Знаешь, ведьмы в такой глуши/Плачут жалобно…» И вот, когда уже затягивает душу в страшное ведьмовское кружение, герой стихотворения вполне убедительно, с материалистических позиций начинает рассуждать о причинах, ввергших его в гибельное движение. И тут не важно, насколько искренен он сейчас. Герой стихотворения обороняется от колдовских чар, притворяясь этаким бесчувственным к их воздействию материалистическим пеньком. Маскируясь, он становится неинтересен для духов тьмы, и они отходят от него…
В самом построении своего сборника «Успокоение» Николай Рубцов реализует те же принципы организации поэтического материала, что и в отдельных стихах. Рассказывая исключительно о собственном духовном опыте, Рубцов никогда не настаивает, не педалирует свои мысли, не стремится придать мимолетным видениям отчетливых очертаний. Он легко забывает о заданной теме, говорит совсем о другом, и только прислушавшись, различаешь, что первоначальные мысли и ощущения никуда не ушли, лишь приняли другие очертания. Вот и в сборнике «Успокоение» Рубцов сразу после «Лесов» ставит стихотворение «Родная деревня». Переход естественный и логичный.
Герой сборника проводит лето в деревне, странно было бы ему не вспомнить о своем детстве, не поразмышлять о жизненном пути. Впрочем, уже сама лексика:
не дает читателю оторваться от начавшегося разговора. Историческая ретроспекция потребовалась поэту, чтобы ввести тему судьбы, разговор о тех ложных путях, на которые сбивается по своей неопытности человек.
Оговорюсь сразу: литературоведческий разбор стихов Рубцова дело рискованное. Расчленение живой поэзии его может привести исследователя к путанице в причинно-следственной связи. Поэтому-то и необходимо подчеркнуть, что тот рационализм построения рубцовского сборника, о котором мы говорим, отнюдь не самодовлеющ. Он проявляется как свойство всякой гармонии. Сама же жизнь прекрасного течет внешне достаточно беспорядочно и как бы случайно. Сожаление о пылком мальчишке, слишком поторопившемся в дорогу следом за приезжим гостем, сменяется сожалением о скошенных цветах:
которое уже совсем и не о цветах сожаление, а о чем-то большем, что теряем мы, хотя и пытаемся сберечь, а потом ищем и грустим о потерянном… И вот уже из многоголосия снова властно звучит тема души и вечности:
Но и это торжествующее, победное звучание не финал, а только приобщение к общему, вечному… Это только подъем по дороге:
С фотографической точностью воспроизводит Рубцов Никольский пейзаж, и так же точно, как в пейзаж, вписываются развалины собора в его поэзию.
Наверное, в этом и надо искать ответ на вопрос о воцерковленности Рубцова. Душа его искала, жаждала воцерковления, она шла к церкви, но каждый раз натыкалась лишь на развалины храмов. И, строго говоря, вся его поэзия — это попытка восстановления храмового строения, возведения церковных стен, вознесения куполов… Это всегда молитва, созидающая церковное строение, и всегда — страшное предчувствие гибели его.
И, конечно же, не случайно рядом с развалинами собора встает стихотворение «В святой обители природы». Казалось бы, все просто… Когда сокрушены церковные стены, храмом становится весь Божий мир. Но этот пафос пантеистического оптимизма не может удовлетворить православное сознание:
православное мироощущение легко обнаруживает прорехи в пантеистическом бессмертии, в душе его, «которая хранит Всю красоту былых времен», возникает «отраженный глубиной, /Как сон столетий,/ Божий храм».
Мы уже говорили, что под десятым и одиннадцатым номерами в списке Рубцова идут стихи, обозначенные как «Встреча» и «Встреча (вторая)». Четкой идентификации поддается только одно из них:
Стихотворение короткое — всего восемь строчек. Огорошив друга, поэт тут же, смеясь, утешает его, что, дескать, «не только я, не только ты, а вся Россия изменилась!». Шуточное глубокомыслие как бы и все стихотворение сводит к шутке, но категории случайности и необязательности не из рубцовской поэзии. Обе — и известная нам, и неведомая — встречи происходят непосредственно перед стихотворением «В глуши»[112], завершающемся строкою: «Друзей со мною нет».
Констатация этого факта существенно углубляет значение предшествующих «встреч». Это встречи и невстречи. Встречаясь с друзьями, Рубцов не может встретиться с ними во взаимопонимании. Произошедшая в поэте перемена так естественна, что ему кажется, будто переменились все вокруг. Изменившейся кажется и вся Россия. Все видит поэт новыми глазами, все сейчас ощущает иначе.
Стихотворение «На озере» завершается словами просьбы, смысл которой, если рассматривать стихотворение вне сборника, может показаться темным и загадочным:
Но лебеди уже были в рубцовском сборнике. В самом первом стихотворении, которым и открывалось «Успокоение»: «И так легки былые годы, /Как будто лебеди вдали…»
И в следующем стихотворении «Прощальный костер» снова возникает тема прожитых лет:
3
О стихотворениях «Прощальный костер», «Острова свои обогреваем», «Журавли» можно написать целые книги. Наша же задача сейчас проследить взаимосвязь стихотворений в сборнике, живущих тут как единое целое.
Неизъяснимо прекрасна метаморфоза «мимолетного сна природы» из «Прощального костра» в сиротство души и природы из «Журавлей». Некая новая художественная реальность возникает в единстве составленных в таком порядке стихов, и реальность эта не нуждается в толковании, она воспринимаема душой, самоценна, как и сами стихи Рубцова.
Точность соединения стихов в сборнике не может не изумлять. Ничто не исчезает в мире Рубцова, все проходит свой предназначенный срок жизни… Скрипучий бор, что движется «по воде, качаясь, по болотам», подобно флоту, из стихотворения «Острова свои обогреваем» выплывает в стихотворении «Журавли», где «меж болотных стволов красовался восток огнеликий…». И кажется, что на этих кораблях, приплывших из болотной Эллады, и принесена в «Журавли» гекзаметрическая «огнеликость». А движение, разрастаясь широкою строкою «Журавлей», вовлекает в себя все новых участников, и вместе с этим движением разрастается забытость, сиротство. Вот уже и сын из стихотворения «В избе» «заводит речь, что не желает дом стеречь», и, конечно же, «за годом год уносится навек»…
Судя по письмам, стихотворению «Душа» Рубцов отводил важное место в своем творчестве. Написано оно в ноябре 1964 года, когда исключенный из Литинститута Рубцов без денег, без надежд застрял в отрезанной осенним бездорожьем от мира Николе. Стихотворение кончается пророчеством:
Сейчас, когда мы можем прочитать в воспоминаниях Людмилы Дербиной, как «презрительно молчала» она, как «с ненавистью смотрела» на Рубцова перед тем, как совершить убийство, теперь, когда мы знаем из ее стихов, что она уподобляла себя в минуту убийства «в гневе своем урагану», описание ужасной ночи 19 января 1971 года, своего смертного часа, сделанное Рубцовым, поражает предельной точностью даже в деталях.
Но пророчество на этом не завершается. Никакая преграда, даже смерть, не может остановить движения души поэта.
Говорить о пророчествах, а тем более толковать их в той части, что относится к жизни еще не наступившей, страшновато. А речь идет тут, конечно же, уже не об ужасной ночи смерти самого Рубцова. К кому-то другому еще должен прийти «смертный час», и этому другому и желает Рубцов, чтобы у него рассудок и душа, «как в этот час» (19 января 1971 года), друг другу улыбнулись. Он сам обещает помочь в этом…
Чем дольше вчитываешься в «Успокоение», тем яснее, что и сам сборник своей конструкцией представляет недостижимое совершенство. С ювелирной точностью расположены стихи в нем, и ни одно не заслоняет, не перебивает другого. Каждое сияет во всей изначальной красоте, но вместе с тем улавливая сияние других и сообщая свое сияние другим.
Мне никогда не нравились рубцовские стихи о литераторах, всегда казались какими-то не по-рубцовски бестелесными. И только, кажется, в «Успокоении» вся эта вереница теней наполнилась рубцовским смыслом. Поэт словно бы перебирает судьбы, прежде чем поведать о своей судьбе, когда:
И как тут сказать, пророчество или не пророчество эта «могила в малиннике»? У Рубцова такое точное знание своей смерти, что и само стихотворение «Над вечным покоем» в списке «Успокоения» он располагает под тридцать пятым, очень точно соответствующим своему смертному возрасту номером.
Совпадение это легко объяснить случайностью. Как и совпадение числа четко идентифицируемых в «Успокоении» стихотворений. Их тоже только тридцать пять…
Завершая разговор о внецерковной православности Николая Михайловича Рубцова, нужно вернуться к стихотворению «На озере». Мы уже говорили, о каких лебедях идет речь в просьбе героя сделать черного лебедя белым. Посмотрим сейчас, к кому обращает свою просьбу поэт.
восклицает он, и только в следующей строчке раскрывается, что именно к покою-чародею и адресовано обращение:
Нет нужды доказывать, что разумеется тут не пушкинское «очей очарованье». Преображение, о котором просит поэт, должно быть сотворено магическими чарами, «очарованием смелым». И творить эти чары должен некий «покой-чародей». Не тот, не другой, а именно этот…
Говоря так, я менее всего пытаюсь представить гениального русского поэта в образе этакого повелителя духов. Нет! Если и вызывал Рубцов темные силы, то делал это неосознанно, по неосторожности проваливаясь в языческие подземелья воздвигнутого в русском языке православного храма. Разбуженные неосторожным словом темные силы действительно являлись, но объектом их внимания и воздействия становился сам поэт.
Безусловно, Рубцов и сам осознавал, что нуждается в церковной защите. Не случайно ведь в последние годы жизни появляются в его квартире иконы. Другое дело, что одних только икон было, конечно же, недостаточно.
Говоря об особом характере рубцовской правоелавности, невозможно пройти мимо последних стихотворений «Успокоения». Предпоследним поставлено стихотворение о Пасхе — главном празднике христиан. Реконструируемая по детским воспоминаниям Рубцова картина, конечно же, мало общего имеет с пасхальной радостью, что овладевает сердцами верующих в этот светлый день.
Да, мы видим пасхальный день глазами ребенка: все вроде бы соответствует весеннему празднику, кроме самого главного — вся Пасха у Рубцова совершается вне церкви, без церкви. Это только внешнее подобие Пасхи, как бы скорлупа без яйца, оболочка без содержимого. И конечно же, не случайно, подобно бесовской свадьбе, скачущей в глубине потрясенного бора, «промчалась твоя (этой Пасхи. — Н. К.) пора».
Строка «твой отвергнутый фанатизм» косноязычна, но она ключевая в этом стихотворении. И она удивительно точна. И, как всегда у Рубцова, не вполне ясно, откуда и каким образом происходит интервенция черного советского богоборчества, которое, разумеется, боролось не с Богом, не со святыми, а лишь отвергало фанатизм служителей культа. И, как всегда у Рубцова, совершенно очевидно, что эта лживая чернота неразрывно связана и с пьяною гулянкой посреди двора, и с шумом чего-то промчавшегося прямо сквозь твою жизнь.
Чего уж тут горевать, если не воздано было самое главное…
Стихотворение «Пасха» завершается словами: «Промчалась твоя пора». А самое последнее стихотворение начинается словами: «Есть пора — души моей отрада».
Такие стихи невозможно анализировать. Они сами и есть та последняя «отрада души», которая дарована была поэту на нашем ненастном берегу. Эти стихи, как и «Прощальная песня», прощание Рубцова. Прощание со своей любимой, прощание со всеми нами:
Это последние слова Рубцова в сборнике «Успокоение».
Запоздавшие письма
У Рубцова очень необычное отношение к смерти. При одновременности настоящего и будущего смерть в его стихах размывается, существует одновременно с жизнью лирического героя, а в некоторых стихах как бы и опережает саму жизнь. Таково, например, рубцовское «Посвящение другу»… Кладбищенский пейзаж:
усиленный четырехкратным повтором безвозвратности: «Улетели мои самолеты», «Просвистели мои поезда», «Прогудели мои пароходы», «Проскрипели телеги мои», — отнюдь не обозначает завершения жизненного пути. И словно бы и не было желтых комьев могильной глины — так просто и буднично возвращение героя стихотворения:
Но это в стихах. Самое же поразительное, что и в реальной жизни земной путь Николая Михайловича Рубцова не обрывается вместе с его смертью.
1
После гибели Николая Михайловича Рубцова почти не осталось вещей. Новый, вселившийся в рубцовскую квартиру на улице Яшина — ту самую, где в январе этого года повесили мемориальную доску! — хозяин рассказывал, что нашел в квартире старенький диван, круглый раздвижной стол, две табуретки да груду пепла от сожженных бумаг. Мебель эта еще долго стояла в квартире, а потом ее вынесли на помойку, поскольку никто так и не пришел за ней.
Ha экскурсию в последнее жилище поэта мы пришли вместе с вологжанином Вячеславом Белковым. Ни меня, ни Вячеслава новый хозяин не знал, но в квартиру пустил, показал и совмещенный с ванной туалет, и двухконфорочную, на ножках, газовую плиту на кухне, вывел на балкон, с которого, кроме стены соседнего дома, ничего больше и не было видно.
Уже спускаясь по лестнице, мы погоревали, что не догадались захватить выпивки. Очень хотелось посидеть здесь, поговорить о Рубцове — присутствие его в нищенской квартирке ощущалось и спустя двадцать лет после смерти.
Я никогда не видел живого Рубцова. Его стихи впервые прочитал в вышедшем уже после рубцовской смерти сборнике «Сосен шум». Стихи поразили меня не только своей пронзительной лиричностью, но и тем гулом судьбы, что отчетливо различался в шуме рубцовских сосен.
Еще меня поразили разговоры, что велись тогда по поводу его гибели. Поражало не столько даже обилие версий убийства Рубцова, сколько отношение рассказчиков к самому Рубцову. У одних его гибель вызывала настоящую боль, другие оставались равнодушными, третьи говорили о смерти Рубцова с нескрываемой завистью. «Повезло ему все-таки… — услышал я от одного и ныне здравствующего поэта. — Сумел и тут устроиться… Теперь ему слава обеспечена…»
Сказано было подло, но сейчас речь о другом. Что бы ни говорили о Рубцове, всегда говорили как о живом, словно Рубцов только на минуту вышел из своей жизни, как обыкновенные люди выходят из комнаты…
Разумеется, ощущения эти можно смело отнести к разряду субъективных. Точно так же, как и проблемы, с которыми сталкиваются все биографы Рубцова, пытаясь описать его жизнь в хронологическом порядке. И дело тут не только в том, что Рубцов принципиально не ставил дат под своими стихами, являющимися основными событиями его жизни, и, разумеется, не в степени добросовестности самих биографов. Нет! Факты и события жизни Рубцова, сколь бы тщательно мы ни исследовали их, как бы размываются, начинают плыть.
Вот самый простой пример — сиротство Рубцова. В своих стихах, во всех анкетах и биографиях Рубцов утверждал, что Михаил Андрианович погиб на фронте. «Мать умерла. Отец ушел на фронт», «На войне отца убила пуля» и т. д., и т. п. Вместе с тем совершенно точно известно, что Михаил Андрианович благополучно пережил войну, работая в тылу на очень хлебной по военному времени должности начальника ОРСа железной дороги. Совершенно точно известно, что после детдома Рубцов неоднократно бывал у отца, встретился здесь с братом Альбертом, а в 1962 году приезжал на похороны Михаила Андриановича.
Или другой пример — учеба Николая Рубцова зимой 1964/65 года в Литературном институте. Конечно, можно открыть личное дело студента Рубцова и прочитать, что еще 26 июня 1964 года был издан приказ об отчислении Николая Михайловича из института, но — странно! — ни сам Рубцов, ни руководитель творческого семинара, ни даже ректор института об этом не знают и полагают, что Рубцов лишь переведен на заочное отделение.
Точно так же обстоят дела и с комнатой на улице XI Армии в Вологде, полученной Рубцовым по ходатайству секретаря Вологодского обкома КПСС В. И. Другова. Совершенно определенно известно, что Рубцов перебирается в свою комнату, и прописка у него на улице XI Армии тоже постоянная, и комната, как и положено новоселовской жилплощади, пустая. Но проходит несколько месяцев, и комната как-то сама собою трансформируется в общежитие, в котором проживают четыре человека, и перестает быть своей для Рубцова.
Подобных порождаемых то равнодушным шелестом казенных бумаг, то воем метели, заметающей дороги, метаморфоз в жизни Рубцова не счесть. Наряду с симпатиями и антипатиями могущественных покровителей и недоброжелателей участвовали в жизни Рубцова и инфернальные, «уму непостижимые» силы, действия которых датировать невозможно хотя бы уже потому, что прорываются эти силы при нахлестах будущего на прошлое…
2
Весной 1990 года я жил в Доме творчества «Комарове» в номере рядом с номером Глеба Яковлевича Горбовского. Горбовский как раз дочитывал тогда корректуру своей книги «Остывшие следы», где среди всего прочего вспоминал и о своей дружбе с Николаем Рубцовым в бытность того кочегаром на Кировском заводе… Вспоминал Горбовский в своей книге и о разговоре, состоявшемся у него с Федором Александровичем Абрамовым по поводу убийцы поэта. Дербина уже вышла тогда из заключения и, не добившись понимания в Вологде, решила поискать его в Питере.
— А скажи-ка мне, Глебушка… — спросил Абрамов. — То-само, как ты относишься к ней? Ну, которая Колю Рубцова порешила? Читал ты ее стихи?
— Читал, — ответил Горбовский. — Сложное у меня чувство ко всей этой трагедии, Федор Александрович. Понимаю, стихи у нее сильные. Густые… У нее ведь и книжка отдельная выходила.
— Вот и напиши ей рекомендацию. Для вступления в Союз писателей. Напишешь?
— Не напишу.
— Вот и я… не написал. Духу не хватило…
Такой вот был разговор. Но этим он не кончился. Далее шли рассуждения об участи Дербиной, часть которых воспроизводилась в диалоге, часть в ремарках к нему.
Подытоживая разговор, Ф. А. Абрамов вспоминал и о заповедях «Не убий» и «Не судите и не судимы будете». И если до сих пор рассуждения участников разговора не выходили, так сказать, за рамки системы общечеловеческих ценностей, то теперь, когда отчетливо обозначился подтекст разговора, все рассуждения начали окрашиваться чувством вины перед Дербиной. И дело тут не в том, что не обязательно цитировать евангельские заповеди, решая дилемму: давать или не давать молодому литератору рекомендацию в Союз писателей. Произошло как бы незаметное, но принципиально важное изменение позиции. Не заметить этого изменения было невозможно, но собеседники сделали вид, что не заметили.
Поскольку все равно нам еще предстоит подробный разговор о нравственной позиции убийцы поэта, поясню, в чем тут дело.
Все последние годы и в своих стихах, и в рассказах о Рубцове Людмила Дербина пытается создать образ этакой несчастной, гонимой и преследуемой злобными недоброжелателями. И многие люди, то ли из деликатности, то ли из трусости, не замечают, что это сама Дербина изображает себя гонимой.
Разумеется, не каждый человек способен поддерживать дружеские отношения с убийцей. Но между отказом в дружбе и преследованием остается зазор, в который вполне помещается заповеданное нам: «Не судите и не судимы будете».
Если бы Дербина, вернувшись из заключения, взяла себе какой-то псевдоним и занялась литературной работой — от своих способностей все равно никуда не спрячешься! — не связанной исключительно с убийством Рубцова, то едва ли кто осудил бы ее за это. Но ведь Дербиной хотелось совсем другого. Не только писать стихи, не только вступить в Союз писателей. В Союз писателей ей хотелось вступить как убийце Рубцова. И в литературу войти тоже как убийце. Разница тут весьма существенная. И применяемая к такой позиции Дербиной евангельская заповедь оборачивается легализацией самого факта убийства.
И, конечно же, все эти оттенки Горбовский различал. Это ведь он написал: «Николай Рубцов — поэт долгожданный. Блок и Есенин были последними, кто очаровывал читающий мир поэзией — непридуманной, органической. Полвека прошло в поиске, в изыске, в утверждении многих форм, а также истин… Время от времени в огромном хоре советской поэзии звучали голоса яркие, неповторимые. И все же — хотелось Рубцова. Требовалось. Кислородное голодание без его стихов — надвигалось». И, конечно, ему, другу Рубцова, поэту, лучше других понимающему значение рубцовской поэзии, мудро отмолчаться в том тяжелом разговоре с Федором Александровичем Абрамовым было нельзя. И все-таки отмолчался он, не произнес тех слов, которые в память о Рубцове должен был произнести.
Но вернемся, однако, от «Остывших следов» к их автору. Завершив вычитку корректуры, Глеб Яковлевич отвез ее в издательство и вечером взял у меня посмотреть только что выпущенный в «Советской России» том Николая Рубцова «Видения на холме».
В этой книге Глеб Яковлевич и нашел адресованное ему, но так и не отправленное письмо Николая Михайловича Рубцова.
«И после этой, можно сказать, «сумасшедшей мути», — писал из шестьдесят пятого года Рубцов, — после этой напряженной жизни, ей-богу, хорошо некоторое время побыть мне здесь, в этой скромной обстановке и среди этих хороших и плохих, но скромных, ни в чем не виноватых и не замешанных пока ни в чем людей…»
Кончалось же запоздавшее на четверть века письмо словами: «Вологда — земля для меня священная, и на ней с особенной силой чувствую я себя и живым, и смертным».
И так получилось, что это запоздавшее письмо вроде как бы и не запоздало, а пришло к своему адресату вовремя.
Как-то погрустнел Глеб Яковлевич, сделался задумчиво-рассеянным. Пару раз он заводил со мной разговор о письме, дескать, вот, получил письмо… В книге прочитал… А ведь не знал про него, нет… Да, получается, что получил теперь…
Может быть, если бы я знал о разговоре в отправленных в типографию «Остывших следах», я бы и сумел поддержать беседу, но — увы! — «Остывших следов» я тогда еще не читал, разговора не получалось. Просто я видел, что Глеб Яковлевич отчего-то сделался вдруг печален и рассеян.
Кончилась эта рассеянность плохо. На следующий день Горбовский запил. Запил после двадцатилетнего перерыва.
Пить, разумеется, нехорошо, но давно замечено, что многие без этого дела не то чтобы портятся, но так… в душе какая-то штучка заедать начинает. Так что не рискну судить, чего больше — вреда себе или пользы — приобрел Глеб Яковлевич Горбовский, покинув свою правильную жизнь. С одной стороны, оказался он в результате на старости лет один, в комнатушке, в коммунальной квартире. А с другой стороны, так и ничего, живет, снова замечательные, как и в молодые годы, стихи пишет…
3
Еще несколько лет назад, работая в рубцовском фонде в архиве, наткнулся я на не отправленную Николаем Михайловичем телеграмму.
«Вологда Ветошкина 103 квартира 32 Белову
Дорогой Белов Вася Ничего не понимаю прошу прощения По-прежнему преклонением дружбой
Рубцов
Вологда. Проездом. Н. Рубцов».
Этот рубцовский автограф нигде не воспроизводился скорее всего потому, что он ничего не добавляет к известному. О дружбе Рубцова с писателем Василием Ивановичем Беловым и так известно. Точно так же, как и о глубоком уважении к его творчеству. Если бы телеграмма хотя бы была датирована, то можно было бы кое-что уточнить в хронологии, но — увы! — дата на заполненном рубцовскою рукою бланке отсутствует. А без даты что же? Понятно, что накануне, видимо, выпившим был Николай Михайлович. Что-то сказал. Может быть, даже и сделал… Утром побежал на почту, написал на бланке текст извинения, но не отправил. Может, застеснялся. А может, и денег не нашлось. Все понятно…
И хотя за эти годы мне не раз доводилось встречаться с Беловым на различных собраниях, как-то даже и не приходило в голову рассказать о найденной телеграмме. Рассказал я про нее Василию Ивановичу на нынешних юбилейных торжествах в Вологде. Рассказал в качестве примера того, как остро переживал Рубцов свои промахи.
Реакция Белова, признаться, удивила меня.
— А где эта телеграмма? — спросил он. — У вас?
— Почему у меня, Василий Иванович?! — удивился я. — Она в ГАВО хранится. Фонд пятьдесят первый. Опись номер один. Дело триста восемьдесят три…
— Ну, да… Да… — сказал Василий Иванович и, как мне показалось, немного погрустнел. Потом разговор за столом перешел на другую тему, и только, возвращаясь в гостиницу, сообразил я, что прямо-таки в буквальном смысле побывал сегодня почтальоном. Прямо на квартиру адресата принес отправленную Рубцовым телеграмму. И похоже, похоже было — пусть уж простит меня Василий Иванович за это предположение! — хотя и подзадержалась телеграмма в пути, но для адресата значения своего не утратила. Похоже было, что почему-то очень важным было для него рубцовское извинение.
Вот тогда-то по дороге в гостиницу, обдумывая, как странно и два десятилетия спустя после смерти, и четверть века спустя доходят рубцовские письма до своих адресатов, начал припоминать я и другие странности, на которые раньше не обращал внимания.
«На мглистый берег юности своей»
— А только им и говорить ничего не нужно было, я еще не успела сказать, когда Альберт вошел… Николай сразу вскочил. «Олег!» — говорит. А тот: «Николай?!» Обхватили друг друга, закружились по комнате. Покружатся-покружатся, разойдутся, но друг друга в руках держат, и опять — клубком… Смеются и плачут…
Так рассказывала о встрече братьев Рубцовых жена Альберта Михайловича, Валентина Алексеевна Рубцова. Произошла эта встреча в 1955 году, в Вологде, в доме отца Альберта и Николая — Михаила Андриановича. Не виделись братья пятнадцать лет…
1
С Альбертом Валентина Алексеевна познакомилась в 1954 году в Сестрорецке, где работала на заводе имени Воскова. Альберт работал тогда на Сестрорецкой телефонной станции. Жил в комнате на почте. Потом пришел новый начальник и комнату эту отобрали, жить стало негде. Родители Валентины Алексеевны тоже жили тогда под Ленинградом — в поселке Приютино. Перебрались сюда после войны из сожженной под Киришами деревни. Все эти подробности важны для нас — они во многом определили географию юности Николая Рубцова.
В 1955 году в Сестрорецк приезжал Михаил Андрианович. Посмотрел, как мыкается по чужим квартирам сын, и пригласил к себе, в Вологду. Забегая вперед, скажем, что ничего из этого не получилось, и через пару месяцев, в Вологде, Альберт Михайлович и Валентина Алексеевна ушли из отцовского дома на частную квартиру, а потом и вообще уехали… И трудно сказать, чем руководствовался Михаил Андрианович, делая свое предложение. Совсем недавно ему пришлось расстаться с хлопотливой, но весьма хлебной должностью начальника ОРСа. История случилась темная, пропал вагон с яблоками… До суда дело не дошло, но со снабженческой работой Михаилу Андриановичу пришлось проститься. Так что, возможно, теперь, когда был поставлен крест на карьере, Михаил Андрианович вспомнил, как хорошо жили в прежние времена большими семьями, сообща огоревывая свалившуюся беду. И позабыл, позабыл при этом, что и время стало другим, да и сам он тоже изменился.
— У меня-то совсем ума не было, дак поехали… — вздыхает Валентина Алексеевна.
Прожили они в Вологде недолго, чуть больше года. Но здесь, в Вологде, и удалось встретиться потерявшимся братьям.
«Тогда в Вологде сахара не было… — рассказывала Валентина Алексеевна. — Конфеты какие хочешь, а сахара не было. Дак цыгане по домам ходили, все сахар выпрашивали… Я как раз выпроводила их со двора, а тут смотрю — идет парнишка, черненький такой, худенький. Пальтишко осеннее на нем, на ногах ботиночки…
— Чего? — говорю. — От своих отстал?
А он засмеялся и отвечает, что не цыган он, брата разыскивает. А сам стоит — мороз был — и ногой об ногу постукивает.
— Вы, — говорит, — не жена Альберта будете?
— Жена, — отвечаю. — А ты откуда знаешь?
Ну, он и объяснил, что узнавал в справке адрес сестры, Галины, а ему вместо Галины Рубцовой Валентину дали. И адрес — он уже, оказывается, бывал тут — отцовский…
А сам говорит и все ботиночками своими постукивает. Ну, думаю, совсем человек замерз, и пригласила его в дом. Поговорили немножко, а тут мачеха пришла и сразу к отцу побежала. Предупредить его.
Отец-то пришел, и — мне удивительно даже было — ничего, не обнялись даже, сел на лавку, и сидят, разговаривают они с Николаем, ну так, будто вчера расстались. Альберт только к пяти часам пришел… Николай-то попросил меня сказать, когда он войдет, а только им говорить ничего не нужно было…
— Николай!
— Олег!
А утром на следующий день Михаил Андрианович подходит ко мне и говорит:
— Ты скажи Николаю-то, чтобы не задерживался. Пускай уезжает.
— А почему я?! — пыхнула.
— Да потому… — говорит, — что отец я. Мне неудобно сказать. А у тебя получится.
Сказал так и на работу пошел. А я расстроилась даже… Когда проснулся Николай, сказала ему. Думала, что рассердится он, а нет. Спокойно так меня выслушал, а потом говорит:
— Ты, Валентина, не беспокойся. Я все знаю. Я брата нашел и уеду теперь, не буду стеснять никого. А на отца ты не обижайся. Он всю жизнь на легкой работе был, а теперь старый, больной, с ломом ходит… А я уеду. Я брата нашел, теперь не потеряю его.
Вот ведь, моих годов был, а уже такой умный. Не стал никого осуждать. Серьезно так рассудил. Я уже после подумала, какой он молодец, что не дал мне там разругаться. Дала ему мамин адрес в Приютино. Какие у меня копейки были, отдала, и он уехал. А мы потом с Альбертом тоже ушли на частную квартиру…»
— А какой он был, Михаил Андрианович этот? — завершая разговор о взаимоотношениях братьев Рубцовых с отцом, спросил я. — Добрый? Злой? Умный? Глупый?
— Нет, не злой… — вздохнула Валентина Алексеевна. — И хотя я немного его знала, но, по-моему, умный…
— А пил много?
— Выпивал, конечно… Но не сказать, чтобы сильно. Вот курил много, да…
И тут же рассказала, как жаловался на отца Альберт, вспоминая свою жизнь в няньках.
— Продуктов-то тогда много было в подвале. Как же можно начальнику мимо продуктов… А Альберту не всегда хватало поисть. Если к столу не попадет, то и ходит голодный…
Обида у Альберта на отца была. Но если Николай Рубцов обижался, что отец бросил его, не взял из детдома, когда появилась возможность, то Альберт обижался как раз потому, что отец взял его. Неоднократно рассказывал он Валентине Алексеевне, что в детдоме сразу обратили внимание на его музыкальные способности и уже оформляли в музыкальное училище, когда приехал отец с мачехой, чтобы забрать в няньки.
Наверное, тогда Альберт радовался, что возвращается в семью, но, когда вырос, начал жалеть об упущенных возможностях.
В жизни он не был неудачником. Все получалось у него. Он легко осваивал любое занятие, овладел десятками специальностей, хорошо играл на баяне и пел, на гулянках всегда пользовался успехом — «как-то так довернется, как-то так посмотрит, что сразу всю компанию берет на себя», — и с семьей у него было благополучно — Валентина Алексеевна родила ему и сына, и дочь, — и квартиру дали, но… Все равно и с годами не мог успокоиться Альберт Михайлович и, уже сделавшись отцом двоих детей, продолжал томиться несбывшейся, не прожитой им жизнью.
Кстати сказать, это томление в Альберте Михайловиче ощущали все знавшие его. А сам Николай Михайлович Рубцов даже написал об этом стихи:
Николай Михайлович вообще очень любил брата. Недаром столько времени искал его. Правда, нашел он не старшего брата, а младшего. Хотя младшим был Николай, но в отношениях с Альбертом он всегда чувствовал себя старше. И об этом тоже вспоминают все, знавшие Рубцовых.
— А вы знаете стихи Николая Михайловича о брате? — спросил я.
— Нет… — покачала головой Валентина Алексеевна. — Я вообще не очень интересовалась стихами. Тот стихи пишет, этот… Но мне Николай и не читал никогда стихов. А с Альбертом они часто о стихах говорили…
— А Николаю Михайловичу нравились стихи брата?
— Он так говорил… У тебя, говорит, Олег, мысли глубокие. Ты и меня даже превосходишь тут, но тебе надо учиться… А Альберт ему все про Кольцова говорил, что тот тоже неграмотный был… Ты не понимаешь, объясняет ему Николай, что сейчас вся жизнь меняется. Мы за жизнью не успеваем, а ты говоришь, что учиться не надо… Так вот они спорили всегда.
Несбывшаяся жизнь томила Альберта… Пока стояла зима и было холодно, он еще держался, жил с семьей в Невской Дубровке, работал на здешнем мебельном комбинате, но уже в феврале начинал дергаться, беспокоиться…
— И чего я ему ни говорю, как ни уговариваю, как ни убеждаю… — рассказывала Валентина Алексеевна, — а все равно, хоть и соглашается со мной, а обязательно или потихоньку, или как, но уедет.
География странствий Альберта — вся страна. Он работал в Дудинке и в Донецке, в Воркуте и в Тюменской области… Был грузчиком, работал в забое шахты, собирал кедровые орехи на Алтае.
— У мамы, в Приютино, огород был… — рассказывала Валентина Алексеевна. — Дак мы поедем его копать. Ну, Альберт тоже покопает маленько, а потом обопрется на лопату и встанет. Мы его уже обкопаем всего, а он стоит задумавшись. Мама отвернется и потихоньку плюнет, чтобы я не видела. Нашло, говорит, опять…
Это сейчас, рассказывая о встрече с Валентиной Алексеевной Рубцовой, группирую я материалы, а в разговоре воспоминания об Альберте мешались с воспоминаниями о Николае Рубцове. Братья не расставались друг с другом и в воспоминаниях Валентины Алексеевны, и как-то так получалось, что дальнейшая судьба Альберта выпала из повествования. Я долго не мог понять, что же стало потом с ним. В конце концов я решил, что Валентина Алексеевна все-таки развелась, и спросил, когда это случилось.
— Почему развелась? — обиженно возразила Валентина Алексеевна. — Я до сих пор по всем документам замужем за ним.
И так это было сказано, что смутился я, сконфуженно забормотал, дескать, да-да, конечно, понятно… Хотя ничего мне не было понятно.
— А какие-то документы Альберта Михайловича остались? — спросил я. — Бели бы посмотреть их, кое-что можно было бы и в биографии Николая Михайловича уточнить…
— Какие документы? — удивилась Валентина Алексеевна.
— Ну, не знаю… — сказал я. — Трудовая книжка, например.
— Трудовая книжка?! — Валентина Алексеевна невесело засмеялась. — Да у него и паспорта не было, не то что трудовой книжки…
Она не могла видеть, как вытянулись наши лица, но удивление наше различила. И, подумав, рассказала еще одну историю про супруга.
Тогда на Альберта было подано на алименты. Подала не Валентина Алексеевна, а ее заведующая, которая ее «пожалела». «Рыжая, — сказала она, — толку у тебя нет, одна при живом муже детей ростишь. Я оформила документы. Будешь теперь алименты получать».
— Я сама-то и не подала бы… — сказала Валентина Алексеевна. — Мне его жалко было. Ему и самому не на что жить, какие тут алименты… А его поймали. В общем, привезли в «Кресты». Год заключения хотели дать за укрывательство от алиментов. Меня тогда вызвали во Всеволжск, сказали, что поймали его. Я и отказалась от исполнительного листа, хоть и ругали очень. Мы, говорит, ищем, деньги государственные тратим, а вы на попятную, когда нашли… Не, говорю, чего он платить будет? Да мне и не надо… Раз завела детей, надо самой вырастить…
— А почему вы говорите, что паспорта у него не было? — осторожно напомнил я.
— Дак он сам потом рассказывал. Где его поймали, он, подрядившись, орехи собирал. Пришел в контору деньги получать, а там исполнительный лист. Сто восемьдесят восемь рублей высчитали. Я, говорил, вышел из конторы и паспорт тут же в канаву выкинул от досады. Его однажды три года не было, а потом приехал, устроился на работу и только уже после объяснил мне, что взяли его как бомжа, да в милиции пожалели. Сказали, езжай туда, где в лицо тебя знают, получи документ…
В рассказе Валентины Алексеевны о своем супруге-летуне временная последовательность отсутствовала. Одна история налезала на другую, но переспрашивать было неловко, да и не к чему. С таким мужем семейная жизнь не могла быть счастливой. Пришлось побиться, чтобы вырастить детей.
— А в каком году умер Альберт Михайлович? — спросил я.
— А что? Он умер? — испугалась Валентина Алексеевна.
И снова долго убеждали мы ее, что не знаем ничего о смерти Альберта Михайловича, просто из ее рассказа возникло ощущение, что он умер. Ведь если не развелся и не умер, то должен был бы объявиться как-то.
— Нет… — покачала головой Валентина Алексеевна. — Последние двадцать лет я ничего не слышала о нем. Вначале еще ждала, а сейчас нет. Сейчас дак и ни к чему уже приезжать. Потом вздохнула тяжело и добавила:
— А вообще они оба талантливые были. Им и жизнь особая нужна была…
2
Все эти подробности встречи братьев Рубцовых я узнал в поселке Невская Дубровка от Валентины Алексеевны Рубцовой. Она уже ничего не видит сейчас. Испортившееся еще во время работы на заводе имени Воскова зрение окончательно пропало, и по квартире, в которой Валентина Алексеевна живет одна, она ходит по памяти и больше всего боится, что в освободившуюся от соседей комнату поселят новых жильцов.
— Поставят табуретку не там, и все… Заблужусь и комнату не найду свою…
Впрочем, сейчас в квартире чисто, все прибрано, посмотришь и не скажешь, что здесь живет слепой человек… И сама Валентина Алексеевна аккуратно одета, Причесана, впечатления беспомощного человека не производит. Странно только немного было, как поворачивала она во время разговора голову, ушами наблюдая за своими собеседниками… Ну а перед невидящими глазами ее вставали видения минувших лет. Здесь, в этой комнате, где сидели мы, и встречались братья Рубцовы, сюда приезжал Николай Михайлович Рубцов к Альберту, когда работал на Кировском заводе, и потом, когда учился в Литературном институте, когда после перевода на заочное снова оказался без прописки и без жилья.
— Они списались в письмах, когда можно приехать… Останавливался Николай у нас… Спали они на одной кровати с Альбертом, болыпе-то негде было… Но много не жил… Бывало, на неделю приедет, может — на три дня.
— Они выпивали с Альбертом?
— Ну, только для встречи. А если Альберт загоношится, то Николай останавливал его. Ты, говорит, Олег, как хочешь, а я не буду больше пить. Вот в Приютино поеду, там Колька Беляков, там уже буду, как хочу, а здесь пить не стану.
— А вообще Николай Михайлович замкнутый человек был?
— Да уж не сказать, что простой. Он не разговорится спроста-то. И все время стихи в голове держал. Я никогда не видела, чтобы он на бумаге строчил чего. Но лиричный парень был. Он ведь и про крещенские морозы говорил мне, про то, как он погибнет молодой… И даже заежился, так холодно ему тогда стало. Брось ты, говорю, Николай. Глупости это… А он — нет, говорит, так и будет все. А за Альберта ты не беспокойся, он дольше проживет… Но он это не в стихах, а в разговоре говорил… Задумался чего-то и сказал. А потом засмеялся. Но я, говорит, долго не проживу…
Еще вспоминая о том разговоре с Николаем Михайловичем Рубцовым, Валентина Алексеевна рассказала о своем сне, который увидела в январе 1971 года…
— Будто в Москве я… Стою я на площади, большая такая площадь, может быть, Красная. И народу битком на ней. И молчат все. А я пришла и спрашиваю: «Чего вы не разговариваете-то?» А меня толкают в бок и говорят: «Что, не видишь? Гроб стоит!» А я будто и говорю: «Вижу! Только чего плакать-то?! Гроб-то пустой. Никого нет в гробе!» И проснулась… А через три дня письмо пришло из Вологды… Софья Андриановна сообщила, что убили Николая. Женщина какая-то и убила… Не знаю уж, чего мне Москва приснилась тогда? Может, потому, что из Москвы его хоронить приезжали?
— А вы сами-то были когда-нибудь в Москве?
— Нет… Только в кино видела… А про смерть он говорил. Ты, говорит, Валентина, работаешь. А я вот приезжаю сюда. Ты тратишься. Погоди, гонорар придет, рассчитаюсь я с тобой… Ага, говорю, помирать соберешься, дак рассчитаешься… Ты, говорит, Валентина, не беспокойся. Я и умру, а все равно рассчитаюсь… Да ну тебя, скажу… Чего тут говорить-то, в долг он у меня никогда не просил и не брал. Просто понимал все, видел, как живем-то… Все ведь купить надо…
— Валентина Алексеевна… — спросил я. — Николай Михайлович иногда давал ваш адрес в Невской Дубровке для того, чтобы писали сюда… Ему приходили какие-нибудь письма?
— Нет… — покачала головой Валентина Алексеевна. — Вообще ничего не было. Одно время он жил, гонорара ждал… Дак я ему говорю, не беспокойся ты, придет, я перешлю тебе. Но нет, так и не пришло ничего… Мне так жалко его было, что я даже на завод его хотела устроить. Жить, говорю, у нас будешь, потом в общежитие устроишься… Нет, говорит, тогда я стихов писать не смогу. Так и уехал… Больше я не видела его…
И она повернула голову к окну, возле которого стоял Николай Михайлович Рубцов, когда зачем-то начал рассказывать Валентине Алексеевне о крещенских морозах, в которые предстоит умереть ему.
И замерла так…
Что видела она своими глазами, способными сейчас смотреть только в прошлое?..
3
Все можно понять и объяснить… И вроде бы, учитывая внутреннюю неуспокоенность Альберта Михайловича Рубцова, ничего загадочного нет в его загадочном исчезновении двадцать лет назад. Это, так сказать, закономерный итог судьбы, избранной им.
Странно другое. Странно, с каким неуклонным постоянством размывается смертный рубеж в жизни самых близких Николаю Михайловичу Рубцову людей… Отец, хоронить которого начал Николай Михайлович еще с детдомовских времен… Брат, словно бы растворяющийся в пространствах страны, которые так манили его.
И отец, и брат — из юности поэта. Оттуда, из юности, берег которой казался Рубцову затянутым мглою, и Таисия Александровна Голубева.
Таисия Александровна (в девичестве Тая Смирнова) — первая любовь Николая Михайловича. С ее именем связаны многие юношеские стихи поэтам С Таей прощался Рубцов, когда уходил служить на флот. Драма разрыва со своей «неверной» возлюбленной составляет основу флотской лирики Рубцова.
С Таисией Александровной познакомил меня Николай Васильевич Беляков — друг приютинской юности поэта.
Конечно, момент встречи был выбран неудачно… Когда мы приехали, еще не исполнилось сорока дней после смерти мужа Таисии Александровны, и на телевизоре, рядом с его портретом, все еще стояла рюмка, прикрытая ломтиком хлеба. Не вовремя мы пришли — откуда же знать? — но Таисия Александровна побеседовать согласилась. Чуть смущаясь, чуть посмеиваясь над собою, девятнадцати летней, рылась она в альбоме, вспоминая давние пятидесятые годы.
Как я понимаю, Таисия Александровна — слава Рубцова еще не дошла до Приютина — только из наших рассказов и узнала, каким он был большим поэтом для России. Тем не менее запомнила она его очень отчетливо. И совсем не потому, что он был героем ее девичьего романа. Увы… Не было особой любви с ее стороны, было обычное, не слишком-то и поощрительное отношение девушки к своему поклоннику в ожидании, пока появится более достойный соискатель руки и сердца…
Поэтому и удивительно было, что так отчетливо запомнила Рубцова Таисия Александровна. Только дома, прокручивая магнитофонную пленку, догадался я о секрете этой памятливости. Рубцов испугал свою возлюбленную.
Испугал, когда читал свои переполненные ревностью стихи, приехав на побывку с флота. Испугал своими письмами.
— С армии-то когда приехал, дак идет по дороге с чемоданом, а я убежала из дома, спряталась…
Испугал Рубцов Таю и когда явился к ней, замужней, чтобы увидеться в последний раз.
— Знаете, какой он пьяница потом был? Он в таком виде приезжал, что мы перепугались даже. Весна уже, а он — в валенках, из кармана бутылка торчит. И говорит моему мужу: выйди, мне поговорить с ней надо. А я говорю: нет! Чего нам разговаривать? Николай тогда посмотрел на моего мужа и пальцем ему погрозил. Смотри, говорит, из-под земли достану, если только обидишь ее.
В разговоре Таисия Александровна несколько раз вспоминала, как испугал ее Рубцов. И тут, чтобы правильнее понять природу ее страха, надо сказать, что выросла Таисия Александровна в Приютино, пригородном поселочке, населенном весьма разношерстной публикой. Среди приютинцев были пьяницы и почище Рубцова, были и дебоширы, были и уголовники. И наверняка не раз оказывалась приютинская девушка Тая в куда более опасных, чем с Рубцовым, ситуациях, попадала в более серьезные переделки. Так что едва ли пьянством, едва ли необузданностью своей мог напугать ее Рубцов, чтобы она и сорок лет спустя отчетливо помнила свой страх.
Скорее всего, сама того не сознавая, почувствовала она в Рубцове нездешность его, догадалась, что не может вместиться он в девичий проект семейного счастья, и поспешила оттолкнуть Рубцова от себя. И, разумеется, не пьяного мужика испугалась она, когда увидела Рубцова в мокрых валенках с бутылкой в кармане, а того, что могло бы быть, если бы не успела вовремя отойти от Рубцова. И не понятно только, почему не раздражение, а именно испуг вызвали у нее обращенные к мужу слова: «…Из-под земли достану, если только обидишь ее».
Да и что, казалось бы, в этих словах? Стершаяся, превратившаяся в присловье от частого употребления формула клятвы… Но — в этом и состояло свойство рубцовской судьбы — все затертые присловья, проходя через него, обретали свою первозданную магическую силу.
И пока мы сидели у Таисии Александровны и разговаривали о Рубцове, стараясь не смотреть на прикрытую ломтиком хлеба рюмку на телевизоре, изо всей силы старались мы не думать о мистике действа, совершающегося сейчас помимо нашей воли.
Случайным было совпадение, что мы заехали к Таисии Александровне, когда еще не исполнилось и сорока дней после смерти ее мужа, достать которого, если что, Рубцов грозился и из-под земли. Случайно… Но ведь и все закономерное тоже осуществляется через достаточно случайные обстоятельства…
И как бы ни объяснять происходившее, но бесспорно, что Николай Михайлович Рубцов своими стихами, разговорами о нем снова появился в тот день у своей первой возлюбленной, как и в тот день, когда только начиналась ее супружеская жизнь, появился как раз тогда, когда семейная жизнь Таисии Александровны закончилась.
И снова почувствовала Таисия Александровна страх, который она всегда ощущала исходящим от Рубцова. Разумеется, она сдержала его, и только когда я спросил, можно ли перефотографировать снимки, подаренные Николаем Михайловичем перед призывом на флот, и прорвался ее страх.
— Возьмите навсегда… — вытаскивая фотографии из альбома, сказала она. И добавила уже с настойчивостью: — Возьмите. Мне они не нужны…
Пейзаж как место действия
За свою жизнь я написал несколько десятков книг, но, пожалуй, ни одну не писал так, как писал «Путника на краю поля».
Я уже говорил, что стихи Рубцова прочитал в начале семидесятых, когда с одинаковым увлечением читал прозу Алексея Ремизова и Михаила Булгакова, Александра Солженицына и американскую фантастику, Александра Твардовского и Исаака Бабеля, стихи Осипа Мандельштама и романы Михаила Шолохова. И все же и в том неразборчиво-беспорядочном чтении Рубцов не смешивался ни с кем. Я не сравнивал — кто больше… Рубцов был ближе.
Через несколько лет, еще в рукописи, мне довелось прочитать сборник воспоминаний о Рубцове.
В холодной комнате литинститутской общаги, не отрываясь, от начала до конца проглотил всю объемистую рукопись. Присутствовал тут и профессиональный интерес, но еще больше было щемяще-жуткого узнавания. Узнавалась и тонущая в заснеженной грязи дорога на Вологду, и заросший травой купол церкви. Сырые питерские переулки и мрачные бараки Липина бора, московские пивные и омуты Толшмы.
И понятно было, что знание этого пейзажа и обстоятельств действия — из рубцовских стихов, но простая и такая очевидная мысль тут же и ускользала в щемяще-томительном узнавании, словно в омут, затягивала меня в рубцовскую судьбу. И, наверное, уже тогда и появилось желание написать книгу о нем. И долгие годы копился материал, и я все откладывал работу, убеждая себя, что надо поработать еще в этом архиве, что надо бы кое-что уточнить. Видимо, многим литераторам знакомо гнетущее ощущение, когда давит тебя собранный материал, к работе над которым никак не можешь приступить. И никакие самоуговоры насчет дополнительных сведений, которые нужно еще добыть, не облегчают тяжести.
В результате книгу я написал, и написал очень быстро, меньше чем за месяц. Оставалось только перепечатать ее, и этой работой планировал я заняться в Доме творчества. Но до начала путевки оставалось еще две недели, и я решил съездить на родину Николая Михайловича. Книга вчерне была завершена, и ехал я в основном для того, чтобы не отвлекаться на другую работу, ехал, так сказать, для протокола, чтобы рассказывать потом, дескать, как же, как же… бывал и я там, и интернат, где Рубцов вырос, видел, и в Спасо-Суморинском монастыре, где так и не выучился Николай Михайлович на мастера лесовозных дорог, побродил, и на холме, на холме тоже, на который взбегал в своих стихах Рубцов, посидел.
Однако в школьном музее, в Тотьме, обнаружилось сразу столько неизвестных мне материалов, что под тяжестью их рухнул весь продуманный мною в Питере протокол.
С утра я сидел в Тотемской школе, а после обеда бродил по городу, записывая воспоминания знакомых Николая Михайловича. И день ото дня разбухала папка с дополнительными материалами. С ужасом смотрел я на нее — предстояло заново начинать работу, которую считал сделанной…
1
Состояние дискомфортности усиливалось и за счет общего возбуждения, в котором пребывала в те дни Тотьма. Семьдесят пять лет исполнялось местному краеведческому музею. К юбилею решено было открыть еще два филиала — музей Николая Рубцова в Никольском и музей Федора Кускова — отважного морехода, основателя знаменитого форта Росс в Калифорнии… Открытие музея Федора Кускова неожиданно вылилось в международное мероприятие. Из американских университетов потянулись в Тотьму тамошние «кусковцы», подключилась и московская пресса. Когда же пронесся слух, что в мероприятиях примет участие и посол США Мэтлок, возбуждение достигло наивысшей точки. Городок начали скрести и красить, асфальтировать улицы, разгребались копившиеся десятилетиями свалки возле дивных тотем-ских соборов. Сразу тесно сделалось в тотемских гостиницах. На меня, успевшего еще до мэтлокского переполоха занять отдельный номер, вновь прибывшие смотрели с завистью, как на некую важную и ответственную птицу. Поскольку к тому времени я сумел перепачкать в асфальте — о, этот безбрежный тотемский ремонт! — брюки, то чувствовал себя под оценивающими взглядами завистливых журналистов не слишком уютно.
А тут еще поползли по Тотьме слухи, дескать, НЛО видели над Николой. Только и слышно было в очередях:
— Мэтлок едет… НЛО летало…
Сейчас вспоминать об этом смешно, но тогда и Мэтлок, и НЛО, и книга, которую надо заново писать, как-то начали сливаться воедино. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не инцидент, случившийся тогда в очереди за пивом.
Я пристроился к длинной очереди, над которой, перемешиваясь с жарой и запахом асфальта, витало:
— Мэтлок… НЛО… Мэтлок…
Тогда взорвался, не выдержав, мужичок в замызганной, наброшенной на голое тело фуфайке.
— Какое еще НЛО придумйли?! — заматерился вдруг он. — Пошли вы…
— Филя! — попытались урезонить его другие мужики. — Чего это нашло-то на тебя? Мэтлок едет, а ты так некультурно выражаешься…
— А а! — заматерился еще отчаяннее Филя. — Я этого Мэтлока, та-та-та, хотел… К нам Иван Грозный, говорят, приезжал, и то ничего, а вы, та-та-та, Мэтлока испугались…
Сказать, что, глядя на возмущающегося в очереди за пивом Филю, я вспомнил знаменитые рубцовские стихи:
было бы неверно. В наброшенной на голые плечи фуфайке тотемский Филя словно бы прямо из стихотворения Николая Михайловича Рубцова и явился.
Как ни странно, но встреча с тотемским Филей как-то сразу успокоила меня… Действительно, вот ведь невидаль — новый материал для книги появился. Вернувшись к себе в гостиницу, я раскрыл папку и принялся за работу. И вот уже через час стало ясно, что напрасны все мои страхи. Новый материал совершенно естественно вставлялся в уже написанную книгу. То, о чем писал я, размышляя над стихами Рубцова, обретало документальное подтверждение, наполнялось голосами людей, знавших поэта. И рассказываю я эти подробности не из желания поделиться своим опытом писания биографических книг, а чтобы подчеркнуть отличие «Путника на краю поля» от своих прочих работ. Скорее, я даже и не писал эту книгу, а лишь узнавал страницы ее, вчитываясь в стихи Рубцова, в воспоминания о нем, разговаривая с людьми, знавшими Рубцова, роясь в архивах, вглядываясь в пейзажи, знакомые мне по его стихам… Вся книга «Путник на краю поля» как бы существовала и без меня, и мне предстояло только собрать ее воедино…
2
Из Тотьмы я отправился в Николу, где до сих пор цело двухэтажное здание интерната, в котором вырос Николай Михайлович, где сохранились на берегу Толшмы развалины собора, возле которых любил сидеть он, где до сих пор живет Генриетта Михайловна Меньшикова, «женщина, у которой… — так представлял ее сам Рубцов знакомым, — живет моя дочь Лена».
Генриетта Михайловна — сверстница Рубцова. Знакомы они были еще в детдоме, куда Генриетта Михайловна попала, когда посадили ее мать. Детское знакомство позабылось, и снова Рубцов познакомился с Меньшиковой летом 1962 года, приехав в Николу.
Всю жизнь, почти безвыездно, провела Генриетта Михайловна в своем селе, где летом горели от зноя небеса, а осенью покрывались под звездным светом прозрачной ледяной пленкой забытые болота, где зимой заметало вьюгой дороги и в тяжелых сугробах тонули деревенские дома…
Никуда и не пыталась бежать Генриетта Михайловна от шепота ив у омутистой Толшмы, от жалобных криков болотных птиц, от здешнего оловянного неба… Исключение — несколько месяцев шестьдесят второго года, когда узнала Генриетта Михайловна, что беременна, и решила перебраться в Ленинград, поближе к отцу своего будущего ребенка. Она устроилась тогда почтальоном в Ораниенбауме, под Ленинградом, но Рубцов к тому времени уже поступил на дневное отделение института и уволился с Кировского завода, перебравшись в Москву. Генриетта Михайловна еще зимой шестьдесят второго года и вернулась в Николу. Здесь родида Лену. Здесь она ждала Рубцова. Здесь «в плоскокрышей» избушке ее матери провел Рубцов, быть может, самое трудное в его жизни и самое плодотворное в творчестве время — зиму 1964 года, когда его исключили из Литинститута.
Потом был полный разрыв, даже вражда, но ненадолго. Скоро отношения выровнялись. Отношения отца и матери одной дочери…
Пожалуй, ни одной из женщин не причинил Николай Михайлович Рубцов столько огорчений и неприятностей, как Генриетте Михайловне, и уж наверняка ни одна из женщин не ждала его так спокойно и терпеливо.
Иногда она приезжала в Вологду, иногда Рубцов приезжал в Николу. Отношения были очень ровными. Генриетта Михайловна уже ничего не требовала от Рубцова, ни о чем не просила. Просто ждала.
Когда Рубцова убили, она приехала на похороны, потом — по настоянию вологодских писателей — увезла в Николу его письменный стол. Несколько лет он стоял у нее в доме, затем, покрасив, Генриетта Михайловна передала его в музей.
Она вырастила свою дочку — Елену Николаевну Рубцову, уже после смерти Рубцова вышла замуж. У Генриетты Михайловны есть дети и от нового брака.
Договориться о встрече с Генриеттой Михайловной заранее я не смог и, побродив по Никольскому, отправился к ней домой.
Генриетта Михайловна только что вернулась с молокозавода, где она работала… От одежды резко пахло молоком, и этот запах поначалу очень мешал, путая весь разговор. А поговорить мне хотелось о Рубцове, о том, как создавались Рубцовым его прекрасные стихи в Николе, ну и, конечно, о взаимоотношениях с самой Генриеттой Михайловной. Этой темы я боялся больше всего… Все-таки очень уж деликатное дело — расспрашивать женщину о ее семейных взаимоотношениях с не расписанным с нею мужчиной. Впрочем, опасения, как оказалось, были напрасными.
Когда после витиеватого вступления я все-таки спросил, почему Генриетта Михайловна, подав осенью 1968 года на Рубцова в суд на алименты, уже к весне сама прекратила это дело, моя собеседница ничуть не смутилась.
— Почему? — переспросила она. — Что произошло? А ничего… Судья объяснила мне, что я пять рублей по алиментам получать буду… Такие у него тогда заработки были…
Разумеется, задавая вопрос, я и не рассчитывал услышать в ответ историю о романтической встрече и примирении, но и такой простоты тоже не ожидал. Как-то не вписывалось это объяснение в мои представления о Рубцове, о его взаимоотношениях с Николой и ее обитателями.
И, пытаясь усвоить открывшуюся мне простодушно-беспощадную истину, я упустил инициативу в разговоре. И к счастью, упустил. Потому что, не смущаемая моими книжными вопросами о судьбе и предназначении, Генриетта Михайловна начала просто рассказывать то, что я пришел сюда услышать.
— Да я и не хотела на алименты подавать… — говорила Генриетта Михайловна. — Мать подговорила. Ну а когда она узнала, сколько мы будем получать, тоже уже не говорила больше об алиментах.
Рассказала Генриетта Михайловна и о том, как осенью 1962 года приезжал Рубцов к ней на день рождения в Ораниенбаум, где она работала почтальоном: «Он в Москву уезжал, а у него даже на электричку до Ленинграда денег не было. Я и купила ему билет…»
— А он… Он знал уже тогда о Лене?
— Дак я и сказала ему тогда, что беременна… Он в Москву уехал учиться, а я тоже недолго жила в Ораниенбауме. Вернулась назад в Николу. Здесь и родила дочку. А он, он и на каникулы приезжал и потом всю зиму здесь жил…
Я торопливо записывал рассказы Генриетты Михайловны о ее жизни с Рубцовым, и в памяти все звучали и звучали слова рубцовской «Прощальной песни».
У этого рубцовского стихотворения нет и никогда не было посвящения. И вместе с тем адресат его более очевиден, чем в любом другом рубцовском стихотворении. Я уже писал, что не принято отождествлять героя лирического стихотворения с его автором, но лирического героя «Прощальной песни» и поэта Рубцова, кажется, не разделяет ничто. В этом стихотворении поражает не только магия горьковатой печали, но и почти очерковая точность нищенского Никольского быта. Читаешь стихотворение и видишь заплывшую грязью Никольскую улицу, видишь мать Генриетты Михайловны — пожилую женщину, ощущаешь ее безмерную усталость: «мать придет и уснет без улыбки». С беспощадной и совсем не лирической точностью вписаны здесь и все перипетии романа Генриетты Михайловны и Николая Михайловича. Целомудрие горькой правды и делает это стихотворение шедевром русской любовной лирики.
Я так и не решился спросить у Генриетты Михайловны, знает ли она о «Прощальной песне», связывает ли это стихотворение с собою… Но я слушал бесхитростный и беспощадно-точный рассказ о «семейной» жизни Николая Михайловича, и он очень точно соединялся с продолжающими звучать стихами.
Конечно, Николай Михайлович и Генриетта Михайловна не подходили для совместной семейной жизни. И Рубцов был жестоко точен не только в стихах. Это ведь не Мария Корякина придумала про «женщину, у которой растет моя дочь». Это сам Рубцов так и представил Генриетту Михайловну Астафьевым. Но смущала Рубцова не деревенскость Генриетты Михайловны, не ее неразвитость. В «Прощальной песне» претензии лирического героя к своей подруге сформулированы гораздо более глубоко:
Этого Генриетта Михайловна не знала, она действительно, как явствовало из ее рассказа, не слышала, не различала зловещего топота, раздающегося за спиной Рубцова. И не потому, что не хотела услышать, а потому, что не могла. И хотя, конечно, прискорбно это, но так было. Мистической окрашенности судьбы Рубцова не понимает Генриетта Михайловна и сейчас. И порою поражает даже, насколько она честна и искренна в своем непонимании. Никогда, ни раньше, ни теперь, она и не пыталась сделать вида, что понимает, не пыталась изобразить понимания. Подобная негибкость, разумеется, не самое приятное качество в спутнике жизни, но, с другой стороны, только так, не замечая их, и можно было бы одолеть страшные и темные силы, что преследовали поэта на его жизненном пути. И тут, конечно, не Генриетта Михайловна виновата, что Рубцов все равно не мог не замечать, не слышать «чудных голосов», льющихся из лесной гущи… Да и не хотел ведь Рубцов обрести спасительную глухоту.
Оставшееся до отъезда из Никольского тогда время я просидел на берегу Толшмы у развалин церкви, где некогда любил сидеть и Николай Михайлович Рубцов.
Часть церковного здания местные умельцы перестроили в пекарню. Две стены у этой церквопекарни церковные, две другие — бревенчатые. Рядом с церквопекарней на четырех колоннах — остатки церковного свода с проломленной прямо в оловянное небо дырой в куполе. На колоннах — так и не смывшиеся под дождями и непогодами за эти десятилетия лики…
Не знаю почему, но рядом с этими развалинами вспоминались не те стихи Рубцова, что писал он о разрушенных белых церквах, о лежащих под горой развалинах собора, а совсем другие, написанные им незадолго до смерти…
Эти стихи, наверное, о самом сложном. О смысле творчества, о назначении поэта в Божьем мире…
В античном мире считалось, что существует особая разновидность богов, называемых гениями. Гении опекали не только семьи, но и целые города, местности, страны. Жители Рима, к примеру, скрывали имя Гения своего города, чтобы жители других городов не переманили его к себе. Естественно, что у православного человека эти наивные языческие представления могут вызвать лишь улыбку. Тем не менее некую параллель мы наблюдаем и в самом православии. В православной традиции епархиальный архиерей «есть, как ангел для своей епархии. Ангелы посылаются за хотящих наследовати спасение, и он поставлен Духом Святым служить спасению целой епархии… через епархиального архиерея продолжается в епархии ток священнической благодати». Один знакомый священник рассказывал мне, что после кончины митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна как будто бы и воздух изменился в епархии, служить в церкви стало как-то иначе…
Советское внецерковное, усвоенное через культуру и язык «православие», подобно древнему язычеству, может быть, и ощущало присутствие «чудес на земле святой и древней», но увидеть их и узнать не могло, ибо помрачалось само зрение. И, наверное, в такие минуты помрачений действительно ощущал себя вскормленный на хлебах, выпеченных в церквопекарне, Рубцов неким, почти апокалипсическим подобием вечернего зверя.
3
Деревня… Пригород… Город… Это не просто определение местностей, в которых протекала жизнь Рубцова, это различные состояния его души. Перебираясь в город, он словно бы впитывал в себя энергию «Поезда»…
Быть может, если бы был Рубцов прозаиком или имел в городе семью, необузданная энергия, бушевавшая в нем, съедалась бы в постоянной работе, в житейских заботах. Но — увы! — энергия Рубцова оставалась невостребованной, и, замутненная, она прорывалась порою, материализуясь в фантомы пьяных выдумок.
Протрезвев, судя по воспоминаниям, Рубцов стихал, стыдился своего пьяного безобразия, становился нежен и ласков, легко просил извинения и получал его, был извиняем, отчасти по тому свойству русского характера, которое всегда позволяет сохранять надежду и мгновенно забывать о неприятностях, едва только замерцает свет надежды. По этому же свойству русского характера, раскаиваясь, Рубцов и сам прощал себя, понимая, что не согрешишь — не покаешься, догадываясь в глубине души, что и не было бы без погружения в черноту той жажды, той неутолимой тоски по небесному свету, что заполняет его стихи.
И с годами развивалось в Рубцове столь свойственное стремление русского человека все время снова и снова испытывать себя. Это свойство проявилось еще в юности, во время учебы в Тотемском лесотехникуме, когда, пробравшись в полуразрушенный храм, взбирался Рубцов на карниз и шел по нему на головокружительной высоте. В одном месте карниз был проломлен, и нужно было перепрыгивать через пролом. Рубцов прыгал. Но это мальчишечьи испытания. Теперь, будучи взрослым, он испытывал не столько свою смелость и ловкость, а саму душу. И, как положено в таких случаях, все ограничения и барьеры, отчасти под воздействием алкоголя, снимались.
Однажды Вадим Валерианович Кожинов встретил Рубцова в ЦДЛ. Случилось это в конце шестидесятых, когда Николай Михайлович уже вступил в Союз писателей и обзавелся писательским билетом. Поэтому его и пропустили в ЦДЛ, хотя одет он был весьма неподходяще. Истрепавшийся пиджачок, на ногах — опорки.
— Пошли! — схватив Кожинова за рукав, предложил Николай Михайлович. — Выпьем…
— Я не при деньгах… — попробовал было отвертеться от приглашения Кожинов.
— Я угощаю… — сказал Рубцов. — Гонорар получил за книжку.
По закону невезения все боковые столики в ресторане оказались заняты, и пришлось устраиваться посреди зала, на виду у всех.
Далее, в полном соответствии с цедээловскими обычаями, едва появилась на столике водка, начали подходить знакомые. Рубцов достаточно вежливо объяснял им, что ему необходимо побеседовать с Кожиновым, и это объяснение вполне удовлетворяло знакомых. Может быть, они и обижались, но виду не показывали. Обиделся только подошедший к столику подвыпивший кавказский поэт.
— Эх, Колька-Колька… — укоризненно сказал он. — А я тэбя столько раз угощал!
В принципе ничего страшного не произошло — обычный разговор подвыпивших людей. Рубцову достаточно было презрительно пожать плечами, усмехнуться… Вместо этого он обиделся. Обиделся всерьез. И, может, потому и обиделся, что в укоризне кавказца содержалась изрядная доля правды. Не раз ведь «угощался» Рубцов в ЦДЛ, и далеко не всегда при этом имелись у него деньги на выпивку… И вот вместо того, чтобы смягчить ситуацию или просто не расслышать укоризны, Рубцов — как это он часто делал! — сыграл на обострение.
— Ах! Так ты считаешь, что я тебе обязан теперь, если ты меня угощал?! — вскричал он и, выхватив из кармана пачку денег — Рубцов действительно получил в тот день расчет за свою «Звезду полей» в «Советском писателе», — швырнул ее в лицо кавказцу.
Деньги разлетелись, рассыпавшись по полу. Кавказский поэт бросился на Рубцова. Вскочившему Кожинову с помощью официанта с трудом удалось оттащить его от Рубцова.
Напомним, что разыгралась эта сцена посреди ресторанного зала и полюбоваться ею могли все. И понятно, что первым движением Кожинова было поскорее уйти, он сказал об этом Рубцову, но Рубцов запротестовал.
— Нам же еще за столик расплатиться надо… — проговорил он. — Как же мы так убежим, не расплатившись.
В этом месте повествования Вадим Валерианович всегда совершенно резонно замечал, что это был как раз тот редчайший случай, когда официанты только довольны были бы, что посетители ушли, не расплатившись, — вокруг столика была рассыпана весьма приличная сумма денег.
Тем не менее снова сели за столик. Выпили еще по рюмке водки. Из-за соседних столиков с нескрываемым интересом следили, ожидая дальнейшего развития событий. Альтернатива, как поясняет Кожинов, была. Можно было встать и уйти, оставив деньги разбросанными по полу. Так сказать, кавказский вариант сюжета. Можно было пойти и по другому пути — просто и деловито собрать деньги. Конечно, снижение драматургии ситуации с кавказских высот до грешного асфальта столицы вызвало бы снисходительные усмешки зрителей, но в конце концов дело-то житейское, именно так большинство зрителей и поступило бы…
Рубцов нашел третий путь… Вадим Валерианович вдруг увидел, как Рубцов начал медленно сползать со стула. Но не упал. Встал на четвереньки и так начал ползать вокруг стола, собирая разбросанные деньги. Брюки его задрались, и теперь уже все без исключения разглядели рубцовские опорки…
Со свойственным человеку, выросшему в интеллигентной московской семье, пониманием народного характера Вадим Валерианович Кожинов трактовал поступок Рубцова почти в традициях святоотеческой литературы. Дескать, после вспышки ярости Рубцов тут же и раскаялся и, раскаявшись, решил действовать, так сказать, смертью смерть поправ. Его хотели видеть униженным — и он унизился таким вот самым непотребным образом, в запредельной униженности обретая величие.
Разумеется, объяснить поведение Рубцова можно и не прибегая к святоотеческим реминисценциям. Достаточно вспомнить ужасающую нищету жизни Рубцова, чтобы понять, что сожалел он все-таки не о своем поступке, а о деньгах. Ведь не просто деньги рассыпались сейчас по полу, а месяцы и годы его жизни, его творчества… И понятным становится, какую обжигающую ненависть должен был испытывать Рубцов к завсегдатаям цедээлов-ского ресторана, по сути дела, спровоцировавшим его своим презрительным вниманием на необдуманный поступок.
И все равно… Какие бы объяснения ни придумывали мы, эти объяснения неспособны ничего объяснить в состоянии поэта, когда:
только одно и остается ему…
И — увы! — никакие изощренные объяснения не способны соединить этого Рубцова с автором «Прощальной песни». Они несоединимы, как полюса магнита, и опять же, как полюса магнита, не существуют друг без друга…
В испытаниях, которым подвергала его черная, врывающаяся в него в городе сила, Рубцова спасало только отношение к этому испытанию себя как к игре. Испытания эти каким-то удивительным образом не превращались в жизнь, и жизнь текла своим обычным порядком. Вернее, это Рубцову казалось, что жизнь продолжает течь своим обычным порядком, едва он прекращает игру в испытания. На самом деле Рубцов даже в состоянии опьянения мог прекратить злую игру, но он забывал, а возможно, и не мог вообразить, что окружающими его игра воспринята слишком всерьез и они уже не могут выйти из нее без ущерба для себя…
Наверное, так и было… И даже страшная ночь 18 января 1971 года тоже начиналась с игры в испытания. Как пишет Дербина, посреди ужаса и кошмара Рубцов словно очнулся и спокойно сказал: «Давай ложиться спать…»
Но тогда не сумела очнуться Дербина.
Или — не захотела очнуться…
Убийца
Я жалею сейчас, что не записывал в свое время циркулировавших по Ленинграду рассказов о гибели Рубцова. Поскольку тогда, в начале семидесятых, никакой информации по этому поводу не публиковалось, слухи обрастали самыми невероятными подробностями и превращались как бы в самостоятельный фольклорный жанр. И, как и положено в фольклоре, порою из рассказов исчезал сам Рубцов, оставался только рассказчик, только его представления о Рубцове. А представления эти были разными. Иногда восторженные, иногда скептические, порою же рассказчику так и не удавалось сдержать переполняющую его ненависть к Рубцову. Тогда эта ненависть удивляла меня. Ее невозможно было объяснить, каким бы неприятным и тяжелым в общении человеком ни был Рубцов для людей, столь горячо ненавидящих его и после гибели… Но с годами нашлась отгадка и этому. Эта ненависть к Рубцову не была ненавистью к конкретному человеку. Это была тяжелая и безысходная ненависть к самой его поэзии, сделавшейся голосом России, к самому голосу нашей столько лет остававшейся безгласной земли. Живой голос России, явленный в стихах Рубцова, мутил ненавистью сознание правоверных шестидесятников.
Разумеется, у Рубцова никогда не было недостатка в защитниках. В семидесятые годы в советской литературе окончательно сформировался особый жанр воспоминаний, где в лучших традициях житийной литературы рисовались образы ортодоксально-советских, благостно-русских современников. И биографы Рубцова, следуя этой традиции, зачастую сознательно обходили важные моменты рубцовской биографии, «забывали» не вмещающиеся в концепцию документы и свидетельства… Жизнь настоящего Рубцова в эти биографии тоже не вмещалась. И в результате работы эти не столько опровергали культивируемую в среде «прогрессивной» интеллигенции ненависть к Рубцову, сколько питали ее…
1
Я уже говорил, что никогда не встречался с Рубцовым, но, работая над книгой «Путник на краю поля», часто видел его в снах. И сны эти всегда начинались со смутного и тревожного ощущения предстоящей потери.
Во сне не нужно разговаривать. Во сне видишь чужие мысли, видишь пространство вечернего, затянутого дождевыми сумерками поля, видишь, как кого-то выносят из общежитской драки, спасают, выручают… Видишь и самого спасителя — человека с широким, уверенно-добрым лицом — такие лица бывают только у очень сильных, у безусловно уверенных в своей правоте людей, — лицом, которое от выпитого вина было еще шире и добрее. Этот человек добродушно улыбался и не обращал внимания, как судорожно дергается на его плече спасаемый им человек. Не замечает, убаюканный своей добротой, как больно и безжалостно бьет по лицу спасаемого им вьющийся сзади злою осой чернявый паренек. И ему, спасаемому, даже и отвернуться невозможно, и лицо не прикрыть, потому что руки зажаты рукою спасителя — человека с таким уверенно-добрым лицом. И только струйкой бежит из разбитого носа кровь, и я вижу это, но — так всегда бывает во сне! — не могу закричать, исчез голос, исчезает пространство, затянутое сыроватой полутьмой осеннего поля, в которой уже невозможно различить ни пути, ни самого себя. И только знобящим, сырым сквознячком доносятся в сон чьи-то слова, обрывки каких-то разговоров.
— Да для нас-то, братцы, и Россия не Россия ведь… Нам хорошо, вот и она, значит, хороша… А есть ведь и другая, братцы вы мои, Россия. Такая, что плакать хочется… Да-да! Выйти осенней ночью за село и заплакать, как волку завыть, братцы вы мои…
И какой-то неясный шум — то ли чавканье сырой земли под ногами, то ли бульканье разливаемой водки… А потом снова:
— Ну, вот… Ну, видишь… Выпил и хорошо… Все хорошо, все отлично, братцы вы мои, будет! А разволновались-то… Разволновались-то…
И снова возникает во сне Рубцов. Он идет рядом, но темно и неясно его лицо, и я не знаю, слышит ли он доносящиеся в сон голоса… А мне кажется, что я узнаю их. Узнаю голос такого сильного, такого доброго человека, широкое лицо которого, когда он выпивал, становилось только еще шире и добрее от выпитого… Сколько раз я сидел за одним столиком с ним и, слушая его, завидовал умению не стесняться, делать то, что считаешь нужным делать. И каждый раз, глядя на него, хотелось покаяться мне, что вот, дескать, ведь и добрые мы все и умные по-своему, но стесняемся говорить, потому что не принято так говорить, стесняемся и жить, потому что не принято так жить. И только украдкой как-то и вспоминаем себя, вспомним и спрячем подальше от чужих глаз… Да что чужих?! Сами от себя прячемся на всякий случай… И только в деревне да вот здесь, на краю поля, на краю жизни, и вспоминаем главное, что нужно было помнить всегда.
И уже непонятно во сне, чьи это голоса… Неразличимо лицо человека, с которым иду по темному осеннему полю. Просто знаешь, как это бывает во сне, что рядом — Рубцов. Знаешь, что, когда живешь, не слушая самого себя, можно пропустить, не заметить свою смерть. А смерть этого не прощает никому… Но даже во сне отчаянно страшно, когда убивают…
2
Дербина возникла тоже откуда-то из сонного кошмара. Я только что вернулся из Москвы, прилег отдохнуть, тут и зазвонил телефон.
— Это Людмила Дербина… — услышал я в трубке.
Тогда начали печатать в газетах мою повесть «Путник на краю поля», и опубликованные в «Литературном вестнике» отрывки и стали поводом для звонка. Еще не совсем проснувшись, я услышал, что мною искажена правда в описании убийства Рубцова и, кроме того, нарушено ее, Дербиной, авторское право.
Насчет второго пункта — вопрос щекотливый. Действительно, при описании убийства Рубцова я воспользовался переданной мне Глебом Горбовским машинописной копией воспоминаний убийцы. Для меня эти воспоминания были прежде всего свидетельскими показаниями, и как-то и мысли не возникало о нарушении авторского права при использовании в сцене убийства ее собственных мотивировок своего поведения. Кстати сказать, я до сих пор не могу решить для себя вопрос, распространяются ли нормы авторского права на свидетельские показания убийц о совершенном ими преступлении, можно ли к этим произведениям относиться как к обыкновенному литературному произведению, все права на которое принадлежат лишь их автору. Насколько известно мне, подобных прецедентов раньше не возникало…
Я так и ответил Дербиной. Дескать, если она считает, что нарушены ее авторские права, надо действительно, как она и грозит, обратиться в суд… По крайней мере, в ходе судебного разбирательства будет разрешена эта, отнюдь не очевидная, дилемма…
Еще я поинтересовался — это действительно чрезвычайно интересовало меня с профессиональной точки зрения, — в чем, по мнению Дербиной, ошибся я, описывая ее отношения с Рубцовым.
— Во всем… — услышал я ответ.
— Ну а конкретно… В чем именно?
— Вы читали мои стихи?
— Нет… — признался я. — Не удалось.
— Какое же вы имеете тогда право уничижительно писать о них? — возмутилась Дербина.
— Но, простите… — запротестовал я. — О ваших стихах я нигде не писал. У меня в повести всего одна фраза по этому поводу. Дескать, по слухам, она писала неплохие стихи… В чем же тут ложь? В чем уничижение ваших стихов?.. По-моему, как раз о стихах-то написано очень даже корректно и уважительно. Разве сказать, что стихотворение неплохое, — это оскорбление?
Ответ Дербиной ошеломил меня.
— По сравнению со мной Рубцов был в поэзии мальчишкой! — сказала она.
На этом и закончился наш телефонный разговор. Никаких последствий он, естественно, не имел. Карательные санкции Дербиной ограничились только руганью в мой адрес в предисловии, предваряющем публикацию ее воспоминаний в газете «Криминальный вестник».
Тем не менее стихи Дербиной я, конечно, отыскал и прочитал.
Странные чувства вызывает ее сборник «Крушина» (тот самый, что украшает нынче витрину в музее Рубцова в Николе). Откровенная пошлость: «Когда глаза мои шалят, намеренно волнуя плоть мужскую…», хитроватая расчетливость: «Какие бы характеристики вы ни давали мне, глумясь, все зеленей легенды листики, все удивительнее вязь. Судьбы из тайного и явного, где тень и свет переплелись, загадка монстра своенравного и роль изгоя удались…» — мешается в этом сборнике с действительно искренними и невеселыми прозрениями:
Порою Дербина самоупивается мрачным величием своего положения:
Порою начинает жаловаться, плакаться на свою горькую долюшку:
И тут неважно, конечно, что ни хлеба, ни крова никто не пытался лишить Дербину. Напротив… По сравнению с другими преступниками, совершившими, как и она, убийство, ее дела устроились очень даже неплохо. Освободившись по амнистии в Год женщины, Дербина сумела — а с ее статьей тогда это было очень непросто! — устроиться в Ленинграде. Причем не на тяжелой лимитной работе, а по прежней, библиотечной, специальности… Но, повторяю, это не так уж и важно. Поэтесса готова утешиться немногим, а немногое — категория, как известно, чрезвычайно субъективная. И тут уж лучше сразу заняться «насущным словом», право произнести которое и отстаивает она:
На первый взгляд кажется, что эта строфа повторяет, так сказать, перепевает содержание первой. Но если приглядеться внимательнее, то замечаешь, что движение происходит, и весьма существенное. Мотив покаяния как-то незаметно трансформируется в созерцание себя, кающейся. Ненавязчиво, но очень твердо и отчетливо подчеркнута и скромная красота души поэтессы — «души моей грустную скрипку», и мученический венец, сияние которого различает она над своей головой. И после этого совсем уж нетрудно перейти от покаяния к обличению. Нормальному человеку, разумеется, сделать это непросто, но если очень любишь себя, если даже мысль о себе, страдающей, разрывает душу, то отчего бы и нельзя?
Здесь очень важна последовательность состояний. Когда Дербина сравнивала себя с Агриппкой, речь шла вроде бы о том, что души ее грустную скрипку не затоптать все равно. И вот, пожалуйста, в целых двух строфах поэтесса изображает нам, как ее незатаптываемую душу все-таки затаптывают. И как бы — поэтесса, во всяком случае, ощущает это! — затоптать удается нехорошим людям. Отчего же иначе срываться на крик: «Зачем оставляете тело? Оно без души ни к чему!»? Противоречие очевидное, но для Дербиной, для последующего развития ее мысли совершенно необходимое. Противоречие это позволяет перейти к прямой антитезе своего греха:
и греха, совершаемого против нее:
С последним утверждением трудно не согласиться, но, прежде чем сделать это, отметим, что поэтические опыты Дербиной прямо-таки напичканы шулерскими приемами. Вот и тут… Даже если и допустить, что по свойственному Дербиной состраданию к самой себе она ощущает настороженность и нежелание общаться с нею людей как затаптывание своей души, то все равно ведь этот грех пока лишь совершаемый. Ее же грех — грех реальный и совершенный. А дальше — неуловимое движение рук, и вместо шестерки на столе оказывается туз! — исчезает куда-то и сослагательное наклонение, и весь стих заполняется уже ясным, зримым образом этакого нового Франкенштейна, в которого превратили поэтессу затоптавшие ее душу люди.
Душегубство — страшный грех. В православной России душегубами называли убийц, лишивших свои жертвы не только жизни, но и предсмертного причастия и тем самым поставивших души своих жертв в сложное положение — на Суд, против своей воли, они должны явиться нераскаянными. В остальных случаях слова «душа» и «гибель», как правило, сопрягались в православной традиции через местоимение «свой». Если чужую душу человеку погубить весьма затруднительно, то свою погубить очень легко.
Дербиной и это как бы неведомо. Личный опыт — она загубила чужую душу — Дербина распространяет на всех недостаточно доброжелательно относящихся к ней людей. Она называет их душегубами и искренне верит в это. И проливает слезы над собой, несчастной, душу которой пытаются загубить:
Страшно… Но еще страшнее, что это не вызывает раскаяния, а обращается в обвинения окружающих, в защиту самой себя. Финальные строки — как вспышка ярости, торжества:
Еще более, так сказать, документально антитеза себя, «невинной убийцы», и преступных обвинителей реализована Дербиной в стихотворении «Суд». Судья здесь «злобный маленький гномик», он тщится и не может ничего понять.
Портрет нарисован, что и говорить, не слишком лестный. Зато в автопортрете Дербина уже не пользуется шаржевой техникой, тут никакой карикатурности нет, все монументально, пронзительно лирично…
Автопортрет особенно выигрывает на фоне судьи, который «властью своей упиваясь, злорадно прочел приговор», на фоне «толпы», издающей «торжествующий вой». Избранная на автопортрете поза настолько комфортна для Дербиной — какой же, интересно, позор ощущала Дербина на суде, если легко обращала его в шаль, которой можно укрыться, в которой можно пригреться? — что она не замечает прорывающихся помимо ее воли ноток этакого блатного, слезливого сочувствия к самой себе.
Все здесь — только блатная поза. Совсем и не собирается Дербина замыкаться в горе, наружное смирение необходимо ей для другого, чтобы изготовиться к неожиданному прыжку на своих обидчиков:
Самооправдание полное и безоговорочное. Ну какие, спрашивается, могут быть предъявлены ей обвинения, если она — сама стихия, вершащая приговор высших сил?
Вообще, стремление противопоставить себя обществу, подчеркнуть свою неподвластную человеческим законам суть так или иначе прорывается и в других стихах Дербиной.
С упорством, переходящим в назойливость, снова и снова подчеркивает Дербина свою как бы и не совсем человеческую суть:
Или: «Я, рожденная в полночь…», или «В меня вторгся неведомый дух», «Мне лишь одно известно, что хитрый бес вошел в мое ребро».
Порою Дербина, как бы приглядываясь к себе, замечает в себе нечеловеческое:
порою — «Ладья, вперед! Хоть к Люциферу» — в порыве дерзкой удали стремится она вырваться в запредельное, но она всегда думает об этом, всегда соотносит себя с силами мрака, постоянно ощущает себя частью этих сил.
Разумеется, если бы за спиной Дербиной стояла другая судьба, ее признания можно было бы воспринимать с долей скепсиса, отнеся их на счет той столь характерной для небольших поэтов кокетливости, когда авторы готовы приписать себе какие угодно пороки, нацепить какие угодно демонические побрякушки, лишь бы оказаться замеченными в общей массе стихотворцев.
Но судьба Дербиной — не выдуманная судьба, тьма и мрак ее — настоящие. И спасительный скептицизм здесь уже не срабатывает. Читаешь ее стихи, и в какой-то момент становится действительно страшно. Происходит это, когда понимаешь вдруг, что это в общем-то и не совсем стики. Приемы художественной условности, отделяющие автора от героев и в результате позволяющие автору осмысливать их поступки и признания, в стихах Дербиной сведены к минимуму и порою совсем отсутствуют. Ее стихи — только лишь ритмически контролируемый поток самовыражения.
Нечто подобное испытал я, читая в Калужской прокуратуре дневники Николая Аверина, человека, совершившего в пасхальную ночь, 18 апреля 1993 года, убийство трех иноков в Оптиной пустыни. Он называл себя «братом Сатаны» и убийство совершил кинжалом с выгравированными на его лезвии тремя шестерками.
В дневнике, спокойно и последовательно, Николай Аверин повествовал, как постепенно, шаг за шагом, происходило совращение его, пока — это слова, записанные в дневнике, — он не превратился в человека, которого вселившемуся в него голосу легко вызвать в любой момент, «как по рации».
Как и от стихов Дербиной, от дневника Аверина тянуло чернотой преисподней, но, право же, еще страшнее было слышать звонкий, замирающий от восторга голосок молоденькой экскурсоводши, перечислявшей, сколькими видами восточных единоборств владел Аверин. Для этой экскурсоводши, как и для столпившихся у помоста звонницы, на котором белели свежие, вставленные вместо обагренных кровью иноков доски, экскурсантов, Аверин был, кажется, почти героем, примером, достойным подражания. Разумеется, ни сами туристы, ни восторженная экскурсоводша не были ни злодеями, ни сатанистами. Другое дело, что эти люди не научились различать свет и тьму, добро и зло… Другое дело, что замороченными душами этих людей Сатана смог бы так же легко завладеть, как и душой Аверина, и превратить этих людей в свое слепое орудие…
Последним словом убитого Авериным инока Трофима было «Спасите…».
— Спасите… — произнес он и, привстав, еще раз ударил в колокол, а потом упал навзничь уже бездыханный.
И думаешь: о ком и о чем было последнее слово убиенного инока? Ему ли, знающему, что умерший в светлую седьмицу не проходит воздушных мытарств, а восходит как безгрешный прямо к Богу, хлопотать о своем спасении? Ему ли, сподобившемуся мученического христианского венца в пресветлый праздник, хлопотать о спасении на земле? Так может, и не о себе самом были последние слова Трофима, а о нас, о спасении тех, кто может погибнуть и не спастись, кто готов по слепоте своей погибнуть и не спастись?
Наверное, это так. Мы все, наше общество оказались беззащитными перед той аморальностью и вседозволенностью, которую так долго культивировала идеология шестидесятничества и которая мощным потоком хлынула в нашу жизнь во времена перестройки. И тут только и остается повторить слова инока Трофима, просившего за всех нас: «Спасите!» Ибо в пасхальную ночь рассеянное в нашей жизни зло — та дьявольщина и сатанизм, к которым мы как бы уже и привыкли и в литературе и в жизни, — сгустилось до черноты, материализовалось в страшное сатанинское действо.
3
Я не пытаюсь провести параллель между Дербиной и Авериным. Дербина в своих стихах сама проводит параллель между убийством гениального русского поэта, сумевшего заговорить, заплакать слезами России, запеть ее голосом, зазвенеть ее эхом, и убийством трех оптинских иноков в пасхальную ночь.
пишет она. Я не знаю, может быть, эти стихи обращены и не к Рубцову, но даже если это и так, это ничего не меняет. Все творчество Дербиной — вот оно посрамление неумеренной гордыни! — только материал к его биографии, смерть Рубцова выжжена на всем, что бы ни делала она, и даже если и хотелось Дербиной кому-то другому адресовать свои стихи, все равно они получаются о Рубцове.
Спутать карты и жизненной и посмертной судьбы Рубцова Дербиной, разумеется, не удалось и никогда не удастся, потому что не на цыганкиных картах раскладывалась судьба величайшего русского поэта… Но насчет стремления спутать судьбу Дербина права. Стремление было.
Поскольку речь у нас дальше пойдет о том, что в полуатеистическом обществе принято именовать мистикой, мы будем строго придерживаться фактов.
20 апреля 1963 года родилась Лена, дочка Рубцова и Генриетты Михайловны Меньшиковой. Лену Николай Михайлович всегда любил, никогда не забывал, всегда желал ей только счастья. «Желаю тебе вырасти хорошей и счастливой», — написал он на книжке Василия Белова, подаренной дочери на день рождения. Лена для Николая Михайловича всегда была светлым лучиком в многотрудной жизни. Лену ожидал Николай Михайлович и на свой последний Новый год. Но тогда Генриетта Михайловна не смогла привезти дочь — замело метелью дороги, и не удалось выбраться из Николы. Так и осталась ненаряженной приготовленная для дочери елка. А спустя две недели Рубцова убили.
Так вот, со своей убийцей Рубцов познакомился в 1963 году, тоже спустя примерно две недели после рождения Лены.
И еще две даты. В начале июня 1969 года Николай Михайлович Рубцов после долгих мытарств, после десятилетий бездомности и неустроенности наконец-то получил свою квартирку. Однокомнатную «хрущобу» на улице Яшина, в которой вскоре и убьют его. Как пишет Вячеслав Белков, «семья пока не складывалась, но в ближайшие месяцы вполне могла бы сложиться». Это, разумеется, только предположение, хотя есть и свидетельства, что какие-то мысли насчет того, чтобы устроить свою совместную жизнь с Леной, а значит, и с Генриеттой Михайловной, у Рубцова были. Впрочем, если они и были, сбыться им было не суждено. Ровно через две недели в квартиру Рубцова позвонила его будущая убийца.
Разумеется, это только совпадения. Разумеется, сама Дербина и не догадывалась о них. Но как зловеще схожа с отлаженным часовым механизмом точность этих случайных совпадений.
И еще одно совпадение… Людмила Дербина, так сказать, явилась в нашей культуре в знаменитом шестидесятническом фильме, где она — юная, порывистая — выскакивала на сцену Политехнического музея и произносила запальчивый монолог в защиту тогдашних эстрадных кумиров советской поэзии. В игровом фильме она, единственная, была не актрисой. Олицетворяла по замыслу режиссера, так сказать, неразрывную связь идеологии шестидесятничества с молодым поколением… Как это ни странно, но одновременно с «дебютом» Дербиной в шестидесятнической культуре в стихах Рубцова впервые появляются мотивы преследования, поэт начинает различать в лесной глубине зловещее пение, именно тогда раздается в его стихах злой, настигающий топот.
При всей странности случайностью это совпадение не назовешь. Светлая, подлинно русская поэзия Рубцова в самом прямом смысле противостояла сатанинской идеологии шестидесятничества. Русофобия всегда антиправославна. Задавить, заглушить живой голос России — самая главная задача шестидесятничества. И в этом смысле убийство Рубцова можно считать, конечно же, спланированным. Другое дело, что планировал его не какой-то хитроумный масон и тем более не сама Дербина, а тот темный сатанинский дух, что подчинял себе и титулованных хрущевских гонителей русской культуры и православия, и эстрадных поэтов, и молоденькую, потянувшуюся к московским болотным огням девчушку.
Последний наш костер
Утро 19 января 1971 года так и не наступило для Николая Михайловича Рубцова. Еще ночью Людмила Дербина задушила его. Страшно смотреть на фотографию Рубцова, сделанную судмедэкспертом в то утро. Рубцов лежит в наброшенном на голые плечи пиджаке, голова свернута набок, на беззащитной шее — глубокие раны, словно Рубцова рвал когтями какой-то страшный зверь.
1
Рубцовский праздник в Вологде отмечали с размахом. Пригласили гостей и из Москвы, и из Питера, и из Мурманска… Отслужили панихиду на могиле Рубцова, открыли мемориальную доску на доме, где он жил. Вершиной же праздника должно было стать открытие мемориального музея в Никольском. Отправились туда на трех автобусах, но в Тотьме, пока осматривали Тотемский музей, пока заезжали в Спасо-Суморинский монастырь, пока обедали, конечно, подзадержались и в Никольское приехали уже в сумерках…
С музеями Николаю Михайловичу, как и с квартирами, не везло. Идея такого музея витает уже лет двадцать, и в Никольском тоже уже дважды открывали рубцовский музей, но Ничего не получилось, нам предстояло открыть музей в третий раз.
Денег на этот раз на музей не пожалели. Сделали его в таком абстрактно-урбанистическом стиле — обилие стеклянных объемов, увеличенные в размер стен фотографии, хитро раскрашенные потолки, эффектная подсветка. В таком интерьере с успехом можно было бы разместить выставку промышленных товаров, но судьба поэта — увы! — не развертывалась по музейным модулям. Не хватало простоты Рубцова, задушевности… Ну и, конечно, доконала последняя витрина. В стеклянном параллелепипеде на невысокой площадке лежали три «Крушины» Людмилы Дербиной и кусок колючей проволоки. Такой вот незамысловатый, но весьма многозначительный и эмоционально нагруженный финал в экспозиции… С эмоциональностью никакой промашки не вышло. Витрина оставляла незабываемое впечатление. Забегая вперед, скажу, что и во время застолья впечатления от этой витрины не угасли, и между тостами за устроителей музея, за представителей местной власти то тут, то там за огромным, выстроенным буквой «П» столом вспыхивали инициативы: дескать, надо бы вернуться в музей, вынести из витрины книжки Дербиной и… Далее мнения инициативщиков расходились. Одни предлагали выносом книг и ограничиться, другие настаивали на сожжении их. Глава местной администрации благожелательно выслушивал мнения и тех и других, а затем терпеливо разъяснял, что нынче другое время, нынче плюрализм мнений, как известно, демократия и свобода, и если это было в жизни Рубцова, то скрывать не нужно.
Я в этой дискуссии участия не принимал, пил обманчиво-легонькую клюквенную водку и наблюдал, как напротив меня окучивает местный вологодский писатель молоденькую поклонницу Рубцова… Самое страшное заключалось в том; что, если бы даже и вынесли книги убийцы поэта из музея, это ничего уже не меняло. Надругательство над его памятью уже совершилось… И не только здесь, в Никольском. К юбилею Рубцова появилась статья в журнале «Столица», где гениальный русский поэт назван «Смердяковым русской поэзии», вышел полнометражный документальный фильм Василия Ермакова «Замысел», в котором на протяжении часа убийца рассказывает о своей возвышенной душе и о том, почему она не могла не убить Рубцова. А писатель Николай Шипилов, например, напечатал в «Литературной России» статью: дескать, нехорошо вмешиваться в отношения двоих, дескать, самому Рубцову это бы не понравилось.
Насчет вмешательства в отношения двоих Николай Шипилов явно что-то напутал по своей рыцарской простоте. Ведь есть отношения мужчины и женщины, а есть и отношения убийцы и убитого. Если бы Рубцов остался жив, никто бы и не обсуждал, что произошло в ночь на 19 января 1971 года в однокомнатной «хрущобе» на улице Яшина. Тогда сам Рубцов и принял бы решение… Но — увы — он мертв, а умерший тем и отличается от живого, что все земное, бренное оставляет нам, живым. И что он думает там, нам неведомо. Известно только, что категории «осуждения» и «прощения» там целиком находятся в компетенции воли Господней. Поэтому бессмысленна сама постановка вопроса о прощении в сослагательном наклонении. И нам, живущим, тоже нет нужды в лукавом мудрствовании. Смертные грехи не искупаются без покаяния.
Я уже говорил, что по-настоящему значение поэзии Рубцова начало осознаваться только после его смерти. Многие лучшие его стихи были опубликованы только в семидесятые годы. Рубцов был мёртв, а поэзия его продолжала расти и набирать силу. И что-то зловещее есть в стремлении Дербиной и иже с нею совершить второе убийство Рубцова…
Разумеется, попытки эти заведомо безрезультатные. То, что осталось нам от Рубцова, неубиваемо, бессмертно… И ни откровенный сатанизм авторов журнала «Столица» или самой Дербиной, ни помрачение — бес попутал, — овладевшее главой сельской администрации, запутавшимся в своем понимании плюрализма мнений, или хорошим русским прозаиком Николаем Шипиловым, конечно же, не стоили бы и упоминания, если бы дело касалось только Рубцова… В страшные годы национального помрачения было сказано — именем Пушкина будем узнавать друг друга… Мы, живущие в эпоху еще более страшного, может быть, помрачения, к сожалению, не можем сказать, что именем Рубцова будем узнавать друг друга. И вина тут не Рубцова, а нас самих…
2
С рассказом о Никольском застолье я, конечно, забежал вперед. Хотя мы и приехали в Николу уже затемно, хотя и нужно было этой же ночью вернуться в Вологду, наш полководец Виктор Коротаев целеустремленно вел свое, теряющее по пути отдельных бойцов — кое-кто сразу на выезде из Тотьмы залег в проходе в автобусах и уже не вставал — войско сквозь все испытания. Нас, приехавших в Николу на трех «Икарусах», оказалось значительно больше, чем местных жителей, и клуб оказался переполненным. В зрительный зал было не войти, и весь вечер я просидел в фойе рядом с Василием Оботуровым, автором единственной монографии о Рубцове.
— Выступать не будете? — спросил Василий Александрович.
Я пожал плечами. У каждого из приехавших с нами было что рассказать о Рубцове, и если бы мы начали рассказывать, вечер не завершился бы и на рассвете.
Мы посмеялись с Василием Александровичем над этим обстоятельством, потом он подарил выпущенные в Вологде книжки молодых вологодских прозаиков и поэтов, поговорили об этих книжках, сходили покурить на улицу, постояли на крылечке клуба, рассматривая темное небо, украшенное ярко горящими крещенскими звездами…
И тут-то и раздался собачий вой. Но несся он не из темноты, поглотившей деревенские улицы, а из освещенного здания клуба. Выла собака, пробравшаяся, чтобы погреться, в зрительный зал;
И пока искали спрятавшуюся нарушительницу порядка, как-то так получилось, что вспомнили мы с Василием Александровичем Оботуровым стихотворение Рубцова «Нагрянули» и, не сговариваясь, почти что хором прочитали первые строчки:
Не знаю, что думал, вспоминая эти стихи, Василий Александрович, а у меня стихотворение это очень точно связалось с нынешней ситуацией, словно бы Николай Михайлович Рубцов и ее тоже имел в виду, когда писал «Нагрянули».
Что и говорить, стихотворение, как и все в поэзии Рубцова, удивительное. Оно начинается словно бы в сонных сумерках подсознания человека, разбуженного ночным лаем собак. Если вспомнить, что невидимая езда, смутные, доносящиеся из лесной чащобы или из темноты поля голоса в рубцовской поэзии не обязательно предвестники реальной встречи, а чаще всего — сигнал опасности при сближении с враждебными силами, то становится понятной закрадывающаяся при чтении этих стихов тревога. И этой подсознательной тревогой, вопреки логике непосредственного дневного переживания встречи, и объясняется столь странная при встрече с друзьями недружелюбность: «Не было… и вот нагрянули. Не было… так получай».
Но и в уже вырвавшемся из сонных видений сознании все еще сохраняется настороженная тревога, и хотя и ясно уже, что это не потусторонние силы обрушились на тебя, а твои друзья, но их вторжение пока еще воспринимается как вторжение инородного, ненужного, пока не произойдет нового привыкания, пока не пойдет все по знакомому и привычному кругу нашей русской жизни, чтобы в который уже раз:
И за кого, как не за нас, неведомо зачем в общем-то приехавших в зимних сумерках в далекое село, заступается Рубцов в своих стихах, приискивая свои, рубцовские объяснения нежданному визиту:
Чрезвычайно характерно, что поэт не перед домашними своими за причиненное беспокойство, не перед людьми, а перед полем извиняется за ненужность своих друзей здесь, под «гаснущими ивами», за разлад, что возникает с их появлением в мире, за нарушение сосредоточенного и ясного покоя природы…
Ну а дальше все и пошло так, словно мы в стихотворении Рубцова и оказались. Из клуба радушные хозяева повели нас ужинать.
Было уже совсем темно. Только ярко горели над Николой звезды, да посверкивал синими искорками чистый снег. Морозец усиливался, и, торопливо шагая в темноте, я так и не разобрал, куда нас привели: то ли в столовую, то ли еще куда…
Здесь и случилась еще одна встреча. В группе Никольских женщин увидел я Генриетту Михайловну Меньшикову. Подошел, поздоровался, напомнил о нашей встрече пять лет назад, потом рассказал, что в издательстве, где переиздается сейчас «Путник на краю поля», решили включить в книгу и стихи Рубцова. Лене, как наследнице, тоже начислили гонорар по этой книге и попросили меня отвезти его в Питер. И так получилось, что привез я деньги, как раз когда Лена родила третью внучку Николая Михайловича. Такое вот совпадение получилось.
— Ишь ты… — одобрительно проговорила Генриетта Михайловна. — Получается, что он как бы внучке своей и послал подарок.
— Да… — сказал я. — Как раз к рождению внучки и подгадали эти деньги.
Вокруг нас толпились люди, разговор наш с Генриеттой Михайловной был самый простой, никаким дополнительным смыслом свои реплики мы не нагружали, но по разговору получалось, что Николай Михайлович продолжает следить за жизнью своей дочери, словно и не отмечали мы нынче печального четвертьвекового юбилея.
— Да… — сочувственно вздохнула спутница Генриетты Михайловны. — Любил он Ленку-то… — И, посмотрев на распахнувшиеся в зал двери, в которые устремился народ, потянула Генриетту Михайловну: — Пошли, Гета…
— Да не знаю я… — смущенно ответила Генриетта Михайловна. — Гости там будут… Удобно ли?
И мне захотелось сказать, что кому же еще положено сидеть за празднично-поминальным столом, если не ей, но замешкался, в общем движение разделило нас, и так и остались эти слова несказанными, а снова я увидел Генриетту Михайловну уже в зале, когда не к чему было говорить их…
3
Ну а застолье удалось на славу. Говорили положенные в таких случаях тосты, потом разгорелась дискуссия по поводу книжек Дербиной в музее, потом, перекрикивая всех, поднялся из-за «непрезидиумного» конца, стола поэт Петр Камчатый и звучно прочитал свое стихотворение, порядок окончательно нарушился, стало шумней и вольней, в общем, как писал Рубцов, «праздник расходился», и вот уже заиграла в фойе гармошка, азартно затопали пустившиеся в пляс. И конечно, еще пили, и говорили, и читали стихи, и тотемский мэр громогласно успокаивал народ, дескать, не надо торопиться, если кто и отстанет от автобусов, то не страшно — в тотемской гостинице и обогреют и приютят бесплатно… Тем не менее все-таки погрузились в автобусы и двинулись в путь, правда, проехали совсем немного, остановились в поле… Оказывается, было без пяти минут двенадцать и нужно было встречать старый Новый год.
И снова пили, снова водили хороводы, увязая в глубоком снегу, снова провозглашали тосты, и горел костер, и темные тени метались возле него, и летели искры в черное звездное небо…
И кто-то засомневался было, хорошо ли так уж гулять, все-таки двадцать пять лет со дня смерти, но тут сразу:
— Не умер Рубцов… Сегодня же только тринадцатое января… Не умер…
А потом снова расселись по автобусам и снова двинулись в путь. И уже не пройти было по автобусу, еще больше прибавилось в проходе павших бойцов, а за окном бежали в темноте покрытые снегом поля с редкими, затерявшимися в темноте огоньками. Поля сменялись чернеющими лесами, потом снова вырывался автобус в поля… И сквозь хмель все еще звучали в памяти некончающиеся стихи:
И сквозь дремоту как-то рассеянно думалось, что последние строки, построенные на очень точном описании вспыхивающего и затихающего по мере продвижения машины по деревенской улице собачьего лая, снова возвращают читателя в зыбкую полуреальность, из которой и возникло стихотворение. И что было — реальные люди приезжали в гости или просто возникло и пропало окутанное сонной дымкой видение — уже не разобрать, не вспомнить… Растворенность в пейзаже, абсолютное ощущение природы столь разлиты в поэзии Рубцова, что порою и герой их становится подобным озеру или полю в наползающих на него сумерках, и если бы могло чувствовать поле или озеро, то такими и были бы ощущения — то ли тень облака промелькнула в воде, то ли ночная птица пролетела, по-прежнему дрожит в лунном свете вода, и не разобрать ничего в этом дрожании. Заглядевшись на лунный свет на воде, сияющий из стихов Рубцова, и задремал я в нашем притихшем автобусе…
На следующее утро в гостинице, когда вспоминали мы эту поездку, меня уверяли, что никакого- костра не было, никто не разводил его… Ну как же не было, если отчетливо помню я и красноватые отсветы огня на снегу, и искры, улетающие в темное звездное небо… Что же это было, если не костер?
ОТЕЛЬ «СЕВЕРНАЯ КОРОНА»
Последние часы митрополита Иоанна
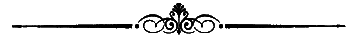
2 ноября 1995 года в гостинице «Северная корона» на Карповке должна была состояться презентация по случаю пятилетней годовщины банка «Санкт-Петербург»…
Пять лет, конечно, не юбилей. Но, с другой стороны, последняя пятилетка — целая эпоха. Распалась великая держава, разрушена мощнейшая экономика, нищета вошла в русские дома, страна стремительно вымирает. Но это опять-таки — с одной стороны. А с другой — скоплены гигантские состояния, совершены головокружительные карьеры… Новым хозяевам жизни было что вспомнить, подводя итоги минувшего пятилетия, было за что поднять бокалы.
И, наверное, собираясь на предстоящий банкет, и вспоминали, и подытоживали… Но, конечно, никто и предположить не мог, что сегодняшнему «сходняку» суждено будет перейти из разряда событий частной жизни в исторические, черной страницей войти в историю всей Россий…
Ничто, ничто не предвещало такой опасности. Только переменчивая питерская погода резко ухудшилась к вечеру. Грязными тучами затянуло после обеда небо, сразу стемнело, густо повалил снег.
В этом снегу и вязли пробирающиеся к «Северной короне» иномарки.
1
В ночь на 2 ноября в келье митрополита Санкт-Петербургского и ладожского владыки Иоанна долго не гас свет.
Уходящий день, по церковному календарю — 19 октября, день памяти святого мученика У ара, день перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского, тезоименитства святого Иоанна Кронштадтского, день прославления новомучеников российских, для владыки выдался хлопотным, беспокойным. Накануне по неизвестной причине — ее так и не удалось выяснить — начисто выгорел свечной цех возле семинарии на Обводном канале. Епархия осталась без своих свечей. Еще — пришло приглашение на презентацию пятилетней годовщины банка «Санкт-Петербург». Нужно было решать — ехать туда или нет. Первый порыв — отказаться от приглашения — вступал в противоречие с доводами рассудка. На презентации будут богатые люди, в помощи которых после разорительного пожара епархия остро нуждалась. Кроме того, до владыки дошли слухи, что на презентации появится и мэр Собчак.
Уже два года, после осени девяносто третьего, владыка не мог встретиться с ним. Встреча же была необходима. Два года не решался, казалось бы, решенный вопрос о возвращении Александро-Невской лавры православной церкви.
Последняя ночь владыки Иоанна в нашем мире… Никому не ведомо, что думал, что чувствовал он в эти часы. Дневник, последнюю запись в котором митрополит сделал утром, скрыт. Впрочем, возможно, и не записал владыка в дневнике о предчувствиях, томивших его. Известно только, что в эту ночь он долго не мог заснуть, возможно, читал — владыка сам обмолвился домочадцам — принесенную из типографии книгу Александра Руцкого «Кровавая осень». И без риска ошибиться можно предположить, как, отвлекаясь от описания кровавой бойни, устроенной нынешними правителями в Москве, снова и снова думал владыка о предстоящей встрече с Собчаком.
Все близко знавшие митрополита Иоанна свидетельствуют, что он был мягок и добр. Не считаясь со своим высоким саном, охотно вникал в заботы нуждающихся людей, оказывал им духовную, а порою и материальную поддержку. Он был исключительно скромен в быту. Носил заштопанную старенькую рясу, постоянно ограничивал себя в питании. Свою пенсию владыка так ни разу и не держал в руках. Когда назначили ее, выписал доверенность и поручил раздавать деньги нуждающимся. Личных врагов у владыки не было, но он всегда любил вспоминать завет святителя Филарета:
Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божьими…
Еще он часто повторял слова святого отца Иоанна Кронштадтского:
Помни, что Отечество земное с его церковью есть преддверие Отечества небесного.
С врагами Отечества и врагами Божьими владыка никогда не искал компромиссов. Твердо, как не подлежащий обжалованию приговор, звучал тогда его мягкий голос:
Законы Божеские — законы милосердия и сострадания, любви, красоты и истины — отвергнуты и попраны… Государственная власть с откровенным цинизмом попирает уже и законы человеческие, ею же самой созданные…
Да… Этот мягкий и нетребовательный в быту человек умел быть и твердым, и решительным. Он никогда не заискивал перед власть предержащими. Так было, когда он возглавлял Самарскую епархию, но все тогдашние нелады с властями не шли ни в какое сравнение с тем, что началось в Санкт-Петербурге, когда мэром избрали Собчака.
Совершенно изуверские формы приняли при Собчаке гонения на Русскую Православную Церковь. Открыто противодействовать возрождению православия Собчак не решался, но он сделал все, чтобы вытеснить православие из города при помощи различных сект, со всех концов света хлынувших в наш город. Заезжие проповедники получали лучшие концертные залы, им отдавалось эфирное время. Санкт-Петербург становился столицей сектантов всех мастей.
Особое предпочтение, однако, отдавалось секте «Свидетелей Иеговы». Собчак выступал с приветствием на конгрессе этой секты. Это и понятно. Идеология «Свидетелей Иеговы», в сущности, была идентична идеологии межрегиональной группы.
Вот как говорил об этой секте сам покойный владыка Иоанн:
Спекулируя на естественном стремлении человека посильно облегчить свой тесный и скорбный земной путь ко спасению, иеговисты извратили христианское учение о спасении души, обещая своим последователям «рай на земле», построенный по образцу современного западного «общества потребления». Более того, в этом земном раю иеговисты, «ограниченное количество лиц», избранных якобы Самим Богом, «будут господствовать над неограниченным числом лиц, живущих на земле».
«Свидетели Иеговы» утверждают, что все человечество будто бы делится на два неравных лагеря — последователей секты… и всех остальных людей, «войско дьявола». Они утверждают, что скоро придет время, когда Иегова открыто объявит войну сатане. В результате этой войны все существующие государства погибнут (в том числе и Россия), а на их месте будет воздвигнуто единое всемирное государство, во главе которого встанет общее для всех «божественное» сверхправительство.
Как же, спрашивается, мог не приветствовать известный своими взглядами мэр Собчак этот конгресс? И как же мог не возвысить свой голос против антиправославной, человеконенавистнической идеологии митрополит Иоанн?
Вой и визг поднялись тогда в нашей «демократической» прессе. Митрополита Иоанна травили, как, должно быть, не травили никого из православных архиереев со времен Троцкого и Зиновьева, тоже мечтавших, подобно нынешним межрегионалам и иеговистам, о мировом правительстве, о господстве «избранного» народа над остальным человечеством.
«В посланиях петербургского владыки полыхают отблески средневековых костров», — писал 8 сентября 1992 года «Вечерний Петербург». «Еретики и жиды не дают покоя «смиренному» Иоанну Петербургскому и Ладожскому, — вторил газете в марте 1993 года журнал «Новое время». — Веронетерпимость и антисемитизм связаны в его статьях и выступлениях неразрывными узами…»
Еще до публикации в «Новом времени» 23 февраля первый съезд Конгресса еврейских организаций и общин заявил о своем намерении обратиться к Патриарху с требованием «принять неотложные меры в связи с публикациями митрополита Иоанна».
Нет нужды множить перечень грязных и подлых обвинений. Приемы известные… Собчаковщина только изображает интеллигентность и культурность, чтобы прикрыть свою жадную вороватость, свою обжигающую ненависть к тем, кто разглядел и узнал ее. Собчаковщина антикультурна, антиинтеллигентна по самой своей человеконенавистнической сути.
Забегая вперед, скажем, что сейчас, когда страна начала стряхивать с себя Собчаков, совершенно очевидно становится, что нашествие их было попущено, чтобы могли мы увидеть всю неприглядную суть вырядившегося демократами «избранного» народа. И не только увидеть, но и осознать, что «всем, кто любит Россию, пора прекратить поиски какой-то «современной русской идеологии», искусственное конструирование идеологических и мировоззренческих систем для русского народа… Русская идея существует в неизменной своей нравственной высоте и притягательности; она пережила века, смуты, войны, революции и «перестройки» и не нуждается в замене или поправках, так как в основе ее лежит абсолютная праведность Закона Божия и Его святых заповедей».
Однако вернемся в ноябрьскую ночь девяносто пятого года, в келью, где долго не мог заснуть томимый недобрыми предчувствиями владыка.
Келья была обставлена очень незатейливо. Простенький письменный стол, за которым обычно и работал владыка, не любивший своего официального кабинета. Книжные полки… Старомодная никелированная кровать, привезенная владыкой из Самары и принадлежавшая еще митрополиту Мануилу… Иконостас. Над кроватью — портрет Иоанна Кронштадтского…
Владыка часто молился ночами в своей келье. В эту ночь владыка молился особенно долго. Нам неизвестно, какие молитвы читал он, но, может быть, в день тезоименитства святого припомнились ему слова из молитвенного воззвания Иоанна Кронштадтского:
Может быть, вспоминалось владыке и описание страданий мученика Уара, память которого праздновалась в минувший день…
Уар же, которого начали уже мучить, сказал святым мученикам:
— Святые страстотерпцы! Благословите меня, раба вашего, чтобы я сподобился вашей участи. Помолитесь за меня Владыке Христу, чтобы Он подал мне терпение, ибо Он ведает нашу природу, что дух наш бодр, плоть же немощна.
Святые, возведя очи свои на небо, усердно молились за него.
— Мужайся, Уаре… — взывали они. — И будь тверд, ибо Христос стоит пред тобою, невидимо тебя укрепляя.
Уар отвечал:
— Воистину я ощутил помощь моего Владыки, ибо считаю муки за ничто.
Мучители тогда стали строгать тело Уара железными ножами и скребками, а потом, прибив гвоздями к дереву вниз головой, содрали со спины кожу, а по чреву били суковатой палкой, пока оно не расторглось и все внутренности не выпали на землю. Святые мученики, увидев это, заплакали, и тогда наместник торжествующе закричал:
— Вот вы побеждены! Вы плачете, боясь мучений.
Святые же отвечали:
— Зверь ты, а не человек! Мы не побеждены, а напротив, сами побеждаем при помощи укрепляющего нас Иисуса. Если же мы заплакали, то не потому, что боимся мучений, но от любви к нашему брату, которого ты бесчеловечно мучаешь. В душе же мы радуемся, видя, что доброму страстотерпцу уже уготован венец.
Наместник тогда повелел увести их в темницу, а Уар, увидев это, вскричал:
— Учители мои! Помолитесь за меня в последний раз Христу, ибо я уже разлучаюсь от тела, вас же благодарю за то, что вы привели меня к вечной жизни…
Может быть, и эти страшные страницы из житий вспоминал владыка в ту ночь. Долго не гас свет в окошке митрополичьей кельи, долго молился владыка…
2
Личный врач митрополита Иоанна, Валентина Сергеевна Дюнина, увидела в эту ночь сон. Приснилась Анастасия из Самары, которая давно уже была больна… Показывая на составленные рядом и покрытые ковром столы, подобно смертному одру, она спросила:
— Знаешь ли ты, Валя, что это такое?
— Знаю… — ответила Валентина Сергеевна.
— А знаешь, как хорошо лежать на этом?
За завтраком Валентина Сергеевна рассказала про свой сон владыке, который тоже хорошо знал болящую Анастасию.
— Может, там случилось что? — спросила Валентина Сергеевна.
— На все воля Божья… — утешил ее владыка. — А о смерти всегда должно помнить.
Днем Валентина Сергеевна все-таки позвонила в Самару. Но с Анастасией, слава Богу, все пока было хорошо.
Владыка же с утра попросил приготовить ему ванну. Помылся. Переоделся в чистое. Как солдаты или моряки перед последним боем…
Когда пришло время делать процедуры — владыку мучили трофические язвы на ногах — и Валентина Сергеевна Дюнина вошла в его келью, митрополит Иоанн, лежа в постели, писал дневник. В последние годы из-за язв владыка часто работал лежа. Для этого была сделана специальная подставочка, которая ставилась на постель. Обычно владыка продолжал заниматься своей работой и во время процедур. На этот раз он прервался.
— Пришла дочка — ставим точку… — улыбнувшись, сказал он и отложил тетрадь…
Вся жизнь Валентины Сергеевны Дюниной связана с владыкой Иоанном. Впервые она увидела его будучи четырехлетней девочкой. Увидела в церкви и запомнила. Когда потом ее спрашивали: кем хочешь стать? — отвечала: «Батюшкой».
— Что ты говоришь?! — пугалась мать. — Ни девочки, ни женщины батюшками не могут быть.
— Как же не могут?! У нас в церкви девушка батюшкой служит!
Ошибка ребенка неудивительна. Молодой иеромонах Иоанн, как можно судить по фотографиям, в те далекие годы и впрямь походил на девушку — длинные рассыпающиеся по плечам кудри, чистое лицо.
Потом отец Иоанн уехал учиться в Ленинградскую духовную академию, и новая встреча произошла как бы по ошибке.
Отец Иоанн попросил тогда Анну Нестеровну разыскать «Евгению с чадами», а Анна Нестеровна подумала, что речь идет о матери Валентины Сергеевны и привела ее.
«Отец Иоанн внимательно посмотрел на маму и сказал: «Не та. Но, наверное, так Богу угодно». Мне тогда было одиннадцать лет, но он разговаривал со мной как со взрослой и сразу взял под свое руководство. С тех пор сорок лет минуло…»
В рассказах Валентины Сергеевны о своем духовном отце есть та теплота, которая позволяет сказать значительно больше, чем самые объемистые исследования.
Когда Валентина Сергеевна закончила школу и приехала в Самару посоветоваться, кем — врачом или учителем — стать, владыка Мануил — Валентина Сергеевна и вопрос не успела задать — благословил поступать в медицинский институт.
— Он-то… — кивнул митрополит на проходившего невдалеке отца Иоанна, — больной-больной будет…
Так и случилось. Господь оделил владыку Иоанна многочисленными хворями, и очень скоро ему потребовался постоянный медицинский присмотр.
Впрочем, отношения врача и священника — это не отношения доктора и его пациента, тут не всегда понятно, кто кого излечивает.
— Многих спасала молитва владыки Иоанна… — рассказывает Валентина Сергеевна. — Он и меня излечил, хоть я и врач. Я тогда сильно заболела. Доктора определили бронхоэктазы и постановили немедленно удалить часть легкого. Я, конечно, скорее к владыке: соглашаться ли на операцию? А он говорит: «Нет, не надо. Возьми-ка лучше отпуск, посиди дома. Матушка будет томить овес, а другого ничего не ешь» — и перекрестил мне легкое. Я так и сделала. И вот вижу я сон: будто служит наш владыка с двумя архиереями; в центре стоит красивый, высокий архиерей в белой одежде. К нему-то обращается мой духовный отец и просит: «Владыка святый, помоги ты ей!» — и как бы подтягивает меня к алтарю… Мне еще во сне легче стало, а потом все лучше, лучше — и я совсем выздоровела, так что медики и поверить в такой исход не могли.
Прежде чем вернуться в последний день жизни владыки Иоанна, послушаем еще один рассказ Валентины Сергеевны:
«Как-то раз владыка благословил меня купить пять саженцев яблонь для нашей дачи. Я поехала со своим родственником на рынок, а там — изобилие! Один сорт лучше другого. Выбрала я пять деревец, а дядя Сеня меня уговаривает: «Купи еще, смотри, красота какая, не пожалеешь!» Мялась я, мялась, но все-таки поддалась на уговоры, купила и шестое. Посадили мы саженцы. Прижились они хорошо, в рост пошли, листики выпустили… А тут и владыке пришло время приезжать. И вдруг шестая яблонька возьми да и засохни, да так, что коричневая вся стала, страшная… Матушка меня уговаривает: «Выкопай ее, владыка приедет — осерчает!» Но у меня были свои соображения. «Нет уж, — думаю, — сначала покаюсь…»
Приехал владыка и тут же — к засохшему деревцу: «Это что такое?!» Ну, я ему все как есть рассказала: «Теперь, владыко, я ее выкопаю…» А он мне: «Запиши-ка лучше в свою тетрадочку, что значит не слушаться духовного отца! А яблоньку эту не тронь, только каждый день поливай», — и перекрестил деревце. И что бы вы думали? Отошла наша яблонька… Вот и в этом году она вся-вся усыпанная яблоками» стояла. А мы с тех пор так ее и зовем — «яблоня непослушания».
— Пришла дочка — ставим точку… — пошутил митрополит Иоанн, когда утром 2 января вошла в его келью Валентина Сергеевна. Улыбнулся и отложил тетрадь, завершая этой улыбкой писательский труд всей своей жизни.
Безусловно, митрополит Иоанн — один из крупнейших церковных писателей двадцатого века. Как отмечал Константин Душенов, митрополит соединил собою «современную Россию с ее многовековой исторической и религиозной традицией». После долгих лет немоты церкви мы услышали, как может говорить пастырь о любви к Богу, Отечеству и Народу. «Митрополит Иоанн сумел сформулировать целостную, подробную и исторически обоснованную идеологию русского национально-религиозного возрождения».
Принципы, сформулированные митрополитом Иоанном, предельно просты.
1. Необходимость рассмотрения русской истории как истории духа. Это предельно важно сейчас, когда происходит возрождение русского самосознания во всей его религиозной и исторической полноте.
2. Национально-историческая самоидентификация. Помним ли мы, знаем ли мы, что означает быть русскими?
3. Соборность как единственно возможная в России основа государственности.
4. Патриотизм — религиозный долг каждого православного христианина.
5. Православие как русская идеология.
Особой новизны в сформулированных принципах нет, но тут принципиально важно, кем и когда сказаны они.
Архиерей второй по величине епархии Русской Православной Церкви сказал:
Мы, народ русский, православный народ, народ Божий, и многие наши беды — личные, мелкие — суть лишь следствия одной великой всенародной беды: безудержного разгула в России безбожия и сатанизма. И все мы будто чужие друг другу люди. Каждый сам за себя, каждый сам по себе. И в молитве, и в жизни…
Рискну утверждать, что, если бы не наступило в нашем городе разгульного торжества собчаковщины, может быть, и не было бы публицистики митрополита Иоанна. Может быть, совсем в других формах реализовался бы данный ему Богом дар… И в этом еще одно свидетельство, Что собчаковщина была попущена нам. Ибо собчаковщина существовала и в минувшие десятилетия. Иногда притихала, иногда набирала силу, но не исчезала. И то, что мы не замечали ее, делало собчаковщину особенно опасной. Попущено было, чтобы она сумела проявиться, показать себя во всей своей неприглядности. Чтобы все увидели и узнали ее и теперь уже навсегда отшатнулись. Чтобы, прозрев, увидели и осознали бы сами себя, чтобы окончательно уразумели, что, кроме православия и России, нет и не может быть другой судьбы у нас, что нам и не надо никакой другой судьбы.
Об этом не уставал повторять и митрополит Иоанн…
«Русь соборная» — очерки христианской государственности. «Самодержавие духа» — очерки русского самосознания. «Стояние в вере» — исследование истории церковных расколов, сборники проповедей и поучений «Голос вечности» и публицистических статей «Одоление смуты». Эти работы, составившие объемистый пятитомник, в основном были написаны митрополитом Иоанном за последние пять лет в Санкт-Петербурге. Даже если бы владыка занимался лишь литературной работой, и тогда творческая активность его вызывала бы уважение. Но писательский труд совместился по времени с огромной организационной работой, которую вел митрополит Иоанн в Санкт-Петербургской епархии, и остается только удивляться громадности совершенного им. И вот владыка дописал все книги, все статьи, которые предполагал дописать, сказал все, что должен был сказать своей пастве. Огромный, удивительно цельный по своему духу и мыслям труд был завершен, и настало время поставить в нем точку.
— Пришла дочка — ставим точку… — пошутил владыка, когда вошла в его келью Валентина Сергеевна Дюнина. Улыбнулся и отложил тетрадь, в которой вел свой дневник.
3
Шло 2 ноября. По церковному счету — 20 октября, день памяти праведного Артемия, Веркольского чудотворца, преставившегося четыреста пятьдесят лет назад.
Как сказано в Житии: «Односельчане Артемия не поняли, по своему неразумию, сего посещения Божия и сочли, по суеверию, неожиданную кончину блаженного отрока праведным судом Божиим, наказующим Артемия за какие-либо тайные грехи его. Тело блаженного Артемия, как умершего от внезапной смерти, осталось неотпетым и непогребенным; его положили на пустом месте в сосновом лесу, поверх земли, прикрыли хворостом и берестою и огородили деревянной изгородью…»
Там и пролежало тело тридцать два года, пока собиравший грибы местный дьячок, заметивший чудесное сияние между деревьями, не наткнулся на нетленные мощи праведного Артемия.
Когда их перенесли в церковь, начали происходить многочисленные исцеления.
«Вышняго повелением тученосным облаком помрачившим, и молниям блистающим, грому же восшумевшу с прещенем, испустил еси твою в руце Господеви, премудре Артемие, и ныне предстоиши Престолу Владыки всех, о иже верою и любовию приходящим к раце твоей, подая исцеление всем неотложно, и моляся Христу Богу, спастися душам нашим».
Начиная с мая 1990 года, когда владыка Иоацн принял Ленинградскую митрополию, каждый день его был загружен хозяйственной и организационной работой. Не стал исключением и последний день жизни владыки. На три часа дня 2 ноября было назначено епархиальное совещание. В резиденцию митрополита съезжались настоятели Санкт-Петербургских храмов.
Как известно, вначале отношение в владыке Иоанну было настороженным…
— Люди ведь как себе представляют «правильного» архиерея? — рассуждает иеромонах Пахомий, келейник владыки Иоанна. — Сильным, властным! А тут приехал в столичный город какой-то немощный старичок, с простоватым добродушным лицом — какой из него архиерей?.. Но мало-помалу отношение к владыке менялось, теплело. У него ведь было огромное сердце, огромная в нем любовь, которая вмещала всех, в том числе и гонителей. А настоящая любовь всегда сильнее зла…
Да и властью владыка обладал. Власть ведь разная бывает. Земную мы все хорошо знаем, а небесную порой и мудрый не различит. На митрополите Иоанне почивала власть не от мира сего, поэтому его часто и воспринимали за наивного простачка. Поначалу попадался на эту удочку и я. Бывало, начнет владыка о чем-то говорить, мне кажется это наивным, я и встряну: «Да как же такое может быть? Это же не так!» — а когда он начнет растолковывать, то такая в нем глубина знаний открывается, что становится стыдно самого себя, своей самонадеянности.
О том, каким великим внутренним спокойствием и столь же великой внутренней доброжелательностью к людям обладал покойный владыка, знают все встречавшиеся с ним. И эти свойства души и характера помогали митрополиту Иоанну в его воистину великих, неохватываемых глазом свершениях.
За пять лет и три месяца, которые управлял он епархией, возобновлено пять мужских монастырей — Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, Коневский Рождество-Богородичный, Зеленецкий Свято-Троицкий, Большой Тихвинский Успенский и Свято-Троицкая Сергиева пустынь в Стрельне. Незадолго до кончины владыка благословил возобновление Свято-Троицкого Александро-Свирского монастыря. Стал действующим Введено-Оятский монастырь, учреждены еще две женские монашеские общины: Свято-Введенская Корнилиево-Паданская и Свято-Покровская Тервеническая.
Число действующих храмов в епархии увеличилось более чем в три раза. Возобновились богослужения в Казанском, Андреевском, Троице-Измайловском, Петергофско-Петропавловском и Царскосельском Федоровском соборах, в старинных церквах святых праведных Симеона и Анны, святого Пантелеймона, Благовещенской, Спасо-Конюшенной, храмах Богоявления Господня и Вознесения Христова и т. д. и т. д. Открылись храмы во многих районных городах, не имевших раньше ни одной действующей церкви, открывались церкви при больницах и тюрьмах. Многие церкви строились заново… В среднем каждый год при митрополите Иоанне открывалось или строилось около двадцати храмов.
С именем владыки Иоанна связано чудесное обретение мощей преподобного Серафима Саровского и святителя Иоасафа Белгородского.
Увы… Сразу после кончины владыки его заслуги в этой области были не то чтобы ревизованы, но, так сказать, «переписаны» на других. Тем более что желающих Приписать себе эти заслуги хватало. В ходе кампании 1996 года по выборам губернатора обслуживающие Собчака газеты неоднократно подчеркивали, что «за пять лет правления Анатолия Собчака в городе восстановлен 91 храм, 15 часовен, 9 архитектурных комплексов. Все они переданы церкви». А новый, назначенный на место покойного владыки митрополит Владимир, агитируя верующих голосовать на выборах за Собчака, всячески превозносил его заслуги в возвращении храмов и неоднократно подчеркивал, что «Анатолий Александрович Собчак способствует распространению идей православия… возвращает в Санкт-Петербург исконные традиции русского народа».
Не след мирянину поправлять митрополита, но, право же, тут помощники митрополита Владимира ввели его в заблуждение.
Храмы в Санкт-Петербурге возвращались Русской Православной Церкви не благодаря Собчаку, а вопреки его противодействию.
Свидетельство этому почти трехлетняя задержка с передачей церкви основных зданий Александро-Невской лавры… О причинах этого промедления и собирался говорить владыка с Собчаком в последний день, ради этого разговора и поехал в «Северную корону»…
Завершая совещание с настоятелями храмов, митрополит Иоанн благословил всех и попросил молиться о нем…
И как тут было не вспомнить последних слов священномученика Уара: «Помолитесь за меня в последний раз Христу, ибо я уже разлучаюсь от тела…»
Протоиереи вспоминали потом, что было ощущение, будто владыка навсегда прощается с ними…
4
Близко знавшие митрополита Иоанна люди утверждают, что он был истовым молитвенником.
— Молился благочестиво, — вспоминает его бывший келейник, настоятель Воскресенского храма иеромонах Пахомий. — И после каждого правила столь же благоговейно прикладывался к святыням, которых в его святом уголке было множество: и частицы мощей, и кусочки облачений угодников Божиих, и святыни из Иерусалима… Это был какой-то особый процесс, который всегда проходил как таинство…
Знал ли владыка о силе своих молитв? Думаю, что нет. Во всяком случае, когда мы говорили о благодатных исцелениях, вразумлениях, предсказаниях — митрополит изумлялся: и как это Господь совершает чудеса по молитвам избранников Своих?! Если люди благодарили его за молитвенную помощь — тоже удивлялся… Но, наверное, такое незнание и есть признак духовности, святости. Ведь в житиях святых мы видим примеры того, как угодники Божии, творя чудеса, даже не догадывались об этом. Так, один старец, уйдя в затвор, решил никого более из мира не принимать. Но одна женщина, сильно скорбевшая о кончине своего ребенка, все же решилась прийти к его келье и, увидев, что она не заперта, подложила туда труп младенца. Дверь при этом скрипнула, и затворник, не оглядываясь, гневно произнес: «Я же сказал, что более никого не принимаю! Кто там лежит? Выйди вон!» И ребенок встал и вышел, а старец продолжил молитву…
Молился и владыка Иоанн перед тем, как отправиться туда, куда так не хотелось ему ехать. Домочадцы вспоминают, что вскоре после совещания, простившись с настоятелями, владыка снова почувствовал беспокойство. Резко поднялось давление.
Валентина Сергеевна Дюнина попросила, чтобы владыка взял и ее, но владыка отказался. Настаивать Валентина Сергеевна не стала.
— Благословите меня… — попросил владыка у вышедших проводить его к машине домочадцев. И склонил голову. Просьба была столь неожиданной, что все растерялись.
— Господь вам подскажет, владыка, — проговорила Валентина Сергеевна, — подскажет, что сказать, а что смолчать…
Владыка кивнул и сел в белую «Волгу». Вместе с ним в машину сел и послушник Петр. Протоиерей Павел Красноцветов, главный бухгалтер епархии Наталья Александровна Кулик и юрист епархиального управления Лидия Павловна Богданова ехали в «Северную корону» отдельно.
Густо шел снег…
Без десяти минут восемь белая «Волга» митрополита остановилась у «Северной короны». Послушник Петр посоветовал не снимать зимнюю рясу, но владыка оставил ее в машине. Опираясь на посох, шагнул к распахнувшейся перед ним двери отеля — последней двери, сквозь которую суждено было ему пройти в этой жизни…
Жизни ему оставалось чуть больше часа…
5
Гостиницу «Северная корона» начинали строить сербы, но достраивала уже турецкая фирма. Прямой связи у этого строительства с ходом войны мирового сообщества против свободолюбивой православной Сербии нет, но строительство затянулось, и приспособить гостиницу к питерскому климату пока не успели. В холле, где уже собирались приглашенные на банкет, гуляли сквозняки. Было холодно.
Владыка, оставивший зимнюю рясу в машине, замерз…
Через несколько минут приехали и женщины. Владыка начал расспрашивать Наталью Александровну, как решается вопрос предоставления налоговых льгот для Церкви, посетовал, что проблема эта не находит понимания у чиновников, спросил Наталью Александровну о здоровье ее больной матери. Но видно было, что владыку томят какие-то нехорошие предчувствия… Очень неуютно было, холодно и тревожно. И не только владыке, но и остальным.
— Мы здесь совсем чужие… — сказал, глядя на собравшихся банкиров, протоиерей Павел Красноцветов.
— Все демократическое общество здесь… — откликнулись ему.
Отвлекся от разговора о налогах и владыка.
— Слово-то какое — демократия… Начинается с демо… — сказал он, потом, помолчав, добавил: — Бели у власти будут такие, как Собчак, России будет совсем плохо. Эти люди с двойным дном.
Он произнес эти слова вслух, но как бы обращаясь к самому себе. В последние убегающие минуты жизни повторил мысль, которую неоднократно высказывал в последние годы.
Церковь не может… делать вид, что не замечает того шабаша, который устроили на Руси христоненавистники, растлители и сатанисты разных мастей.
Эти мысли митрополит Иоанн высказывал публично, открыто. Ценою за право высказывать их и была та пустота, что окружала сейчас владыку в наполняющемся людьми холле «Северной короны». Все сторонились человека, осмелившегося сказать правду про них…
Эта пустота, этот вакуум очень важны для понимания того, как чувствовал себя владыка. Конечно, среди банкиров были люди, сочувствующие владыке, но словно бы невидимая стена ограждала его от остальных гостей. И уже ясно становилось, насколько беспочвенны надежды решить нынче насущные для епархии вопросы. Он же сам писал в своих книгах:
Люди с черной душой стремятся избегнуть обличительного света Истины Христовой и церковной благодати. Зло вообще не терпит правды и всегда пытается унизить и оклеветать ее.
О клевете на владыку мы уже говорили. О том, как злобно и мелочно унижали его, вынуждая появляться на подобных «сходняках», мы видим сами. Подобно бедному и назойливому просителю, митрополита томили в каком-то непонятном ожидании в неуютном, продутом сквозняками холле «Северной короны». Ждали прибытия Собчака. Собчак задерживался.
В начале девятого — Собчака все еще не было — официанты принялись разносить соки. Владыка благословил желающих выпить. Самому владыке стакан принесли отдельно. Он отпил глоток и отставил стакан. Сок был ледяным.
Теперь уже все увидели, как замерз владыка. И снова келейник Петр предложил принести из машины зимнюю рясу, но снова владыка отказался.
— У вас не найдется какого-нибудь теплого помещения, где можно посидеть?.. — спросила у пробегавшего мимо администратора Наталья Александровна.
— Да-да… — на ходу ответил тот. — Вот туда пройдите, пожалуйста… По ступенькам вверх.
Но дойти до указанного предбанничка не успели. Когда двинулись к ступенькам лестницы, в холле наступила тишина и стало как будто еще холоднее. В вестибюле гостиницы появился Собчак. Со своей женой, Людмилой Нарусовой, он шел навстречу владыке.
Так уже бывало в русской истории… В трагедийной безысходности сопрягаются воедино противоположности. Вспомните «исповедника правды» святого митрополита Филиппа Колычева и кровавого палача Малюту Скуратова, явившегося к опальному владыке, чтобы получить благословение на казнь Новгорода. Тогда в келье Отроч-Тверского монастыря Малюта задушил непокорного митрополита. Нравы были простые и грубые.
Сейчас, ощерившись своей некогда знаменитой, демократической улыбкой, приобретшей, однако, в последние годы сходство с оскалом, Собчак протянул руку митрополиту.
— Как чувствуете себя? — спросил он.
Холод еще больше усилился. Владыка чувствовал только эту вползающую в него со всех сторон стужу…
Внимательно смотрел он на стоящего перед ним улыбающегося Собчака. Как всегда, тот был развязен и самоуверен.
Аппетит, как известно, приходит во время еды. Безвестный, не блещущий особыми талантами преподаватель университета, мечтавший о карьере в КПСС, за годы перестройки сделал головокружительное восхождение, но ему и сейчас мало было законных почестей, должностей, денег. С каким-то местечковым упорством благоустраивал он, пользуясь своим положением, собственных родственников. Супруга — героиня многочисленных разоблачительных репортажей невзоровской программы «600 секунд» — пристраивалась теперь в депутаты Государственной думы по партийным спискам объединения «Наш дом — Россия».
— Благословите, владыка… — попросила, прерывая затянувшуюся паузу, кандидатка в депутаты.
Митрополит поежился от сковывающего его холода и поднял руку для благословения…
Стоявшие рядом с митрополитом Иоанном спутники вспоминали потом, что, когда владыка поднял руку, возникло такое ощущение, словно он увидел что-то неожиданное. Он смотрел не на Нарусову, не на Собчака, а куда-то сквозь эту чету. Глаза его были широко открыты, и в них застыл ужас.
Нет нужды гадать, что мог увидеть митрополит…
Пальцы его, сжимавшие митрополичий посох, разжались. Владыка, подхваченный сзади келейником Петром, медленно начал оседать на пол. Митрополичий посох успела подхватить Наталья Александровна, не дала ему упасть.
Чета Собчаков, взвизгнув, отскочила от умирающего владыки…
Наверное, только нашим, не до конца изжитым в себе атеизмом можно объяснить извечное удивление: почему тот или другой человек умер так, а не как-то иначе… Да потому, что смерть человеческого тела не является смертью души. Душа продолжает жить, уходя в жизнь вечную. Таким образом, и смерть — это то, к чему человек идет, забывая порою, куда он идет на самом деле. И как бы искусно ни притворялся человек, в момент своей смерти он все равно неизбежно становится тем, кем. был на самом деле, потому что невозможно притвориться, вступая в жизнь вечную…
Митрополит Иоанн никогда не притворялся, не кривил душой, открыто клеймил врагов Православия и России. Но он был еще и одним из крупнейших иерархов Церкви и освободиться от бремени административных забот не мог. Все время ему приходилось смирять себя, находясь в обществе людей, с которыми ему было тяжело. Не благословить просящую благословения супругу Собчака владыка не мог. Но не смог и благословить.
Конечно… Что такое благословение для человека, не ведающего страха Божия. Как мы знаем из нашей истории, и неблагословенный святым митрополитом Филиппом состоялся поход Иоанна Грозного на Новгород. И казнь тоже состоялась. И жестоко пытали безвинных новгородцев, и, привязав к саням, десятками топили в Волхове.
И для сотен тысяч ограбленных, отброшенных в беспросветную нищету петербуржцев ничего не изменилось в жизни, когда так и не благословил чету Собчаков митрополит. Не появились лекарства, не прибавилось еды…
Да… С точки зрения сиюминутной, практической пользы никакого значения совершенные двумя митрополитами поступки, разделенные столетиями, не имели, хотя и оплачены были немыслимо высокой ценой. Но есть ведь и другой отсчет. И о другой пользе, служащей спасению души, тоже не следует забывать…
Ну а главное, митрополит Филипп Колычев и не был бы «исповедником правды», если бы благословил карательный поход на Новгород. И митрополит Иоанн тоже не был бы тем, кого узнала и кому поверила Православная Россия, если бы спокойно и бестрепетно благословлял всех врагов Отечества и Православия.
Человека определяет не то, что человек может. Человек может очень многое. И самый отъявленный негодяй способен искренне любить детей или хотя бы собак. Способность человека совершать иногда благородные поступки тоже не говорит ни о чем. В человеке принципиально важно то, чего он не может. Не может убить. Не может предать. Не может украсть. Не может ненавидеть. Собчак, к примеру, был и членом КПСС, и ярым антикоммунистом. Он произносил приветствие «Свидетелям Иеговы» и беседовал с новым митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожсцим о сошествии Святага Духа в день очередных выборов губернатора… Но это не меняло его сути, все время он оставался все тем же Собчаком, каким и был…
У митрополита Иоанна совсем другая жизнь. Он вспоминал про случай, что произошел, когда ему было всего шестнадцать лет. Тогда, на танцплощадке, словно бы пелена спала с глаз. Вернее, не спала, а свернулась: справа — налево. И будущий архиерей увидел вдруг очищенным взором не веселящихся людей, а их настоящих хозяев — кривляющихся бесов, от которых исходил леденящий душу холод. Юноша бежал с танцплощадки. Бежал ко Христу… Ко Христу отошел он и сейчас, спасаясь от надвинувшейся на него леденящей стужи…
6
Буквально через несколько дней после похорон митрополита Иоанна Сергей Астахов встретился с домочадцами владыки и буквально по минутам расписал последние дни жизни митрополита.
Было двадцать часов тридцать минут, когда владыка упал в холле «Северной короны». Далее хронология начинает путаться. Путаница психологически вполне объяснимая. Произошедшее было настолько неожиданным, что не могло не вызвать смятения. Кто-то хлопотал, чтобы вызвать «скорую помощь», чтобы сообщить в резиденцию. Кто-то уже сделал это по телефону. Собчак сказал, что «скорая» уже вызвана по его каналам.
«Скорая» прибыла через пятнадцать минут. В Санкт-Петербурге некоторые шутники с мрачноватым юмором называют такие «скорые» машинами смерти. В этой, вызванной по спецканалам Собчака «скорой», не оказалось необходимых лекарств. Врачи сделали то, что могли сделать. Уложили владыку и подключили электрокардиограф. Валентина Сергеевна Дюнина, приехавшая из резиденции на Каменном острове, успела увидеть на экране последние всплески кардиограммы. Сердце митрополита Иоанна остановилось. Протоиерей Павел Красноцветов читал отходную.
Специализированная «скорая помощь» прибыла только через сорок минут.
— Готов! — посмотрев на владыку, сказал врач с той «скорой».
Это, так сказать, основная канва события. Собирая материалы для этого очерка, я пытался найти и свидетельства того, как реагировали, как вели себя другие приглашенные на презентацию лица. К сожалению, тут и начинается путаница. Одни свидетели утверждают, что Собчак растворился, «аки дым». Другие говорят, что он участвовал в вызове по своим каналам «скорой помощи», прибывшей в «Северную корону» без лекарств и необходимого оборудования. Столь же разноречивы и свидетельства о том, состоялся все-таки банкет или нет. Некоторым очевидцам казалось, что, когда умирал владыка, из банкетного зала доносились резкие голоса, топот, словно там пировала нечистая сила… Другие утверждают, что никакого банкета не было. Еще когда только начал оседать на пол владыка, все приглашенные на презентацию словно бы «размазались по стенам».
Противоречия, повторю, понятные, легко объяснимые. Близкие митрополиту люди были слишком поглощены нежданной бедой, чтобы реагировать на что-то другое. Вообще, эта смерть в «Северной короне» из-за недомолвок, из-за стремления Собчака замять этот — выражение чиновника мэрии! — «инцидент» породила в городе немало слухов. Мне, например, приходилось слышать версии, что якобы и в стакан с соком, поданный владыке, было что-то подмешано и что машина без лекарств была Собчаком послана специально… Лично мне эти предположения не представляются убедительными, хотя я тоже считаю, что митрополит Иоанн был убит. Только убил его не какой-то конкретный злоумышленник, а та система, которую за годы своего мэрства сумел построить Собчак. Это ведь его «заслуга», что в городских больницах не хватает самых необходимых лекарств. Это его достижение, что из года в год ужимаются штаты «Скорой помощи». Все эти годы деньги из городского бюджета растрачивались в ущерб городскому здравоохранению, образованию, культуре, общественному транспорту на помпезные «мэроприятия», которые и нужны были только для того, чтобы Анатолий Александрович мог себя показать на них.
Владыка Иоанн, несомненно, был убит, но убит точно так же, как сотни тысяч петербуржцев, к которым не приехала вовремя «скорая помощь», которые не смогли купить себе нужных лекарств, необходимого питания. Убиты не потому, что они кому-то мешали, а потому, что они были не нужны нелюдям, взявшимся за управление городом.
Он, митрополит Иоанн, и умирал точно так же, как умирали тысячи и тысячи безвестных петербуржцев. Умирал, как нищий, посреди роскошного холла «Северной короны». И над ним так же равнодушно и устало звучал голос: «Готов…»
7
Ушел из нашего мира великий праведник и молитвенник митрополит Иоанн. Выкраивая время среди своих многотрудных забот, снова и снова взывал он к нам:
Люди, люди!.. Несчастные, заблудшие, возлюбленные соотечественники мои… Одумайтесь, исправьтесь, взгляните здраво — на что вы тратите свои силы, ради чего истощаете таланты?..
Богатство? Власть? Почет? Что из этого вечно, что сможете вы взять с собой, когда, окончив земной путь, предстанете пред Высшим Судией человеческих поступков, слов и помыслов, Всеведущим обличителем наших тончайших сердечных движений?
Вспомни, народ русский, страшное в своей непреложности обетование Господа: «В чем застану, в том и сужу!» В чем же ныне застанет нас посещение Божие? В междоусобицах и политических распрях?., В беспощадной борьбе за посты, чины и деньги — борьбе на развалинах великой державы, нами же преданной и проданной. Державы, созидавшейся из века в век трудами и потом многих поколений наших пращуров, а ныне — в одночасье разрушенной, растерзанной во имя удовлетворения мелких и гадких страстишек… Плачет сердце, глядя на растерзанное, одурманенное Отечество, полнится жалостью и скорбью душа…
Снова и снова пытался объяснить, втолковать митрополит Иоанн нам, еще только пытающимся очнуться от атеистического сна согражданам, что происходит, куда пытаются увлечь нас лжеучителя и лукавые проповедники. Ну а то, чему он не успел научить в своих статьях, беседах, книгах, он научил нас, объяснил нам своей кончиной.
Нет! Смерть не конец жизни… И не потому ли, и не помня, что ждет всех нас в конце земного пути, и все-таки помня, так внимаем мы рассказам о последних минутах любого человека. И не зная, мы все-таки знаем, что эти минуты — самые главные для любого из нас…
И не потому ли так, всегда врасплох, застает нас смерть самых близких людей. Всегда — это сумятица, горькая печаль, бестолковщина, связанная с похоронами…
8
К ночи снегопад утих… Засыпанный снегом город сделался чистым и светлым…
В такую же пору, задушенный Малютой Скуратовым, ушел из земной жизни другой русский митрополит — «исповедник правды» святой Филипп Колычев.
В резиденции тело митрополита Иоанна положили перед входом в домовую церковь на сдвинутые журнальные столики, такие же, что видела накануне во сне Валентина Сергеевна Дюнина. Столики покрыли ковром. В изголовье перед большим образом Тихвинской Богородицы стояла икона Иоанна Кронштадтского. На табуретке — свечи.
Говорят, что владыка долго не остывал. Читавший Евангелие священник в два часа ночи дотронулся до руки митрополита. Рука была теплой…
Эта духовная теплота ощущается и на могиле владыки. Зима в том году выдалась холодной, но у могилы возле монастырской протоки всегда тепло…
Тысячи петербуржцев пришли проститься с владыкой. Свято-Троицкий собор оказался не способным вместить столько народа, и люди часами стояли на улице, на холоде. Время от времени из храма выносили потерявших сознание людей… Собор был открыт всю ночь…
И не только петербуржцы пришли в тот день в Александро-Невскую лавру. Проститься с владыкой ехали люди из Москвы, из Самары, из больших и малых городов России, из самой дальней дали, до которой достигало слово владыки.
И кого только не было в толпе. Старые и молодые, писатели и рабочие, художники и крестьяне, коммунисты и монархисты… Казалось, вся многоликая Россия собралась в этот ноябрьский день в лавре, чтобы проводить в последний путь своего учителя и заступника…
Перечислять даже самых именитых людей, пришедших к Свято-Троицкому собору, — занятие непосильное. Проще сказать, кого не было тут. Не было А. А. Собчака. Мэр города, демонстративно пренебрегши протоколом, так и не явился на похороны митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. Когда шли похороны, он демонстративно сидел на просмотре коллекции мод, разглядывая фигуристых манекенщиц. Говорят, что Собчак якобы запретил кому-либо из работников мэрии принимать участие в похоронах владыки Иоанна. Так ли это, утверждать не берусь, но совершенно точно известно, что официальных представителей мэрии на похоронах действительно не было.
И, разумеется, это тоже штрих к портрету уже не Собчака, а всей собчаковщины, которой противостоял светоносный владыка Иоанн.
Ровно семь месяцев спустя, когда вопреки всем прогнозам, вопреки всем усилиям монополизированной прессы Собчак все-таки провалился на выборах, я включил телевизор и увидел, как самоотверженно отбивается ведущий от звонков горожан, требующих, чтобы у Собчаков отобрали незаконно присвоенные ими городские квартиры.
— Лежачих не бьют! — христиански мудро повторял ведущий, укоряя жаждущих справедливости телезрителей. — Лежачих не бьют…
И все верно говорил он. Мы — православные… И Бог с ним, с Собчаком… Бог ему судья.
Владыке — слава Богу! — уже не страшны были каверзы, которые строили доживающие свой политический век Собчаки.
Говорят, что уже у гроба его начались исцеления. Пришла проститься с ним женщина с темной, опухшей рукой. Сколько она ни ходила к врачам — ничего не помогало. А тут, в соборе, дотронулась больной рукой до гроба владыки и с похорон уехала уже совершенно здоровой…
А похоронили владыку в архиерейском уголке на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. За оградой нескончаемым потоком несутся машины, а если повернешься назад, увидишь на стене надпись, извещающую, что здесь после революции расстреливали монахов. Надпись эта — чуть наискосок от деревянного креста над могилой владыки.
А между ними — могилы, могилы… Здесь и могила святого митрополита Вениамина, тоже расстрелянного большевиками. Здесь вся история Русской Православной Церкви, весь крестный путь, пройденный ею в этом веке. Путь, который и сейчас так же тяжел, как и восемьдесят лет назад…
INFO
Коняев Н. М.
К 64 Люди против нелюди: Исторические и историко-литературные очерки. — М.: Воениздат, 1999. — 480 с. — (Редкая книга).
ISBN 5-203-01892-8.
ББК 83.3
Николай Михайлович Коняев
ЛЮДИ ПРОТИВ НЕЛЮДИ
Исторические и историко-литературные очерки
* * *
Главный редактор редакции Н. П. Синицын
Редактор Г. В. Булгакова
Художник Ю. В. Крошкин
Художественный редактор Л. Е. Кривокобыльская
Технический редактор М. В. Федорова
Корректор Г. В. Казнина
Компьютерная верстка Г. Г. Дюкина
Лицензия ЛР № 020872 от 8 июля 1999 г.
Сдано в набор 24.06.99. Подписано в печать 07.12.99. Формат издания 60x90/16. Гарнитура Таймс. Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 30. Усл. печ. л. 30. Уч. изд. л. 29,63. Изд. № С/99/380. Тираж о 000 экз. Зак. 793.
Воениздат, 103160, Москва, К-160
ОАО «Астра семь»
121019, Москва, Филипповский пер., 13.
…………………..
FB2 — mefysto, 2023
Примечания
1
А. С. Пушкин обещал Николаю I не участвовать в дуэли.
(обратно)
2
Здесь и далее по всей книге разрядка Н. Коняева.
Выделение р а з р я д к о й, то есть выделение за счет увеличенного расстояния между буквами здесь и далее заменено жирным курсивом. — Примечание оцифровщика.
(обратно)
3
Петроградская правда. 1922. 9 февраля.
(обратно)
4
Там же. 1922. 10 февраля.
(обратно)
5
Петроградская правда. 1922. 13 февраля.
(обратно)
6
Петроградская правда. 1922. 11 февраля.
(обратно)
7
Там же. 1922. 15 февраля.
(обратно)
8
Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. М. 1996. С. 20.
(обратно)
9
Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. С. 51.
(обратно)
10
Чуковский Н. Юность. Л. 1930. С. 103.
(обратно)
11
Дело Василия Казанского и др. Архив ФСК, арх. номер 36314. Т.5, л. 385.
(обратно)
12
Дело. Т. 12, л. 49.
(обратно)
13
Дело. Т. 12, л. 39.
(обратно)
14
Там же л. 33.
(обратно)
15
Дело. Т. 12, л. 63.
(обратно)
16
Там же. Т. 16, л. 297.
(обратно)
17
Там же. Т. 2, л. 275.
(обратно)
18
Дело. Т. 5, л. 404
(обратно)
19
Дело. Т. 1, л. 192–193, 216–217.
(обратно)
20
Дело. Т. 5, л. 396.
(обратно)
21
Там же, л. 436.
(обратно)
22
Там же.
(обратно)
23
Дело. Т. 12, л. 62.
(обратно)
24
Там же, Т 5, л. 396.
(обратно)
25
Дело. Т. 5, л. 396.
(обратно)
26
Очерки по истории русской церковной смуты. С. 193–194.
(обратно)
27
Дело. Т. 1, л. 257.
(обратно)
28
Там же, л. 262.
(обратно)
29
Там же, Т. 5, л. 400.
(обратно)
30
Дело. Т. 12, л. 71.
(обратно)
31
Дело. Т. 1, л. 193–220.
(обратно)
32
«Дело». Т. 1, л. 258.
(обратно)
33
«Дело». Т. 12, л. 330.
(обратно)
34
«Дело». Т. 1, л. 326.
(обратно)
35
Там же, т. 18, л. 358.
(обратно)
36
Шкаровский М. В. Петербургская епархия 1917–1945 гг. Б/М. С. 57.
(обратно)
37
Дело. Т. 3, л. 410.
(обратно)
38
Дело. Т. 3, л. 423.
(обратно)
39
Там же. Л. 460.
(обратно)
40
Мы же вспомним здесь злобно-завистливые подсчеты богатств монастырей и церквей из статьи Галкина-Горева, о которой уже писали.
(обратно)
41
Дело. Т. 2, л. 131.
(обратно)
42
То же. Т. 2, л. 143.
(обратно)
43
ПСС. Т. 54. С. 273.
(обратно)
44
Известия. 1922. 29 марта. № 71.
(обратно)
45
Дело. Т. 2, л. 52.
(обратно)
46
Дело. Т. 5, л. 380.
(обратно)
47
Дело. Т. 1, л. 142.
(обратно)
48
Там же, л. 259.
(обратно)
49
Там же, л. 381.
(обратно)
50
Петроградская правда. 1922. № 77.
(обратно)
51
Дело. Т. 12, л. 77.
(обратно)
52
Дело, Т. 1, л. 381.
(обратно)
53
Дело. Т. 1, л. 381.
(обратно)
54
Там же. Т. 12, л. 236–237.
(обратно)
55
Дело. Т. 1, л. 382.
(обратно)
56
Там же. Т. 5, л. 360.
(обратно)
57
Журнал Московской патриархии. 1993. № 12. С. 63–64.
(обратно)
58
Очерки по истории русской церковной смуты. С. 70.
(обратно)
59
Регельсон Л. Трагедия русской церкви. Крутицкое патриаршее подворье. М., 1996. С. 288.
(обратно)
60
Введенский А. Церковь и революция. П., 1922 (тип. при Смольном).
(обратно)
61
Регельсон Л. Трагедия русской церкви. С. 289.
(обратно)
62
Дело. Т 1, л. 207–208.
(обратно)
63
Дело. Т. 1, л. 178.
(обратно)
64
Там же, л. 211.
(обратно)
65
Троцкий Л. Д. Моя жизнь. Берлин, 1930. С. 212.
(обратно)
66
Прожектор. 1925. № 1. С. 6.
(обратно)
67
Дело. Т. 1, л. 383.
(обратно)
68
Там же, л. 338.
(обратно)
69
Дело. Т. 1, л. 213.
(обратно)
70
Введенский А. Церковь и революция. П., 1922. С. 26.
(обратно)
71
Дело. Т. 1, л. 411.
(обратно)
72
Дело. Т. 5, л. 118.
(обратно)
73
Там же. Т. 1, л. 340–341.
(обратно)
74
Там же, л. 351.
(обратно)
75
Очерки по истории русской церковной смуты. С. 84–85.
(обратно)
76
Дело. Т. 5, л. 556.
(обратно)
77
Дело. Т. 7, л. 155.
(обратно)
78
Там же. Т. 8, л. 272.
(обратно)
79
Там же, л. 316.
(обратно)
80
Там же, л. 236.
(обратно)
81
Там же, л. 237.
(обратно)
82
Дело. Т. 8, л. 281.
(обратно)
83
Там же, л. 320.
(обратно)
84
Дело «Каморры народной расправы». Т. 3, л. 136.
(обратно)
85
Дело «Каморры народной расправы». Т. 1, л. 52–56.
(обратно)
86
Лениздат, 1987.
(обратно)
87
«Еженедельник ВЧК», № 6.
(обратно)
88
Дело «Каморры народной расправы». Т. 2, л. 29.
(обратно)
89
Скрябин М., Гаврилов Л. Светить можно — только сгорая. М., 1987.
(обратно)
90
Дело «Каморры народной расправы». Т. 1, л. 15.
(обратно)
91
Дело «Каморры народной расправы». Т. 4, л. 51.
(обратно)
92
Имеются в виду Колпинские события, когда большевики впервые отдали приказ солдатам стрелять в голодных рабочих.
(обратно)
93
Дело «Каморры народной расправы». Т. 4, л. 24.
(обратно)
94
Там же, л. 19.
(обратно)
95
Дело «Каморры народной расправы». Т. 1, л. 179.
(обратно)
96
Дело «Каморры народной расправы». Т. 2, л. 134.
(обратно)
97
Крематорий.
(обратно)
98
Дело об убийстве В. Володарского. Л. 103.
(обратно)
99
Дело об убийстве В. Володарского. Л. 100.
(обратно)
100
Дело об убийстве В. Володарского. Л. 181.
(обратно)
101
Показания Зориной.
(обратно)
102
Дело «Каморры народной расправы». Т. 6, л. 85.
(обратно)
103
Дело «Каморры народной расправы». Т. 5, л. 111–112.
(обратно)
104
Туман досужих домыслов о русско-калмыцко-шведском происхождении В. И. Ленина развеивает недавно опубликованное письмо деда Ленина по материнской линии, написанное на иврите.
(обратно)
105
Дело об убийстве Урицкого. Т. 4, л. 190.
(обратно)
106
Там же. Т. 1, л. 14.
(обратно)
107
Дело об убийстве Урицкого. Т. 1, л. 14.
(обратно)
108
П. Герасимов. Для советских солдат не было непреодолимых преград («Военно-исторический журнал», № 7, 1967).
(обратно)
109
Островной район Архангельска.
(обратно)
110
Я бы упомянул здесь беседы Ю. Ростовцева и В. Кондрияненко, статьи В. Юдина и С. Журавлева и, конечно, книгу воспоминаний Антонины Ильиничны Пикуль.
(обратно)
111
ГАВО, ф. 51, б/у, on. 1, д. № 362.
(обратно)
112
Этот заголовок появился у стихотворения при публикации в газете «Вологодский комсомолец» в августе 1968 года и явно носит этакий маскировочный оттенок. Хотя в редакции молодежной газеты и восхищались стихами Николая Михайловича, но все-таки это был орган обкома комсомола, и очень не комсомольское стихотворение Рубцова пришлось замаскировать под пейзажную зарисовку. Название прижилось, в сборнике «Сосен шум» Николай Рубцов повторяет его, но, составляя план «Успокоения», забывает о придуманной маскировке. Может быть, сделано это подсознательно — Рубцов составляет свой сборник, и внимание его занимает смысл стихов, а не их маскировка.
(обратно)