| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Иисус. Все мировые исследования (fb2)
 - Иисус. Все мировые исследования (пер. Михаил Игоревич Завалов,Наталья Леонидовна Холмогорова,Наталья М. Киреева) 9081K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Коллектив авторов
- Иисус. Все мировые исследования (пер. Михаил Игоревич Завалов,Наталья Леонидовна Холмогорова,Наталья М. Киреева) 9081K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Коллектив авторов
Иисус. Все мировые исследования
Под редакцией Джеймса Чарлзворта с участием Брайана Ри и Петра Покорны
Посвящается Джону Майеру, Дорону Мендельсу, Эду Сандерсу, Герду Тайсену и Гезе Вермешу
Jesus Research: New Methodologies and Perceptions
The Second Princeton-Prague Symposium on Jesus Research,
Princeton 2007
Edited by
James H. Charlesworth with Brian Rhea
In consultation with Petr Pokorny
Перевод с английского
Михаила Завалова (Введение. Разделы 1 и 4),
Натальи Киреевой (Раздел 2),
Наталии Холмогоровой (Разделы 3, 5 и 6).
© 2014 James H. Charlesworth and Brian Rhea. All rights reserved
© Завалов М.И., перевод, 2021
© Киреева Н.М., перевод, 2021
© Холмогорова, Н.Л., перевод, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
Список сокращений
Общие сокращения
ET английский перевод
KJV Библия короля Якова
L Особый текст Луки
LXX Септуагинта
M Особый текст Матфея
англ. английский
букв. буквально
ВЗ Ветхий Завет
Втор. ист. Второзаконническая история
греч. греческий
др. – греч. древнегреческий
ивр. иврит
илл. иллюстрации
лог. логия; изречение, приписываемое Христу (logion/logia)
ман. манускрипт(ы)
Мас. Масоретский текст
НЗ Новый Завет
ориг. оригинал
пар. (и) параллели
сир. сирийский
фр. фрагмент
Современные публикации
AAntHung Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
AARCC American Academy of Religion Cultural Criticism
AASF Annales Academiae scientiarum fennicae
AASOR Annual of the American Schools of Oriental Research
AB Anchor Bible
ABD Anchor Bible Dictionary. Ed. D. N. Freedman. 6 vols. New York: Doubleday, 1992
ABR Australian Biblical Review
ABRL Anchor (Yale) Bible Reference Library
ADAJ Annual of the Department of Antiquities of Jordan
ADPV Abhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins
AfTJ Africa Theological Journal
AGJU Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums
AGSU Arbeiten zur Geschichte des Spätjudentums und Urchristentums
AHL Academy of the Hebrew Language
AJN American Journal of Numismatics
AJP American Journal of Philology
ALGHJ Arbeiten zur Literatur und Geschichte des hellenistischen Judentums
AnBib Analecta biblica
AnnPsy The Annual of Psychoanalysis
ANRW Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. Ed. H. Temporini and W. Haase. New York: de Gruyter, 1972–
ANSM American Numismatic Society Magazine
Apeliotes Apeliotes: Studien zur Kulturgeschichte und Theologie
ArBib The Aramaic Bible
ARWAW Abhandlungen der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften
ASBT Acadia Studies in Bible and Theology
ASNU Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis
ASOR American Schools of Oriental Research
ASR American Sociological Review
ATANT Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments
AthRSupp Anglican Theological Review: Supplementary Series
ATM Altes Testament und Moderne
ATR Australasian Theological Review
BA Biblical Archaeologist
BAIAS Bulletin of the Anglo-Israel Archaeological Society
BAR Biblical Archaeology Review
BASOR Bulletin of the American Schools of Oriental Research
BAT Bibliothèque de l’Antiquité tardive
BBB Bonner biblische Beiträge
BBR Bulletin for Biblical Research
BCNH Bibliothèque copte de Nag Hammadi
BDAG W. Bauer, F. W. Danker, W. F. Arndt, and F. W. Gingrich, Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2000
BECNT Baker Exegetical Commentary on the New Testament
BeO Bibbia e oriente
BETL Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium
BevT Beiträge zur evangelischen Theologie
BH Beiträge zur Historik
BHMIIS The Bulletin of the Henry Martyn Institute of Islamic Studies
Bib Biblica
BibG Biblische Gestalten
BibInt Biblical Interpretation
BibOr Biblica et orientalia
BibS(F) Biblische Studien (Freiburg, 1895–)
BibS(N) Biblische Studien (Neukirchen, 1951–)
BibTS Biblical Tools and Studies
BInS Biblical Interpretation Series
BISNELC Bar-Ilan Studies in Near Eastern Languages and Culture
BJRL Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester
BJS Brown Judaic Studies
BK Bibel und Kirche
BNP Brill’s New Pauly. Ed. Hubert Cancik, Helmuth Schneider, and Manfred Landfester. 20 vols. Leiden: Brill, 2002–2010
BNTC Black’s New Testament Commentary
BR Biblical Research
BRev Bible Review
BRIIFS Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies
BRLJ Brill Reference Library of Judaism
BRS Biblical Resource Series
BTAVO Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients
BTB Biblical Theology Bulletin
BThSt Biblisch-theologische Studien
BZ Biblische Zeitschrift
BzAl Beiträge zur Altertumskunde
BZAW Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft
BZNW Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft
CaE Cahiers évangile
CBC Cambridge Bible Commentary
CBQ Catholic Biblical Quarterly
CBQMS Catholic Biblical Quarterly Monograph Series
CBR Currents in Biblical Research
CC Continental Commentaries
CCSL Corpus Christianorum: Series latina
CJA Christianity and Judaism in Antiquity
CM Christianity in the Making
ConBNT Coniectanea biblica: New Testament Series
COQG N. T. Wright, Christian Origins and the Question of God. 3 vols. Minneapolis: Fortress, 1992–2003
CQ Classical Quarterly
CRINT Compendia rerum iudaicarum ad Novum Testamentum
CSR Christian Scholars Review
CSS Cistercian Studies Series
CTM Concordia Theological Monthly
CWS Classics of Western Spirituality
CurBR Currents in Biblical Research (выходит под названием: Currents in Research)
Di Dialog: A Journal of Theology
DJD Discoveries in the Judaean Desert
DMAHA Dutch Monographs on Ancient History and Archaeology
DNTB Dictionary of New Testament Background. Ed. C. A. Evans and S. E. Porter. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2000
DPL Dictionary of Paul and His Letters. Ed. G. F. Hawthorne and R. P. Martin. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1993
DSD Dead Sea Discoveries
DTV Deutscher Taschenbuch Verlag
EB Echter Bibel
Ebib Études bibliques
EHS Europäische Hochschulschriften
EKKNT Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament
EnAC Entretiens sur l’antiquité classique
EncJud Encyclopaedia Judaica. Ed. Fred Skolnik. 2nd ed. 22 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, 2007
ERE Encyclopaedia of Religion and Ethics. Ed. James Hastings. 13 vols. New York: Scribner, 1908–1927. Repr., 13 vols. in 7. New York: Scribner, 1951
ErIsr Eretz-Israel
ESEC Emory Studies in Early Christianity
EssBib Essais bibliques
EvQ Evangelical Quarterly
ExAud Ex auditu
ExpTim Expository Times
FAT Forschungen zum Alten Testament
FC Fathers of the Church
FFF Foundations and Facets Forum
FIOTL Formation and Interpretation of Old Testament Literature
FOTL Forms of the Old Testament Literature
FRLANT Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments
FSC Faith and Scholarship Colloquies
GBS Guides to Biblical Scholarship
GCS Die griechische christliche Schriftsteller der ersten [drei] Jahrhunderte
GfC Geschichte des frühen Christentums
GNS Good News Studies
GTBS Gütersloher Taschenbücher Siebenstern
HAT Handbuch zum Alten Testament
Hen Henoch
HO Handbuch der Orientalistik
Hok Hokhma
HSCL Harvard Studies in Comparative Literature
HSM Harvard Semitic Monographs
HTR Harvard Theological Review
HTS Harvard Theological Studies
HTS/TS Hervormde Teologiese Studies/Theological Studies
HUCA Hebrew Union College Annual
HUT Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie
IAA Israel Antiquities Authority
IBC Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching
IBS Irish Biblical Studies
ICC International Critical Commentary
ICMR Islam and Christian-Muslim Relations
IEJ Israel Exploration Journal
IMWKT Internationale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik
INJ Israel Numismatic Journal
INR Israel Numismatic Research
Int Interpretation
IRT Issues in Religion and Theology
JBL Journal of Biblical Literature
JBLMS Journal of Biblical Literature Monograph Series
JBTh Jahrbuch für biblische Theologie
JCP Jewish and Christian Perspectives
JCTCRS Jewish and Christian Texts in Contexts and Related Studies
JECS Journal of Early Christian Studies
JES Journal of Ecumenical Studies
JETS Journal of the Evangelical Theological Society
JFA Journal of Field Archaeology
JHC Journal of Higher Criticism
JJS Journal of Jewish Studies
JPS Jewish Publication Society
JQR Jewish Quarterly Review
JR Journal of Religion
JRA Journal of Roman Archaeology
JRASS Journal of Roman Archaeology Supplementary Series
JSHJ Journal for the Study of the Historical Jesus
JSJ Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman Periods
JSJSup Дополнения к изданию: Journal for the Study of Judaism
JSNT Journal for the Study of the New Testament
JSNTSup Journal for the Study of the New Testament: Supplement Series
JSOT Journal for the Study of the Old Testament
JSOTSup Journal for the Study of the Old Testament: Supplement Series
JSP Journal for the Study of the Pseudepigrapha
JSPSup Journal for the Study of the Pseudepigrapha: Supplement Series
JSS Journal of Semitic Studies
JTS Journal of Theological Studies
KEK Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament (Meyer-Kommentar)
KNT Kommentar zum Neuen Testament
KS Kirjath-Sepher
KTU Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit. Ed. M. Dietrich, O. Loretz, and J. Sanmartin. AOAT 24/1. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1976
LCL Loeb Classical Library
LCPM Letture cristiane del primo millennio
LD Lectio divina
LDSS Literature of the Dead Sea Scrolls
LEC Library of Early Christianity
LG Land of Galilee
LHB/OTS Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies
LJS Lives of Jesus Series
LNTS Library of New Testament Studies (formerly JSNTSup)
LQ Lutheran Quarterly
LSJ H. G. Liddell, R. Scott, and H. S. Jones, A Greek-English Lexicon. 9th ed. with revised supplement. Oxford: Clarendon, 1996
MBCBSup Mnemosyne Bibliotheca Classica Batava Supplement
MilS Milltown Studies
MW The Muslim World
MNTS McMaster New Testament Studies
MTS Marburger theologische Studien
NA27 Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland, 27th ed.
NAWG Nachrichten (von) der Akademie der Wissenschaften in Gцttingen
NCB New Century Bible Commentary
NCBC New Cambridge Bible Commentary
NEAEHL The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Ed. Ephraim Stern. 5 vols. New York: Simon & Schuster, 1993
NEchtB/NT Neue Echter Bibel-Kommentar zum Neuen Testament mit der Einheitsübersetzung
Neot Neotestamentica
NGS New Gospel Studies
NHC Nag Hammadi Codices
NHMS Nag Hammadi and Manichaean Studies
NHS Nag Hammadi Studies
NIBCNT New International Biblical Commentary on the New Testament
NICNT New International Commentary on the New Testament
NIDB New Interpreter’s Dictionary of the Bible. Ed. Katharine Doob Sakenfeld. 5 vols. Nashville: Abingdon, 2006–2009
NIGTC New International Greek Testament Commentary
NJahrb Neue Jahrbücher für das klassische Altertum
NovT Novum Testamentum
NovTSup Supplements to Novum Testamentum
NRSV New Revised Standard Version
NTAbh Neutestamentliche Abhandlungen
NTC The New Testament in Context
NTD Das Neue Testament Deutsch
NTGTJC New Testament Gospels in Their Judaic Contexts
NTL New Testament Library
NTM New Testament Monographs
NTOA Novum Testamentum et Orbis Antiquus
NTR New Testament Readings
NTS New Testament Studies
NTTS New Testament Tools and Studies
NVBS New Voices in Biblical Studies
OBO Orbis biblicus et orientalis
OCD The Oxford Classical Dictionary. Ed. Simon Hornblower and Antony Spawforth. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 1996
OEANE The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East. Ed. Eric M. Meyers. 5 vols. New York: Oxford University Press, 1997
OED Oxford English Dictionary. Ed. J. A. Simpson. 2nd ed. Oxford: Clarendon, 1989
OMS Oxbow Monograph Series
OrChr Oriens christianus
Ost Ostkirchliche Studien
OTL Old Testament Library
PEQ Palestine Exploration Quarterly
PG Patrologia graeca (= Patrologiae cursus completus: Series graeca). Ed. J.-P. Migne. 162 vols. Paris: Migne, 1857–1886
PJB Palästinajahrbuch
PL Patrologia latina (= Patrologiae cursus completus: Series Latina). Ed. J.-P. Migne. 217 vols. Paris: Migne, 1844–1864
POC Proche-Orient Chrétien
PRR Princeton Readings in Religions
PRSt Perspectives in Religious Studies
PSB Princeton Seminary Bulletin
PTMS Pittsburgh Theological Monograph Series
PTSDSSP Princeton Theological Seminary Dead Sea Scrolls Project
PW A. F. Pauly, Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Ed. Georg Wissowa. New ed. 49 vols. Munich: Druckenmüller, 1980
Qad Qadmoniot
QD Quaestiones disputatae
RAp Revue apologétique
RB Revue biblique
RBL Review of Biblical Literature
RBPH Revue belge de philologie et d’histoire
RCT Revista catalana de teologнa
RE Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. Ed. J. J. Herzog. 2nd ed. 24 vols. Leipzig: Hinrichs, 1896–1913
REJ Revue des études juives
RevQ Revue de Qumrвn
RGG Religion in Geschichte und Gegenwart. 2nd ed. Ed. Hermann Gunkel. 5 vols. Tübingen: Mohr Siebeck, 1927–1931. 3rd ed. Ed. Kurt Galling. 7 vols. Tübingen: Mohr Siebeck, 1957–1965
RGRW Religions in the Graeco-Roman World
RHPR Revue de l’histoire et de philosophie religieuses
RHR Revue de l’histoire des religions
RRJ The Review of Rabbinic Judaism
RSR Recherches de science religieuse
RSV Revised Standard Version
SAAA Studies in Ancient Art and Archaeology
SBAZ Studien zur biblischen Archäologie und Zeitgeschichte
SBEC Studies in the Bible and Early Christianity
SBF Studium biblicum Franciscanum
SBL Society of Biblical Literature
SBLAcBib Society of Biblical Literature Academia Biblica
SBLBMI Society of Biblical Literature: Bible and Its Modern Interpreters
SBLDS Society of Biblical Literature Dissertation Series
SBLECL Society of Biblical Literature Early Christianity and Its Literature
SBLEJL Society of Biblical Literature Early Judaism and Its Literature
SBLMS Society of Biblical Literature Monograph Series
SBLRBS Society of Biblical Literature Resources for Biblical Study
SBLSBS Society of Biblical Literature Sources for Biblical Study
SBLSP Society of Biblical Literature Seminar Papers
SBLSymS Society of Biblical Literature Symposium Series
SBLTT Society of Biblical Literature Texts and Translations
SBS Stuttgarter Bibelstudien
SBT Studies in Biblical Theology
SBTS Sources for Biblical and Theological Study
SC Sources chrétiennes
SCI Scripta Classica Israelica
SCJ Studies in Christianity and Judaism
SDSSRL Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature
SecCent Second Century
SemeiaSt Semeia Studies
SFRSLSRSO South Florida – Rochester – St. Louis Studies on Religion and the Social Order
SFSHJ South Florida Studies in the History of Judaism
SGJC Shared Ground among Jews and Christians
SHJ Studying the Historical Jesus
SHR Studies in the History of Religions
SIJD Schriften des Institutum Judaicum Delitzschianum
SJ Studia judaica
SJLA Studies in Judaism in Late Antiquity
SJOT Scandinavian Journal of the Old Testament
SJT Scottish Journal of Theology
SNT Studien zum Neuen Testament
SNTSMS Society for New Testament Studies Monograph Series
SNTSU Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt
SNTW Studies of the New Testament and Its World
SP Sacra Pagina
SPhilo Studia philonica
SPHS Scholars Press Homage Series
SPS Studies in Peace and Scripture
SSEJC Studies in Scripture in Early Judaism and Christianity
ST Studia theologica
STDJ Studies on the Texts of the Desert of Judah
StPB Studia post-biblica
SuG Sprache und Geschichte
SUNT Studien zur Umwelt des Neuen Testaments
TANZ Texte und Arbeiten zum neutestamentlichen Zeitalter
TB Theologische Bücherei: Neudrucke und Berichte aus dem 20.Jahrhundert
TDNT Theological Dictionary of the New Testament. Ed. G. Kittel and G. Friedrich. Trans. G. W. Bromiley. 10 vols. Grand Rapids: Eerdmans, 1964–1976
TGLSK Theorie und Geschichte der Literatur und der schönen Künste
ThBer Theologische Berichte
Theoph. Theophaneia: Beiträge zur Religions-und Kirchengeschichte des Altertums
ThLZ Theologische Literaturzeitung
ThLZF Forum Theologische Literaturzeitung
ThSt Theologische Studien
TLZ Theologische Literaturzeitung
TQ Theologische Quartalschrift
TSAJ Texte und Studien zum antiken Judentum
TSR Texts and Studies in Religion
TU Texte und Untersuchungen
TUMSR Trinity University Monograph Series in Religion
TynBul Tyndale Bulletin
TZ Theologische Zeitschrift
UBE Unbekannten Berliner Evangeliums
UBSMS United Bible Society Monograph Series
UJT Understanding Jesus Today
UNDSPR University of Notre Dame Studies in the Philosophy of Religion
UNT Untersuchungen zum Neuen Testament
USFISFCJ University of South Florida International Studies in Formative Christianity and Judaism
UTB Uni-Taschenbücher
VC Vigiliae christianae
VCSup Supplements to Vigiliae christianae
VT Vetus Testamentum
VTSup Vetus Testamentum Supplements
WF Wege der Forschung
WHJP World History of the Jewish People
WMANT Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
WUNT Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament
WBC Word Biblical Commentary
YPHA Yale Publications in the History of Art
YPR Yale Publications in Religion
ZABR Zeitschrift für altorientalische und biblische Rechtgeschichte
ZDPV Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereins
ZNThG Zeitschrift für neuer Theologiegeschichte/Journal for the History of Modern Theology
ZNW Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft
ZTK Zeitschrift für Theologie und Kirche
Древние источники
Еврейская Библия/Ветхий Завет
Быт Бытие
Исх Исход
Лев Левит
Чис Числа
Втор Второзаконие
Нав Книга Иисуса Навина
Суд Книга Судей
1–4 Цар 1–4 Книги Царств
1–2 Пар 1–2 Книги Паралипоменон
Неем Книга Неемии
Есф Книга Есфири
Пс Псалтирь
Притч Книга Притчей Соломоновых
Еккл Екклесиаст
Песн Песнь Песней
Ис Книга пророка Исаии
Иер Книга пророка Иеремии
Плч Плач Иеремии
Иез Книга пророка Иезекииля
Дан Книга Даниила
Ос Книга пророка Осии
Авд Книга пророка Авдия
Мих Книга пророка Михея
Наум Книга пророка Наума
Авв Книга пророка Аввакума
Соф Книга пророка Софонии
Агг Книга пророка Аггея
Зах Книга пророка Захарии
Мал Книга пророка Малахии
Новый Завет
Мф Евангелие от Матфея
Мк Евангелие от Марка
Лк Евангелие от Луки
Ин Евангелие от Иоанна
Рим Послание к Римлянам
1–2 Кор 1–2 Послания к Коринфянам
Гал Послание к Галатам
Еф Послание к Ефесянам
Флп Послание к Филиппийцам
Кол Послание к Колоссянам
1–2 Фес 1–2 Послания к Фессалоникийцам
1–2 Тим 1–2 Послания к Тимофею
Флм Послание к Филимону
Евр Послание к Евреям
Иак Послание Иакова
1–2 Пет 1–2 Послания Петра
Откр Откровение Иоанна Богослова
QЛк Источник Q в Евангелии от Луки
Ветхозаветные апокрифы и псевдэпиграфы
1–2–3 Енох 1–2–3 книги Еноха
1–2–3–4 Мак 1–2–3–4 книги Маккавейские
2 Вар Сирийский апокалипсис Варуха
3 Езд Третья книга Ездры
LAB Псевдо-Филон, Liber antiquitatum biblicarum («Библейские древности»)
Адам и Ева Житие Адама и Евы
Апок. Адама Апокалипсис Адама
Апок. Ил Апокалипсис Илии
Апок. Моис Апокалипсис Моисея
Арист. Фил Письмо Аристея Филократу
Бел Бел и дракон
Вар Книга пророка Варуха
Возн. Ис Вознесение Исаии
Греч. апок. Ездры Греческий апокалипсис Ездры
Зав. Вен Завет Вениамина
Зав. Дана Завет Дана
Зав. Завул Завет Завулона
Зав. Иак Завет Иакова
Зав. Иос Завет Иосифа
Зав. Исс Завет Иссахара
Зав. Иуд Завет Иуды
Зав. Лев Завет Левия
Зав. Моис Завет Моисея
Зав. Сим Завет Симеона
Зав. Сол Завет Соломона
Иосиф и Асенефа Иосиф и Асенефа
Иудифь Книга Иудифи
Ор. Сив Оракулы Сивилл
Откр. Авр Откровение Авраама
Прем Книга Премудрости Соломона
Пс. Сол Псалмы Соломона
Сир Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
Тов Книга Товита
Юб Книга Юбилеев
Свитки Мертвого моря
1QapGenar (1Q20) Апокриф Книги Бытия
1QHaБлагодарственные гимныa
1QTLeviar (1Q21) Завет Левия
1QS (1Q28) Устав Общины
1QSa (1Q28a) Устав Собрания
1QM (1Q33) Свиток Войны
4QFlor (4Q174) (4Q174) Флорилегий
4QPrNab ar (4Q242) 4Q Молитва Набонида ar
4QpsDana ar (4Q243) 4Q Псевдо-Даниилaar
4QpsDanb ar (4Q244) 4Q Псевдо-Даниилbar
4QpsDanc ar (4Q245) 4Q Псевдо-Даниилcar
4QapocrDan ar (4Q246) Апокриф Даниила
4QcommGen A (4Q252) Комментарий на Книгу Бытия А
4QMMT (4Q394–399) Некоторые деяния Торы
4QHa (4Q427) Песнь Праведного
4QMessAp (4Q521) Мессианский апокалипсис
4QNoaha ar (4Q534) Рождение Ноя
11QPsa (11Q5) Свиток Псалмов
11QtgJob (11Q10) Таргум на Иова
11QMelch (11Q13) Небесный князь Мелхиседек
11QTa (11Q19) Храмовый Свитокa
CD Копия Дамасского документа из Каирской генизы
Mur Вади-Мураббаат
XHev/Se Нахаль-Хевер/Сейяль
Раввинистические тексты
Meил Меила
Ав. Зар Авода Зара
Авот р. Нат Авот рабби Натана
Б. Бат Бава Батра
Б. Кам Бава Кама
Б. Мец Бава Меция
Бейца Бейца (Йом-тов)
Бер. Раб Берешит Рабба
Брах Брахот
вав. Вавилонский Талмуд
Гит Гиттин
Дв. Раб Дварим Рабба
Иевам Иевамот
иер. Иерусалимский Талмуд
Йома Йома (= Киппурим)
Кетуб Кетубот
Кид Кидушин
м Мишна
Маас. ш Маасер шени
Мег Мегилла
Менах Менахот
Мех Мехилта
Микв Микваот
Нед Недарим
Пешик. Раб Пешикта Раббати
Псах Псахим
Раб Рабба
С. Олам Раб Седер Олам Рабба
Санх Санхедрин
Сифрей Дв Сифрей Дварим (на Второзаконие)
т Тосефта
Таан Таанит
Танх Танхума
Тг Таргум
Тг Ер I Таргум Ерушалми I (Палестинский Таргум)
Тг Онк Таргум Онкелоса
Тр Трумот
Хаг Хагига
Хул Хуллин
Шаб Шаббат
Шеб Шебиит
Шкал Шкалим
Эд Эдуйот
Эр Эрахин
Эрув Эрувин
Яд Ядаим
Апостольские отцы
1 Клим Первое послание Климента Римского к Коринфянам
2 Клим Второе послание Климента Римского к Коринфянам
Дид Дидахе («Учение Господа через двенадцать апостолов язычникам»)
Ерм, Вид «Пастырь» Ерма, Видения
Ерм, Под «Пастырь» Ерма, Подобия
Игн., Магн Игнатий Богоносец, Послание к Магнезийцам
Игн., Смирн Игнатий Богоносец, Послание к Смирнянам
Муч. Пол Мученичество св. Поликарпа, епископа Смирнского
Кодексы Наг-Хаммади
1 Апок. Иак (Первый) Апокалипсис Иакова (V, 3)
2 Апок. Иак (Второй) Апокалипсис Иакова (V, 4)
Аллоген Аллоген (XI, 3)
Ап. Иак Апокриф Иакова (I, 2)
Апок. Адам Апокалипсис Адама (V, 5)
Апок. Пет Апокалипсис Петра (VII, 3)
Вел. cил Понятие нашей великой силы (VI, 4)
Диал. Спас Диалог Спасителя (III, 5)
Ев. Фил Евангелие Филиппа (II, 3)
Ев. Фом Евангелие Фомы (II, 2)
Ев. Ист Евангелие Истины (XII, 2)
Зост Зостриан (VIII, 1)
Ип. арх Ипостась архонтов (II, 4)
Марсан Марсан (X, 1)
Об. зн Объяснение знания (XI, 1)
Посл. Пет. Фил Послание Петра Филиппу (VII, 2)
Происх. мира Трактат о происхождении мира (II, 5; XIII, 2)
Соф. Иис. Хр Пистис София (София Иисуса Христа) (BG, 3)
Тракт. Сиф Второй трактат Великого Сифа (VII, 2)
Трехч. тракт Трехчастный трактат (I, 5)
Троев. Прот Троевидная Протенойя (Первомысль в трех образах) (XIII, 1)
Фом. Атл Книга Фомы Атлета (II, 7)
BG Берлинский гностический папирус
Новозаветные апокрифы и псевдэпиграфы
Ев. евр Евангелие евреев
Ев. Иуд Евангелие Иуды
Ев. Марии Евангелие Марии
Ев. наз Евангелие назореев
Ев. Пет Евангелие Петра
Ев. Спас Евангелие Спасителя (= P.Berol. 22220 = UBE)
Ев. Фил Евангелие Филиппа
Ев. Фом Евангелие Фомы
Ев. эб Евангелие эбионитов
Посл. апост Послание апостолам (Epistula Apostolorum)
Прот. Иак Протоевангелие Иакова
(Араб.) Ев. дет (Arab.) Арабское Евангелие детства Спасителя
Ев. дет. Фом Евангелие детства Фомы
UBE Неизвестное Берлинское Евангелие (Unbekannten Berliner Evangelium = P.Berol. 22220 = Ев. Спас)
Папирусы и остраконы
P.Berol. 22220 Папирус, Евангелие Спасителя (= Неизвестное Берлинское Евангелие)
P.Cair. 10735 Папирус в Каирском египетском музее, Общий каталог египетских древностей Каирского египетского музея
P.Egerton 2 Папирус Эджертона 2, «Неизвестное Евангелие»
P.Köln Кельнские папирусы
P.Oxy. Оксиринхские папирусы
P.Vindob. G 2325 Фаюмский фрагмент Евангелия. Коллекция Райнера. Вена
Греческие и латинские произведения
1 Апол Иустин. Первая апология
Progymn Теон. Progymnasmata
Авр Филон. Об Аврааме
Автолик Феофил Антиохийский. Послание к Автолику
Агес Ксенофонт. Агесилай
Алекс Плутарх. Александр
Алк Плутарх. Алкивиад
Анаб Арриан. Анабасис Александра (История походов Александра Великого)
Анн Тацит. Анналы
Ап. пост Апостольские постановления
Апол. Сокр Ксенофонт. Апология Сократа
Аполог Тертуллиан. Апологетик
Аттик Цицерон. Письма к Аттику
Аттич. ночи Авл Геллий. Аттические ночи
Аф. пол Аристотель. Афинская полития
Библ Фотий, патр. Константинопольский. Библиотека (Мириобиблион)
Брут Марк Туллий Цицерон. Брут, или О знаменитых ораторах
Вал. Макс. Валерий Максим. Девять книг примечательных поступков и изречений
Весп Светоний. Веспасиан
Восп. дет Псевдо-Плутарх. О воспитании детей
Воспом Псевдо-Климент. Воспоминания
Всем. ист Агапий Манбиджский. Всемирная история (Книга титулов, «Китаб аль-'Унван»)
Гермот Лукиан. Гермотим, или О выборе философии
Гом. Ин Иоанн Златоуст. Гомилии на Евангелие от Иоанна
Гом. Лк Ориген. Гомилии на Евангелие от Луки
Греч. ист Ксенофонт. Греческая история
Дем Плутарх. Демосфен
Демоник Исократ. Послание к Демонику (Речь 1)
Демосф Дионисий Галикарнасский. Об ора-тор-ском искус-стве Демо-сфе-на
Деян. Авг Деяния божественного Августа
Диатр Эпиктет. Диатрибы
Диог. Лаэрт. Диоген Лаэртский. Vitae philosophorum
Диод. Сицил. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека
Дион Касс Дион Кассий. Римская история
Док. Ев Евсевий. Доказательство в пользу Евангелия
Дом Светоний. Домициан
Ест. ист Плиний Старший. Естественная история
Жен. убр Тертуллиан. О женском убранстве
Жизн. Пифаг Ямвлих. Жизнь Пифагора
Жизн. соф Жизнеописания софистов (Евнапий, Филострат)
Жизнь Иосиф Флавий. Моя жизнь
Заг. Кат Саллюстий. О заговоре Катилины
Зак Платон. Законы
Заст. бес Плутарх. Застольные беседы
Злок. Гер Плутарх. О злокозненности Геродота
Знам. муж Иероним. О знаменитых мужах
Зрел Тертуллиан. О зрелищах
И. В. Иосиф Флавий. Иудейская война
И. Д. Иосиф Флавий. Иудейские древности
Идол Тертуллиан. Об идолопоклонстве
Изъясн. Лк Амвросий. Изъяснение Евангелия от Луки
Изъясн. Пс Дидим Слепец. Изъяснение псалмов
Инд Арриан. Индика
Иссл. прир Сенека Младший. Исследования о природе
Ист. пр. яз Павел Орозий. История против язычников, в 7 кн.
История Исторические труды (Геродот, Тацит, Фукидид и т. д.)
Калиг Светоний. Гай Калигула
Квинт Цицерон. Письма к брату Квинту
Ким Плутарх. Кимон
Клавд Светоний. Божественный Клавдий
Контров Сенека (Старший). Контроверсии
Корн. Неп. Корнелий Непот. О знаменитых людях
Лепт Демосфен. Против Лептина
Ливий Тит Ливий. История от основания города
Лик Плутарх. Ликург
Лис Дионисий Галикарнасский. О Лисии
Маркион Тертуллиан. Против Маркиона
Метам Апулей. Метаморфозы
Моис Филон. О жизни Моисея
Мор Плутарх. Моралии
Наст. ор Квинтилиан. Наставления оратору
Нач Ориген. О началах
Нерон Светоний. Нерон
Ником Дион Хрисостом. К никомедийцам (Речь 38)
Нрав. пис Сенека (Младший). Нравственные письма к Луцилию
Облич Ипполит Римский. О философских мнениях, или Обличение всех ересей
Оном Евсевий. Ономастикон
Оп. Элл Павсаний. Описание Эллады
Ор. Брут Цицерон. Оратор. К Марку Бруту
Особ. зак Филон. Об особенных законах
Панар Епифаний. Панарион (На восемьдесят ересей)
Письма Письма (Плиний Младший, Демосфен, псевдо-Сократ и т. д.)
Письма к Веру Фронтон. Письма к Веру, соправителю цезаря Аврелия
Полибий Полибий. Всеобщая история
Помпей Дионисий Галикарнасский. Письмо к Помпею Гемину
Поэт Аристотель. Поэтика
Пр. Ап Иосиф Флавий. Против Апиона
Пров Сенека (Младший). О провидении
Разг Иустин. Разговор с Трифоном иудеем
Расс Максим Тирский. Рассуждения
Речи Речи (Дион Хрисостом, Лисий и т. д.)
Рим. древн Дионисий Галикарнасский. Римские древности
Рим. ист Аппиан. Римская история
Рит. Алекс Псевдо-Аристотель/Анаксимен Лампсакский. Риторика для Александра
Сат Петроний. Сатирикон
Сваз Сенека (Старший). Свазории
Серт Плутарх. Серторий
Симп Ксенофонт. Симпосий
Смеш Филон. О смешении языков
Согл. еванг Августин. О согласии евангелистов
Созерц Филон. О созерцательной жизни
Сравн. Алк. Кор Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Алкивиад и Гай Марций Кориолан
Сравн. Арист. Кат Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Аристид и Марк Катон
Сравн. Лис. Сул Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Лисандр и Сулла
Стром Климент Александрийский. Строматы
Таин Амвросий. О таинствах
Теог Гесиод. Теогония
Теоф Евсевий. Теофания
Толк. Ин Ориген. Толкование на Евангелие от Иоанна
Толк. Ис Иероним. Толкование на пророка Исаию, в 18-ти кн.
Толк. Мф Ориген. Толкование на Евангелие от Матфея
Толк. Пс Евсевий. Толкование на Псалтирь
Устан Лактанций. Божественные установления, в 7 кн.
Фук Дионисий Галикарнасский. О Фукидиде
Фукидид Фукидид. История Пелопоннесской войны
Хрон Михаил Сириец. Хроника
Хроника Сульпиций Север. Хроника, в 2 кн.
Хроногр Иоанн Малала. Хронография
Цельс Ориген. Против Цельса
Церк. ист Евсевий. Церковная история
Чет. толк. Мф Иероним. Четыре книги толкований на Евангелие от Матфея
Экл Вергилий. Эклоги
Эл Еврипид. Электра
Эн Вергилий. Энеида
Энх Эпиктет. Энхиридион
Эпит Арий Дидим. Эпитоме (О школах)
Юг. война Саллюстий. Югуртинская война
Таблица исторических дат
168 до н. э. Восстание Маккавеев
161 до н. э. Смерть Иуды Маккавея; Ионатан становится предводителем
152 до н. э. Ионатан Хасмоней становится первосвященником
143/142 до н. э. Смерть Ионатана; Симон становится первосвященником
135/134 до н. э. Смерть Симона
135/134–104 до н. э. Иоанн Гиркан
104–103 до н. э. Аристобул I принимает титул «царя»
103–76 до н. э. Ялександр Яннай
76–67 до н. э. Саломея Александра – царица; Гиркан II – первосвященник
67–63 до н. э. Аристобул II
63 до н. э. Помпей захватывает Иерусалим
63–40 до н. э. Гиркан II вновь становится первосвященником
40 до н. э. Парфянское вторжение
40–37 до н. э. Антигон
37–4 до н. э. Ирод Великий
31 до н. э. Битва при мысе Акций; сильное землетрясение в Иудее
4 до н. э. Волнения после смерти Ирода
66–74 н. э. Иудейское восстание против Рима
132–135 н. э. Восстание Бар-Кохбы
Авторы статей
Дейл Эллисон Принстонская богословская семинария
Мордехай Авиам Институт археологии Галилеи
Ричард Бокэм Сент-Эндрюсский университет, Шотландия (в отставке)
Даррел Бок Далласская богословская семинария
Дональд Кэппс Принстонская богословская семинария († 2015)
Джеймс Чарлзворт Принстонская богословская семинария
Брюс Чилтон Бард-колледж
Майкл Аллен Дейз Колледж Вильгельма и Марии
Арье Эдрей Тель-Авивский университет
Кэти Эренспергер Уэльский университет Святой Троицы и Святого Давида
Кейси Элледж Колледж Густава Адольфа
Крэйг Эванс Богословский колледж Акадии
Питер Флинт Университет Тринити-Вестерн
Шон Фрейн Тринити-колледж, Дублин († 2013)
Дэвид Хэндин Американское нумизматическое общество
Том Холмен Хельсинкский университет
Ричард Хорсли Бостонский университет штата Массачусетс
Джереми Хаттон Висконсинский университет в Мадисоне
Крэйг Кинер Богословская семинария Осбери
Вернер Кельбер Университет Райса
Ульрих Луц Бернский университет (в отставке)
Габриэль Мазор Еврейский университет в Иерусалиме
Ли Мартин Макдональд Богословский колледж Акадии (в отставке)
Дорон Мендельс Еврейский университет в Иерусалиме (в отставке)
Дэниел Мур Баптистская богословская семинария Среднего Запада
Сулейман Мурад Колледж Смит
Этьен Нодэ Библейская и археологическая школа в Иерусалиме («Эколь Библик»)
Лидия Новакович Бэйлорский университет
Герберн Угема Университет Макгилла
Джордж Парсениос Принстонская богословская семинария
Фема Перкинс Бостонский колледж
Петр Покорны Карлов университет в Праге
Стэнли Портер Богословский колледж Макмастера
Брайан Ри Бостонский колледж
Ян Росковец Карлов университет в Праге
Дуайт Муди Смит Университет Дьюка, семинария (в отставке)
Герд Тайсен Гейдельбергский университет (в отставке)
Геза Вермеш Оксфордский университет († 2013)
Уолтер Уивер Южный колледж Флориды (в отставке)
Роберт Уэбб Университет Макмастера
Вступление. Исследуя Иисуса: подходы и методы. Второй симпозиум Принстон-Прага*
Джеймс Чарлзворт
Все больше ученых-гуманитариев из самых разных дисциплин и научных школ различают «Исследование Иисуса» и Третий поиск исторического Иисуса. «Поиском» всецело заняты специалисты по Новому Завету, и часто побудительной причиной для их работы становятся богословские представления. «Исследование Иисуса», напротив – дисциплина академическая; она влечет богословов, археологов, историков, нумизматов, палеографов, географов, знатоков устной истории, социологов и экспертов в психобиографии. В исследование исторического Иисуса вовлекаются католики, протестанты, иудеи, атеисты и многие другие, и все признают, что это исследование надлежит обогащать любыми уместными данными (археологическими находками и всеми древними текстами) и при помощи всевозможных научных методик. Именно это и определило программу Второго симпозиума Принстон-Прага, на котором все ведущие специалисты в изучении исторического Иисуса представили свои доклады, посвященные разным методологическим подходам. Симпозиум прошел в Принстоне с 18 по 21 апреля 2007 года при поддержке Айана Торренса, президента Принстонской теологической семинарии.
Для методик, которыми пользуются в своей работе историки и исследователи, характерна самокритика. Недостаточно просто поставить вопрос и предложить ответ. Следует крайне внимательно отнестись к предпосылкам, стоящим за каждым вопросом, а также продумать, что войдет в методику и что станет приоритетом; кроме того, нужно делиться идеями и использовать лишь улучшенные варианты методик, пока мы не придем к заключениям, какими бы те ни оказались. Из какой бы сферы ни происходили вопросы – будь то история, археология, литературоведение, богословие, – исследователи обращаются к научному методу. Из тех, кто решил сосредоточить свои исследования на историческом Иисусе, почти все признают, что им необходимо применять историко-критический метод. К сожалению, в прошлом мало кто понимал, что работу можно обогатить знаниями из других областей: социологии, антропологии, археологии, риторики и психобиографии. Кроме того, многие не принимают во внимание все данные, имеющие отношение к исследованию личности Иисуса и его мира. Так, лишь в последние тридцать лет исследователи открыли для себя бесценную сокровищницу – литературу эпохи раннего иудаизма, ставшую с тех пор sine qua non, непременным условием в изучении всего, что связано с Иисусом.
Желая сделать свои исследования всесторонними и свободными от дискриминации и предрассудков, участники Второго симпозиума Принстон-Прага постарались создать карту разных подходов к личности еврея по имени «Иисус, сын Иосифа» (Ин 6:42), изображенного и провозглашенного в Евангелиях. Ход мысли определили такие вопросы:
1. Какие методы и данные были использованы в опубликованных трудах?
2. Какие методы и данные следует использовать и в чем особая ценность именно вашей области знаний и ваших исследований?
3. Что можно предложить для развития исследований Иисуса?
4. Позволит ли улучшение методик и более инклюзивный, непредвзятый подход к источникам, литературным и прочим, по-новому и более глубоко осмыслить предмет наших исследований, и если да, то в чем именно это выразится?
Мы разделили книгу на две большие части. Первая, «Контексты», посвящена «новым» методикам, призванным для изучения мира, в котором жил Иисус: в частности, к ним относятся археология, топография, а также изучение культурной и религиозной среды, окружавшей Иисуса как иудея. А кроме того, мы поговорим о новой методике, психобиографии, которая позволяет рассматривать Иисуса как личность в более широких контекстах. Вторая часть, «Передача традиций Иисуса», посвящена нашим текстуальным источникам, в которых говорится об Иисусе, и тому, как эти источники передавались из поколения в поколение, а кроме того, в ней представлены главы, посвященные отдельным аспектам жизни и служения Иисуса.
У вступления две задачи. Во-первых, я хотел бы поместить обе части нашего труда в более широкую перспективу изучения Иисуса, что особенно важно для читателей, впервые узнавших об этих дискуссиях. А во-вторых, я хочу представить все наши материалы, указать на методики, при помощи которых они получены, и на то, какую ценность они вносят в изучение Иисуса из Назарета в социальном и историческом контексте его жизни. Широкий спектр работ не позволяет подробно разобрать каждую; впрочем, я буду только рад, если читатели захотят ознакомиться со всеми, и поэтому сейчас скажу лишь о самом главном.
«Поиски» и «исследование» Иисуса
Я уже посвятил ряд книг и статей «поискам» Иисуса[1], но, возможно, читатели, еще не успевшие познакомиться с этой дисциплиной, благосклонно оценят краткий исторический обзор. Во избежание путаницы следует выделить три разных определения, важных для «Исследования Иисуса»: (1) Иисус истории (англ. Jesus of history) – это подлинный и реальный исторический персонаж, еврей, живший в Палестине в I веке н. э.; его облик время от времени можно различить за туманом мифов и воззваний евангелистов; (2) Исторический Иисус (англ. historical Jesus) – это термин, призванный обозначить все, что можно воссоздать об «Иисусе истории» с помощью специальных исследований и размышлений. (3) Христос веры (англ. Christ of faith) – это тот Иисус Христос, о котором проповедуют и которого знают верующие христиане. Впрочем, такое понятие, как Христос веры, не следует воспринимать как верование в некое бесплотное небесное существо; истоки Христа веры восходят к нашим знаниям об Иисусе (то есть об историческом Иисусе).
За Первым и Вторым поиском исторического Иисуса стояли богословские «повестки дня», тогда как «Исследование Иисуса» не связано (в идеале) ни с притязаниями теологов, ни с их проблемами. Сто лет тому назад Альберт Швейцер говорил о «хаосе в современных жизнеописаниях Иисуса», вышедших вслед за фундаментальным трудом самого Швейцера, посвященным историческому Иисусу. И его слова оказались пророческими. Если взглянуть на огромный поток книг об Иисусе, можно подумать, что нынешний хаос в этой области еще «хаотичнее», чем тот, что царил во времена Швейцера. «Исследование Иисуса» – это множество разных дисциплин, это работы, выходящие на десятках современных языков, и эта сфера столь широка, что ни один специалист не сможет сказать, будто ознакомился со всеми публикациями. Более того, взгляды исследователей широко разнятся. Одни специалисты по Новому Завету полагают, что изучение исторического Иисуса ведет в тупик. Другие без должных оснований утверждают, будто Евангелия созданы непосредственными свидетелями событий: Матфей и Иоанн были апостолами, Марк – помощником Петра, а Лука – спутником Павла. «Исследование Иисуса» не так беспомощно, как полагает первая группа; впрочем, документально оно зафиксировано не столь надежно, как думает вторая. Среди тех, кто задействован в «Исследовании Иисуса», как, кстати, и среди археологов, мы встретим и минималистов, и максималистов. А большинство специалистов отвергает обе крайности из-за их неустойчивой позиции, недостаточно верного понимания источников и отсутствия должной методики для исследования Иисуса. Как минималисты, так и максималисты последовали за слепым поводырем и оказались в яме (ср.: Мф 15:14). Однако за видимым хаосом можно различить беспримерное единодушие во всем, что касается методологии и ряда важных аспектов жизни и мировоззрения Иисуса.
Эксперты, в общем-то, согласны в том, что Старый поиск исторического Иисуса начался в 1835 году, когда Давид Штраус опубликовал свое критическое исследование «Жизнь Иисуса», и длился до 1906 года, когда вышел главный труд Альберта Швейцера об Иисусе. Историко-критический метод все еще пребывал во младенчестве. В свете своих аргументов исследователи представали истинными знатоками, но на самом деле их доводам не хватало ни научного характера, ни самокритики, ни стремления объективно оценить как эпоху иудаизма периода Второго Храма, так и то место, которое в ней занимал Иисус. Некоторые специалисты по Новому Завету даже утверждали, что возлюбленным учеником Иисуса, упомянутым в Евангелии от Иоанна, был Иуда. Эрнест Ренан, известный французский литератор, предположил, будто в последние мучительные мгновения в Гефсиманском саду Иисус терзался сожалениями о галилеянках, которых ему следовало бы любить. Адольф Гарнак, знаменитый историк Церкви, уверял, что Иисус учил людей отцовству Бога, братству всех людей и этике любви. Ренан и Гарнак оказали на культуру огромное влияние, их читали очень многие, но в строках их трудов люди не слышали голоса галилейского еврея, а соприкасались с французским романтизмом и немецким идеализмом – и внимательный читатель непременно задумывался о том, почему же Иисуса так плохо понимали его последователи и как могло случиться, что Князя мира (см.: Ис 9:6) распяли на кресте.
В 1906 году, в первом издании своего труда, посвященного историческому Иисусу, Альберт Швейцер указал на то, что все писатели XIX века просто предлагали образ Иисуса, который было легко полюбить, понять и сделать предметом восхищения. Монументальная работа Швейцера «История исследования жизни Иисуса» – это не только классика, но и, быть может, самый значимый труд из всех когда-либо опубликованных в этой области. Сегодня, сто лет спустя, почти все исследователи согласны с Швейцером в том, что на Иисуса глубоко повлиял иудейский апокалиптизм – ожидание конца света и Страшного суда[2].
Джордж Тиррелл, ирландский модернист и католик, проницательно подчеркнул, что те, кто писал об Иисусе с претензией на историческую достоверность, на самом деле просто вглядывались в колодец истории и видели там свое отражение[3]. Это суждение, mutatis mutandis – с необходимыми поправками – все так же неотступно звучит в широком потоке публикаций об Иисусе.
Сразу после Первой мировой войны историческое изучение Иисуса прекратилось во многих семинариях и университетах, а особенно – во влиятельных ведущих немецких учебных заведениях. Такие властители дум, как Рудольф Бультман, Карл Барт и Пауль Тиллих, заявили, что исторический Иисус – просто порождение фантазии ученых-гуманитариев. И более того, часто они, пусть и неявно, намекали на то, что надежные знания об «Иисусе истории» ничего не значат для христианской веры[4]. Похоже, именно это все и услышали: христианам достаточно знать, что они спасены «одной верой» – ничего больше. Мало того что это клише искажает сложные богословские идеи как Мартина Лютера, так и апостола Павла[5], оно еще и позволяет издавать рескрипты, призывающие к отказу от сложной задачи исторических исследований. К сожалению, отголоски этих старых воззрений, ныне решительно опровергнутых и библеистами, и теологами, иногда еще слышны на лекциях и в проповедях. Появилась такая важная методика изучения Нового Завета, как риторическая критика; впрочем, при обращении к ней легко отойти от утверждений керигмы – вести об Иисусе как Христе, Сыне Божьем – и вместо исторических исследований начать рассматривать образ Иисуса в евангельском повествовании.
В период с 1920-х годов (в 1919 году вышел комментарий Карла Барта на Послание к Римлянам, позже возникла школа Рудольфа Бультмана) по 1953 год теология Барта и Бультмана процветала. К историзму и ее основатели, и их последователи относились презрительно. И пусть даже многие ученые-гуманитарии, изучавшие Новый Завет, особенно француз Пьер Бенуа и норвежец Нильс Альструп Даль, еще задолго до 1950 года подчеркивали то, сколь важны исторические исследования, посвященные Иисусу, принято считать, что Новый поиск исторического Иисуса начался в 1953 году. И начал его Эрнст Кеземан, ученик Рудольфа Бультмана, причем смело и дерзко – в присутствии учителя, на торжественном собрании учеников в Марбурге. Кеземан показал, что Новый Завет намного более историчен, чем допускал Бультман. Христианское богословие, утверждал Кеземан, коренится не в идеях и не в экзистенциализме. Он смог убедить многих специалистов по Новому Завету в том, что в основе христианства лежат реально происходившие в истории события и что между подлинными словами Иисуса и воззваниями палестинского «Движения Иисуса»[6] существует преемственность.
Новый поиск исторического Иисуса не заинтересовал большую часть теологов и вскоре тихо и незаметно исчез. Но почему он оказался столь безуспешным? Отчасти потому, что его сторонниками двигали богословские интересы, умалявшие важность истории – таким было наследие экзистенциализма. Нежелание заниматься социологией, антропологией и археологией при повышенном интересе к христологии вряд ли позволяло лучше понять Иисуса из Назарета – иудея, жившего в первые тридцать лет нашей эры. Сегодня, оглядываясь в прошлое, мы можем увидеть, что методы сторонников Нового поиска не соответствовали стандартам строгой научной историографии.
Примерно в 1980 году в науках гуманитарного цикла началось нечто новое[7]. Я назвал это явление «Исследованием Иисуса». Независимо от своих богословских представлений и верований (или даже их отсутствия) многие исследователи по всему миру, и в том числе евреи, не склонные вести полемику об Иисусе, стали проявлять интерес к истории иудеев, живших в Палестине до 70 г. н. э., и в том числе к Иисусу из Назарета, – и осознали, сколь важны эти вопросы.
Те, кто исследовал мостовые и улицы, проложенные до 70 г. н. э. и неожиданно найденные при раскопках в Иерусалиме, под Старым городом, спрашивали себя: какие люди гуляли по ним две с лишним тысячи лет назад? В Капернауме нашли дома из базальта, возведенные в I веке. Как оказалось, в Верхнем городе Иерусалима в то время строили роскошные дворцы – и уже невозможно не думать о том, какую жизнь вели их обитатели до 70 г. н. э. И в Иерусалиме, и в других местах, в частности в Нижней Галилее, было найдено множество микв – иудейских ритуальных бассейнов, в которых омывались от ритуальной нечистоты – и, естественно, появились вопросы о характере религиозной жизни иудеев до упомянутого времени. А благодаря тому, что в Иерусалиме, в Кумране и особенно в Хирбет-Кане обнаружились каменные сосуды, связанные с иудейскими ритуалами очищения, мы смогли иначе воспринять традиции, о которых говорится в Ин 2:6, и по-новому осмыслить образ Иисуса, которого, если верить Иоанну, пригласили на дорогостоящую свадьбу в Кане.
Иудейские и христианские историки – независимо друг от друга и по всему миру – задумались над тем, что мы можем узнать о многих предводителях еврейского народа, живших в Святой Земле до 70 г. н. э. Ученые стремились понять, как проводил свои дни анонимный Учитель Праведности, основатель кумранской общины. Иудеи и христиане искали достоверные исторические сведения о Гиллеле, фарисее, который жил незадолго до Иисуса и, как предполагают, отстаивал многие богословские идеи, схожие с теми, какие приписывают Иисусу. Специалисты написали целые тома об апостоле Павле, пытаясь понять фарисея, поверившего в мессианство Иисуса. Многие размышляли о том, что говорят исторические свидетельства о Гамлиэле ха-Закене, или Гамалииле, у которого, по свидетельству Книги Деяний, учился Павел. Евреи, ревностно желавшие узнать об истоках раввинистического иудаизма, обсуждали историчность преданий об Йоханане бен Заккае, возглавившем первую раввинскую академию в Явне. И неудивительно, что многие исследователи задавали аналогичные исторические вопросы об Иисусе из Назарета.
Чем этот новый подход отличался от тех, что господствовали прежде? Ответ очевиден. В отличие от Старого поиска и Нового поиска, «Исследование Иисуса» было свободным от богословских мотивов и находилось под влиянием иных источников: то были свитки Мертвого моря, первая раввинистическая литература, сочинения Иосифа Флавия и другие тексты эпохи раннего иудаизма, те же ветхозаветные апокрифы и псевдэпиграфы. Это был скорее не «поиск», а результат «исследования»: здесь в изучении исторического Иисуса обрели важную роль археология, антропология и социология.
Но не может ли эта граница, проведенная в 1980 году и разделившая сферу на «до» и «после», увести нас на ложный путь – и если может, то в какой мере? В отличие от 70 года, 1980-й не ознаменован исторической катастрофой. И многие признанные ученые, скажем, Фердинанд Кристиан Баур, Морис Гогель, Шарль Гиньбер, Альфред Луази, Давид Штраус – не согласились бы с тем, что их побуждали к трудам проблемы богословия. Впрочем, столь же несправедливо говорить, будто исторические исследования Рудольфа Бультмана просто велись под диктовку его экзистенциального богословия и христологических интересов. Более того, нам равно так же следует спросить: сколь беспристрастны – как историки – те же Маркус Борг и Джон Доминик Кроссан? В какой степени их работы об «историческом Иисусе» сформированы их христологическими представлениями? Ученым еще не раз предстоит спорить о таких вопросах.
Это название, которое я решил использовать – «Исследование Иисуса» – прежде всего призвано подчеркнуть, что сегодня стремление к «беспристрастному» изучению всего, что связано с Иисусом, и к более научному рассмотрению мира, в котором он жил, чувствуется сильнее, чем до 1980 года. «Беспристрастное» изучение, как видится мне, во-первых, стремится к объективности, во-вторых, проводится индуктивно, а в-третьих, не пытается дать заранее готовые ответы на поставленные вопросы. И в беспристрастном «Исследовании Иисуса» мы спрашиваем, не предполагая желанного ответа. Мы ставим честные вопросы – и нас не всегда радует тот ответ, который дает история. Естественно, специалисты, занятые в «Исследовании Иисуса», способны вести серьезное историческое иследование, не подчиняя свои выводы богословской «повестке дня». Вот лишь ряд их имен: Эд Сандерс, Ричард Хорсли, Джеймс Данн, Джон Майер, Герд Тайсен, Петр Покорны и Николас Томас Райт. Кроме того, в изучение Иисуса внесли значимый вклад многие исследователи-иудаисты, такие как Геза Вермеш (Оксфордский университет), Давид Флуссер (Еврейский университет в Иерусалиме) и Эми-Джилл Левин (Университет Вандербильта).
Впрочем, нужны и примеры, призванные ясно показать, что современное «Исследование Иисуса» – это и правда смена парадигм, а не просто видимость. Новая волна исследований отличается не только включением первичных данных, тех же свитков Мертвого моря и других археологических находок, предшествующих 70 году н. э., но и улучшенными методиками исследования и опорой на более широкий круг научных дисциплин. Изначально Флуссер мог закончить свое исследование «исторического Иисуса» смертью главного героя. Сегодня в его книге необходим эпилог, где представлены мысли о том, как идеи Иисуса, который жил и действовал в истории, развились и превратились в веру первых поколений христиан[8]. Отец Мари-Жозеф Лагранж, основатель Библейской и археологической французской школы в Иерусалиме («Эколь Библик»), всегда работал с оглядкой на цензуру Ватикана, а в наше время исследователи-католики свободно беседуют об истории. Раймонд Браун и Джон Майер могут размышлять об историчности рождения от Девы (исповедуя веру в него на богослужении). Этьен Нодэ – в той же «Эколь Библик» – волен пересматривать биографию Иисуса без необходимости манипуляций с догматами[9], а Джером Мёрфи-O’Коннор спокойно публикует жизнеописание апостола Павла, нисколько не заботясь о том, удовлетворит ли оно интересы папства[10].
Если сравнить нынешнее положение дел с 1980 годом, то в современном «Исследовании Иисуса» видны широкие расхождения по существенным вопросам. Условно можно разделить исследователей на две группы: представители одной, такие как Эд Сандерс, выступают за исторические методы и отвергают конфессионализм, другие же, такие как Маркус Борг, сочетают историю с христологией. Но в итоге все эти жесткие рамки, похожие на противопоставление либералов и консерваторов, не столько отражают, сколько искажают реальность. Наряду с книгами, которые под эгидой «Исследования Иисуса» выпускают Давид Флуссер, Джеймс Чарлзворт, Джон Майер, Ричард Хорсли и Эд Сандерс, выходит немало других публикаций об Иисусе, никак не желающих вписываться в четкие рамки – их публикуют, скажем, Бен Уитерингтон, Джон Доминик Кроссан, Николас Томас Райт и Пола Фредриксен[11].
И теперь, дав этот предварительный обзор исследований исторического Иисуса, я представляю читателям наш общий труд.
Новые и лучшие методики
Книгу открывают четыре статьи, призванные раскрыть суть методик: две из них дают историческую перспективу, а две других говорят о природе методологических размышлений. Программную речь на нашем симпозиуме произнес Геза Вермеш, и это была для нас большая честь[12]. Его статья посвящена двум темам: во-первых, тому, как иудейская литература (в частности раввинистическая) помогает нам оценить связь Иисуса с иудаизмом; во-вторых, тому, благодаря чему мы можем отличить аутентичные высказывания Иисуса от тех, что ему приписали позже[13]. Этот второй вопрос занимает главное место и в статье Стэнли Портера, посвященной именно критериям подлинности. Портер заключает, что они, особенно критерий двойного несходства, имеют ограничения, поскольку в их основе лежат устаревшие философские предпосылки, из-за которых исследователи не могут ясно видеть, – именно потому мы и не можем создать жизнеспособный исторический портрет[14].
Уолтер Уивер в историческом обзоре, посвященном изучению Иисуса, исследует «проблему разнородных Иисусов» и спрашивает: сможем ли мы избежать той ошибки, о которой говорил Тиррелл? Иными словами, получится ли у нас вглядеться в колодец истории и увидеть в нем нечто большее, нежели собственное отражение? Уивер говорит о мыслителях эпохи Просвещения – малоизвестных предшественниках Первого поиска исторического Иисуса, и переходит к «трем титанам Старого поиска» – Герману Реймарусу, Давиду Штраусу и Альберту Швейцеру. Он не надеется на появление «единогласно принятого образа Иисуса», ведь социальные, исторические и культурные контексты, в которых пребывают толкователи, столь отличаются от тех, какие окружали загадочную личность Иисуса, что у нас почти не остается места для общего портрета.
Об одном значимом примере таких социальных, исторических и культурных отличий говорит Дэниел Мур: он исследовал работы семерых иудаистов, пытавшихся истолковать Иисуса в ХХ веке[15]. Столь весомый вклад ученых-иудеев в «Исследование Иисуса» – это уникальная черта нового движения, проявляющая его яркие отличия от «поисков» прошлых лет. Объективное изучение всего, что связано с Иисусом, полагается не на богословие и не на обожествление Иисуса, столь привлекательное для христиан, а на исторические исследования.
О таком строгом исследовании, в котором принимаются во внимание все важные данные и используются все нужные методики, мы поговорим в оставшихся главах первой части книги. Пять из них посвящены археологическому и топографическому контекстам того мира, в котором жил Иисус; еще восемь сосредоточены на том культурном и религиозном контексте иудаизма, в котором Иисусу приходилось действовать. Джеймс Чарлзворт и Мордехай Авиам рассмотрят Галилею в двух аспектах, с точки зрения топографии и археологии, и через десять вопросов, ставших «точками входа», перейдут к исследованию, призванному очертить мир времен Иисуса. Из содержательного труда Габриэля Мазора мы узнаем о том, как римская архитектура демонстрировала имперские ценности и служила для их пропаганды, что особенно ярко проявлялось в восточных провинциях и даже на территориях, где проживали евреи. Обзор Дэвида Хэндина покажет, как нумизматика, изучая древние монеты, позволяет лучше понять мир Иисуса и некоторые евангельские пассажи. А Джереми Хаттон, знаток ветхозаветных текстов, пояснит, почему Иоанн крестил именно в Иордане, и сколь важен был в Священном Писании этот нарратив как основа для смысла евангельских повествований.
Шон Фрейн размышляет о том, как наилучшим образом соотнести самые современные отчеты археологов о Галилее с литературными источниками, повествующими о том мире, в котором вершил свое служение Иисус. Фрейн ставит серьезные вопросы касательно методик и, помимо прочего, попрекает тех, кто по причине некогда господствовавших воззрений решает игнорировать те или иные источники. Почему мы обходим молчанием Четвертое Евангелие? И следует ли нам пренебрегать взглядами синоптиков, повествующих о движении Иисуса, и отдавать предпочтение современной социологической конструкции, построенной на гипотезах XIX века о «примитивных» обществах? Автор не призывает вернуться к докритическому отношению к Евангелию и принимать все как данность, но, скорее, указывает на избирательность сегодняшних исследователей, которым недостает критического отношения к самим себе.
Разумеется, контекст Иисуса – это не только реалии и география, но и иудаизм. Центральная аксиома «Исследования Иисуса» гласит, что Иисус был евреем и в центре религиозно-культурного контекста его жизни пребывал иудаизм. Том Холмен вновь формулирует идеи, которые прежде высказали (но не развивали) Иосиф Клаузнер и Эд Сандерс[16], рассуждает о формулировке «Иисус в иудаизме» и говорит, что та неправильно выражает конечную цель «Исследования Иисуса» – скорее, Иисуса надо понимать в непрерывности тесно связанных явлений, иными словами, в континууме, возникшем между иудаизмом и раннехристианским движением. Историческое воссоздание жизни Иисуса имеет смысл лишь тогда, когда с его помощью мы можем увидеть и значение Иисуса в его собственном иудейском контексте, и то, как тот же самый Иисус связан с началом ранней Церкви[17].
Этот континуум и такой контекстуальный подход крайне важны и для Дейла Эллисона. В его работе Иисус представлен в самом центре иудейского апокалиптизма. Полагаясь на психологические исследования, Эллисон отмечает, что человеческая память часто предпочитает не детальную прорисовку, а крупные штрихи. И он спрашивает: как же так вышло, что хранители традиции смогли точно запомнить афоризмы и краткие реплики Иисуса, но при этом совершенно не сумели верно изобразить Иисуса, пророка апокалипсиса? Эллисон обращается и к антропологическим моделям хилиастов, пытаясь понять христианское движение на его ранних этапах, и приходит к такому выводу: пусть Иисуса и представляют как философа с умеренными взглядами, его образ обретает смысл лишь как образ пророка, возвещающего конец света в рамках апокалиптического иудаизма, и как вдохновителя апокалиптического раннего христианства.
Статья Герда Тайсена проясняет положение Иисуса в категориях иудаизма и то, как по прошествии столь недолгого времени Иисуса начали почитать как того, кто «стоит одесную Бога». Тайсен отмечает, что связь исторического Иисуса и Сына Божьего, провозглашенного в керигме – это одна из важнейших проблем исследования Нового Завета, и отчасти ее могут разрешить социальная история – в частности, именно та роль, какой наделяли Иисуса люди, и его отклик на их ожидания. В античном мире, как это видно из идеи о theatrum mundi, «мире-театре», роль воспринималась как нечто, определяемое обстоятельствами. Это чувство владело всеми. Никто не властен над судьбой, и никто не в силах определить свое положение: его определяет божество, а признает общество. В свете такого понимания древней культуры Тайсен рассматривает четыре роли, приписанные Иисусу первыми христианами: роль Учителя, роль Пророка, роль Мессии и роль Сына Человеческого – и многое становится ясным. Например, Иисус ни разу не называет себя Мессией. Этим статусом его должны наделить другие: или с упованием, как Петр, или с презрением, отраженным в прикрепленной к кресту дощечке с надписью INRI. Если Иисус – Мессия, Бог должен это ясно показать; никто не вправе по собственной воле претендовать на такой титул. Внимание Тайсена к новым методикам и подходам проясняет даже сложную и запутанную проблему «Сына Человеческого»[18].
Другие авторы, изучавшие различные аспекты раннего иудаизма, рассматривают Иисуса сквозь призму своих знаний. Содержательный обзор Питера Флинта расскажет о том, как в «Исследовании Иисуса» порой неверно использовали свитки Мертвого моря; впрочем, автор приводит и несколько кумранских текстов, очень ценных в изучении Иоанна Крестителя и Иисуса. Как и Иоанн Креститель, насельники кумранской общины проявляли немалый интерес к Ис 40:3; подобно источнику Q (Лк 7:20–23 = Мф 11:2–6), один текст из Кумрана (4Q521) связывает воскрешение мертвых с приходом Мессии.
Брюс Чилтон показал, как арамейский язык способен прояснить образ Иисуса в двух особых аспектах. Чилтон снова переводит на арамейский молитву «Отче наш», указывает ее ключевые идеи, раскрывает смысл выражений и соотносит определенные темы, упомянутые в молитве Иисуса, в частности – владычество Бога, с Псалтирью, а кроме того, рассуждает о значении таргумов для понимания Иисуса и Евангелий. В таргумах есть ряд пассажей, представляющих собой наиболее близкие по форме параллели к отрывку из Священного Писания, который цитирует Иисус; в других случаях тексты Писания толкуются в таргумах примерно так же, как в Новом Завете. Порой в новозаветных текстах появляются фразы, характерные для таргумов, а иногда можно найти и тематические соответствия.
Майкл Дейз утверждает: «Если Иисус был в одинаковой мере и иудеем, и последователем иудаизма, то к галахическому аспекту его жизни нам следует проявить интерес столь же неослабный, какой мы проявляем к другим, а именно богословскому, социально-экономическому и политическому». В частности, Дейз говорит о том, какую роль в публичном служении и смерти Иисуса играли еврейские праздники, моадим. Кроме того, он рассматривает вопрос об Иисусе и моадим в исторической перспективе; проявляет особое внимание к таким моментам, как точные даты Тайной Вечери и Распятия; показывает канун празднества иудейской Пасхи как контекст, в котором свершилась смерть Иисуса; изучает календарь, которому следовал Иисус; и указывает на то, как часто Иисус совершал паломничества в дни публичного служения. А после Дейз предлагает нам два направления дальнейших исследований: снова обратиться к тому, что сказано у Иоанна о паломничествах Иисуса в Иерусалим и сопоставить эти сведения с картиной, представленной у синоптиков, а также подробнее изучить подтекст Первого послания к Коринфянам, связанный с литургическим контекстом смерти Иисуса.
Для Ричарда Хорсли важнейшая контекстуальная основа – это отношения политики и религии. Он убедительно показывает, что при изучении исторического Иисуса надо ставить те же вопросы и применять те же методики, к каким мы обращаемся при изучении других исторических персонажей: нам надлежит, критически оценивая доступные источники, рассматривать Иисуса в его историческом контексте и учитывать то, как он взаимодействовал с окружением – а среди этих взаимодействий, несомненно, будут и конфликты с другими людьми и социальными институтами. При этом, как отмечает Хорсли, в античном мире религия, политика и экономика неразделимы.
Масштабные религиозные и политические явления мира, в котором жил Иисус, интересуют и таких исследователей, как Арье Эдрей и Дорон Мендельс. Они исследуют корпус раввинистической литературы – Мишну, Тосефту, Иерусалимский и Вавилонский Талмуды и другие тексты, – и указывают на глубокую культурную пропасть, отделяющую западную диаспору от восточной. «Западные» евреи говорили на греческом и латыни, «восточные» – на арамейском и еврейском. Хотя Библия была переведена на греческий и латинский, поучения мудрецов – сначала устные, потом записанные в виде Мишны и Талмуда – остались непереведенными. Эдрей и Мендельс полагали, что из-за этого разделения культур апостолу Павлу легче было распространять христианское благовестие на Западе.
Джеймс Чарлзворт и Дональд Кэппс решили взглянуть на образ Иисуса с помощью новой психобиографической методики. Такое применение психологии в историческом исследовании дает новые прозрения и методы и позволяет говорить об Иисусе как о личности в его окружении. Что он думал о себе? Как понимал сам себя в семье и общине? Психобиография может помочь нам обратиться к некоторым вопросам, которым в «Исследовании Иисуса» уделяют внимание уже давно.
Вторая часть книги содержит главы, посвященные источникам, благодаря которым мы изучаем все, что связано с Иисусом, а также аспектам его жизни и тому, как начали передаваться предания о нем. Как действовали устные предания? Что может сказать нам об Иисусе апостол Павел? Можно ли в «Исследовании Иисуса» обращаться ко всем четырем «каноническим» Евангелиям?[19] Что говорят об Иисусе так называемые неканонические евангелия, труды римских историков, Коран? Каков характер отношений между Иисусом и Иоанном Крестителем? Какое Священное Писание читал Иисус? Может ли его воскресение быть предметом историографии?
На протяжении столетий исторического Иисуса заслоняло почитание прославленного Христа, который, как верят христиане, однажды вернется на землю. Поэтому в прошлом исторического Иисуса «искали» под влиянием богословских идей и утверждений. Теперь изучение всего, что связано с Иисусом, по сути, перестало быть «поиском», проводимым во имя богословских интересов, будь то утверждения благочестивых верующих или сомнения скептиков-иконоборцев; более того, сегодня «Исследованием Иисуса» уже не движут интересы конфессий, и эта сфера уже принадлежит не только библеистам, изучающим Новый Завет.
В наши дни исследователи, разделяющие разные точки зрения и занятые в многочисленных академических дисциплинах, ставят все новые вопросы о текстах, сохраняющих предания об Иисусе, и о реалиях, свидетельствующих о том мире, в котором он жил. Мы надеемся, что эти вопросы, как те, что уже заданы, так и те, которым еще предстоит прозвучать, будут ставиться без заранее готовых выводов – и мы сможем использовать все нужные данные и изучить источники со всех мыслимых позиций и перспектив. Такая открытость в сочетании с методиками позволит нам найти более надежные ответы. И возможно, эта книга, созданная благодаря труду участников симпозиумов Принстон-Прага, сумеет укрепить фундамент для будущего «Исследования Иисуса».
Часть I
Контексты
Раздел 1
«Исследование Иисуса». Методики
«Исследование Иисуса»: мысли о лучшем методе
Геза Вермеш
Право начать Принстонский симпозиум статьей о методиках изучения исторического Иисуса – это великая честь. Правда, удивительно и даже слегка забавно, что эту честь оказали мне, ведь в Северной Америке меня порой причисляют к «ученым без методики» – в чем меня впервые обвинил профессор Джон Майер в «Маргинальном иудее»[20], а вслед за ним – и ряд других гуманитариев, не столь знаменитых. Отчасти это моя вина: мою самокритичную шутку о том, что при творческом подходе многое поневоле приходится делать «кое-как», неверно восприняли как серьезный научный принцип. И, видимо, услышав эту «шпильку», пронизанную английским прагматизмом, от венгра, учившегося в Бельгии и Франции и ставшего гражданином Великобритании лишь через натурализацию, профессор Майер воспылал праведным гневом. Не обратив никакого внимания на мою статью «Иудейская литература и новозаветная экзегеза: размышления о методологии»[21], на которую есть даже ссылка в «Религии иудея Иисуса»[22], Майер начал знакомить меня с азбучными истинами научного исследования, точно студента-первокурсника. «Любое научное исследование, – писал он, – если оно не относится к разряду полных чудачеств, проводится по определенным правилам». Кто с этим станет спорить? Более того, он обвинял меня не только в отсутствии методики, но и в некритичном обращении с раввинистической литературой при изучении Иисуса и Евангелий. И поэтому сперва стоит сказать о том, как, по моему мнению, исследователь в XXI веке должен подходить к проблеме «исторического Иисуса»[23].
Я проявлю методичность с самого начала – и выделю два важнейших вопроса, которые намерен рассмотреть:
1. Как следует, опираясь на иудейскую литературу, оценивать взаимоотношения между Иисусом и иудаизмом?
2. Как отличить аутентичные высказывания Иисуса в Евангелиях (в первую очередь – синоптических) от неаутентичных?
Иисус, Евангелия и иудаизм
Для меня очевиден один факт, и, думаю, с этим согласятся все специалисты: Иисус был иудеем. Это все знают и все принимают, это же подчеркивал и Джеймс Чарлзворт, организатор Принстонского симпозиума, в своих книгах «Иисус в иудаизме» и «Еврейство Иисуса»[24]. Более того, мы, вероятно, согласимся и с тем, что образ Иисуса, представленный в Евангелиях, тесно связан с иудаизмом, нашедшим отражение в еврейской литературе. И наш первый предварительный вопрос звучит так: какого рода иудейская литература содержит наиболее веские данные для такого сопоставления?
На этот вопрос можно дать два ответа: простой (назову его тривиальным) и более сложный. Поскольку старые представления, отраженные в «Комментарии» Штрака и Биллербека[25] и в «Богословском словаре» Киттеля[26], где использовались раввинистические тексты самых разных эпох, уже утратили свой авторитет и «ушли на покой», современные исследователи Нового Завета, в подавляющем большинстве, приняли заурядный вариант тривиального метода, основанного на крайне простом принципе: для сравнения можно обращаться только к таким иудейским текстам, которые возникли одновременно с Евангелиями или ранее их. Это Танах (Еврейская Библия, или Ветхий Завет), апокрифы, псевдэпиграфы, кумранские рукописи, труды Филона Александрийского и Иосифа Флавия – и в такое собрание разных текстов попадают лишь те, что созданы не позже конца I века н. э. А вот те труды, что появились на свет после этого времени (то есть весь корпус раввинистической литературы), в рамках такого подхода должны восприниматься как не имеющие законной силы. Такое отношение было бы отчасти оправдано в том случае, если бы считалось, что содержание упомянутых иудейских документов послужило источником для Евангелий и что евангелисты, жившие во II в. или позже, оказались авторами повествований или поучений, записанных в этих документах.
Но ни то, ни другое нельзя подтвердить фактами. В частности, большинство исследователей литературы раннего иудаизма полагает, что за Мишной, Тосефтой, Талмудами, таргумами, мидрашами и другими текстами ранней раввинистической традиции стоят не мнения отдельных людей, но законы, обычаи и верования многих веков, которые создатели текстов могли изменять в соответствии с новыми условиями, а могли и не изменять. Так, например, если в любом правиле или любой истории предполагается существование иерусалимского святилища или упоминаются лишь персонажи из эпохи Второго Храма, тогда, вероятно, это правило или эта история передают сведения, восходящие к I в. н. э. или еще более раннему времени. Это обычное явление для компиляций, предназначенных для сохранения традиции. Кроме того, когда в текстах прямо говорится о разрушении Храма или о евреях в Палестине, жизнью которых руководят не священники и не мирские правящие классы, а раввины и патриархи, нам следует предположить, что данные документы отражают традиции раввинистической эпохи.
Если исследователь решительно отвергает все раввинистические источники, полагая, будто они не подходят для сопоставления и экзегезы, – это слишком упрощенный подход. Быть может, мне не стоило бы так говорить, но я считаю, что это правда. Те, кто отвергает саму мысль об использовании раввинистических текстов как материала для сопоставления, часто просто скрывают, что незнакомы ни с Мишной, ни с Тосефтой, ни с мидрашами и Талмудами, не говоря уже о таргумах, и не желают их изучать.
Как должен специалист по Новому Завету пользоваться раввинистическими источниками? Позвольте представить вам четыре типа возможной связи между Евангелиями и раввинистической литературой.
Во-первых, сходство между новозаветными и раввинистическими текстами может объясняться чистым совпадением. Однако этих совпадений так много, что объяснить все такие параллели простой случайностью трудно.
Во-вторых, можно предположить, что евангелисты полагались на традиции, сохраненные в раввинистической литературе. Это обязывает нас отнести время создания Мишны и мидрашей к очень ранней эпохе, возможно, уже к I веку н. э.; такая гипотеза кажется неправдоподобной, хотя некоторые кумранские документы (например «Апокриф Книги Бытия») доказывают, что экзегетический материал, подобный таргумам и мидрашам, существовал в письменном виде еще до начала I в. н. э.
И опять же, некоторые любопытные находки в Кумране доказали, что отдельные раввинистические традиции возникли еще до разрушения Храма, которое произошло в 70 году н. э. Например, одна странная деталь в толкованиях, относящихся к Аврааму и Исааку, – а именно то, что место на горе Мориа, где предстояло принести Исаака в жертву, Аврааму указал огонь, – до недавнего времени подтверждалась лишь поздним таргумом псевдо-Ионафана и средневековым трудом Пирке де рабби Элиезер. Оба эти документа созданы слишком поздно для того, чтобы исследователи могли пользоваться ими при интерпретации текста I в. н. э. Однако в 1995 году я обратил внимание на один кумранский фрагмент, 4Q225, или Псевдо-Юбилеи, который показывает, что эта деталь упоминалась уже во II в. до н. э.[27]. Другими словами, если материал находится только в поздних документах, это еще не значит, что он имел позднее происхождение.
В-третьих, можно думать, что раввинистическая традиция кое-что позаимствовала из Нового Завета. Хронологически это возможно, однако гипотеза о том, что таннаи и амораи были знакомы с Новым Заветом и одновременно были готовы воспринимать его учение, не слишком правдоподобна.
В-четвертых, можно полагать, что и Евангелия, и раввинистические писания восходят к предшествующей общей иудейской традиции. Эта предпосылка позволяет при определенных условиях использовать более поздние раввинистические материалы для экзегезы Евангелий. Это можно проиллюстрировать, изменив условия сопоставления. Если вместо того, чтобы интерпретировать евангельский отрывок с помощью недатированных (возможно, поздних) материалов таргумов, отрывков из Талмуда, относящихся к V в., мидрашей таннаев III–IV вв. и Мишны, составленной на рубеже II–III вв., мы будем толковать раввинистические тексты в свете соответствующих евангельских отрывков, это не вызовет возражений с хронологической точки зрения. Тогда евангельский текст представит нам исходную точку традиции, отраженной в раввинистическом отрывке. Четыре типа возможных взаимоотношений между Евангелиями и раввинистической литературой, перечисленные выше, дают нам жизнеспособную методологию.
И теперь нам нужен новый, оригинальный подход к истории иудейских религиозных идей. Нам надлежит проследить, как эти идеи зарождаются в Еврейской Библии и как развиваются в апокрифах, псевдэпиграфах, в кумранских рукописях, у Иисуса и в Евангелиях, в трудах Филона и Флавия, а также в раввинистической литературе разных периодов. И здесь Новый Завет дает нам мерный шаблон, прекрасно размеченный в хронологическом плане, а иудейская литература, дошедшая до наших дней, позволяет лучше понять предмет.
Поэтому я не стал бы прибегать к методам Штрака и Биллербека, которые, разбирая отрывок о разводе у Матфея, а особенно оговорку «кроме вины любодеяния» (Мф 5:32), опираются на Гиттин 9:10 и еще более поздние труды, такие как Сифрей на Второзаконие и два Талмуда. Я последовал бы за эволюцией идеи и попытался бы, перейдя от Еврейской Библии к Кумрану, Иосифу Флавию и раввинистическим текстам, найти для Матфея определенное место на кривой и дать его тексту динамическую интерпретацию.
То же самое я попробовал бы сделать с повествованиями. Меня упрекали в том, что я создаю из Иисуса харизматичного хасида, о которых говорят тексты раввинов или даже амораев, – такого, как Хони ха-Меагель и Ханина бен Доса. На самом же деле я начинаю с Еврейской Библии, рассматривая сначала таких пророков-чудотворцев, как Илия и Елисей, и в целом образ «человека Божьего» в распространенных версиях иудаизма дохристианской эпохи. Затем я обращаюсь к образам Елисея, Хонии (или Хони) и Иисуса – «человека мудрого… [который] творил поразительные дела», как сказал о нем Иосиф Флавий, – и перехожу к образу Ханины бен Досы в Мишне, а позднее в обоих Талмудах, Палестинском и Вавилонском. Результат такого исследования сам становится, с типологической точки зрения, инструментом для сравнительного анализа образа Иисуса в Евангелиях.
На практическом уровне такая методика требует от специалистов по Новому Завету широкого знакомства с ранним иудаизмом, которое позволяет самостоятельно пользоваться источниками и, опираясь на них, смотреть на тексты с новой точки зрения, что необходимо для творческого исследования.
Тридцать лет назад благодаря моим усилиям в Оксфорде появилась степень магистра по иудаистике греко-римского периода, и это начинание оказалось удачным, пусть для нее и приходилось потратить немало усилий на изучение языков (еврейского, арамейского и греческого). Вскоре вслед за этим Эд Сандерс получил степень магистра по иудаизму и христианству в греко-римском мире. Подобные образовательные программы, по моему мнению, крайне важны и даже незаменимы для адекватного изучения Нового Завета.
Поиск истинного благовестия Иисуса
Теперь, определившись с тем, как использовать раввинистическую литературу, мы можем обратиться к другой проблеме: как, исследуя высказывания Иисуса, отличить его подлинное благовестие от добавлений, внесенных теми, кто писал, редактировал и комментировал Евангелия, не говоря уже о наслоении позднейших толкований. Достаточно крупицы мудрости с горчичное зерно, чтобы понять, что сотни высказываний, приписанных Иисусу и порой противоречащих одно другому, не могли принадлежать одному и тому же учителю.
Возможно, кто-то возразит: разве не мог сам Иисус передумать? Мне это представляется маловероятным. Ни один источник не говорит о нем как о человеке, склонном менять свои представления. Кроме того, его служение было слишком кратким, – оно заняло не более трех лет, хотя я скорее склонен думать, что оно продолжалось полгода-год – и это не позволяет допустить, что его идеи могли развиться постепенно.
В ХХ веке отважные исследователи Нового Завета подходили к этой проблеме по-разному. Густав Дальман[28] и Мэтью Блэк[29] метили высоко – они пытались воссоздать арамейскую основу высказываний Иисуса. Это была достойная задача, однако исполнить ее мешало серьезное препятствие: ограниченное число доступных параллельных текстов. Если на хронологическом основании мы исключим таргумы и Талмуды как слишком поздние тексты, у нас останутся только арамейские рукописи Кумрана – драгоценные, но слишком малочисленные, – которые не могут пролить свет на сложный язык Евангелий. Если коротко, то поиск арамейской основы Евангелий может дать ценные результаты, но нечасто. Я сам обращался к этому подходу, изучая проблему Сына Человеческого[30].
Немецкая школа «истории форм» (нем. Formgeschichte) – ведущее направление экзегезы Нового Завета прошлого столетия, известное в англоязычной традиции как «критика форм» (англ. Form Criticism) – делила тексты Евангелий по литературным категориям и пыталась поместить высказывания в Sitz im Leben – окружение, в котором проходила жизнь Иисуса или, гораздо чаще, жизнь «ранней Церкви». Хотя приверженцы критики форм не занимались поиском «подлинных» высказываний Иисуса, они полагали, что многие из этих изречений созданы Церковью – и тем самым косвенно не признавали их истинными. Некоторые сторонники этого подхода под влиянием Рудольфа Бультмана сформулировали правила оценки аутентичности высказываний. В своей важной книге «Открывая заново речения Иисуса»[31] Норман Перрин выделил три хорошо знакомых нам критерия: несходство, цельность и множественные свидетельства; к этому списку в своей книге «Изучение синоптических Евангелий»[32] Эд Сандерс добавил еще два: если какие-то изречения «вызывают немалый внутренний протест» или «встречаются и у друзей, и у врагов», это говорит в пользу их аутентичности.
Иногда эти правила нам помогают, но все они несут в себе один существенный недостаток. Хотя они претендуют на совершенную научную строгость, все они – а особенно важный критерий несходства – сильно склоняют исследователей к отрицанию аутентичности. Рассмотрим как пример один аргумент Бультмана о евангельских притчах:
Мы можем считать, что перед нами подлинная притча Иисуса, лишь в том случае, если, с одной стороны, в ней ярко выражен контраст между особенностями иудейской нравственной жизни и благочестия и теми характерными эсхатологическими настроениями, которыми пронизаны проповеди Иисуса, и если мы, с другой стороны, не находим в ней специфических христианских черт[33].
С глубочайшим уважением к гению Бультмана должен сказать, что этот принцип кажется мне бесполезным и почти абсурдным. Он призывает забыть о том, что и в религии, и в философии люди с незапамятных времен сталкиваются с одними и теми же главными вопросами, а оригинальность тут состоит в том, что они смотрят на знакомые темы с непривычной точки зрения или находят новые аспекты классических представлений. Как можно ожидать того, что высказывание или притча Иисуса, способные получить от нас «право» на аутентичность, отстранятся от любого проявления «иудейской нравственной жизни и благочестия»? Кроме того, если мы исключим все так называемые «христианские» элементы из аутентичного благовестия, нам неизбежно придется сделать вывод о том, что Иисус и христианство противоречат сами себе[34].
Другой часто упоминаемый принцип, который гласит: «Сомневаешься – отбрось», тоже нам не помогает. Определенность при исследовании Евангелий – это редкая и ценная находка в океане вероятностей. Поэтому, если говорить кратко, общепринятых критериев не хватает, так что нам следует разработать новые подходы.
Мы не должны забывать, что учение Иисуса менялось, пока его передавали сперва иудеям Святой Земли, потом – иудеям диаспоры и, наконец, язычникам, живущим как в Палестине, так и за ее пределами, и это происходило до того, как из этого учения родились дошедшие до нас записанные Евангелия. И нам также следует помнить, что один и тот же цельный текст может содержать разные смысловые слои, где первый уровень связан непосредственно с Иисусом, другой – с палестинским движением, вдохновителем которого стал Иисус, а третий – с тем значением, которое придали вести Иисуса неевреи, вошедшие в раннюю Церковь. Если подумать о том, сколь широкий спектр вариаций вобрала в себя евангельская весть в процессе развития, то мы поймем, что разумно отказаться от нереалистичных целей – и что лучше бы нам стремиться постичь суть учения Иисуса, а не пытаться найти его подлинные слова, его ipsissima verba[35].
Как бы там ни было, наличие нескольких Евангелий оказалось для нас благословением, и нам следует благодарить Бога за то, что Он не позволил «Диатессарону» Татиана заменить отдельные Евангелия. Те варианты высказываний Иисуса, которые сохранились в трех синоптических Евангелиях и кое-где у Иоанна[36], позволяют нам сравнивать и оценивать расхождения между ними – и благодаря этому, путем отбора, определить важнейшие границы подлинности. В книге «Истинное благовестие Иисуса»[37] я рассматривал три спорных вопроса: (1) идентичность тех, для кого предназначалась изначальная проповедь Иисуса; (2) ожидаемое им время наступления правления Бога (то есть Царства Божьего, или Царства Небесного); и, наконец, вопроса о том (3), говорил ли он заранее своим ученикам о своем страдании и смерти. Если можно пролить свет на эти неотъемлемые проблемы, ученым будет легче отделить подлинные речения от неподлинных.
Теперь позвольте мне кратко обозначить свою позицию по данным вопросам.
Кому благовествовал Иисус: лишь иудеям – или иудеям и язычникам?
Это вопрос о цели служения Иисуса и его первых посланников. Как велась их миссия – в одном народе или «по всей земле»?
О первом варианте прямо говорится у Матфея, которому вторит Марк, а вот Лука не говорит о подобном ни слова. Пассажи Матфея прекрасно известны. Иисус послан только к погибшим овцам дома Израилева (Мф 15:24), и только иудеи названы сынами Царства (Мф 8:12). Иисус решительно запрещает своим первым ученикам идти к язычникам или самарянам (Мф 10:5–6). В притчах Иисус обращается исключительно к иудеям. Язычники недостойны принять его учение – причем об этом говорит не только Матфей, но и Марк. Так, обращаясь к хананеянке, Иисус заявляет: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам» (Мф 15:26, Мк 7:27). То же самое мы видим в приписанных Иисусу словах, позже вошедших в поговорку, – о том, что святыню и драгоценный жемчуг не следует давать язычникам, названным псами и свиньями (Мф 7:6). Это высказывание насквозь пронизано чувством собственной исключительности, свойственной иудеям.
О втором варианте свидетельствуют тот же Матфей, Марк (если принять во внимание более пространное окончание его Евангелия) и, разумеется, Лука, который говорит о миссии совершенно иного характера, а именно о том, что благая весть должна быть возвещена всему миру (Мф 24:14; 28:19, Мк 16:15–16, Лк 24:46–47). И Матфей, который совсем недавно мог показаться нам еврейским шовинистом, даже говорит о том, что иудеев изгонят с небесного пира, а их место займут язычники, пришедшие с востока и запада (Мф 8:11–12).
И какая из этих двух трактовок, в которых сталкиваются противоречащие друг другу взгляды, верна? Язычники ли внесли правки в текст, устранив из образа Иисуса «проеврейскую направленность»? Или это христиане из иудеев, быть может, не без влияния Петра и Иакова, стали помехой космополитизму, которому следовал Иисус? Поскольку Деяния апостолов свидетельствуют о том, что благая весть проповедовалась исключительно иудеям – и именно такой остается универсальная политика движения Иисуса в Палестине, меняясь лишь позже, на фоне успеха миссии Павла у язычников, можно сделать лишь один логический вывод: сам Иисус призывал в Царство Божье только иудеев, а язычников в расширенную группу включила «Церковь» – по причине ослабевшего влияния апостольской проповеди на евреев Палестины и диаспоры. И если это так, тогда евангельские речения, благосклонные к язычникам, вряд ли принадлежали Иисусу – и их нельзя отнести к его подлинному учению.
Когда, по мнению Иисуса, должно было наступить Царство Божье: при его жизни, после парусии или в более отдаленном будущем?
В том Новом Завете, каким располагаем мы, представления Иисуса о моменте наступления правления Бога, или Царства Божьего, неоднозначны. Ряд высказываний позволяет думать, что Царство наступит при его жизни и жизни его современников. Но есть и другие высказывания, в которых Царство наступает пусть и при жизни его современников, но уже после парусии. Наконец, есть высказывания третьего рода, в которых наступление Царства отнесено к отдаленному моменту завершения нынешнего века.
В первом случае Иисус, исполненный эсхатологического восторга, предвидит скорое и неизбежное наступление Царства[38]. Вслед за проповедью Иоанна Крестителя Иисус возвещает, что Царство Божье «приблизилось» (Мк 1:15, Мф 4:17), и велит своим ученикам возвещать эту же самую весть (Мф 10:7, Лк 10:9, 11). Он провозглашал, что Царство – «среди»[39] его слушателей (Лк 17:20–21) или что оно «достигло до вас» (Мф 12:28, Лк 11:20), и о том свидетельствовали чудеса мессианского века (Мф 11:4–5, Лк 7:22). Иисус открыто утверждал, что Царство явится еще прежде смерти тех, кто слышит его проповедь, или вскоре после смерти Иоанна Крестителя (Мк 9:1, Мф 11:12, Лк 9:27; 16:16). Притчи Иисуса о Царстве Божьем были обращены к его современникам, и он призывал их «войти» в это Царство.
В другом важном наборе речений наступление Царства совпадает с парусией, или Вторым Пришествием Христа, которого обычно называют в этом контексте Сыном Человеческим. Сюда относятся пассажи эсхатологического дискурса, притча о Страшном суде и слова об восшествии Сына Человеческого на престол. Согласно некоторым новозаветным текстам, парусия предвиделась вскоре после смерти Иисуса. В послании к христианам Фессалоник, написанном в начале 50-х гг. н. э., Павел говорил, что парусия произойдет скоро и что он сам, несомненно, в этот момент еще будет жив (1 Фес 4:15–17).
Однако, поскольку Царство Божье так и не стало реальностью, пришлось пересмотреть «расписание событий», и появилась третья группа изречений – с акцентом на том, что нужно терпеливо ждать. В притче о десяти девах говорится, что жених «замедлил» прибыть (Мф 25:5); господин рабов возвращается «по долгом времени» (Мф 25:19, Лк 19:15); звучит напоминание о том, что мирские заботы не должны притуплять бдительность в ожидании последнего дня (Лк 21:34–36). Скептицизм и разочарование незаметно прокрадываются в души верных (2 Пет 3:4). Второе послание Петра было написано спустя сто лет после смерти Иисуса, но его автор все равно думает, что Царство Божье наступит не скоро.
Подводя итоги, можно сказать, что изречения, в которых сказано, что Царство наступит при жизни Иисуса, представляются подлинными. Позже никто уже такого бы не придумал: это звучало бы как неправда, очевидная для всех. Вероятно, Павел и первые последователи в палестинском движении Иисуса отнесли наступление Царства ко времени после парусии, – и нам уже в этом свете придется переосмыслить приписываемые Иисусу представления о том, что Царство грядет в конце времен. Одержимость эсхатологией в те дни уже прекратилась – и началась эпоха Церкви.
Предсказывал ли Иисус свои страдания и воскресение?
В Евангелиях есть две группы свидетельств, противоречащих друг другу. С одной стороны, говорится, что Иисус в беседах с самыми близкими сторонниками предсказал – причем не раз и не два – свои грядущие страдания, смерть и воскресение. Эти предсказания просты и понятны: его арестуют, он будет страдать, его убьют, а затем через три дня или на третий день он воскреснет. В Евангелии от Марка (Мк 10:32–34) и параллельных местах добавлены подробности, а сам текст дан в форме пророчества постфактум: Иисуса должны были предать в руки язычников, ему предстояло претерпеть осмеяние, плевки и бичевание, а после – быть распятым. В Евангелии от Луки (Лк 9:44) Иисус просит запомнить его предсказание: «Вложите вы себе в уши слова сии». Мы видим, что апостолов недвусмысленно предупредили о том, что их ждет.
Однако когда эти события произошли на самом деле, ученики Иисуса были ими глубоко потрясены. Они покинули Иисуса. Петр даже заявил, что не знает этого человека. Согласно синоптическим Евангелиям, ни один из апостолов и никто из родственников Иисуса не последовал за ним на Голгофу и не участвовал в его погребении. Они не ожидали того, что Иисус воскреснет, и посчитали чепухой слова женщин о пустой гробнице. Они не узнавали воскресшего Иисуса, когда тот им являлся, а по словам Матфея, когда апостолы увидели Иисуса в Галилее, некоторые из них продолжали сомневаться (Мф 28:17). Эти противоречия ставят нас перед дилеммой: либо Иисус не говорил открыто о своих страданиях и воскресении, и тогда малодушие апостолов можно объяснить естественным шоком и разочарованием, либо же он предупреждал их, но в таком случае поведение учеников становится непонятным.
Эта дилемма решается очень просто, если мы откажемся считать эти предсказания Иисуса аутентичными. Апостолам и другим первым миссионерам палестинского движения Иисуса нужно было объяснить иудеям и язычникам смысл креста и воскресения. Так раннехристианские апологеты приготовили путь к принятию того, что Павел называл соблазном для иудеев и безумием для язычников[40] (1 Кор 1:23): Сын Божий, утверждали они, заранее знал обо всем, что с ним случится, и делился этим знанием со своими апостолами. Поэтому в Евангелия внесли предсказание Иисуса о его Страстях и воскресении, а позже сами эти события были представлены как исполнение библейских пророчеств. Такой взгляд мы находим у Луки как в его Евангелии, так и в Деяниях. Он есть и в посланиях Павла: по мнению апостола, смерть и воскресение Христа свершились «по Писаниям», хотя он не может дать ссылок на конкретные главы и стихи. На самом же деле иудейская традиция ничего не знала об умирающем и воскресающем Мессии, так что здесь перед нами христианский апологетический мидраш.
Предпринимались и другие попытки объяснить загадочное поведение апостолов. Говорят, что они либо не поняли предсказаний Иисуса, либо не представляли себе, что значит воскреснуть из мертвых, либо, в случае женщин, забыли слова Иисуса (Лк 24:6–8).
Отсюда я делаю вывод о том, что ни апостолы, ни даже сам Иисус не предсказывали ни Страстей, ни воскресения и что любые евангельские тексты, которые этому противоречат, следует отнести к категории неаутентичных.
Эти мысли о ключевых проблемах «Исследования Иисуса» и завершат мою главу о методологии – и надеюсь, они достаточно провокационны.
В поиске «поиска»: как найти Иисуса?
Уолтер Уивер
Один из самых устойчивых мотивов в поиске исторического Иисуса – это склонность создавать такой его образ, который соответствует представлениям автора или вписывается в текущий культурный контекст. Это можно назвать «проблемой разнородных Иисусов»[41]. Время от времени мне приходится слышать или читать, пусть и в несколько искаженном виде, о том, что составлять жизнеописание Иисуса – это все равно что смотреть в глубокий колодец и видеть свое отражение. Впервые об этом сказал Джордж Тиррелл, ирландец, католический священник и модернист, преждевременно умерший в 1909 году. В книге «Христианство на перепутье», опубликованной посмертно, он рассматривает классический труд либерального теолога Адольфа Гарнака «Сущность христианства» и пишет:
Христос, которого видит Гарнак, проницая взором в прошлое, сквозь девятнадцать столетий католической тьмы – это лишь отражение лица либерального протестанта, заметное на дне глубокого колодца[42].
Это заметил не только Тиррелл. В 1923 году Артур Кэли Хэдлем, епископ-англиканин, сказал: «Причина неудачи многих ученых в том, что они, вместо того чтобы следовать своим текстам, отдают себя во власть какой-либо идеи – и уже по ее лекалам формируют историю»[43]. А Генри Кэдбери, американский библеист, призвал исследователей еще строже сосредоточиться на иудейском контексте жизни Иисуса – и тем самым хотя бы ненадолго преодолеть искушение «модернизировать» его образ в основателя коммерции и капитализма (как бывало)[44], в первоисточник Христианской науки (как бывало) или в средоточие догматов Римско-Католической Церкви (как бывало)[45].
Я не хочу сказать, будто библеисты, изображая Иисуса по-разному, чем-то отличаются от любых других исследователей – скажем, от тех, кто изучает жизнь Авраама Линкольна. Существует ли нормативный Линкольн? Разве нет самых разных мнений о том, каким он был на самом деле, о его невидимом «Я», о его склонностях, речах, действиях, словом, о «подлинном Линкольне»? Подозреваю, что ученые, изучающие жизнь Линкольна, спорят о таких вещах ad infinitum, а возможно, даже и ad nauseam[46]. И все же они вряд ли признали бы, что образы Линкольна, созданные ими, отражают их собственную личность или же социально-политические программы их времени.
Да, я со спокойной душой (проверено!) читаю книгу Дэвида Маккалоу о Джоне Адамсе – и совершенно не терзаюсь подозрениями в том, будто автор преподносит мне плод своих собственных предпочтений[47]. И более того, я сомневаюсь, что и в других исторических дисциплинах хоть кому-то приходится беспокоиться о такой возможности.
И в этом свете удивительнее то, что, когда дело касается исторического Иисуса, исследователи, как говорится, «по-своему» толкуют историческую картину или же совмещают ее саму с идеологиями и культурными дрейфами своей эпохи. И это, вероятно, уже ipso facto[48] способствует той вольности, с какой разные исследователи рисуют нам портрет Иисуса.
Кто-то может также сказать, что Иисус более таинственен и непостижим, что по самой своей природе он – sui generis[49], и что он тем самым пребывает за пределами обычного представления о нем как о простом человеке, одном из многих, со своей личностью и своими особенностями. В начале ХХ века великий еврейский ученый Клод Голдсмид Монтефиоре долго размышлял именно над этим вопросом – в чем уникальность Иисуса – и пришел к выводу, что она заключалась в той интенсивности, той мощности, той силе, с какой Иисус провозглашал свою весть и старался убедить других. А что до содержания его проповеди, то подобное вполне мог возвещать какой-либо иудейский учитель той эпохи. В двух словах, Монтефиоре увидел в Иисусе иудея-реформиста, каким был сам; так и многие другие смотрели на Иисуса сквозь призму обстоятельств собственной жизни[50].
И если кто-то склонен думать, будто в наше время столь разнообразных портретов Иисуса уже не создают, пусть рассмотрит эти современные версии: Иисус – циничный иудей, или иудейский киник; Иисус – защитник феминизма; Иисус – пророк, обличающий пороки общества; Иисус – апокалиптический пророк и/или пророк-хилиаст (работа с наследием Альберта Швейцера); Иисус-мудрец; Иисус – предводитель эсхатологического реставрационизма; Иисус – харизматический или вдохновенный мудрец, возглавивший движение за возрождение традиций с верой в Царство, которое наступит в далеком будущем; Иисус – сторонник «богословия чернокожих», представитель теологии освобождения, защитник бедных и угнетенных; и, наконец, Иисус – иудей, маргинальный или просто неверно понятый.
Эти краткие размышления предполагают, что есть две возможности рассмотреть представленную проблему: в свете нехватки источников либо в свете недостатков методологии. Конечно, мы можем совершенно «закрыть» вопрос, повторив слова Кассия, обращенные к другу: «Не звезды, милый Брут, а сами мы виновны…»[51] – или не столь изящную реплику Пого: «Мы встретили врага, и этот враг – мы сами»[52]. Тем самым мы отдали бы все на волю субъективного истолкователя, и с этим фактом пришлось бы как минимум смиряться, а то и преодолевать его.
О том, что истолкователь всегда вовлечен в истолкование, нам завещали помнить философы-экзистенциалисты: Сёрен Кьеркегор, Мартин Хайдеггер, а еще раньше – Вильгельм Дильтей. Конечно, сам Дильтей экзистенциалистом не был, но он стремился создать для гуманитарных наук такую методологию и такие подходы, с которыми они перестали бы восприниматься как простое подобие наук естественных.
Было бы неразумно полагать, что истолкователь может просто взять и устранить все, что он вложил в изучаемый предмет. Впрочем, нам незачем заходить слишком далеко и говорить, будто такая вовлеченность необходима и неизбежна и будто поиск истины, проводимый с «холодным сердцем», непременно заведет в тупик, – как, например, утверждал Кьеркегор, сказавший, что религиозная истина есть вера, удерживаемая в страстной субъективности. Просто экзистенциалисты, оставив в стороне модель истинной объективности, которой, по общему мнению, держались ученые, решительно стремились пройти к истине иными путями и преодолеть картезианское деление на субъект и объект.
Я предлагаю проследить эту склонность создавать разные образы Иисуса от самых первых лет поиска до середины ХХ века. Неизбежна ли такая тенденция? И если это так, возможно ли найти причину? Я исследую эти вопросы и критически рассмотрю ряд различных источников – и, надеюсь, сумею яснее представить методику, подходящую для изучения всего, что связано с историческим Иисусом.
Предшественники: деизм
Поиск исторического Иисуса не вырос, будто по волшебству, из одного-единственного глиняного горшочка. Его корни лежат в эпохе Просвещения, а сама эта эпоха началась в XVIII веке, получив мощный импульс от исключительно важного движения: деизма. В Англии деизм возник в конце XVII века и расцвел в XVIII-м, а некоторые следуют его принципам и сегодня. Деизм широко распространился по Европе, и его популярности способствовали знаменитые люди: во Франции – Вольтер, а в Германии – Иоганн Готфрид Гердер и Готхольд Лессинг; кроме того, как мы еще увидим, под его влиянием оказались и важнейшие предводители Американской революции. Не вполне ясно, когда и как родился деизм, но для наших целей это не имеет значения. Далее я расскажу о прославленных деистах и на их примере дам характеристику всему движению.
Одним из самых известных защитников деизма был Джон Локк (1632–1704), автор классического труда «Опыт о человеческом разумении»[53]. Кроме того, Локк внес немалый вклад в идею, согласно которой правительство может действовать лишь с согласия тех, кем оно правит, а сама эта идея отразилась в Американской революции. Локк рос в зажиточной семье, посещал Оксфорд и подумывал о карьере врача, но благодаря знакомству с лордом Эшли, графом Шефтсбери, вовлекся в политику – и в заговор против короля, устроенный лордом, так что и Локку, и Эшли пришлось скрываться в Голландии до «Славной революции» 1688 года. В чужой стране Локк работал над своим «Опытом», а уже после упомянутой революции вернулся в Англию и создал труд «Разумность христианства»[54], главное выражение его представлений о проблеме веры и разума. Локк, подобно некоторым другим деистам, называл себя христианином, к христианской вере в целом относился благожелательно и жизнь вел благочестивую и набожную.
«Опыт» уже содержал некоторые методологические предпосылки, определявшие аргументацию «Разумности», и они формулировались так: во-первых, есть вопросы, которые разум может определить с помощью тщательного анализа; во-вторых – вопросы, стоящие выше разума (скажем, божественные откровения, которые даются в акте веры; их предлагает тот, кто для этого подходит); в-третьих – вопросы, противоречащие разуму[55]. Вторая категория беспокоила Локка более всего, ведь мало кто стал бы выдвигать утверждение, противоречащее нашим природным способностям или нашему разуму. Далее Локк приступил к анализу новозаветных текстов, по большей части – посланий апостола Павла. Тексты ясно показывали, что скверна греха свойственна всему роду человеческому от Адама и главной задачей Христа, как следовало из посланий, было прежде всего искупление. Деяния Христа, направленные на то, чтобы привести всех людей в состояние праведности, δικαιοσύνη, подтверждаются чудесами, которые он совершал и в согласии с которыми должна пребывать вера, провозглашенная, помимо прочего, в Нагорной проповеди и других изречениях Христа. Даже те, кто никогда не слышал об Иисусе Христе, тем не менее обладают светом, который исходит от разума, а потому они также подлежат правосудию Божьему. Люди не сумели верно обращаться с таким разумом, из-за этого впали в состояние греха, и теперь требовалось, чтобы Христос искупил род человеческий. А потому естественная религия может завести в тупик и неспособна даровать искупление. «Они [философы, говорившие от разума] полагались на разум и на его прорицания, в которых все – абсолютная истина; но все же некоторые части этой истины скрыты слишком глубоко, и наши природные способности не могут легко достичь их и ясно явить их всему человечеству, если не получат некоего света свыше, который бы их направлял»[56].
Однако если принять такую христианскую веру, которая представлена в Евангелиях, зачем нужны другие тексты Нового Завета – те же Послания? Они были созданы по иным поводам, их советы и наставления приурочены к иным событиям. Их следует читать в их же собственном контексте, следить за ходом аргументации и думать о том, насколько их содержание соответствует другим частям Священного Писания. Что же касается их ценности, то в силу своего характера эти тексты не являются необходимыми для спасения души, а догматы веры яснее отображены в Евангелиях и Деяниях[57]. В конце своих рассуждений Локк замечает, что бедные и неграмотные люди не должны лишиться спасения души из-за неблагоприятных обстоятельств, ведь Евангелие гласит, что благая весть была им проповедана, а если так, значит, она, по всей видимости, понятна и доступна для того разума, которым они обладают.
Джон Толанд (1670–1722), ирландский вольнодумец, был современником Локка, по слухам – незаконнорожденным сыном священника, прижитым с сожительницей. Крещенный в Католической Церкви, Толанд в юности перешел из католичества в протестантизм, а затем, в той или иной мере, считал себя сторонником самых разных религиозных притязаний, пока наконец не решил, что только разум лучше всего объясняет христианство. Его книга «Христианство без тайн»[58] вызвала такое возмущение, что ирландский парламент отдал распоряжение ее сжечь – благо хоть книгу, а не автора. Впрочем, яростные нападки критиков Толанда не миновали, а некоторые его оппоненты считали, что он заслуживал той же участи, какая постигла его труд.
Чем же именно книга Толанда вызвала такую ненависть, тем более что он, подобно Локку, называл себя христианином? Его врагами были «духовные лица» – священники и богословы, получавшие доход за счет уверений в том, что они обладают подлинным знанием евангельских истин, причем они поддерживали эти уверения с помощью загадочных ритуалов: такими были, скажем, таинства латинского обряда, крещение младенцев по строго определенному чину… К порядкам Римско-Католической Церкви, а впрочем, и к самой католической вере Толанд относился с особой нелюбовью: ему они казались ярчайшим проявлением именно такой таинственности, в которой разуму отводилась невеликая роль. Толанд не видел в христианстве ничего непонятного и недоступного разумному анализу, и в этом он зашел гораздо дальше Локка. Определяя разные пути объяснения христианской веры, Толанд говорил:
Мы полагаем, что разум есть единственная основа любой уверенности и что из всего, явленного в откровении, ничто ни в отношении своего рода, ни в отношении своего бытия не освобождается от изысканий разума в мере хоть сколь-либо большей, нежели самые обыкновенные природные явления. И по этой причине мы, в полном согласии с заглавием данного рассуждения, равно так же утверждаем: в Евангелии нет ничего противоречащего разуму и ничего превыше разума; и ни одну из христианских доктрин нельзя называть тайной в строгом смысле этого слова[59].
Да, в такой системе властвует разум и только разум, как будто sola fide Лютера заменили на sola ratio. Но как же определяет Толанд этот превознесенный и возвеличенный разум? По его словам, разум – это душа, которая действует определенным образом, утверждает, отрицает; судит, что счесть добром, а что – злом. Можно даже сказать, что это здравый смысл. Мы не можем верить в то, чего не понимаем, говорил Толанд. И он начал исследовать краеугольные постулаты христианства: доктрину о Троице, пресуществление, чудеса… Все это он пропустил через огонь разума, оставляя лишь то, что можно честно утверждать, полагаясь на разумные доводы. Кроме того, Толанд исследовал концепцию таинства: по его мнению, ее позаимствовали из языческой мифологии и затем поставили на службу христианства, что особенно заметно у Павла и в дальнейшей истории Церкви.
В конечном счете Толанд хотел показать, что христианская вера не противоречит логическим рассуждениям и что любую другую веру тоже необходимо подвергнуть подобному испытанию. Но на деле те суждения, которыми он так увлекся, привели к совершенно иным последствиям: разрушили многие элементы той веры, что считалась христианской, и воссоздали ее в более приемлемой форме.
Мэтью Тиндал (1653–1733) написал многословный и зубодробительно скучный том с пространными ответами на критику и массой цитат из латинских или греческих текстов на языке оригинала. Его труд «Христианство, древнее как само Творение, или Евангелие как воспроизведение естественной религии»[60] стал не столько попыткой заинтересовать широкую публику, сколько противостоянием с «духовными лицами», которые, похоже, и были основным предметом анализа. Тиндал следовал такому методу: обозначал вопросы, которые задавали ему или которые задавал он сам, и давал на них ответы. Такая диалектика проходит по всей его книге.
Тиндал утверждал, что христианство – это на самом деле та же религия, какая может открыться в естественных рассуждениях и дана разуму самой природой. Так христианство предстало как эквивалент разума, воспринимаемого в природе. Религия откровения отличается от естественной религии лишь способом передачи. Христианство – это совершенное воплощение того, что мог бы распознать и естественный разум. Так, можно понять, что с самого начала творения Бог дал человечеству законы, которым надлежит покоряться, а потому христианство – столь же древнее, как сам сотворенный мир. Из этого также следует, что Библия есть совершенное откровение воли Бога Творца – но, с другой стороны, ту же самую волю можно познать, исследуя естественное положение вещей.
Этот труд предназначался для людей ученых, и автор с легкостью переходил от христианской веры к верованиям древних язычников, с явной целью изучить последние. Как и Толанд, Тиндал был яростным противником папизма и всего, что ему сопутствовало. Порой он мог порицать и протестантов, и иудеев, и мусульман, но считал, что за веру никого не следует преследовать. «Все, кто серьезен в религии, возрадовались бы, увидев установленным такое правило: ни один человек не должен страдать – ни он сам, ни его собственность, ни репутация – просто из-за своих религиозных убеждений»[61]. И все же именно разум проводит нас по лабиринту разных мнений с уважением ко всем уверениям в обладании истиной: «Так, значит, разум должен служить нам проводником, и знание о нашем долге мы должны обретать от света природы, прежде любых предписаний, иначе мы никогда не смогли бы узнать, что наш долг и призывал нас вкладывать в слова те смыслы и значения, лишенными которых эти слова могли бы показаться в противном случае»[62]. Книге Тиндала грозила та же участь, что и сочинению Толанда; впрочем, сожжения она не заслуживала, хватило бы и умелой редактуры.
Если судить по жизненным обстоятельствам, то вряд ли кто-либо мог ожидать, что Томас Чабб (1679–1747) может написать сколь-либо значимый труд. К тому времени, когда умер его отец, оставив семью в отчаянном положении, Чабб был младшим из четырех детей и умел разве что складывать и вычитать простые цифры, читать и писать. Его отдали в подмастерья перчаточнику, позже он стал делать свечи, но он любил писать, особенно о богословских спорах той эпохи. И ему повезло – на один из его трактатов обратили внимание влиятельные люди с положением в обществе. Со временем, получая регулярное жалованье от одного из таких покровителей, он смог оставить убогую работу, посвятил себя сочинительству и в 1738 году опубликовал свой труд «Утверждение истинного Евангелия Иисуса Христа»[63]. К тому времени он уже прослыл деистом, хотя, несмотря на это, продолжал ходить в церковь и формально казался христианином.
В труде «Утверждение истинного Евангелия Иисуса Христа» Чабб утверждал, что Иисус Христос пришел спасти души людей и тем самым дать человечеству вечное блаженство. Эти цели не распространяются на земную власть, говорил Чабб, и лишь при последнем суде Христос явится, чтобы призвать свой народ к ответу, поэтому никто не должен заставлять другого следовать закону Христа. Люди делают это лишь вследствие осознанного выбора, в ответ на убеждение и доводы. И никто, кроме Христа, не имеет власти над христианином; никакая церковная организация и никакие представители Церкви не вправе наказывать верующих. Так Чабб выразил свое презрительное отношение к церковным авторитетам, особенно к папе и иерархам Римско-Католической Церкви. Христос, помимо прочего, говорил, чтобы наш разум действовал в согласии с «вечным и неизменным правилом действий, основанным на причине вещей»[64] – и нет другого способа угодить Богу. «Вот истинное Евангелие Иисуса Христа, вот путь и метод, которыми Христос желает спасать души людей»[65].
Чабб также считал, что некоторые идеи – скажем, идея Иоанна об Иисусе как о вечном Слове Божьем – могут быть как ценными, так и не очень, поскольку они не входят в благую весть Иисуса, направленную только на спасение душ. Так и размышления Павла о статусе иудея и язычника отражают лишь мнение Павла, но мы можем как принять их, так и отвергнуть: для нас важно лишь истинное благовестие Иисуса Христа. И тут Чабб высказывает ошеломительную мысль: он говорит, что те писания, которые не входят непосредственно в Евангелие, – это всего лишь частные мнения их авторов. Само же Евангелие совершенно ясно:
Ибо если бы свою проповедь, обращенную к бедным, то есть низшей части человечества, Христос наполнил историческими фактами или множеством таинственных и едва понятных фраз, допускающих тысячи несогласованностей и противоречий, то для людей это стало бы не наставлением, а камнем преткновения, как если бы он проповедовал им на незнакомом языке[66].
Развивая эти основные положения в книге, Чабб постоянно напоминал о праве каждого отдельного человека судить о том, что является причиной вещей, а что ей не является, и при этом не подчиняться никакой иерархии мнимых авторитетов в стремлении определить для себя, в чем суть Евангелия.
Начало жизни англичанина Томаса Пейна (1737–1809) было крайне скромным: в двенадцать лет он вылетел из школы, а профессией отца, изготовителя корсетов, Пейн, как оказалось, овладеть не смог. Какое-то время он нанимался на корабли, выходившие в море, и однажды в Лондоне случайно встретился с Бенджамином Франклином, который помог ему иммигрировать в Филадельфию. Там Пейн стал журналистом, поддержал революцию и написал трактат «Здравый смысл» (Common Sense), где язвительно обличал британскую монархию и призывал к ее свержению. Труд этот разошелся широко.
Книга Пейна «Век разума» вышла в 1794 году и была переиздана в 1796-м[67]; в ней говорилось о религии как таковой, но в первую очередь – об иудеохристианской. И если Джон Локк прошел по теме веры и разума «на цыпочках», то Пейн, можно сказать, взял кувалду и замахнулся прямо на ключевой элемент христианской веры – Библию. Свое собственное кредо он выразил так: «Верую в единого Бога и более никакого, надеюсь на счастье за гранью этой жизни. Верую в равенство людей, и верую, что религиозный долг – это творить справедливость, любить милосердие и стремиться осчастливить наших ближних»[68].
Далее следовал длинный список того, во что он не верит. Пейн не щадил ни церквей, ни храмов, ни синагог. Все это, говорил он, человеческие изобретения, «устроенные затем, чтобы запугивать и порабощать человечество и монополизировать власть»[69]. История о начале христианства, как ее рассказывают верующие, есть миф, не основанный на фактах и похожий на языческие мифологии древности. Христианская Троица – просто один из вариантов многобожия тех времен. Пейн отмечает, что все, сказанное им, не следует относить лично к Иисусу, «человеку добродетельному и приятному во всех отношениях»[70], и пусть даже у его учения есть параллели и в других религиях, учил он великодушию и нравственности. Сам Иисус ничего не написал; мы почти ничего не знаем о его происхождении, окутанном пеленой мифов; а евангельские повествования противоречат друг другу столь сильно, что историческая достоверность Евангелий крайне мала. Затем Пейн прошелся по всей Библии, отмечая в ней противоречия. К слову, гораздо позже исследователям предстояло обратить многие его прозрения себе во благо: те позволяли заподозрить в тексте указание на несколько разных первоисточников. Его яростная критика не щадила ни одной из книг – за исключением Книги Иова, которой он восхищался; впрочем, Пейн утверждал, что она – не библейская и что ее даже писали не евреи, а язычники.
Нетерпимое отношение к Библии подвело Пейна и к иному прозрению: так, например, он говорил, что Книга пророка Исаии есть «одно из самых диких и беспорядочных сочинений, когда либо созданных; в нем нет ни вступления, ни средней части, ни конца»[71]. Он так никогда и не сумел допустить мысли о позднейшей редактуре или о разных источниках. Как деист, он мог думать лишь о логическом ходе событий от А к В; по сходным причинам он мог лишь объявить книгу неподлинной и бесполезной, – а как иначе, если ее автором был не тот, кого таковым считала традиция? Вот как Пейн кратко описывает христианское богословие:
Изучать богословие в нынешнем состоянии христианских церквей, – это все равно что изучать пустоту; это богословие не основано ни на чем; у него нет никаких принципов; оно не исходит ни от каких авторитетов; оно не содержит фактов; оно ничего не может доказать и из него не сделать никаких выводов. Не все можно изучать как науку, если не владеешь принципами, на которых основан предмет, и поскольку у христианского богословия такие принципы отсутствуют, это и позволяет сказать, что изучать его – все равно что изучать пустоту.
В то же время Пейн мог ставить и вопросы по существу, как он это делает, например, тут:
Создатели христианских мифов говорят нам, что Христос умер за грехи мира и что он пришел, чтобы умереть. Так изменилось бы что-нибудь, если бы он умер от лихорадки или от оспы, от старости или еще от чего-либо?[72]
Кратко изложить мнения Пейна обо всей Библии, от Бытия до Откровения, довольно сложно. Не ко всему он относился негативно. Как и другие деисты, Пейн считал, что Бог познается через творение как Первопричина всего. Только разум позволяет людям обрести хоть какое-то знание единого Бога. Деисты, как правило, прославляли Бога природного мира; это отражено и в словах Томаса Джефферсона в «Декларации независимости», где естественные права людям даруют «Природа и Бог Природы». Похоже, деисты упустили из внимания тот факт, что Бог допускает в мире существование всевозможных трагедий и бед и что такой Бог неизбежно равнодушен к людским страданиям.
Томас Джефферсон (1743–1826), третий президент США, был твердокаменным деистом. Вопрос о том, сколько еще было деистов среди отцов-основателей Америки, остается спорным[73]. На разных этапах карьеры государственного деятеля Джефферсон претворял в жизнь идею, занимавшую его мысли долгие годы: он хотел составить единый документ с текстами Нового Завета на четырех языках – английском, греческом, латинском и французском. Этот проект он так и не осуществил, однако с помощью ножниц и клея составил другой документ, названный «Библией Джефферсона». Этот текст содержал все высказывания, приписываемые Иисусу, и они, по словам Джефферсона, составляли «самую благотворную и совершенную нравственную систему… из всех, которым когда-либо кто-либо учил»[74]. В такой Библии не было ни намека на чудеса. Все подобные вещи намеренно устранялись.
Когда Джефферсон боролся за президентский пост, противники называли его неверующим из-за его взглядов. На это он, не смягчая выражений, отвечал: «Я поклялся на алтаре Божьем быть вечным врагом любой формы тирании над разумом человека!»[75]. Эти слова украшают мемориал Джефферсона в Вашингтоне.
Джефферсон не слишком доверял первым апостолам, которые передали другим учение Иисуса. Он считал их невежественными, ограниченными людьми, и полагал, что они ошибались, передавая предание, и добавляли свои собственные представления к тому, о чем рассказывали, поэтому у каждого евангелиста появился свой образ Иисуса. И хотя Джефферсон не разбирался в вопросах устной традиции и ее передачи, он, тем не менее, с легкостью отличал учение Иисуса от искажений, внесенных учениками. Учение Иисуса, говорил он, сияет здесь, как «бриллианты на куче навоза»[76]. Да, «теория навозной кучи» – не очень пристойное название; но любому, кто хочет вновь услышать подлинный голос Иисуса, приходится отделять подлинное от неподлинного. В этом смысле Джефферсон действительно сделал шаг вперед в истолковании традиции, связанной с Иисусом, – по сравнению со своими предшественниками или современниками из числа деистов.
Чему же учат нас деисты – и учат ли хоть чему-нибудь? Полагаю, их труды важны для нас по нескольким причинам.
Локк первым провел различие между Евангелиями и Посланиями – и тем сделал жизненно необходимый шаг для выделения аутентичной традиции Иисуса[77]. Джефферсон зашел в этом еще дальше. Чабб, вслед за Локком, заявил, что авторитетными следует считать только Евангелия, отказав в этом другим новозаветным книгам. Некоторые деисты постепенно приближались к подлинно историческому подходу – это видно в трудах Толанда, Чабба, Тиндала и Пейна, признававших, что для понимания христианского движения важны знания о той обстановке, в какой предстали Иисус и его ученики. Благодаря тому, что деисты цитировали параллели к христианскому учению, появилась возможность воспроизвести вероятные источники, которым подражали авторы Евангелий. В то же время некоторые деисты видели в иных религиях контрапункт для христианской веры – и в этом смысле намеревались ее обогатить.
Никто из упомянутых мной деистов не искал исторического Иисуса. Ближе всего к этому подошел Джефферсон. В первую очередь целями для деистов служили порядки и верования Церквей с их Символами веры и служителями. Однако в их достижениях скрывался критический дух, стремившийся выразить себя. И ему предстояло это сделать – но, если можно так сказать, из загробного мира.
Тем деистом, который сделал следующий шаг и открыл эпоху «исторического поиска» Иисуса, был Герман Самуил Реймарус. Его дело было столь рискованным, что его труды опубликовали лишь посмертно. Альберт Швейцер по достоинству оценил значение того, что совершил Реймарус, и справедливо сказал, что его работа стала торжественным открытием исключительно исторического представления об Иисусе. А еще Швейцер счел столь же ценным и то, что Реймарус первым применил эсхатологический подход.
Реймарус был первым из трех деятелей, имена которых ассоциируются с так называемым Старым поиском. Вторым был Давид Фридрих Штраус, третьим – Альберт Швейцер, рассказчик и толкователь «Старого поиска». Я упомяну лишь о них и этим ограничусь: подробный обзор «Старого поиска» рискует стать в лучшем случае поверхностным пересказом с массой повторов, да и рассказать о нем лучше, чем это сделал Швейцер, довольно затруднительно.
Герман Самуил Реймарус (1694–1768)
Вероятно, мало кто мог бы предположить, что Реймарус потрясет мир изучения Евангелий. Он по праву считался выдающимся ученым и часто публиковал работы по философии и логике, а также переводы древних документов. На своем веку он успел, пусть и вкратце, ознакомиться с рассуждениями философов о разуме и, как известно, читал труды Локка и Толанда. И все же ученому миру предстояло поразиться, что Готхольд Лессинг опубликовал несколько фрагментов работ неизвестного автора, и оказалось, что эти так называемые «Вольфенбюттельские фрагменты» (найденные в герцогской библиотеке в Вольфенбюттеле) написаны Реймарусом. Среди них находился и наиболее спорный «фрагмент» под названием «О цели Иисуса и его учеников». «Великолепное произведение… одно из величайших событий в истории критики… шедевр мировой литературы», – так отзывался об этой работе Швейцер, добавляя: «Редко когда являлись ненависть, способная выразить себя столь красноречиво, и презрение, пронизанное таким высокомерием, но в то же время редкий труд создавался со справедливым осознанием абсолютного превосходства над взглядами современников»[78].
Как и Швейцер, я восхищаюсь Реймарусом, хотя и не склонен думать, будто его роль в мировой литературе настолько велика. Труд Реймаруса ясно показывает, сколь напряженной была мысль ученого, сколь серьезно он относился к текстам Евангелий и сколь неустанно бросал вызов всем историческим стандартам, господствующим в то время. Реймарус – не Шекспир, но он доводил свои мысли до конца и делал из них такие выводы, которые, несомненно, принесли бы ему немало бед, если бы он своевременно не упокоился в могиле. Слабость его метода заключалась в некритичном обращении к Евангелию от Иоанна, отчего временами на свет являлась неудобоваримая смесь из текста Иоанна и синоптических Евангелий, причем Реймарус не приводил никаких оснований, призванных объяснить, почему он так делает.
Вряд ли хоть кто-то в то время мог даже вообразить такие портреты Иисуса и его учеников, какие явил нам Реймарус. Иисуса он представил пророком, возвещавшим о конце света. Грядущее «царство» понималось в политическом смысле и должно было наступить в самом скором времени. Иисус ожидал, что в Иерусалиме его провозгласят Мессией этого царства, но план кончился неудачей, и ученики потеряли и своего Мессию, и свою цель – и, как предполагал Реймарус, предпочли заняться не ловлей рыбы, а проповедью царства, так что выкрали тело распятого Иисуса и возродили эсхатологическое движение, чуть было не исчезнувшее без следа. Только теперь они говорили о духовно воскресшем Христе и о царстве, которое наступит в далеком будущем. Тем самым они внесли в христианство одну проблему, которую оно с тех пор так и не смогло решить: проблему отложенной парусии, правления апокалиптического Христа. Даже сегодня выходит много книг о конце света, и они пользуются большим спросом – не говоря уже о том, что приносят доход в миллионы долларов. Реймарус невысоко ставил учеников и считал их обманщиками, сознательно возобновившими проповеди о том мирском царстве последних дней, о котором столь убедительно говорил Иисус и которое ранее возвещал Иоанн Креститель. Однако сценарий Реймаруса не слишком правдоподобен, – ведь люди, как правило, не желают терпеть гонения и умирать за то, что, как они сами знают, есть обман. Реймарус отказывается признавать воскресение на том основании, что рассказы разных евангелистов о пустой гробнице противоречат друг другу в деталях и их нельзя свести в общую картину. Он абсолютно прав, но это наблюдение самоочевидно для любого хоть сколь-либо внимательного читателя. Гораздо труднее выделить в текстах более древнюю традицию, которую отражают не повествования о пустой гробнице, а более ранние пассажи о явлениях Воскресшего, скажем, 1 Кор 15:3–11 у апостола Павла.
Однако нам не следует винить Реймаруса в том, что он не смог подняться на ту высоту, где оказались исследователи последующих поколений. Мы бы не понимали того, что понимаем, если бы не труды наших предшественников, среди которых Реймарус, несомненно, занимает видное место.
Реймарус нажил себе и яростных врагов, и восторженных поклонников. Кроме Швейцера, у него была другая родственная душа – Давид Фридрих Штраус, который ценил работы Реймаруса, хотя и относился к ним критически. Движущей силой всего XVIII столетия, как отмечал Штраус, был разум, а вместе с ним – и его главный спутник, закон согласованности и противоречия. Воскресение Иисуса просто нарушает законы природы, а потому не могло произойти, следовательно, можно думать, что ученики выкрали тело ради осуществления своего нового плана – сохранить старое движение, придав ему новую одухотворенность… и так далее, и тому подобное. Вердикт Штрауса звучит так: «XVIII век презрел воображение и пренебрег им, а потому он отверг и религию, чей отец есть дух, а мать – воображение»[79]. Впрочем, трудно обвинить Реймаруса в недостатке воображения.
Давид Фридрих Штраус (1808–1874)
Как считал Швейцер, Штраус был пророком и разделил судьбу пророка[80]. Его пророческий дар проявился в том, что Штраус предвосхитил те вопросы, которым на протяжении целого поколения было суждено владеть душами исследователей – а ученым в конце концов предстояло увидеть мир таким, каким видел его сам Штраус. Что же касается участи пророка, то Штрауса несчетное множество раз критиковали за то, что он применил понятие мифа к текстам, священным для многих его современников. Швейцер верно отмечал, что Штраус заметил эсхатологический элемент в проповеди об Иисусе. Но Штраус, в отличие от Швейцера, видел и мифический характер этого элемента, и приписать его Иисусу он просто не мог.
Штраус подпал под влияние философии Гегеля, считавшего историю последовательным движением триады «тезис, антитезис, синтез». Например, христианство на историческом этапе рождения из иудаизма – тезис; эллинизм – антитезис; а последующая христианская религия – их синтез. В том же духе, на основе гегельянского метода, Штраус анализировал все, что говорилось об Иисусе у синоптиков (Евангелие от Иоанна, где богословие затмевало все прочее, он принимал во внимание редко). Подход был таким: Штраус представлял сверхъестественную интерпретацию, затем – рационалистическую и, наконец, свою собственную, мифологическую. В реальности привнесение мифического элемента привело не столько к синтезу, сколько к уничтожению двух других компонентов триады, но подобное истребление свидетельств, записанных в Евангелиях, не беспокоило Штрауса: он впитал и еще одну идею Гегеля – согласно которой за всем, что явлено в исторических движениях, стоят возникшие идеи, – и полагал, что в раннем христианском движении в высшей степени проявилась идея о союзе Бога с человеком, олицетворением которой стал Иисус. И поэтому Штрауса не особенно интересовали внешние атрибуты истории – по завершении всех кровавых драм значение имела лишь идея союза Бога с человеком.
То, что Штраус привнес в работу с Евангелиями категорию мифа, стало характерным признаком его подхода – и именно это, что неслучайно, вызвало самые жаркие споры. Возможно, они отчасти связаны с тем, что у многих само слово «миф» прочно ассоциировалось с легендами о древних богах Греции и Рима. Однако для самого Штрауса миф имел «хорошее» значение. Он означал «лишь облачение религиозных идей в историческую форму, придание им облика через способность легенды к изобретательскому творчеству, действующую за пределами осознания, и их воплощение в исторической личности»[81].
Первичным источником таких легенд, на что непрестанно указывал Штраус, был Ветхий Завет. В конечном счете, говорил он, в ветхозаветных текстах не остается почти ничего, что можно назвать историческим. Помимо этой проблематичной характеристики, в книге Штрауса есть и другой непростой момент: то, что он считал «историческим», приходится добывать, точно руду из неимоверно твердой горной породы. Даже Швейцер опускал руки, думая о том, сколь тщетны попытки отыскать тот материал, какой полагал историческим Штраус, – а когда Швейцеру удавалось найти хоть что-то, он думал, что Штраус зашел слишком далеко[82]. Создается такое впечатление, что Швейцер критиковал Штрауса в тех моментах, которым предстояло стать ключевыми в его собственной реконструкции. Скажем, Швейцер утверждал, что Штраус слишком многое себе позволил, налагая ветхозаветные мифы на Новый Завет. Взять, например, умножение хлебов. Штраус отрицал историческую ценность этой истории, ссылаясь на такие ветхозаветные параллели, как насыщение народа манной в пустыне и чудесное насыщение людей при Елисее. Швейцер же утверждал, что новозаветный рассказ содержит важные исторические элементы, и позже использовал их в своей интерпретации событий. Швейцер винил Штрауса в чрезмерном увлечении «разработкой горных месторождений»[83] на материале Евангелий – и говорил, что именно она, скорее всего, и вызвала очень неблагожелательное отношение широкой публики. Но все же, с другой стороны, Швейцер воздавал Штраусу хвалу за то, что тот ясно осознал как эсхатологический характер движения Иисуса, так и то, что сам Иисус видел себя в роли грядущего Сына Человеческого, который будет прославлен в эсхатологическом Царстве[84].
И, наконец, у анализа Штрауса есть еще один недостаток: он уделял слишком мало внимания разрешению синоптической проблемы. Он считал, что Евангелие от Марка – это просто краткий пересказ Евангелия от Матфея, и поэтому просто не мог ни увидеть в первом какой-либо ценности, ни заметить связи в отдельных историях, рассказанных у Марка. И именно этому недостатку, как полагал Швейцер, предстояло обречь на провал любую попытку прийти к подлинно историческому пониманию Иисуса и его движения.
Альберт Швейцер (1875–1965)
Теперь же настала пора поговорить о самом Швейцере, третьей вершине нашего треугольника. Его гениальность ни у кого не вызывает сомнений; он был обладателем ученых степеней в богословии, философии и медицине, прекрасно знал творчество Баха, а кроме того, умел играть на органе, глубоко изучал историю этого инструмента и часто давал концерты, деньги с которых шли на его миссию, проводимую среди африканцев. В 1954 году Швейцер получил Нобелевскую премию мира. Он был и остается важным деятелем во всей истории «поиска Иисуса», и влияние, оказанное им на направление исследований в ХХ веке, несравнимо ни с каким другим. Швейцер был властителем дум более столетия, и теперь, быть может, пришло время вновь оценить его «правление», – причем нам предстоит не просто вежливо склонить голову перед его величием, но и воздать должное уважение той преданности, с которой он относился к исторической правде, куда бы та ни вела. Образ Иисуса, воссозданный Швейцером, сложен и неоднороден; и в моей попытке поговорить о нем мне самому видится лишь скромное участие в беседе, начавшейся задолго до меня.
Вскрытие противоречий: Альберт Швейцер и «исторический Иисус»
Прежде чем изложить свои идеи, Швейцер потратил немало сил на то, чтобы показать несостоятельность книги Вильяма Вреде «Мессианская тайна в Евангелиях»[85]. Вреде утверждал, что тема тайны впервые появилась в Евангелии от Марка и скрыла факт того, что служение Иисуса на самом деле не было мессианским, а стало таковым прежде всего благодаря воскресению. Швейцер проанализировал труд Вреде и нашел там глубокие недостатки. Нам не стоит вдаваться в детали, достаточно лишь отметить, что сам Швейцер поддержал диаметрально противоположную точку зрения по сравнению с той, какую высказывал Вреде. Там, где Вреде усматривал действие созидающей общины или анонима, Швейцер видел Иисуса-созидателя. Это было одним из самых главных пунктов, в которых Швейцер расходился с «теологией модернизма».
Кроме того, нам необходимо уже сейчас, в самом начале, вспомнить о некоторых других аспектах «исторического Иисуса», воссозданного Швейцером. Важнейший из них прямо связан с теми источниками, которыми пользовался Швейцер, создавая свой яркий образ. Здесь нам придется разделить такие источники на две группы. Во-первых, Швейцер обратился к общим эсхатологическим и мессианским ожиданиям иудеев эпохи позднего иудаизма, отраженным в апокрифах, псевдэпиграфах и других пророческих текстах Ветхого Завета. Этот обширный поток составил тот исторический контекст, в рамках которого следовало пытаться понять Иисуса. Второй источник – тексты Нового Завета, в которых однозначно говорится о сути деяний Иисуса. Швейцер в основном обращался к Евангелию от Марка и ряду дополнений из Евангелия от Матфея и причислял эти два текста к самым древним документам, связанным с исторической интерпретацией служения Иисуса. Их надлежало использовать как единое целое и толковать буквально. Присоединять к избранным источникам Евангелие от Луки он отказался сказав, что этот текст ничего не добавит к материалу, уже доступному благодаря двум самым ранним Евангелиям[86], – и этот отказ говорит нам о двух вещах. Во-первых, Швейцер не пытался ни создать «жизнеописание» Иисуса, ни представить все его учение, поскольку в таком случае – приведем лишь один пример – ничто не заменит тех замечательных притч, которые есть только у Луки, и их устранение было бы непростительным. Во-вторых, отказ от Луки можно объяснить тем, что этот евангелист определенно склонен редактировать все моменты, где говорится о приближении Царства: Лука меняет временную перспективу и переносит наступление Царства в неопределенное будущее. Эта склонность не вписывалась в расчеты Швейцера, и, полагаю, он усматривал в ней позднюю редактуру, призванную аннулировать тот неудобный факт, что обещанное Царство не наступает. В ином случае отказ от текста Луки выглядит чем-то вроде каприза – и возникает подозрение, что гениальный исторический портрет Иисуса, созданный Швейцером, просто не мог быть другим.
Как и самые ярые критики евангельских историй о детстве и юности Иисуса, Швейцер утверждал, что в них мы не найдем никаких исторических сведений. Вот прямая цитата: «Иисус впервые выходит на историческую сцену в тот момент, когда в Галилее он провозглашает, что приблизилось Царствие Божье»[87]. Затем Швейцер переходит к истории крещения Иисуса и ее вариациям. У двух первых евангелистов, говорит он, Иисус именно в этот момент понимает, что он Мессия. При этом Марк, у которого Иисус только видит голубя и слышит голос (тема тайны!), вероятно, передает историческую правду.
Но если все это видел и слышал только Иисус, как же рассказ об этом событии попал в повествование Марка? Об этом мог поведать лишь сам Иисус, а если он об этом кому-то сказал, значит, мессианская тайна уже перестала быть тайной!
Швейцер, тем не менее, решил, что на вопрос о том, понимал ли Иисус в момент крещения, что он есть ожидаемый всеми Мессия, мы не можем дать ответа. Есть и другие намеки на то, что Иисус уже считал себя Мессией, – например, Иисус, как и Иоанн Креститель, говорил о близком наступлении Царства, в котором социальный мир перевернется, и последние станут первыми, а первые последними; он говорил даже о том, что Мессия, или Сын Человеческий, выйдет из среды обычных людей. Спор в Евангелии от Марка (Мк 12:35–37), посвященный тому, как соединить представления о Мессии и о Сыне Человеческом, имеет смысл только в том случае, если Мессия рожден в последнем поколении рода Давидова и становится Сыном Человеческим лишь в момент своего преображения при наступлении Царства. Швейцер указывает на другие случаи, когда Иисуса называли сыном Давидовым (женщина-хананеянка [Мф 15:22]; слепой нищий [Мк 10:47–48]; народ, когда Иисус исцеляет бесноватого [Мф 12:22–23]; толпа при входе в Иерусалим, приветствующая Иисуса криками «осанна», хотя в тот момент он известен лишь как пророк [Мф 21:9]). Усиливая аргументацию, Швейцер добавлял, что Иисус уже принадлежал к последнему поколению потомков Давида, о чем говорят его родословные и, что важнее всего, апостол Павел (Рим 1:3). Несколько позже, в период правления Домициана (81–96), как свидетельствует Егесипп, были найдены двое родственников Иисуса, которые оказались потомками Давида через Иуду, брата Иисуса.
Аргументация Швейцера логична. Проблема в другом: Швейцер с самого начала предполагает, что Иисус считал себя Мессией, даже если это представление у него еще не получило полного развития и выражения, а затем находит тексты, которые это подкрепляют. Это ров столь широкий, что его так просто не перешагнуть. И если принять это априори – тогда все, игра окончена. А еще Швейцер как-то незаметно переходит к вопросу о Сыне Человеческом, слитом с ролью Мессии[88]. Но если учесть все, что известно о ролях Мессии и Сына Человеческого, может ли хоть кто-нибудь думать, будто сейчас он играет роль первого, – и в то же время знать, что вскоре примет и роль второго? И если этот некто думал, что вскоре преобразится и станет сверхъестественным Сыном Человеческим, почему его должна заботить куда более прозаичная – в сравнении – роль Мессии? В этой роли – насколько мы можем представить образ Мессии по дошедшей до нас литературе – Иисусу совершенно нечего делать. В версии Швейцера мессианская роль Иисуса состоит лишь в том, что ему приходится возвещать близкое наступление Царства и попутно учить людей. Можно ли думать, что Иисус считал себя Мессией, о котором другие узнают в тот момент, который выберет он сам? Вероятно, титул Сына Человеческого он получил после того, как свершилось воскресение. Швейцер думает, что такой ход мыслей возможен, но в то же время считает, что Иисус хранил при себе это знание – мессианскую тайну – по мотивам, почти недоступным нашему пониманию. В представлении Швейцера Иисус мог скрывать свое мессианство, поскольку, возвестив о нем публично, рисковал бы проявить себя в глазах окружающих либо политически замотивированным, либо душевнобольным.
Однако загадка, с которой сталкивались и продолжают сталкиваться все исследователи «исторического Иисуса», состоит в том, что самым ранним титулом, присвоенным ему, был, вероятно, именно титул Мессии. Мы видим это, например, у апостола Павла, который называет Иисуса «Иисусом Христом», отчего титул «Христос» становится почти частью имени Иисуса. Это указывает на то, что титул Мессии начали применять очень рано, возможно, еще во времена служения Иисуса, но из этого не следует, будто сам Иисус притязал на этот титул. Так могли называть его восторженные ученики, или же титул мог появиться после воскресения, – так одно событие веры способно породить другое.
Как бы там ни было, эти разнообразные ключевые пассажи отражают мысль Швейцера. Вначале он говорит, что Иисус «мог в какой-то мере» считать себя Мессией: он думал, что ему предстоит войти в Царство преображенным ангелом, и полагал, что войдет туда как Мессия и Сын Человеческий[89]. И этот ряд предпосылок – «он мог», «в какой-то мере», «он думал»; титул Сына Человеческого, добавленный к титулу Мессии, – сначала предстают как возможности, а потом как-то неуловимо превращаются в несомненный факт.
Служение Иисуса, как напоминает нам Швейцер, вероятно, не продлилось и года, и лишь скромную часть этого времени Иисус уделил тому, чтобы учить народ. Он закончил учить, когда отослал с проповедью своих апостолов, после чего удалился от толпы и вместе с учениками отправился на север. Мы снова видим его в окружении народа лишь по прибытии в Иерусалим. С какой целью он отправился на север – без цели, без плана действий, как кажется на первый взгляд? Либеральные авторы широко обсуждали этот вопрос; по мнению Швейцера, Иисус пытался избегать толп, чтобы не раскрылась тайна его мессианства. Он оказывается на другом берегу озера, в Трансиордании, совершает там акт экзорцизма, но уходит, когда к нему стекаются горожане. Куда бы он ни шел, вокруг него собираются люди; он уклоняется от встреч, отправляется в Назарет, отсылает своих учеников на миссию, а по их возвращении пытается скрыться от толпы, которая по-прежнему следует за ним. У озера он насыщает пять тысяч человек, пересекает Иордан, идет в Вифсаиду, затем направляется в Генисарет, но и там ему не дает покоя толпа; и он уходит в область Тира и Сидона, на чем и завершаются его деяния в Галилее.
Как полагал Швейцер, впервые Иисус попытался уйти от толпы в Капернауме, где изгоняемые им бесы признали в нем «святого Божия», а он повелел им молчать. Это стало обычным явлением при экзорцизме: злые духи распознают Иисуса, а он велит им не разглашать его тайну. Почему он велит им молчать? Отвечая на этот вопрос, Швейцер ссылается на Евангелие от Марка (Мк 4:10–12): тут Иисус отвечает на вопрос о том, для чего он учит в притчах, и за его ответом скрыта идея о предопределении. Только те, кому дано войти в Царство, понимают притчи. К другим же обращены лишь слова о скором наступлении Царства и сопутствующий этому призыв к покаянию. Таким образом, люди, которые понимают притчи, тем самым показывают, что находятся в числе предопределенных избранников, и требования, изложенные позже в Нагорной проповеди, предъявляются именно к ним. Это этика переходного периода, поведение, ожидаемое от тех, кому предназначено войти в Царство. Близость наступления Царства сужает сферу применения этих этических стандартов и придает им временный характер. В Царстве нравственных требований уже не будет, все станут подобием ангелов, а структура семьи полностью утратит свое значение. Но если бы ученикам позволили узнать, какая судьба их ждет, осталась бы у них хоть какая-то реальная причина стремиться занять свои места в этом Царстве?
Образ Иисуса, избегающего толпы в попытке сохранить в тайне свое мессианство, делает его странным Мессией, который отказывается совершать дела Мессии и подчиняет все свои поступки и речи предопределенному плану. Швейцер полагал, что Иисус мог скрывать свое мессианство, чтобы те, кому не было предначертано оказаться среди избранных и войти в их круг через веру в Иисуса, не обрели спасения души[90]. Но с чего бы Иисус вел себя так, если пришел даровать спасение тем, кто был его лишен?
«Этическая идея спасения и ограничения, связанные с предопределением для принятия в круг избранных, непрестанно конфликтуют в уме Иисуса»[91], – утверждал Швейцер – точно как либералы, «прекрасно знавшие», что происходило в уме Иисуса, или словно какой-нибудь кальвинист, рожденный много веков спустя после эпохи, в которой жил Иисус. К тем, кому предназначено войти в Царство, обращены и заповеди блаженства; ученики, отправленные на миссию, должны проповедовать всем о том, что Царство грядет, и очень скоро. По мнению Швейцера, Иисус ожидал, что это случится в дни жатвы – в прямом смысле слова – и именно поэтому разослал учеников проповедовать Царство, которое вот-вот станет реальностью. Тут Швейцер отступает от Марка и обращается к Евангелию от Матфея (Мф 10:23), где находит ключевой пассаж для понимания хода событий, связанных с деятельностью Иисуса. Можно думать, говорит он, что ученики в спешке обежали города и селения, о которых текст просто не упоминает, и вернулись к Иисусу. Убедить людей в том, что Царство приблизилось и что им надлежит покаяться и быть готовыми к его приходу, не удалось, миссия завершилась неудачей, и это вызвало кризис у Иисуса, ожидавшего, что парусия Сына Человеческого произойдет прежде, чем вернутся ученики. И когда они вернулись, Иисус, по мнению Швейцера, был потрясен. Парусия Сына Человеческого не состоялась, и это, добавляет Швейцер, стало кризисом не только для Иисуса, но и для последующих поколений христиан, так что в итоге им пришлось отказаться от эсхатологии. И теперь требовалась новая интерпретация событий – сначала Иисусу, а потом и Церкви.
В данном случае одному-единственному стиху приходится нести на себе слишком тяжелую ношу. Без него вся реконструкция, проведенная Швейцером, заходит в тупик. Без этого стиха Иисус, представший в версии Швейцера, мог бы уйти в трагической тишине и провести свои дни в тихом отчаянии; либо же восстать против своего Бога и прийти в ярость от своих ошибок; либо как-то еще – фантазия не ограничена – переживать то, что он совершенно неверно понял замысел Бога. Как мог Иисус столь ужасно ошибиться?
В литературе нет такого препятствия, которое нельзя было бы обойти с помощью богатства воображения. Швейцер обращает внимание на контекст отрывка, в котором учеников отправляют на проповедь, и видит там пространный перечень страданий и испытаний, которые должны пасть на учеников – все в полном соответствии с ожиданиями конца времен. А значит, Иисус разделял (по крайней мере так гласит данный текст) общие представления о великом испытании, πειρασµός, которому предстояло предшествовать последним дням и, в данном случае, явлению Сына Человеческого в сверхъестественном Царстве. Кроме того, Иисус рассказывает ученикам о событиях, предваряющих явление сверхъестественного Сына Человеческого, причем и самому Сыну Человеческому тоже предстоит принять в них участие.
Но ничего из этого не случилось – разумеется, если мы, подобно Швейцеру, воспримем этот текст как в прямом смысле подлинные слова Иисуса, которыми он наставляет учеников, отправляя их на проповедь. Мы не хотим допускать легкомыслия, но просто нельзя не задуматься о том, сколь трудно было Иисусу набрать себе учеников, если приходилось говорить, что их ждет такая горестная участь. Правда, возможно, нам, опять же, следует предположить, что их тревоги успокаивались обещанием награды: важных постов в Царстве. Это напоминает один не слишком приятный пример из нашей жизни: террористов-смертников, которые идут на гибель, думая о небесных наслаждениях и о том, как ими будут гордиться родные.
После возвращения учеников Иисус снова учил народ «тайнам» Царства. Он говорил о том, что Иоанн Креститель был воплощением вернувшегося Илии, а отвечая ученикам Иоанна на вопрос их учителя, заключенного в темницу, сказал, что близки последние времена. Здесь снова появились неизвестные люди – в самый нужный момент, как в романе, где все затруднения внезапно разрешаются неожиданной и счастливой развязкой. В конце дня Иисус насытил множество народа – огромную толпу, пять тысяч человек, как сообщает нам Марк. Швейцер видит в этой истории предвкушение мессианского пира, таинство спасения, где Иисус благодарит за приход Царства, как в молитве, которой он научил учеников: там просят о насущном хлебе и об избавлении от πειρασµός, испытаний последних дней.
Если воспринимать историю в прямом смысле, это рассказ о чуде. Но Швейцер – рационалист, подобное чудо его не устраивает, и потому он заявляет, что тут все исторично, «за исключением последнего замечания о том, что все они насытились»[92]. Но почему не признать историчным и этот момент? Урезанная версия Швейцера (куда исчезла рыба?) упростила рассказ: Иисус с учениками раздали свои убогие припасы, которых было мало, слишком мало для пятитысячной толпы, и никто даже не утверждал, будто всем хватило. Так что, если забыть о насыщении собравшихся, можно предположить (хотя это шаткое, очень шаткое соображение), что это событие было не чудом, но таинством. Впрочем, с другой стороны, так оно обретало иной смысл, не связанный с трапезой: все вовлекались в мессианское событие.
Швейцер допускает, что предание превратило эту историю в чудо; к слову, обычно он отвергает любое влияние «предания» и нередко обличает современников-толкователей из «теологии модернизма» за то, что они противятся прямому пониманию текста. Видимо, здесь особый случай, когда можно и забыть о принципах.
События развиваются стремительно. В момент преображения трое ближайших учеников участвуют вместе с Иисусом в экстатическом переживании, которое для апостолов окрашено яркими эсхатологическими ожиданиями. «Так создалась психологическая предпосылка для того общего визионерского опыта, который описан в истории о преображении»[93], – писал Швейцер, ссылаясь, нетипично для себя, на психологическую теорию. Так и апостол Петр, пребывая в Кесарии Филипповой, в присутствии всех учеников заявил, что признает Иисуса Мессией, и это вызвало не радость, но указание на то, что это Мессия особого рода, которому предстоит таинственным образом пережить страдания и даже смерть.
После этого Иисус отправляется в Иерусалим, говоря по дороге о своих грядущих страданиях и смерти. Однако теперь он говорит только лишь о своих страданиях и о своей смерти, как будто отныне период испытаний – πειρασµός – предназначен лишь ему одному. Последние испытания еще не начались, даже вопреки его собственным ожиданиям. Чего-то тут не хватает, он должен что-то совершить – «ради других… чтобы Царство могло наступить»[94]. Его решение было следствием того, что ожидаемая прежде парусия так и не совершилась.
Но не странно ли то, что Иисус, жертвуя жизнью, ожидает, что это позволит прийти Царству? Разве это – не признание того, что Иисус неверно понимал божественную волю? И хуже того, не показывает ли Иисус этими словами, будто он может принудить Бога к тому, чего сам Бог явно не намеревался совершать?
Иисус решительно шел навстречу насильственной смерти. Его вход в Иерусалим имел для самого Иисуса мессианский смысл, но народ воспринял все иначе. Швейцер по неясным причинам резко переходит к суду, не сказав ни слова – по крайней мере тут – о Тайной Вечере, хотя и говорил о ней раньше. Странно, ведь в рассказе о ней он по праву нашел бы еще более выраженные ожидания грядущего Царства – в обетовании Иисуса о том, что ученики увидят его лишь по наступлении Царства Божьего.
По мнению Швейцера, предательству Иуды соответствует то, что сделал Петр. «Иисус умер, потому что двое из его учеников нарушили повеление молчать: Петр – в тот момент, когда рассказал о мессианстве Иисуса двенадцати в Кесарии Филипповой, Иуда Искариот – когда донес об этом первосвященнику»[95]. Иисус признал себя Мессией, и священники решили осудить его на казнь как «обманувшегося энтузиаста и богохульника»[96]. Швейцер не смог разъяснить, как он понимал оба этих обвинения. Что значило «энтузиаст»?
Тут история Швейцера обрывается: Иисус кричит громким голосом и умирает на кресте. «Он отказался от питья с успокоительным средством (Мк 15:23), чтобы сохранить всю полноту сознания до самого конца»[97].
Финал странно сдержан: нет ни рассказа о тонкостях суда, ни вопросов о том, на каких основаниях вынесен приговор Иисусу. Пилат у Швейцера – просто обманщик, который тайно потворствует священникам, соблюдая их интересы, и в то же время использует «множество народа», чтобы умиротворить широкую публику. Но мог ли иной претендент на роль мессии оказаться на кресте, ничем не вызвав гнева Рима? Несомненно, любой, в ком видели предводителя народного движения, мог показаться угрозой для Pax Romana, и конечно же, любой, кто учинял беспорядки в Храме, пробудил бы гнев высокопоставленных священников. Но как мог человек, притязающий на то, что он – Мессия, который скоро явится как сверхъестественный Сын Человеческий, заслужить одно лишь презрение? И странное замечание в финале (о том, что Иисус желал оставаться в полном сознании до смерти) – что это за таинственный вывод? Откуда Швейцер об этом узнал?
И он молчит о том, что происходило у креста; не упоминает ни о гробнице, ни о разных проблемах, которые ставят перед нами различные истории о ней; ничего не говорит ни о воскресшем Иисусе, ни хотя бы о столь широко распространенной вере в то, что он являлся ученикам. Похоже, что у Швейцера история Иисуса закончилась на кресте. Швейцер не нуждался ни в чем другом, и, видимо, это вполне его устраивало: он избегал всего, что хоть отдаленно напоминало традиционную христологию. Его собственные представления содержатся в заключении к его книге, и эти знаменитые строки нам еще предстоит рассмотреть.
Швейцер и история «поиска Иисуса»
Принято думать, что в истории «поиска Иисуса» можно выделить период Старого поиска, который начался с Реймаруса, длился весь XIX век и прекратился, рухнув под ударами Швейцера. Наступил период молчания, когда никто ничего не искал, после него настала эпоха Нового поиска, а затем – и Третьего поиска, или «Исследования Иисуса». О том, какое положение в этом историческом развитии занимает Швейцер, ясно сообщил Маркус Борг, высказавший на этот счет два соображения[98]. Во-первых, говорит Борг, «Швейцер стоял за радикальное отделение исторического исследования от богословия: то, каким был Иисус как исторический деятель, не имеет отношения к истине христианства, которая, по мнению Швейцера, коренится в переживании Христа как живой духовной реальности в настоящее время». Во-вторых, Швейцер провозгласил, что исторические исследования Иисуса не имеют никакой богословской ценности, и это имело важное последствие: «…на протяжении большей части этого столетия исследователи проявляли сравнительно мало интереса к историческому Иисусу, так что труд Швейцера стал не только вехой, завершившей “старый поиск исторического Иисуса”, но и на время привел к прекращению вообще какого-либо поиска»[99].
Впрочем, общепринятые взгляды требуется пересмотреть. Быть может, Швейцеру было трудно вписать его исторического Иисуса в богословские схемы, но он никогда не заявлял, будто исторический Иисус неуместен в его философии. Швейцера привлекала невероятная сила воли Иисуса – человека, который осмелился бросить вызов истории и придать ей облик по своему желанию. Значение такого Иисуса в наши дни надлежит видеть в том, что он влияет на нашу собственную волю – и обе воли, соединяясь, как будто перекидывают мост через пропасть, отделяющую прошлое от настоящего. От исторического Иисуса остался не Иисус воскресший (возможно, именно его Борг назвал «живой духовной реальностью»?). Швейцер говорит только о «духе Иисуса», проявившем себя в этике любви и доступном для нас сегодня и всегда. Именно такой Иисус отражен в знаменитых и часто цитируемых словах, завершающих книгу Швейцера: «Он приходит к нам как некто неведомый…»
Но приведем и другие слова, и пусть сам Швейцер скажет, какой, по его мнению, надлежало быть нашей связи с Иисусом. Он говорит об этом в тексте, добавленном лишь в издании 1913 года:
В конечном счете наше отношение к Иисусу носит мистический характер. Мы не в силах перенести хоть кого-либо из деятелей прошлого во плоти в настоящее, и в этом нам не помогут ни исторические наблюдения, ни дискурсивное размышление о том, сколь велико значение их влияния и авторитета. Мы способны вступить в отношения с таким деятелем только тогда, когда соединяемся с ним в знании о том, что разделяем одни и те же устремления, когда чувствуем, что наша воля проясняется, обогащается и оживляется его волей, когда заново открываем через него самих себя. В этом смысле абсолютно любые глубокие отношения между людьми носят мистический характер. И наша религия, в той мере, в какой она являет себя именно христианской – это не столько культ Иисуса, сколько мистицизм Иисуса[100].
Что же касается временной приостановки «поиска», она в намерения Швейцера не входила[101]; впрочем, он действительно стремился нанести серьезную рану сторонникам Ричля, считая, что тот заковал христианскую веру в оковы, сочетав ее с историей, вечно изменчивой, неопределенной и относительной. Швейцер полагал, что христианству, ради его будущего, необходима метафизическая основа, и, кажется, нашел ее в своем знаменитом «благоговении перед жизнью».
Точнее было бы сказать, что Старый поиск умирал постепенно – сначала в Германии, потом в других местах – из-за равнодушного отношения к нему в мире, где он ревностно стремился стать актуальным. А сам мир тем временем приходил в отчаяние от собственной правоты и подозревал, что погряз в беззакониях. Но стоит прояснить одно: как бы мы ни трактовали конец Старого поиска, истина в том, что всегда существовал один-единственный непрестанный поиск исторического Иисуса, со своими взлетами и падениями, озарениями и тупиками. В Германии так называемый «период молчания» и был таким падением и тупиком, – но он происходил не во всем мире, а впрочем, даже и не во всей Германии. И, вероятно, этот спад ускорили и Бультман, и критика форм, и диалектическое богословие в сочетании с иными социокультурными факторами, – а не один только Швейцер с его трудом.
И потому неверно говорить, будто после Швейцера наступила эпоха молчания, когда исторического Иисуса никто не искал. Это убедительно опровергает моя книга «Исторический Иисус в ХХ веке. 1900–1950». Я не стану ее пересказывать даже кратко, но просто приведу некоторые имена: Рудольф Бультман, Мартин Дибелиус, Рудольф Отто, Шейлер Мэтьюз, Шерли Джексон Кейс, Генри Кэдбери, Фредерик Клифтон Грант, издательский дом John Knox, Томас Уолтер Мэнсон, Уильям Мэнсон, Чарльз Гарольд Додд, Сесиль Джон Каду, Альфред Луази, Винсент Тейлор, Морис Гогель, Шарль Гиньбер и многие-многие другие. Можно ли, если мы помним об этих и прочих людях, говорить об эпохе молчания?
Швейцер: заключение
Все великие люди прошлого оставляют нам в наследие вопросы. Вот некоторые из тех, какие я по-прежнему хочу задать о Швейцере:
• Получился бы у Швейцера иной образ Иисуса, если бы он все же принял во внимание Евангелие от Луки?
• Верно ли Interimsethik Швейцера отражает учение Иисуса, если оставить в стороне наступление грядущего Царства? Эту часть созданной Швейцером картины отвергли почти все.
• Не придется ли вносить в текст понятие предопределения?
• Почему Швейцер столь кратко рассмотрел суд над Иисусом и его казнь? Можно ли объяснить это тем, что Швейцер счел важным лишь решение Иисуса пойти на смерть, а остальным достались второстепенные роли?
• Требовалось ли для правдоподобия образа доказывать, что Иисус был в здравом уме, как делал это Швейцер в своей медицинской диссертации?[102]
• Удалось ли Швейцеру создать целостный образ Иисуса? Есть ли там достойное доверия ядро?
• Если мы учтем ограничения в работе с Евангелиями – обращение лишь к тексту Марка и фрагментам Матфея, а также настойчивое стремление понимать их буквально и как единое целое, – не стоит ли думать, что у Швейцера неизбежно должен был получиться именно такой образ Иисуса?
• Не привело ли невнимание Швейцера к евангельским притчам к тому, что воссозданный им образ Иисуса утратил всеохватность? И не поэтому ли картина, изображенная Швейцером, уже изначально не могла стать верной дорогой к историческому Иисусу?
Вопросы о методике
У деистов не было четко определенного метода, о существовании которого можно было бы говорить. Они следовали тому, что предоставлял разум, а именно – правилу согласованности и отсутствия противоречий, к которому и сегодня обращается любой исследователь. Так же действовал и Реймарус, однако он впервые внес нечто новое, попытавшись рассмотреть Иисуса строго в историческом контексте. Те выводы об учениках Иисуса и их поступках, к которым он пришел в процессе, не лишают законной силы сам подход. Штраус расширил точку зрения Реймаруса и ввел концепцию мифа. В этом смысле Бультмана можно считать наследником Штрауса, хотя для Бультмана миф был объективацией языка, призванного возвестить об инаковости Бога, и требовал нового перевода в более современных терминах, а именно в почти невыразимой обычными словами реальности Dasein («бытие присутствия»), в том смысле этого термина, в каком его понимал Хайдеггер. Такой обратный перевод оказался более эффективным для слов Павла, а не Иисуса; впрочем, Бультман здесь обязан в большей степени не Хайдеггеру, а Кьеркегору.
Ко временам Швейцера исторический метод уже развился, хотя и не везде на Западе это понимали. Швейцер не предложил никаких улучшений этого метода, но показал, что захватывающий, яркий образ можно создать при помощи одной-единственной предпосылки – эсхатологии, и отвел ей роль колеса, что везет на себе всю телегу.
К началу ХХ века текстологией уже занимались серьезно. Открытия Константина фон Тишендорфа и других исследователей позволили получить тексты, намного более близкие к оригиналам, что прежде было намного труднее. Кроме того, текстологи разработали ряд принципов и аппарат и неуклонно их развивали.
Литературоведы и исследователи источников обсуждали синоптическую проблему. Большая часть исследователей согласилась с тем, что первым было создано Евангелие от Марка, хотя некоторые по-прежнему придерживались гипотезы Иоганна Якоба Грисбаха, гласившей, что первым возникло Евангелие от Матфея, а другие его редактировали.
Критика форм принесла с собой осознание последствий того, что предания передавались устно и только потом были зафиксированы в текстах. Появилась надежда на то, что получится восстановить ту форму, в которой передавался устный текст, и дойти до самых истоков традиции. Кроме того, критики начали понимать, что ранее текст принадлежал общине с традициями, которые можно было поместить либо в Sitz im Leben Jesu («контекст Иисуса»), либо в Sitz im Leben Kirche («контекст Церкви»). Критику форм можно было бы назвать Traditionsgeschichte («история традиций») – ею она, по сути, и была. Призванная прояснить тексты, критика форм уделяла мало внимания социологии, косвенно выраженной в ее собственной теории. Однако она стала непосредственной предшественницей Redaktionsgeschichte, «истории редакций», принимавшей во внимание те способы, при помощи которых сами евангелисты обретали свои особые воззрения, которые предстояло продвигать. Такие исследования продолжаются и сегодня.
Начиная с 1920-х годов так называемая Чикагская школа сосредоточила внимание на том, как в Евангелиях представлены особенности устроения общин, связанные с социальной жизнью. Ширли Джексон Кейс, главный идейный вдохновитель школы, призывал интерпретировать тексты, связанные с Иисусом, в свете того социально-исторического окружения, в котором они появились. Чем яснее мы сможем воссоздать особенности такой среды, тем выше вероятность, что традиция, ассоциируемая с Иисусом, окажется подлинной. Сегодня такой социально-исторический подход широко распространен и часто заимствует наработки из других областей знаний, скажем, таких, как анализ социальных слоев и экономических условий в греко-римском мире, тем самым проясняя более широкий социальный контекст исторического Иисуса. И этот контекст предстал еще яснее в середине ХХ века, когда были открыты свитки Кумрана и рукописи Наг-Хаммади.
В начале ХХ века археология, похоже, не влияла на изучение Нового Завета почти никак. Впрочем, некоторые исследователи, скажем, Адольф Дейсман (а в Америке – Кэмден Коберн) выпускали объемные отчеты о папирусах, надписях и черепках, преимущественно египетских, прояснив то, как жили в древности обычные люди. Обилие находок в Оксиринхе позволяло ученым работать год за годом, да еще и получать доход. И, разумеется, в середине ХХ века, благодаря открытиям в Кумране и Наг-Хаммади, исследователи получили огромное множество материалов и для датировки и поиска параллелей в истории раннего христианства, и для прояснения временного периода, на протяжении которого происходили общественное служение и смерть Иисуса из Назарета. Вопросы о том, содержат ли свитки из Наг-Хаммади – в том числе речения из Евангелия Фомы – материалы, связанные с историческим Иисусом, пока продолжают вызывать споры.
Были среди ученых и сторонники идеи о важности арамейского языка, предпринимавшие попытки обратного перевода с греческого на арамейский. Ведущую роль в этом играли Густав Дальман, Чарльз Катлер Торри, Чарльз Фокс Бёрни, Иоахим Иеремиас, а также, ближе к концу упомянутого периода, Мэтью Блэк. «Арамейский клуб» был невелик, однако его участники ставили перед собой достойную цель: прояснить традицию, связанную с Иисусом, лучше узнав основы того языка, на котором говорили Иисус и его первые последователи. В 1933 году Торри завершил новый перевод Евангелий, основанный на подразумеваемом арамейском. Если говорить о его точке зрения в общих чертах, то он, работая над переводом какого-либо документа, гипотетически предполагал наличие у того исходной исходной арамейской основы и датировал эти тексты как древние. Книга «Арамейский подход к Евангелиям и Деяниям» повлияла на многих исследователей, удостоилась трех изданий и выходила на протяжении довольно долгого времени[103].
Несмотря на столь богатый арсенал, исследователи исторического Иисуса делают о нем столь же разные выводы, как и их предшественники, усугубляя «проблему разнородных Иисусов». Так что перед нами по-прежнему стоит вопрос: можно ли создать «единогласный» образ Иисуса? Мне кажется, нет, и причины тому столь же многообразны и глубоки, как различия в социальных, культурных и исторических условиях, в которых пребывают истолкователи. А с другой стороны, образ Иисуса столь же сложен, как и положение тех, кто пытается его истолковать – а может, и более загадочен.
Может быть, Иисус, как и предполагали многие, действительно непостижим и совершенно уникален. Но стремление постичь его уникальность несет в себе опасность забыть о его еврействе, а в истории эта ошибка вела к чудовищным последствиям. Помня об этом, мы можем толковать образ Иисуса, в какой-то мере понимать, что скрыто в сути его личности, и убеждаться в том, что мы близки к этой сути. Как проверить такую возможность? Может быть, ввести в компьютерную программу все изречения, приписанные Иисусу, исследовать его речевые модели, выбор рассказов, особый лексикон? Иисус говорил о многом, он, можно сказать, «сеял» слова – и, быть может, он это делал как-то особенно и мы еще не увидели, как именно? А возможно, подобный подход можно применить и к его деяниям, и по крайней мере у нас появится эвристический инструмент, позволяющий по-иному исследовать традицию, связанную с Иисусом.
Иисус: проявление иудейской мозаики
Дэниел Мур
Вера Иисуса нас объединяет, но вера в Иисуса разделяет.
Шалом Бен-Хорин. «Брат Иисус»
Этот текст – краткое изложение моей докторской диссертации с одноименным названием[104]. Сказав о проявлении, я стремлюсь выразить идею развития; впрочем, отчасти здесь мы увидим и ретроспективу. А чтобы указать на сложность замысла, на выбор источников и на применение творческих подходов при создании портрета Иисуса, я воспользовался аналогией с мозаикой. Далее я разделил свое исследование на пять частей: «Сближение», «Точки зрения», «Проявление мозаики», «Достижения» и, наконец, «Критика и итоги».
Сближение
Любое честное богословие есть богословие катастрофы, импульс которому дает убожество и благородство нашей человеческой природы.
Пинхас Лапид. «Воскресение Иисуса»
«“Иисус Иудей”, – эта книга стала нашим началом», – так завершает Джеймс Данн свой труд «Иисус, оставшийся в памяти», одну из наиболее современных работ в научной историографии, созданную в стремлении авторитетно запечатлеть характерный портрет непостижимого Иисуса из Назарета[105]. Данн прямо говорит об очевидной исходной точке исследований: еврействе Иисуса. О нем не думали ни христиане, ни иудеи – до Холокоста. И только после трагедии еврейские ученые с разными мотивами и целями – впрочем, исключительно научными и мирными, – начали рассматривать Иисуса с четко выраженного «иудейского ракурса».
В 1973 году, опубликовав свой труд «Иисус Иудей»[106], Геза Вермеш, выдающийся исследователь кумранских находок, сформулировал проблему и содействовал появлению определяющего лейтмотива, который, по мнению некоторых, стал в конце ХХ века движущей силой всего Третьего поиска исторического Иисуса[107]. Позже Вермеш написал еще одну книгу, «Иисус в его иудейской среде», где вспоминает о том, какой отклик вызвал его тезис:
«Иисус Иудей» – так называлась и написанная мною книга – это эмоциональный синоним Иисуса, действующего в истории, в противопоставлении божественному Христу веры христиан. И хотя это просто новое утверждение очевидного факта, многим христианам и даже некоторым иудеям по-прежнему тяжело принять идею о том, что Иисус был иудеем, а не христианином. Видимо, нам снова предстоит отправиться на поиски исторического деятеля, который, как принято считать, стал основателем христианства[108].
Вермеш не был ни первым, ни единственным из тех иудейских исследователей, которые четко заявили о принадлежности Иисуса к еврейскому миру, однако он ясно обозначил то, что его исследование – не взгляд приверженца какой-либо религии, но взгляд историка. Иудеи интересовались этой темой и прежде, но не всегда проявляли благожелательность, а их подходы не всегда отличались объективностью. Часто их воззрения, отражавшие преобладающие тенденции эпохи, в недостаточной степени опирались на историю. Однако по мере того, как возрастало влияние Просвещения с его нацеленностью на научный метод, ситуация изменилась.
Все началось с еврейских интеллектуалов Германии: вдохновленные немецким Просвещением и его нацеленностью на историческую объективность, они начали высказывать обоснованные точки зрения на Иисуса и его биографию, полагаясь на скрупулезное исследование как иудейских, так и христианских источников. Хотя их труды в этой области и компетентность в библеистике и герменевтике не всегда были на должной высоте, от их идей нелегко было просто отмахнуться – впрочем, нельзя сказать, будто их охотно принимали как иудеи, так и христиане. Первые считали таких ученых предателями, вторые называли исследователей богохульниками. Но, несмотря на это, евреи-интеллектуалы умело пользовались как иудейскими, так и христианскими источниками и продолжали строить гипотезы о личности Иисуса и его жизни.
Их мотивы были самыми разными – как и их взгляды и степень влияния. Я не стремлюсь дать полную историю иудейских исследований, посвященных Иисусу, и рассказать о том, что за ними стояло, какие точки зрения были в их основе и как они влияли на последующие поколения. Но я все же хочу рассмотреть вопрос о значении иудейских исследований, проведенных в ХХ веке, – тех, что начались после Холокоста и ставили перед собой широкую цель: оценить Иисуса в свете науки, особенно с иудейской точки зрения. Сперва они интересовали лишь некоторых иудеев, желавших понять личность Иисуса. Потом это стремление развилось в тезис, который, как мы увидим, решительнее всего высказывали Давид Флуссер и Геза Вермеш. Этот тезис, ставший необходимой предпосылкой для любых последующих исследований, гласил, что Иисуса следует изучать в иудейской среде Палестины I века, в которой он родился и жил. Флуссер говорит о таком подходе лаконично: «В настоящем исследовании мы лишь хотели изучить темы, связанные с “историческим Иисусом” в контексте его иудейского окружения. Я считаю, что именно это и означает исследовать Иисуса в иудейском ракурсе»[109]. Неудивительно, что вместе с познанием Иисуса как иудея началось и изучение иудейских корней христианства.
Во второй половине ХХ века пошло сближение, благодаря которому стало легче вести диалог, к которому стремились еврейские исследователи. По мнению Вермеша, ключевым фактором такого сближения был «отпечаток, оставленный ужасами Холокоста в христианском мире»[110]. Именно это оказалось одной из важнейших причин, пробудивших интерес к Иисусу и иудаизму. Второй причиной стало изучение важнейших находок Мертвого моря, оказавшее мощное воздействие на библеистику. В предисловии к книге Пинхаса Лапида «Воскресение Иисуса» Карл Бротен своими словами передает описание этого периода, данное Юргеном Мольтманом:
Сегодня перед диалогом иудеев с христианами открываются небывалые возможности. Есть «иудейская волна» среди христиан, которые ищут корни своей духовной идентичности, как то отметил Юрген Мольтман, а теперь, с еврейской стороны, «волна Иисуса» появилась и в иудаизме… О существовании последней, по мнению Лапида, свидетельствуют «187 написанных на иврите книг, научных статей, стихотворений, драм, монографий, диссертаций и эссе, созданных в течение последних двадцати семи лет с момента создания государства Израиль и посвященных Иисусу»[111].
В 1967 году Раймонд Браун, член Общества Святого Сульпиция, описал этот период с точки зрения христиан. В предисловии к своей книге «Иисус, Бог и человек» Браун говорит о «неприятных побочных явлениях», причиной которых стало стремление Церкви защитить идею божественности Иисуса в дискуссиях с оппонентами, несогласными с утверждением о том, что Иисус есть истинный Бог и истинный человек. Развивая эту тему, он заявляет:
Широко распространено также и нежелание признать Иисуса человеком, и с этим бороться труднее, поскольку это нежелание остается неосознанным или не формулируется как четкая позиция. Многие верующие христиане не отдают должного человеческой стороне Иисуса. Они переносят образ Иисуса, воссиявшего во славе, на его общественное служение, воображая, что он странствовал по Галилее, окруженный сияющим ореолом. Им трудно представить, что он был подобен другим людям; их смущают евангельские сцены, в которых говорится, что Иисус устал или замаран пылью, раздражен или борется с соблазном; что его не выделяют в толпе; что его считают фанатиком и демагогом. О том, насколько устойчиво такое отношение к человеческой природе Иисуса, ярко свидетельствуют громогласные протесты против любого нового перевода Евангелий, где авторы отказались от освященного веками жаргона «библейского английского» и где Иисус говорит как обычный человек[112].
В 1997 году Ларри Хуртадо в статье «Систематика современных работ, посвященных историческому Иисусу» кратко описывает долгий период после Второй мировой войны как контекст для исследований, главной темой которых был Иисус:
Сперва изменился курс богословия, и о важности исторического Иисуса начали говорить ведущие представители школы Бультмана, а затем – и его адепты в Северной Америке, те же Джеймс Робинсон и Роберт Фанк. Кроме того, были сделаны великие археологические открытия, включая обнаружение библиотеки Наг-Хаммади и свитков Кумрана, а Израиль поддерживал проведение многочисленных раскопок в разных местах, отчего возникло новое стремление поместить Иисуса в более подробный и достоверный исторический контекст. На протяжении последних сорока лет можно было также наблюдать, как изменилась демография исследователей-библеистов: раньше этим занимались почти исключительно либеральные протестанты, но с 1945 года в работу стало включаться все больше католических и иудейских специалистов – а еще позднее к ним присоединились и «евангельские христиане», и даже те, кто не считал себя приверженцами какой-либо религии. Наконец, когда пришло в упадок движение библейского богословия, мы увидели, как возрождается интерес к историческому исследованию Нового Завета: это в какой-то мере напоминает аналогичный процесс, происходивший в истории религий ближе к началу ХХ века. И нынешние исследования исторического Иисуса, несомненно, представляют собой отражение упомянутых обширных изменений в данной области[113].
Шалом Бен-Хорин говорит о «великом молчании»[114] в иудейских кругах, которое прервалось лишь в наше время. А Лапид, учитывая «взаимное любопытство»[115], считает, что наша эпоха дает удивительные возможности для лучших отношений между христианами и иудеями: «Давайте учиться вместе!»[116].
С тех пор как Мартин Бубер в сочинении «Два образа веры» назвал Иисуса своим «великим братом», о месте Иисуса в широком контексте еврейской истории начали задумываться и другие иудейские авторы. Здесь мы поговорим о семи мыслителях: это Сэмюэль Сэндмел, Шалом Бен-Хорин, Давид Флуссер, Пинхас Лапид, Геза Вермеш, Джейкоб Нойзнер и Юджин Боровиц. Все они предприняли эту попытку, и в какой-то мере создали своеобразную хронологию данного направления. Впрочем, неверно воспринимать их как одну команду, хотя каждый из них, разумеется, знал о трудах коллег.
Это сближение академических, археологических и культурных факторов во второй половине ХХ века способствовало развитию диалога между иудеями и христианами. После Второй мировой войны, истерзавшей человечество, как те, так и другие начали задавать себе вопрос: как стал возможным Холокост (на иврите – Катастрофа, [Шоа2]), особенно среди верующих и против верующих? Стремление сделать все, чтобы подобное не повторилось, заставило некоторых людей задуматься об Иисусе: прежде казалось, что он мешает примирению, но теперь его начали воспринимать как самый надежный мост через пропасть и как исцеляющий бальзам для ран от ненависти к евреям и ненависти к христианам. Другие иудеи решили заняться академическими исследованиями исторического Иисуса, добавив свои усилия к попыткам более внимательно и объективно изучить Иисуса в исторических трудах. К слову, именно они, по мнению некоторых, «спасли» галилейского иудея Иисуса как от наносной эллинистической христологии, так и от презрительного отношения, которое испытывали к нему иудеи прошлых эпох – и тем обеспечили ему, «великому брату», особое место в истории евреев[117]. Это породило споры, а также пробудило новый интерес к поиску исторического Иисуса, что и привело к нынешнему положению вещей в этой сфере. Мы начнем с Иисуса-иудея.
Точки зрения
Вряд ли я когда-либо полагал, что я, еврей, вижу лучше, чем христиане, – нет, я просто думал, что смотрю на все с иной точки зрения.
Сэмюэль Сэндмел. «Первый христианский век в иудаизме и христианстве»
Сэмюэль Сэндмел, 1911–1979
Сэмюэль Сэндмел, апологет евреев и иудаизма, прекрасно знал и раннехристианскую литературу, и современные ей иудейские труды. Адресатами его книги 1964 года «Мы, евреи, и Иисус» были американские евреи[118]. Уже здесь заметно, что он изучал Новый Завет, и эта сторона его исследований ясно отражена в другой книге, «Иудейское понимание Нового Завета»[119], где он пытался познакомить иудеев и со священными христианскими текстами, многие из которых по своему происхождению или стилю носят еврейский характер, и с таинственной фигурой еврея Иисуса, порожденного миром иудаизма. По мнению Сэндмела, Иисус был просто еврейским назиром, или назореем — человеком, посвященным Богу, – и в то же время, что было неизбежно, он предстал как символ западной культуры: как тот, кого можно ценить, но кому не следует подражать.
Шалом Бен-Хорин, 1913–1999
Шалом Бен-Хорин родился в Мюнхене, где носил имя Фридрих (Фриц) Розенталь. Его книга Bruder Jesus: Der Nazarener in jüdischer Sicht была опубликована в Мюнхене в 1967 году[120]. В 2001 году ее перевели на английский, и она вышла в США под названием «Брат Иисус: иудейский взгляд на Назарянина»[121]. Книга «Брат Иисус» похожа скорее на диалог, а не на ученый трактат, и адресована в первую очередь христианам. По мнению Бен-Хорина, Иисус – это брат иудеев, достойный уважения, хотя, что неудивительно, это трагический герой.
Давид Флуссер, 1917–2000
Давид Флуссер, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, изучавший раннее христианство и иудаизм эпохи Второго Храма, родился в Вене. Среди его трудов особенно знамениты книга «Иисус» – биография Иисуса из Назарета, впервые опубликованная в 1968 году и, с изменениями (при участии Р. Стивена Нотли) в 1997 году;[122] а также сборник статей под общим названием «Иудаизм и зарождение христианства»[123]. Как считал Флуссер, Иисус был верным сыном и законопослушным иудеем – иными словами, моральным примером для современного общества.
Пинхас Лапид, 1922–1997
Ортодоксальный иудей Пинхас Лапид родился в Канаде, но рос в Вене. Прожив тридцать лет в Израиле, в 1969 году он переехал в Западную Германию. Еврейский специалист по Новому Завету и неутомимый вдохновитель диалога между иудеями и христианами, Лапид написал (нередко в соавторстве) ряд книг на немецком. Многие из них были расшифровкой радиопередач, на которых общались сторонники разных религий. Иисуса Лапид считал благочестивым богобоязненным иудеем и Спасителем язычников.
Геза Вермеш, 1924–2013
Геза Вермеш родился в Венгрии. Хотя он и был выдающимся исследователем Кумрана (или, быть может, в силу этого), Вермеш заинтересовался изучением «исторического Иисуса», когда на Рождество 1967 года его пригласили написать статью на близкие темы. В результате в 1973 году вышла его знаменитая книга «Иисус Иудей: Евангелия глазами историка». Два других труда: «Иисус и мир иудаизма» (1983) и «Религия еврея Иисуса» (1993)[124] завершили трилогию. С 1991 года Вермеш был директором Форума исследований Кумрана в Оксфордском центре гебраистики и иудаистики. После этого он написал «Изменчивые лики Иисуса» (2000) и «Подлинное Евангелие Иисуса» (2003)[125]. Иисус в представлении Вермеша был галилейским иудеем, приверженцем древнего хасидизма, харизматическим целителем и учителем, а кроме того, Вермеш уверен, что Иисуса невероятно влекла эсхатология.
Джейкоб Нойзнер, 1932–2016
Джейкоб Нойзнер, знаменитый исследователь иудаизма I века нашей эры, родился в Коннектикуте. В 1993 году Нойзнер, представив, что ведет разговоры с Иисусом из Евангелия от Матфея, опубликовал книгу «Рабби говорит с Иисусом: диалог разных тысячелетий и разных вер». А в 2000 году вышла пересмотренная и расширенная версия книги под простым названием «Рабби беседует с Иисусом»[126]. В течение долгого времени Нойзнер был научным сотрудником кафедры религии и богословия Бард-колледжа и старшим научным сотрудником Института современной теологии. По мнению Нойзнера, Иисус был галилейским мудрецом, только его представления были ограниченными, а Тору он понимал неверно, несмотря на то что был законоучителем.
Юджин Боровиц, 1924–2016
Юджин Боровиц родился в Нью-Йорке. Долгое время он был заслуженным профессором педагогики и иудейской религиозной мысли на кафедре Зигмунда Фалька в Еврейском Юнион-колледже и Еврейском институте религий, где преподавал с 1962 года. Он написал множество статей и книг, включая труд «Современные христологические представления: еврейский ответ» (1980). Боровиц понимает, что исторический Иисус непостижим, и предлагает уникальный, хотя и необычный, подход к его изучению, к которому его подтолкнул один партнер по иудео-христианскому диалогу. Он опасается Иисуса, скрытого в тени, и выступает за Иисуса, «озаренного светом». Правда, Иисус-иудей, которым восхищается Боровиц, бросает вызов Церкви.
Семь разных иудейских точек зрения на Иисуса призваны помочь как иудеям, так и христианам взглянуть на Иисуса по-новому, под иным углом.
Проявление мозаики
В течение завершающих десятилетий ХХ века в исследованиях жизни Иисуса произошли обнадеживающие изменения – исследователи наконец-то увидели, что этот поиск нацелен в первую очередь на Иисуса как иудея, и стали яснее понимать последствия… В конце концов настал тот час, когда на фоне множества исторических неопределенностей мы можем с полной уверенностью заявить, что Иисуса воспитывали как религиозного еврея.
Джеймс Данн. «Иисус, оставшийся в памяти»
На основании важнейших источников Сэндмел, Флуссер и Вермеш создали сходные, но в то же время различные портреты Иисуса. Получился мозаичный триптих, на каждой части которого написан убедительный образ: Иисус назорей – и культурный символ; Иисус наггар – и возлюбленный сын; Иисус цадик – иными словами, галилейский хасид.
Сэндмел поставил скромную цель и был растерян, не сумев преодолеть ограничения текста и приблизиться к постижению Иисуса[127]. С учетом этого нам легче уловить в его первых попытках образ еврейского назорея, человека, посвященного Богу, в чем-то подобного Самсону или Гиллелю, но погибшего смертью мученика[128]. Тем не менее образ Иисуса, с которым знакомят евреев в наши дни – совершенно иной по сравнению с образом Иисуса-назорея у Сэндмела. Для современных евреев Иисус – это скорее символ западной культуры, с которым иудеи встречаются случайно и к которому можно относиться вполне приемлемо[129]. Иудей может ценить живопись Моне или симфонии Моцарта – и в том же духе, как к ценному культурному явлению, он может относиться и к Иисусу или даже испытать на себе его влияние.
Сэндмел не решается критически исследовать важнейшие источники, но Флуссер этого не боится – и с оптимизмом проясняет и толкует образ Иисуса в рамках иудаизма, «в контексте его времени и его народа», и так возникает новый образ Иисуса – иудейского наггара, ремесленника: плотник Иисус.
Хотя сам Флуссер напрямую не пользуется еврейским словом naggar, он – как и Вермеш – понимает, что слово «плотник» часто употребляли в иудаизме в метафорическом смысле, с указанием не на ремесло плотника, но на ученость, свойственную еврейским мудрецам. Независимо от того, справедливо последнее утверждение или нет, Иисус в представлении Флуссера – вовсе не «милый и наивный простой работяга»[130], а скорее – стойкий в вере и послушный Закону ученый раввин, подобный фарисеям. В согласии с Вермешем – хотя и независимо от него – Флуссер отводит Иисусу особое и уникальное место возлюбленного сына в харизматическом палестинском хасидизме. Такой древний «ученый еврей» может многому научить наших современников, и Флуссер рад стать его «глашатаем» для нынешнего века.
Вермеш, самый отважный из триады, пытается различить лик подлинного Иисуса, изучив ряд закономерностей, на которые указывали как синоптические Евангелия, так и важнейшие иудейские источники той же эпохи. В методике он полагается на типологию и историко-филологический анализ, и это проясняет его мысль и делает ярче образ Иисуса, затененный евангелистами. Новаторский научный подход Вермеша-историка содержит в себе и критику, и одобрение. Подобно образам Илии и Елисея в харизматической традиции иудейских пророков-чудотворцев – или образам подобных им современников Иисуса, скажем, Хони xа-Меагеля и Ханины бен Доса, – образ Иисуса из Назарета у Вермеша прочно вплетен в традиции древнего хасидизма[131]. Впрочем, Вермеш уточняет, что Иисус из Назарета, галилейский хасид и еврейский цадик – не просто один герой из ряда многих, но скорее «непревзойденный» среди них[132].
Бен-Хорин, Лапид, Нойзнер и (в меньшей степени) Боровиц творчески, хотя и нестандартно исследовали соответствующую литературу или (как Боровиц) упоминания об исторических личностях, чтобы с помощью интуиции или воображения воссоздать или получить из разных источников свои портреты Иисуса. Хотя все они уверенно и в позитивном (не считая Нойзнера) духе помещают Иисуса в рамки иудаизма, их портреты заметно отличаются.
Бен-Хорин и Лапид, играя роль миротворцев, работали среди иудеев и христиан, израильтян и немцев, и неудивительно, что можно найти важные параллели в акценте их работ. Оба они, воссоздавая образ Иисуса, устраняют из него штрихи, нанесенные христианами, преодолевают многовековое бремя иудейских запретов и диффамаций, и стремятся к восстановлению дружеских связей: modernen Heimholung Jesu in das jüdische Volk («современному пересмотру отношения к Иисусу со стороны иудаизма»). Бен-Хорин, полагаясь в своем толковании на интуицию, воспринимает Иисуса как своего земляка, странствующего учителя, подобного фарисеям; впрочем, Иисус у него – «не талмид хахам, “ученик мудреца”»[133], а женатый раввин. Иногда Бен-Хорин непоследователен: то он отказывает Иисусу в признании, то вдруг таинственным образом утверждает, что Иисус – боговдохновенный провидец в традиции древнего хасидизма. Для Бен-Хорина Иисус – и «мошель мешалим, тот, кто говорит притчами», и мученик, по давнему обычаю иудейских националистов. Он с симпатией относится к Иисусу как к своему собрату-еврею, брату всех людей, трагической фигуре – и видит в нем совершителя революции сердца[134].
Лапид также видел в галилеянине Иисусе своеобразного революционера, «трижды бунтаря любви», создавшего свой «третий путь», путь служения[135]. Лапид стремится по-новому понять Иисуса, создавая его пятый образ – вместо четырех, представленных евангелистами: такой Иисус «не похож на далекую и величественную бесплотную фигуру, сотканную из света; он – еврей, глубоко укорененный в вере своего народа»[136]. Лапид одобряет стремление евреев восстановить доброе отношение к Иисусу, и при этом подчеркивает роль Иисуса из Галилеи в praeparatio messianica, приготовлении к приходу Мессии. В представлении Лапида Иисус, чей лик скрыт, но все равно различим за важнейшими источниками и разными спорами, не есть Мессия, но тот, кто готовит путь для Царя Мессии. С точки зрения апологета Лапида Иисус – рабби Иешуа — был и благочестивым евреем (как рабби Исраэль Баал-Шем-Тов, знаменитый Бешт, основоположник современного хасидизма), и Спасителем язычников, став им благодаря миссионерской активности его последователей, которым даровал мужество свет Воскресения Христова.
Лапид своеобразен, а возможно, даже уникален в том, что он признает историчность воскресения Иисуса – на основе изучения истории последствий данного события[137]. Пятый Иисус Лапида был «неисправимым оптимистом и героем веры»[138], чей трагический конец превратился в провиденциальное новое начало.
И Лапид, и Бен-Хорин подчеркивали, что Иисус был верен Торе и творчески ее толковал, и это разительно отличается от мнения Нойзнера. Последний ведет воображаемый разговор с Иисусом Матфея, где противится всем новшествам и искажениям истины, которые Иисус ввел в Тору. Иисус, по мнению Нойзнера, был галилейским мудрецом, но знал далеко не все и учил Торе, не понимая ее сути[139]. Ссылаясь на Тору и ключевые раввинистические тексты, Нойзнер и восхищается образом Иисуса, представленным у Матфея, и критикует его, спорит с ним, осуждает его с точки зрения галахического иудаизма. Это выделяет Нойзнера из ряда всех авторов, упомянутых в данном обзоре. Как он считал, его «беседа» с рабби Иисусом (разговор двух рабби) не только убедительно доказывает правоту его тезисов – его особой точки зрения, – но также дает парадигму для настоящего религиозного диалога[140]. Но остается невыясненным один вопрос: действительно ли Иисус, действовавший в истории, учитель Торы из Галилеи, виновен в том искажении Торы, в котором Нойзнер обвиняет Иисуса, представленного у Матфея?
Боровиц, хотя и менее знаменитый, но важный участник данного диалога, видит Иисуса «в свете». Этот свет и озаряет его непредвзятое, хотя и глубоко субъективное исследование, представленное в форме диалога с христианином, который и рассказывает автору об Иисусе. Такой «опосредованно переданный» Иисус есть новый Иисус, и для Боровица он «особенно драгоценен»[141], особенно на фоне альтернативы, «Иисуса-тени». Боровиц уникален в том, что откровенно говорит об опасности второго Иисуса, чей образ рождает иудейские табу и питает христианский фанатизм. Боровиц опасается этого второго Иисуса, «Иисуса-тени», радуется новой открытости и вовлекает в нее новый образ Иисуса, Иисуса-Свет.
Достижения
Новизна и оригинальность, как правило, состоят в том, что кто-то смотрит на знакомые вещи под непривычным углом зрения, представляет по-новому классические идеи и проливает новый свет на проблемы, которые обсуждали с незапамятных времен.
Геза Вермеш. «Подлинное Евангелие Иисуса»
И серьезная попытка Сэндмела, призванная прояснить, что доподлинно известно исследователям Нового Завета об Иисусе, а потом донести эти знания до евреев-мыслителей; и диалог Лапида с католическими и протестантскими богословами, в котором он надеялся исправить все, что мешает евреям и христианам уважать и понимать друг друга; и глубокие исследования Вермеша, видевшего в Иисусе галилейского хасида; и уважительная критика Нойзнера – всем этим евреи, принявшие участие в диалоге, призывали как иудеев, так и христиан взглянуть на Иисуса по-новому, с разных точек зрения.
Критичный индивидуалист Сэндмел и легендарный спорщик Нойзнер – достойные компаньоны в своих исследованиях и несогласиях. С другой стороны, несгибаемого оптимиста Флуссера и прославленного новатора Вермеша – хотя их стремление пересмотреть образ Иисуса привело к довольно разным результатам – легче представить себе в одной компании с Бен-Хорином, искателем братства и экуменистом, и неортодоксальным миротворцем Лапидом. Первая двоица решительно и стойко защищает иудаизм от христианства и от Иисуса, отошедшего от веры отцов, тогда как последние четверо настойчиво и убедительно – хотя временами довольно загадочно – свидетельствуют о том, что Иисус неразрывно связан с иудаизмом (или иудаизмами) Палестины I века.
То, что тридцать пять лет назад было новшеством (и вызывало, что парадоксально, и гнев, и восторг), сегодня стало аксиомой: если мы хотим понимать и исследовать Иисуса, нам надо помнить, что он был евреем и что его биографию лучше всего реконструировать в рамках палестинского иудаизма I века, – того самого иудаизма, о котором говорят еврейские тексты эпохи Второго Храма, археологические находки в Палестине, соответствующие периоду до 70 г. н. э., а также христианские священные тексты, которые не чужды этому иудаизму и служат его дополнением. Верно и обратное, о чем напоминал Вермеш и с чем согласились впоследствии другие исследователи, как иудеи, так и христиане: палестинский иудаизм I века – это неотъемлемая и ни в коем случае не посторонняя часть любой попытки понять и оценить личность Иисуса из Назарета, который, в конце концов, воспитывался в таком иудаизме и, как это ни парадоксально, помогает нам лучше понять тот период и ту культуру. Современные еврейские исследователи выдвинули такую гипотезу и доказали ее состоятельность – еще на начальной стадии и значимым образом. Эта предпосылка стала обязательной отправной точкой любого серьезного изучения исторического Иисуса, о чем свидетельствуют самые разные труды в этой процветающей сфере.
Образ Иисуса, представленный Боровицем, как будто содержит в краткой форме весь тот диалог, в который Нойзнер внес бы свои поправки. И все же его великодушные воззрения не только несут свет надежды, но и рассудительно призывают к осторожности.
Критика и итоги
Почему я думаю, что мы, занимаясь историческим Иисусом, имеем дело вовсе не с историей, но с богословием? Потому что при самых наших благих намерениях эта апология поразительным образом похожа для меня на создание богословия, которое скрывается за маской истории и во имя здравого религиозного разума притязает на авторитет взвешенного исторического исследования.
Джейкоб Нойзнер. «Раввинистическая литература и Новый Завет»
Хотя Нойзнер не был специалистом по историческому Иисусу, он, критикуя разных участников «поиска», неявно выражает мнение, которое прежде откровенно высказывали Альберт Швейцер и Джордж Тиррелл, – и которое гласит, что многие исследователи, всматриваясь в колодец истории, находят в нем свое собственное отражение.
Исследование исторического Иисуса постоянно сопровождается обвинением в том, что реконструкция его образа – просто зеркальное отражение исследователя. Зная об этом, ученые стремятся свести к минимуму влияние своих предубеждений, иными словами, своей субъективности, и пытаются восстановить объективный образ Иисуса, очистив его от наслоений христианской керигмы. Всевозможные мотивы – исторические, богословские, экуменические, социологические – подкрепляют и затемняют, проясняют и поддерживают поиск исторического Иисуса. Это смелое предприятие не лишено внутренних противоречий и оснований для критики. Различные исследователи, иудеи и христиане, спорят о ценности самого поиска исторического Иисуса, – отсюда рождаются его приливы и отливы, его взлеты и падения. А споры по-прежнему не утихают.
Наши иудейские авторы тоже не лишены подобной субъективности и тоже заслуживают критики[142]. Тем не менее без их участия в диалоге тот Иисус, о котором мы беседуем сегодня, был бы лишь бледной тенью настоящего Иисуса. Без ясного акцента на еврействе Иисуса и всего, что отсюда следует, наше понимание исторического Иисуса было бы ограниченным: мы смотрели бы на него преимущественно сквозь призму христианства с его керигмой и полемикой. Под пристальным взглядом иудейских и христианских исследователей ХХ столетия, которые смотрят на него через призму иудаизма, полагаясь в том числе на последние достижения библеистики и археологии, образ Иисуса Христа проявляется ярче: это иудей I века, в чем-то похожий на своих галилейских современников и оппонентов из числа фарисеев, хотя в то же время явно отличающийся от них.
Непрестанный диалог и исследования, проводимые под влиянием тех серьезных и нередко благожелательных иудейских авторов ХХ века, которым интересна личность Иисуса из Назарета, свидетельствуют о значимости их трудов. Желание перекинуть мост через все более широкую пропасть между двумя древними монотеистическими верами и между двумя сообществами, родственными, хотя и отчужденными друг от друга, и в то же время отстаивание уникальности иудаизма – все это заставило многих еврейских авторов присоединиться к размышлениям об Иисусе, впрочем, с определенно «еврейского ракурса».
До того как начались эти попытки, Иисус казался злодеем или победителем, предателем или преданным, запретной или заветной темой – в зависимости от точки зрения. Одни считали, что он отверг иудаизм, другие – что он сам был отвергнут иудейской религией. Принадлежность Иисуса к евреям, если о ней и вспоминали христиане или иудеи, казалась просто патиной, затемняющей и без того смутный образ. Но после Холокоста тот, кто ранее был преградой и табу, тот, чье имя было запрещено произносить, стал для некоторых отважных иудейских авторов мостом, братом и катализатором восстановления новой дружбы и межрелигиозного диалога иудеев и христиан.
Эти труды иудеев ХХ века, всерьез занявшихся исследованием Иисуса и попытками проанализировать, оценить и подвергнуть критике жизнь странствующего галилейского проповедника, чей образ представлен в христианских Евангелиях, носили как апологетический, так и миротворческий характер. Их цель была и скромной, и всеохватной. В 1922 году Иосиф Клаузнер в своем написанном на иврите сочинении Иешу ха-Ноцри («Иисус из Назарета») – ускорившем появление последующих иудейских исследований в этой области, – попытался воссоздать для еврейских читателей «подлинную идею исторического Иисуса», иными словами, образ Иисуса, иной по сравнению с теми, какие возникли и в христианском, и в иудейском богословии, и как можно более «объективный и научный»[143]. В случае успеха такая реконструкция заполнила бы определенную страницу в истории Израиля, которой до сего момента занимались почти исключительно христиане[144]. Полвека спустя Давид Флуссер, преподаватель того же Еврейского университета в Иерусалиме, в котором работал и Клаузнер, с энтузиазмом приступил к изучению христианства, в котором видел средство для более глубокого понимания иудаизма и еврейских корней христианской религии. Благодаря его усилиям и трудам его еврейских современников в историю Израиля была вписана далеко не одна страница, связанная с Иисусом и зарождением христианства, – причем их вписали сами евреи.
«Объективные и научные» труды Клаузнера пробудили и у других желание исследовать жизнь Иисуса с «еврейского ракурса». Семь наших авторов занимались именно этим после Второй мировой войны, и в каком-то смысле их мотивы носили не только научный характер. До Освенцима, Треблинки и Собибора европейские евреи в большинстве своем сталкивались с именем Иисуса, когда их обвиняли христиане, а его образ видели на распятиях, украшавших придорожные христианские святилища, – и старались избегать и обвинений, и распятий. После же геноцида, устроенного Гитлером, на смену робости, желанию убежать и не обсуждать эту тему пришло желание познать ее, тщательно исследовать и поговорить.
Помня об этом, Лапид кратко говорит о четырех аспектах влияния геноцида на то, как воспринимали Иисуса евреи, причем три из них лежат в основе ученых трудов наших семерых писателей-миротворцев.
• Чтобы хоть как-то успокоиться после стольких слез, пролитых над страданиями, которые породил Освенцим, люди стали обращаться к образу Назарянина, основанному на фактах и науке, решив забыть об эмоциях и страстях.
• [Еврейские авторы] не искали ни евангельского Сына Божьего, ни еретика и развратителя, о котором писал Талмуд, но брата, человека, который вел в бесчеловечном мире жизнь, достойную иудея.
• Тем не менее в израильской литературе мы порой находим и антитезу для «брата Иисуса»… Многие евреи, пережившие «Окончательное решение», не могли отделить Христа от христианского мира и христиан, истребивших шесть миллионов евреев или отнесшихся к этому терпимо. Карикатурные представления таких авторов часто недалеки от ненависти к Христу…
• Впрочем, в целом мы видим, что евреи относятся к Иисусу лучше. Он возвращается домой; это позволяет писать его имя с честью, подобающей герою, на местах массовых захоронений жертв нацизма или на рядах могил бойцов сопротивления. Но он выходит за пределы любых стен и любых могил: вера и рвение Назарянина, его непоколебимая надежда, его глубокая любовь к Израилю и его трагическая смерть делают его драгоценным для многих современных мыслителей и поэтов Израиля[145].
Первые попытки «вернуть» Иисусу его еврейство, помочь ему снова прийти домой, предпринятые Бен-Хорином и Лапидом, – в отличие от попыток «лишить» Иисуса его еврейской сути, которыми занимались европейские «псевдохристиане»-антисемиты 1930-х годов, – принесли свои плоды. Они не только дали новую жизнь диалогу христиан и иудеев и поддержали этот диалог, но и способствовали зарождению междисциплинарного подхода, на что повлияли и современные исследователи с их различными мнениями. Типичными представителями такого направления были Сэндмел, Флуссер и Вермеш.
Иудеи и христиане вели совместный, пусть даже в чем-то и стихийный поиск, решительно помещая Иисуса в рамки иудаизма – и в то же время стремясь быть объективными и оценивать историческую вероятность. Ряд археологических находок дал участникам поиска ценные материалы. Их вдохновлял оптимизм, свойственный людям науки, они владели современными методиками, они желали восстановить дружеские отношения и вести иудео-христианский диалог. Под влиянием их трудов в конце ХХ века появились другие исследования, посвященные Иисусу и опубликованные на основе ряда свидетельств – археологических, исторических и филологических: они касались Палестины до 70 г. н. э. и, обогатив наши представления о жизни палестинских иудеев в I веке, позволили нам лучше понять Иисуса.
Ретроспективно изображая еврейские представления об Иисусе после Холокоста, я не мог забыть о двухчастной дилемме, с которой я, автор-христианин, сталкиваюсь, когда приходится иметь дело с иудейскими точками зрения. Изложить их взгляды нелегко, но проблема не в этом. Эта двухчастная дилемма, с одной стороны, заключается в том, что мне необходимо запечатлеть и донести прежде всего до христиан и, быть может, до нерелигиозных евреев мысль о той пропасти, которую приходится переступить любому иудейскому автору, прежде чем он начнет говорить об Иисусе как о достойном уважения еврее-собрате: это столетия вражды и злодейств, причиненных иудеям христианами под знаменем Иешу Христа. Надо сначала преодолеть эту, если можно так выразиться, психологическую пропасть, даже если нам не удается ее осознать. Не все такие попытки оказались успешными, не все стремились к катарсису. С другой стороны, я столкнулся с неким явлением, которое, за неимением адекватного термина, можно назвать «христианской предпосылкой».
Мы, христиане, часто предполагаем, будто знаем Иисуса; то есть мы изначально допускаем, что знаем Христа, – переданного нам через христианское Священное Писание и предание и постигнутого в наших религиозных убеждениях и нашем опыте. Я не ставлю под сомнение правомерность христианских доктрин и христианского религиозного опыта, но в истинности этой предпосылки, которая становится для нас оковами, усомниться стоит. Я не хочу никого обидеть: это простой эмпирический факт. И очень вероятно, что такая предпосылка мешает нам лучше понять Иисуса и взглянуть на него иными глазами, – и тем самым мы сужаем наш кругозор, а предвзятость затуманивает взгляд и ограничивает нашу способность видеть. Мы не привыкли смотреть на нашу веру, а тем более на важнейшие образы нашей веры, с иного ракурса, когда их критикуют и улучшают иноверцы. Нам кажется, будто это противоречит здравому смыслу. И тем не менее, тут мы можем получить нечто ценное, поскольку еврей Иисус, палестинский иудей I века, – это, осмелюсь предположить, вовсе не тот Иисус, который хорошо знаком обычным христианам.
Разумеется, в ХХ веке иудеи – как и христиане – тщательно изучали разные источники и свидетельства в попытке воссоздать Палестину I столетия и иудаизм эпохи Второго Храма. И я уверен, что их труд не был напрасным. Опыт знакомства с работами этих еврейских авторов и их взглядами для меня был сродни первому посещению Святой Земли. Позже я смог по-иному прочесть Евангелия, сумел осмыслить их лучше, более глубоко. И мой образ Иисуса из Назарета тоже стал более ярким благодаря мнениям тех, кто смотрел на него с «иудейского ракурса». Конечно, я, как христианин, не во всем согласен с этими разнообразными и порой спорными мнениями, но во многом они дают ценный анализ, проясняют то, что казалось загадочным, питают воображение, и я могу только посоветовать другим христианам познакомиться с этими просвещенными идеями наших ближних.
Если же говорить о еврейском аспекте моей дилеммы, то этот обзор, посвященный образу Иисуса в иудейской литературе, позволяет мне хоть в какой-то мере передать душевную борьбу еврейских авторов. Зная о «возрастающем интересе к жизни и смерти Галилеянина, о таком чувстве, которое нередко переходит в любовь, и о сознательном стремлении почувствовать себя братьями с общей судьбой, заметном даже в сочинениях, враждебных к Христу»[146], Лапид включил в свой обзор и тревожные слова одного из современных израильских писателей, настроенных враждебно к Иисусу: Шина Шалома (1904–1990). Нам остается только прислушаться к его монологу и постараться понять, насколько сможем, его горестный упрек:
Я знаю Галилею так, как знает человек свою душу. Я знаю ее дикие каменистые ущелья, ее бескрайнее ясное небо… но в Галилее есть человек, о котором я ничего не знаю и о котором я никогда не спрашивал. Его существование для меня – открытая рана, которую обычно не трогают, о которой стараются не думать. Тихо! Не напоминай мне об этом… Когда я был на той зловещей гряде под названием Назарет и мне вдруг показалось, что я вижу, как он морщит лоб от боли, я закрыл глаза. Я не позволил бы его имени сорваться с моих губ. Я не проклинал и не благословлял. Я не сказал ничего… Но иногда из тишины исходил голос, голос потерянного брата, голос человека, сбившегося с пути, который оказался среди чужих. Он одновременно и исповедует свой грех, и указывает пальцем, обвиняя, он хочет вернуться назад, если кто-то выйдет ему навстречу с любовью и шепнет ему в ухо только одно слово: «Брат». В то мгновение я призвал на помощь все, что могло меня защитить – все горькие воспоминания моей жизни, все кошмары, какие пришлось пережить моему народу, – чтобы этот человек не мог очиститься предо мной своей исповедью. Я извлек из бездны забвения все пытки инквизиции, все кровавые зверства погромов, все убийства, совершенные крестоносцами, все павшие на нас удары, исходившие от тех, кто носил его имя, все нападки со стороны хранителей его учения, всю бесконечную цепь поколений мучеников, переживших пытки, всех моих собратьев-евреев, которым приходилось непрерывно скитаться, терпеть презрение, быть гонимыми, переходить из тюрьмы в тюрьму, от жестокости к жестокости, – мне пришлось сделать так, чтобы они прошли перед ним широким маршем, чтобы заставить его замолчать, чтобы он не говорил ни слова, чтобы оттолкнуть его обеими руками, – этого бывшего брата, сына галилейского плотника[147].
Быть может, эти слова могут отразить и передать невероятные усилия современных еврейских авторов, которые, рискуя столкнуться с тем, что их презрят и отвергнут как христиане, так и иудеи, – первые за самонадеянность, вторые за предательство, – смело шли вперед, торили путь для других евреев, готовых размышлять об Иисусе. В наши дни иудеи порой могут проникнуться солидарностью с замученным Назарянином, другие чувствуют себя оскорбленными и не испытывают ни малейшего сострадания. Шин Шалом оттолкнул Галилеянина и обрек его на молчание. Но из этого молчания в ХХ веке зазвучали голоса евреев, которые создавали благожелательные (часто вызывая критику и споры) портреты Иисуса, галилейского проповедника из Назарета.
Еще одно, с чем предстоит столкнуться при чтении трудов с подобными представлениями о жизни Иисуса, которую авторы реконструируют или извлекают из источников, – это спорный или неясный вопрос о том, какой Иисус в них отражен: Иисус истории, то есть реальный Иисус – или исторический Иисус, образ, воссозданный на основании историко-критического изучения источников[148]. Как показывает изучение трудов, некоторые из наших авторов, как и можно было ожидать, молчаливо предполагают, что открывают реального Иисуса, Иисуса-иудея, расчищая «христианские наслоения». Исключение в этом смысле представляют Сэндмел, Нойзнер и Боровиц. Бен-Хорин, Лапид, Флуссер и Вермеш стремились (и удовлетворенно думали, что достигли цели) найти Иисуса в керигматических утверждениях христиан. Их труды достойны уважения, но они были в той или иной степени обречены на неудачу. Их ошибка заключалась не столько в намерении, сколько в оптимистичной вере в свои способности доказывать, делать выводы или интуитивно что-то понимать, изучая источники и доступные данные, и на их основе создать аутентичный портрет Иисуса. Примерно так же верили в свои силы и другие исследователи Иисуса.
Эти образы Иисуса, как и образы, созданные прежде, носили фрагментарный характер. Здесь уместно вспомнить слова Джона Мейера, сказанные о поиске исторического Иисуса вообще: «Этот поиск по самой своей природе позволяет воссоздать лишь фрагменты мозаики, размытые очертания побледневшей фрески, которой можно давать разные интерпретации»[149]. Это не умаляет ценности вклада современных еврейских авторов в создание мозаичного портрета Иисуса, пусть даже этот портрет и фрагментарен.
Как и в случае всех подобных попыток извлечь Иисуса истории, то есть реального Иисуса, из источников, независимо от своих мотивов и методик, исследователи получают сравнительно мало убедительных фактов, поскольку сами эти источники не были историческими биографиями. Недавно исследователи стали это признавать. Джеймс Данн говорит об этом, лаконично объясняя, почему поиск исторического Иисуса таит в себе путаницу.
Важным фактором во всем этом была путаница, которую вносило в поиск само его ключевое выражение – исторический Иисус. Кто бы ни пытался дать ему определение, тот обычно ясно понимал, что исторический Иисус – это Иисус, сконструированный с помощью исторического исследования. Однако, несмотря на это, данное выражение снова и снова использовали бездумно, желая указать на Иисуса из Назарета, ходившего по холмам Галилеи, и этот смысл стал основным. Или, если сказать точнее, фраза «исторический Иисус» в типичном случае использовалась как смесь двух этих смыслов. В целом участники поиска предполагали, что они в состоянии воссоздать (пользуясь доступными данными) образ Иисуса, который окажется настоящим Иисусом: «исторический Иисус» (реконструкция) окажется историческим Иисусом (истинным), при этом снова и снова один смысл сливался с другим. Именно этой путаницей объясняется то, что участники «поиска» и в XIX столетии, и в конце XX века странным образом верили в то, что Иисус, воссозданный на основе доступных источников, может стать надежной основой (реальным Иисусом), которая позволит критиковать образ Иисуса, представленный в этих источниках. Необходимо снова повторить, что «исторический Иисус» есть, строго говоря, конструкция XIX–XX веков, созданная на основе данных, предоставленных синоптической традицией, и это не Иисус прошлых эпох и не исторический образ, на основе которого мы могли бы реалистично критиковать то, как Иисус изображен в синоптической традиции[150].
Можно представить, как разозлился Вермеш, услышав такое утверждение Данна. Но об этом говорил не только Данн. Упомянув о подобных наблюдениях Мартина Келера[151] в прошлом, Данн развивает их далее:
Идея, согласно которой образ Иисуса, воссозданный на основе евангельской традиции (так называемый «исторический Иисус»), хотя и в значительной мере иной по сравнению с образами Иисуса у евангелистов, есть тот Иисус, который учил в Галилее (Иисус, действующий в истории!) – это иллюзия. Мысль о том, будто в текстах Нового Завета, написанных верующими, мы можем найти Иисуса, который не вселял в людей веру или если и пробуждал веру, то как-то иначе – это иллюзия. Такого Иисуса нет. Да, Иисус, вселявший в людей веру, в свое время нашедшую выражение в Евангелиях, существовал, и это несомненно. Но надежда в один прекрасный момент избавиться от того богословского влияния, которое он оказывал на своих учеников, и открыть иного Иисуса (истинного Иисуса!), по меньшей мере странна. Недостаточно сказать: «Иисус доступен нам лишь в образах, созданных его учениками», следует также понять, что в этих образах мы найдем только такого Иисуса, который вдохновил учеников их создать[152].
Данн не забывает о том, что исследователи пользуются не только синоптической традицией, но также и внешними источниками, а особенно раввинистической литературой.
Что касается возможных указаний на Иисуса в иудейских раввинистических источниках, то наиболее правдоподобный отголосок ранней дораввинистической (фарисейской) реакции на Иисуса – это текст Вавилонского Талмуда, трактат «Санхедрин» 43a, где говорится о Иешу (Иисусе), повешенном в канун Песаха, который был чародеем, обманул Израиль и свел его с пути истинного. Но вся эта попытка найти реалии I века в гораздо более поздних раввинистических традициях слишком трудна для нас, чтобы придавать ей большое значение[153].
Несомненно, последнее утверждение делает Данна противником Вермеша, хотя с ним согласились бы, среди прочих, и Мейер, и Нойзнер[154]. В то же время Данн не отчаивается в попытке воссоздать образ Иисуса, то есть исторического Иисуса (не Иисуса истинного), по текстам синоптиков. Равно так же в возможность этого верят и Вермеш, и Мейер[155].
Я говорю об этом, рискуя отклониться от темы, поскольку из наших авторов только Вермеш непреклонно хранит верность раввинистическим источникам, которые подтверждают его хасидскую типологию, равно так же противопоставляя образ Иисуса его изображениям у синоптиков. Более того, еврей-хасид, чей образ предстает в синоптических Евангелиях и подтверждается раввинистическими источниками – это, по мнению Вермеша, и есть именно Иисус, действующий в истории, то есть реальный Иисус. Вермеш может взглянуть на образ Иисуса в таком ракурсе лишь потому, что он, как историк и еврей, в отличие от синоптиков не обязан смотреть в ракурсе веры, а кроме того, он волен использовать внешние источники, особенно раввинистические тексты и типологии, которые кажутся другим исследователям малоинформативными или недостоверными.
Вермеша не пугает тот факт, что многие специалисты по Новому Завету решительно не согласны с его устойчивой и последовательной гипотезой. Он упрямо защищает свою позицию, свою методологию и свой проникнутый эрудицией оптимизм. Неудивительно и то, что методика аргументации Вермеша, основанная на обращении к позднейшим раввинистическим источникам для защиты позиции или гипотезы, исторической или филологической, нашла выражение в его важном новаторском вкладе в споры о «Сыне Человеческом» в 1960-х годах. Его необычное предположение, согласно которому выражение bār našā’ можно также иносказательно использовать в качестве местоимения «я» – вызвало поток критики (теперь уже хорошо всем знакомой) со стороны коллег[156]. С тех пор прошло сорок лет, но Вермеш не намерен отказываться от своих гипотез и методов. Несомненно, он считает, что образ Иисуса, еврея и хасида, воссозданный в исследованиях, имеет такое же (как минимум) право на существование, как и другие попытки выявить образ Иисуса в синоптических Евангелиях. И, как мы уже видели, его методология продолжает вызывать споры среди исследователей.
Похоже, споры постоянно сопровождают поиск исторического Иисуса, и в этом нет ничего удивительного. Нам, столько лет спустя, уже нелегко понять, сколь много значил изначальный тезис Вермеша и его позиция, ставшая необходимым условием для поиска и исследования жизни Иисуса: любое серьезное изучение Иисуса может быть плодотворным лишь тогда, когда исследователь надежно помещает Иисуса в иудейскую Палестину I века. Без признания того, насколько важен иудаизм эпохи Второго Храма, нам теперь не провести ни одного исследования исторического Иисуса. Это подтверждают более поздние труды христианских исследователей, посвященные Иисусу: «Иисус и иудаизм» Эда Сандерса (1985)[157]; «Маргинальный иудей» Джона Мейера (том 1, 1991); «Иисус как иудей» Джеймса Чарлзворта (1991)[158]; «Иисус и победа Бога» Николаса Томаса Райта (1996)[159]; «Иисус, оставшийся в памяти» Джеймса Данна (2003). Сам тот факт, что мы проводим границу между участниками поиска и исследователями Иисуса, также указывает на значение данных о палестинских евреях до 70 г. н. э., собранных из разных дисциплин.
Как мы видели, этот энтузиазм, разгоревшийся от искры, которой стала книга Вермеша «Иисус Иудей», а также работы его коллег Бен-Хорина, Лапида и Флуссера, изучавших Иисуса в экуменическом или академическом ключе еще раньше, влил новую жизнь в диалог иудеев и христиан. Трудно качественно оценить, какое влияние оказали современные труды евреев об Иисусе на отношения сторонников двух религий. Однако множество фактов указывает на то, что этот искренний и взаимный интерес, который проявляют в наше время многие иудеи и христиане, позволяет им лучше понять друг друга и помогает взаимно ценить уникальные традиции, культуру и достижения, важные для всего мира[160]. И мы можем заявить, что в этом достижении семеро наших иудейских авторов сыграли пусть и скромную, но решающую роль.
Под влиянием разных мотивов, применяя разные методы, критические или интуитивные, каждый автор из нашей семерки изучал важнейшие источники, чтобы сложить из этих кусочков стекла и камня мозаику: образ Иисуса в представлении евреев, – по сути, иудейское прочтение Евангелий. Эта концепция, эта иудейская герменевтика, способная показаться чем-то странным, стала аксиомой для современных исследователей Иисуса. Вероятно, ряд «еврейских ракурсов», уточненных и развитых, дал импульс сопутствующему им Третьему поиску исторического Иисуса. Этот поиск породил еще более целостную сферу познаний, «Исследование Иисуса», которая, в свою очередь, сделала более популярной только что возникшую иудейскую герменевтику. На каждом этапе образ Галилеянина становится более четким и более убедительным: Иисус-назорей; Иисус-наггар; Иисус-цадик.
Эта наука несовершенна. Различные ученые, иудеи и христиане, ставят под вопрос ценность этого предприятия или даже превращают его в банальную бесполезность – но ни импульс, ни интерес не слабеют. Найденный в священных текстах христиан и ставший более четким образ Галилеянина, надежно помещенный в еврейскую палестинскую среду, смело шествует в третье тысячелетие: можно считать, что произошла своего рода обратная метаморфоза.
Возможно, Вермеш и его иудейские современники чуть приглушили сияние нимба Галилеянина из Назарета – но его ореол все так же ярок. Современные иудаизм и христианство отреагировали на это «драматичным и беспрецедентным» образом[161]. Еврейские черты в образе Иисуса, избавленные от патины и отполированные до блеска, уже яснее показывают нам образ того, кто продолжал традиции иудейских мудрецов и нес в себе боговдохновенность, подобно Илии: это пламенный галилейский пророк, назорей, трагически погибший мученик и еврейский собрат, Иешу ха-Ноцри – Иисус из Назарета.
И кто знает, может быть, в третьем тысячелетии это новое понимание переориентирует наши умы и обновит религиозный дух, вдохновленный истинным Иисусом, у наследников иудео-христианской цивилизации и за ее пределами.
Такими словами Вермеш завершает свою книгу «Изменчивые лики Иисуса»[162].
Откуда мы «знаем» об Иисусе?
Стэнли Портер
Введение
Критерии аутентичности евангельских текстов по-прежнему привлекают интерес исследователей, ведущих дискуссии об историческом Иисусе[163]. Эти критерии могут трактоваться по-разному, но, похоже, о них никогда не забывают. Рассуждения о том, как установить критерии, которые бы позволили нам выявить надежные исторические сведения об Иисусе, ведутся непрестанно. Доверие к подобным критериям, доверие к результатам, полученным с их помощью, и способность применять эти критерии для достижения заявленных задач – вот о чем преимущественно говорят специалисты. Впрочем, появились и те, кто призывает к использованию новых форм критического анализа, о чем мы еще поговорим. Это очевидное развитие критериев аутентичности – по крайней мере воззрений на них – дает основы для дальнейшего рассмотрения идеи критериев в изучении исторического Иисуса, особенно на фоне методов других исторических дисциплин, не связанных непосредственно с Библией.
Споры о подлинности. Краткая история
Критерии аутентичности в изучении исторического Иисуса появились в XIX веке как следствие развития историко-критического анализа. И именно потому, что это критерии историографического мышления позапрошлого столетия, у нас и нет единого источника с их четкой формулировкой и определением. Такое чувство, что они возникали, когда представлялась возможность, а основания им давались в свете разных тем, представлявших исторический интерес, – в том числе, помимо прочего, и в свете изучения Евангелий. Соответствующие работы были связаны с развитием немецкой философии, в частности историзма, и потому зачастую отражают концептуальные особенности немецкого образа мыслей. Историзм, разными путями связанный с такими выдающимися мыслителями, как Леопольд Ранке, Иоганн Готфрид Гердер, Вильгельм Гумбольдт, Иоганн Густав Дройзен, Теодор Моммзен и Вильгельм Дильтей, – тесно переплетен с идеализмом и романтизмом, но возник как самостоятельное явление в качестве одной из важнейших школ исторической мысли и значительно повлиял на развитие критериев аутентичности в изучении исторического Иисуса. Если говорить кратко, историзм утверждал, что все культурные явления – включая представления и обычаи – носят локальный характер и формируются историческими событиями, а потому их можно понять, исследовав их прошлое[164]. Однако, несмотря на такие местные особенности, врожденная интуиция позволяет людям понимать иные культуры, отделенные от них временем и пространством.
Одно из важнейших отличий между разными культурными группами – это язык, который, в свою очередь, считается одним из главных факторов, определяющих мышление и поведение людей. Каждая эпоха, которую позднейший толкователь может понять на основе эмпатической интуиции – иными словами, прочувствовать, – имеет свои стандарты, а потому и присущие ей ценности. С точки зрения историзма у истории нет своей прирожденной телеологии – она появляется лишь в тех случаях, когда отдельные люди стремятся ее создать[165].
В такой интеллектуальной среде был сформулирован ряд критериев. Критерий арамейского языка, упоминаемый уже в XVII веке, но обретший важную роль в XIX–XX столетиях, похоже, развился из нескольких тенденций историзма[166]. Одной из таких была намеренность связать познание с языковой способностью и определить националистскую группу на основе языковых различий. Стоит только увидеть в подходе хоть крупицу такого разделения по этническим признакам[167], и мы поймем, на основе чего могла возникнуть идея, что арамейский язык – это критерий, который указывает на сведения если не о самом Иисусе, то по меньшей мере о Палестине I века. Впрочем, появление развернутых критериев аутентичности, как кажется, совпало по времени с первой половиной XX века, когда возникла и развилась критика форм. Именно в эту эпоху для критериев, похоже, настал поворотный момент: их стали применять не просто в широкой сфере историографии, но именно в библеистике. В те дни критерии аутентичности в изучении исторического Иисуса были распределены по категориям, и их начали обсуждать с нескольких точек зрения. Я кратко расскажу о ряде направлений.
Подход одного критерия. Во-первых, это индивидуалистский или, лучше сказать, изоляционистский подход. В данном случае важнейшее место отводится одному конкретному критерию, который должен играть решающую роль в изучении исторического Иисуса. В какой-то мере индивидуалистский подход отражает тот факт, что критерии возникали в разных контекстах и в разные эпохи, когда исследователи изучали частные (в их понимании) проблемы, связанные с развитием традиций, касавшихся Иисуса. Возможно, больше всего критических размышлений было посвящено критерию несходства, а если еще точнее – критерию двойного несходства. У этого критерия давняя, пусть и не всегда прославленная история, и восходит она по меньшей мере ко временам Возрождения. Герд Тайсен и Дагмар Уинтер утверждают, что этот критерий был создан самим Лютером (1521) в виде критерия единственного несходства (с иудаизмом той эпохи), а затем его развивали многие, от Германа Реймаруса (ок. 1750) до Юргена Беккера (1996)[168], иными словами, чуть ли не все, кто занимался изучением исторического Иисуса. Разумеется, не для всех этот критерий был ключевым, но для многих он, несомненно, играл важную роль, и это повлияло на восприятие самих критериев. Так, Скотт Макнайт выделяет два основных подхода к «критическому суждению» об Иисусе, и их представителями, по его мнению, становятся двое исследователей, Норман Перрин и Эд Сандерс[169]. На самом деле Макнайт просто опознал две стороны критерия несходства: отличие от ранней Церкви (Перрин) и от иудаизма (Сандерс). Впрочем, как всем известно, Сандерс, применяя критерий несходства, стремился видеть скорее не отличие, а преемственность. Другие опирались преимущественно на какой-нибудь один критерий: скажем, Иоахим Иеремиас – на гипотезу арамейского языка, Джон Мейер – на критерий «смущения», а Георг Штреккер – на критерий развития[170].
Комбинирование. Во-вторых, разные критерии можно объединять; такой подход основан на комплексе методик. С 1970-х годов ведутся дискуссии об оценке критериев как набора методов. Например, Перрин, пусть он и полагается прежде всего на критерий двойного несходства, все же склонен обращаться к критериям когерентности и множественных свидетельств[171]. В ряде критических трактовок некоторые пытались проанализировать отличия между этими критериями и найти формулировку, способную предстать как синхронический «мастерский набор» критериев. Самые известные перечни критериев создали Дэвид Калверт, Роберт Стейн, Крэйг Эванс и Джон Мейер[172]. Такие списки внушают мысль, будто набор критериев может дать больше, чем единственный или простой критерий, и будто эти наборы – даже притом что они все разные – определенно помогут выявить исторические сведения об Иисусе.
Исторический подход. Третий подход – это исторический метод. Он предполагает, что необходимо проследить за возникновением и развитием различных критериев, часто так или иначе пересекающихся с теми, о которых мы уже упоминали; об этом, обсуждая вторичные критерии, говорит Мейер[173]. Иногда при анализе проводят границу между двумя критериями, один из которых одобрен, и прослеживают историческую аргументацию, которая, по общему мнению, демонстрирует предпочтительность первого. В других случаях при использовании набора критериев приводят их краткую историю – и тем самым показывают силу комбинирования, благодаря которому из различных методов создается значимое целое[174].
Ревизионистский подход. Четвертый вариант я называю ревизионистской перспективой. Он состоит в переоценке прежних методов. Ревизионистская перспектива включает в себя две главные подкатегории. Это, во-первых, попытка усовершенствовать уже существующие критерии, поддерживая одни из них и «понижая в звании» другие. Скажем, Мейер выделяет два важнейших класса критериев, которым затем дает оценку. Одни из них, по его мнению, дают убедительную основу для метода, тогда как другие следует отнести к сомнительным или вторичным[175]. Это явно напоминает описанный выше метод комбинирования: как считает Мейер, ряд убедительных критериев позволяет делать такие выводы, к которым нас не приведут или неспособны привести сомнительные критерии. Другой пример той же подкатегории – труд Тайсена и Уинтер, в котором они пытаются описать критерий исторической достоверности[176]. Их критерий – это любопытное смешение критериев согласованности и отсутствия противоречий, примененное к иудаизму и характеру Иисуса; по сути, это форма критерия двойного несходства с куда более позитивным отношением к свидетельствам (чуть позже я подробнее рассмотрю этот вопрос). Другая подкатегория ревизионистского подхода состоит в создании новых критериев, похожих на прежние, но используемых иначе. Сюда бы я отнес такие мои критерии, как греческий язык и контекст, греческие текстуальные варианты и характеристики дискурса[177]. Подобное, несомненно, мог бы сделать Джеймс Данн: он приводит такие критерии в конце своего списка, выбранного для краткого разбора, где начинает с Иеремиаса, – впрочем, мои три критерия, связанные с греческим, он отвергает, поскольку, по его словам, они полагаются «на крайне сомнительный аргумент, согласно которому Иисус говорил по-гречески»[178] (сегодня это уже не столь спорный аргумент; спорят только о пассажах, в которых Иисус говорил по-гречески)[179], и на способность определить всю полноту дискурса.
Альтернативный подход. Пятый и последний подход к критериям содержит в себе переход дискуссий к совершенно иной, альтернативной точке зрения. Недавно зазвучали призывы либо совершенно по-новому подойти к критериям аутентичности, либо, по меньшей мере, использовать их в более широком историческом контексте, – а также, скажем, включить критический реализм в набор методов изучения исторического Иисуса, даже если это не означает полного отказа от критериев. С позиции критического реализма, основанной на философских трудах Бернарда Лонергана, выступили несколько исследователей исторического Иисуса: к их числу принадлежат Бен Мейер, Николас Томас Райт, Джеймс Данн и Скотт Макнайт[180]. Критический реализм есть эпистемология, которая исходит из предпосылки о познаваемости другого, то есть из факта, что вовне существует нечто, отличное от истолкователя и при этом доступное познанию. Однако критический реализм идет еще дальше (и это помогает ему избежать ловушек позитивизма): он признает роль истолкователя и тем самым создает интерпретативную «спираль вопросов» между познающим и познаваемым. Макнайт даже заявляет: «Мы остаемся дифференцированными массами Эго – и ничего с этим не можем поделать. Вот почему “критический реализм” Бена Мейера… приобрел столь большое значение в изучении исторического Иисуса»[181].
Это важнейшие подходы к критериям аутентичности из тех, какие я видел в дискуссиях исследователей последних лет. В каждом из них критерии используются особым способом. Остается рассмотреть эти критерии в свете новых идей историографического характера и другого рода.
Критерии исторического исследования в современной историографии и лингвистике
Обсуждая критерии аутентичности в изучении исторического Иисуса, крайне важно помнить о простом факте: насколько мне известно, очень немногие из таких критериев, известных нам, проникли в другие сферы исторических исследований. Майкл Грант, специалист по Античности, полагается на эти критерии в своей книге об Иисусе[182], но, похоже, не пользуется ими ни в каких других своих исторических исследованиях, – по крайней мере так открыто, как в книге, посвященной Иисусу. И возникает вопрос: а соответствуют ли данные критерии своему предназначению в той мере, в какой их используют в дисциплине, основанной на истории?
Историографический и лингвистический метод
Здесь я хотел бы рассмотреть критерии аутентичности в том виде, в каком они часто формулируются при изучении исторического Иисуса, и проанализировать их в отношении к тем вариантам критериев, которые применяются в историографии наших дней. Подобный очерк легко мог бы превратиться в подробный разбор современного историографического метода, но вместо этого я отмечу несколько принципов, сформированных на основе современных историографических исследований Древнего мира, и использую эти принципы в качестве отправной точки для оценки критериев аутентичности. Эпоха постмодерна пытается опровергнуть сами основы историографического исследования, желая свести все факты просто к нарративу. Здесь неуместно спорить об этом предмете, отмечу лишь, что споров таких было немало, и велись они, в частности, об онтологической основе, которая позволила бы выдвинуть утверждение, отрицающее истинность подобного представления.
Исторический метод[183], приложенный к античным текстам, в самую первую очередь интересуется источниками: письменными или какими-либо иными. Историки полагаются на свидетельства, по сути своей ограниченные и требующие оценки с точки зрения их надежности. Эта проблема касается и эпохи Нового Завета, что подтверждает одна работа по историографии Рима, в которой говорится: «Мы не можем создавать историю (в современном смысле этого слова) начальных этапов Римской империи на основании одних лишь литературных источников, дошедших до нас»[184]. Это ответ на вопрос о том, насколько допустимо использовать древние документы. Отчасти недостаток таких источников объясняется капризами истории. Кроме того, у римлян история появилась не так быстро, как у некоторых других народов, и они полагались на греков, которым было интересно прошлое Рима[185]. Есть и еще одна важная величина – сам историк, и ее значение не так давно во многом пересмотрели. Да, некоторые продолжают воспринимать историка словно машину или компьютер (позитивистский подход) – но таких историков не существует. Дэвид Фишер называет «ошибкой Бэкона» представление о том, будто «историк может действовать, не полагаясь на заранее готовые вопросы, гипотезы, предпосылки, теории, парадигмы, постулаты, предрассудки, допущения или общие исходные представления любого рода»[186]. Сюда входят даже такие виды философии истории, как историзм или позитивизм. Долгое время считалось, что подобная ориентация непременно пагубна. Да, она может оказаться именно такой – в том смысле, что историография пострадает, если неправильно обращаться с фактами или злоупотреблять ими. Но она может стать и благом, потому что способствует страстному вовлечению историка в решение историографических проблем, – и такое вовлечение вовсе необязательно влечет за собой искажения. На этом уровне нередко можно увидеть максималистский и минималистский подходы к истории, в зависимости от неизбежной приверженности историка тем или иным свидетельствам[187]. В результате возникает так называемая «историческая пропасть», отделяющая мир современного историка от минувшей эпохи, которую историк стремится описать. Говоря об этой проблеме, Рой Харрис выделяет три типа неосознанных лингвистических философий, стоящих за попыткой историка преодолеть эту пропасть: это реоцентрическая философия, психоцентрическая философия и философия «контракта»[188]. В итоге историк имеет дело с обоснованными гипотезами, которые дают наилучшее объяснение фактам. Можно сказать, что «факты» становятся «данными» (или экзистенциальными фактами) в процессе эвристической интерпретации, и все эти данные сплетаются воедино, чтобы создать единое повествование, или нарратив, о прошлом[189]. Формулировка, описывающая такой процесс, достаточно сложна, она должна учитывать такие разные переменные, как сами факты (включая те, установить которые невозможно), степень правдоподобия данных, а также меру достоверности или надежности созданного исторического нарратива. Тем не менее такое повествование отражает попытку выполнить работу историка.
Таким образом, историография отражает действующие лингвистические предпосылки и ограничения относительно того, чего можно достичь с помощью исторического описания[190]. Многие историки используют вместо этого иные – реоцентрический или психоцентрический – подходы к созданию исторического описания, опираясь на соответствующие представления об истине, тогда как другие применяют контрактный подход, опираясь на когерентную теорию истины. И те и другие сталкиваются со своими проблемами, но каждый подход накладывает на историографию лингвистические ограничения и ставит ей рамки. Эти лингвистические темы редко обсуждаются открыто, как и их влияние на исторические труды. Тем не менее особенно важно то, как используется язык по отношению к миру и как язык, на котором говорят об истории, подобно любому другому, передает сообщение. Как указывает Харрис в своем проницательном исследовании лингвистики истории (заметьте, уточняет он, не истории лингвистики!), нам требуются не релятивизм и не упрощенная историчность – нам нужна «интеграционистская перспектива», в которой «слова представляют собой не ярлычки для вещей или идей, а интегральные компоненты попытки вступить в творческую коммуникацию»[191]. Если это и есть важнейшая лингвистическая основа для успешной работы историографа, данный стандарт следует приложить и к использованию критериев аутентичности в изучении исторического Иисуса. Впрочем, как мы увидим, использование данных критериев часто не соответствует условиям подхода к историографии, принятым в интеграционизме.
Оценка критериев
Я сосредоточу внимание на восьми критериях, но очень вероятно, что это позволит представить довольно широкий спектр тех из них, о которых идет речь на дискуссиях подобного рода.
1. Критерий двойного несходства[192]. С точки зрения описанной выше исторической процедуры критерий двойного несходства порождает многочисленные проблемы. Если цель истории – дать повествовательное описание прошлого, собрав в едином сценарии коммуникативные эпизоды, то критерий двойного несходства в лучшем случае представляет собой частный метод, а в худшем – вводит в заблуждение, мешая собирать нужные свидетельства и находить обоснования для повествования подобного рода. Исторический метод переходит от использования источников, которые, как считается, содержат факты, к данным, ставшим повествованием. Иными словами, существующие маленькие свидетельства становятся частью более широкого нарратива, тогда как критерий двойного несходства есть движение в ином направлении, от предполагаемого всеобъемлющего знания об окружении к минималистскому результату – возможно, такому минимальному, что его невозможно превратить в повествование. Даже когда его используют в критике традиций, этот критерий лишь выявляет уникальные отличия от иудаизма или ранних форм христианства. За этим стоит такая предпосылка: тот Иисус, которого ничто важное не связывает ни с иудаизмом, ни с ранними формами христианства, скорее всего, и есть Иисус истории. Да, такой образ не обладает описательной силой – но это тот Иисус, который почти непостижим и непонятен для своего окружения. С такой точки зрения – по определению предполагающей минималистский подход к источникам – Иисус предстает как тот, кто соответствует своему окружению или составляет с ним единое целое. И более того, этот Иисус оторван и отчужден от первичных источников, по которым мы изучаем его образ. Я уверен, что написать повествование о жизни или учении Иисуса, используя критерий двойного несходства, в прямом смысле невозможно.
Возможно, те немецкие исследователи, которых отождествляют с так называемой «эпохой без поиска»[193] и с критерием двойного несходства – скажем, Рудольф Бультман[194] – пришли к выводу о невозможности создать такое повествование не потому, будто им не хватало свидетельств как таковых (этих свидетельств хватало их предшественникам, современникам и тем, кто работал после), но из-за метода, первичный критерий которого заставлял выбирать для повествования свидетельства, не обладавшие описательной силой, а возможно, даже уводившие на неправильный путь. Сам Эрнст Кеземан, который, как считают, снова призвал некоторые круги вернуться к этому поиску (утверждение в лучшем случае сомнительное) и наиболее строго определил данный критерий, признавал, что критерий несходства не дает нам ясного представления «о том, что связывало Иисуса с его палестинским окружением и с его возникшей позже общиной»[195].
Это показывает, что мы вряд ли имеем дело с критерием, подходящим для исторического исследования. По сути, это позитивистский (а не просто гипотетический) критерий, и похоже, в других историографических источниках его не считают надежным инструментом для исторического исследования. Более того, как отмечает Фишер, этот критерий может вводить нас в заблуждение во многих вопросах (например, из-за него историк может задавать себе два вопроса одновременно, бездоказательно считать вопрос заранее решенным или ставить сложный вопрос, на который нужно дать простой ответ) – или, что, вероятно, лучше, в вопросах противоречивых, когда два отличительных признака порождают образ человека, непредставимый ни в каком из миров[196]. И эти искажения нивелируют перспективу творческой коммуникации, о которой говорят интеграционисты.
2. Критерий минимальной отличительности[197]. Критерий минимальной отличительности тесно связан с критикой форм. Он предполагает, что опознаваемые литературные формы обладают стабильной структурой и что аутентичный материал ей соответствует, а вариации отклоняются от правил литературного жанра и потому указывают на то, что перед нами – нечто более позднее. Этот явно минималистский критерий основан на позитивистской идее когерентности, у которой есть два серьезнейших недостатка. Во-первых, когерентность способна создать правдоподобное повествование, но не может показать связи с миром за пределами текста. Во-вторых, данный критерий представляет собой отражение немецкого историзма, поскольку приписывает особый дух литературным формам, используемым в древности в Палестине; при этом интерпретируются данные тексты в рамках немецкой критики форм, за которой стоят такие ученые, как Карл Людвиг Шмидт, Мартин Дибелиус и Рудольф Бультман[198]. Неудивительно, что именно этот критерий широко применяли немецкие исследователи исторического Иисуса в первой половине ХХ века, когда немецкий историзм все еще был широко распространен (а может, даже и процветал)[199]. Исследование форм вне рамок, заданных немецкой критикой форм, показывает, что развитие различных литературных типов имеет куда более сложный характер и, несомненно, требует воспринимать данные с позиций интеграционизма, вопреки обычным постулатам, а не отражать упрощенческий линейный процесс, как того требуют они[200]. Это подтверждает и труд Сандерса, посвященный исследованию (неочевидных?) тенденций синоптической традиции[201].
3. Критерий когерентности или согласованности[202]. Данный критерий стал особенно популярен в последнее время, какое бы из двух его наименований вы ни предпочли. Вероятно, лучше отличать эти две идеи друг от друга, а также не смешивать их с третьим понятием: когезией, или структурной связностью (англ. cohesion)[203]. Когезия есть лингвистическое средство, благодаря которому текст становится текстом, иными словами, это связность различных лингвистических характеристик, создающих единство текста: семантических цепочек, союзов и тому подобных частей. Когерентность (англ. coherence), она же цельность или содержательная связность, характеризует степень понятности текста, благодаря которой какую-либо его часть можно осмыслить в более широких концептуальных рамках. Согласованность (англ. consistency) – это нелингвистическая особенность текста, указывающая на наличие в нем сходных структурных компонентов. В исследованиях исторического Иисуса используются понятия когерентности и согласованности – вероятно, потому, что в них не обсуждаются особые характеристики текста (скажем, дискуссии о подлинных речениях и делах Иисуса часто касаются не конкретных слов или действий, а сути и образцов поведения). В каком-то смысле когезия, структурная связность, могла бы оказаться более удачным критерием, поскольку ее предмет – именно устойчивые текстуальные феномены. И все же при изучении исторического Иисуса термины когерентность и согласованность используются сходно, несмотря на их крайне субъективный характер и на то, что их трудно продемонстрировать[204].
С точки же зрения историографии главный порок этого критерия заключается в том, что сам по себе он неадекватен как исторический критерий. Чаще всего на когерентность и согласованность или на родственные им понятия гармонии и структурной связности ссылаются при исследовании литературных текстов, не претендующих на историчность или на присутствие в них сведений, подходящих для историка. Критерий когерентности не может служить надежным основанием для интеграционистской исторической модели, поскольку представляет собой только половину уравнения. Он говорит лишь о том, что опознанные элементы могут неким должным образом соотноситься с другими элементами дискурса, – но это вовсе не значит, будто указанные элементы как-то связаны с событиями, произошедшими в прошлом в какой-то определенный момент: они могут быть как фактом, так и выдумкой. Необходимо говорить о конкретных случаях применения такого критерия, чтобы просто предположить наличие некой связи между какой-то определенной характеристикой и тем, что Иисус реально говорил или делал, – и тем более чтобы распознать такую связь или указать на нее.
4. Критерий множественных свидетельств, или метод поперечного среза[205]. Критерий множественных свидетельств, или метод поперечного среза – это, по сути, два разных, хотя и взаимосвязанных метода: первый касается свидетельств независимых традиций, а второй – того, как об одном и том же элементе по-разному говорят разные источники[206]. Критерий множественных свидетельств, один из редких примеров критерия, созданного вне сферы влияния немецких исследователей и, в частности, школы критики форм, появился вслед за осознанием того, что некоторые речения Иисуса присутствовали в двух, а то и в нескольких источниках. Эти источники опознали как Евангелие от Марка и источник Q, а вскоре к ним добавились материалы M и L (особые тексты, встречающиеся только в Евангелии от Матфея или только в Евангелии от Луки. – Прим. ред.); кроме того, некоторые библеисты добавляют к числу источников Евангелие от Иоанна и позднейшие аграфы, а порой – даже апокрифические евангелия. Критерий развился, охватив множество форм: притчи, афоризмы, поэтические речения…
В каком-то смысле данный критерий близок к самой сути исторического метода, поскольку за ним стоит вопрос о содержании того или иного источника, как литературного, так и документального. Традиционно источники, которыми пользуются историки, делились на две категории: на дискретные, состоящие из разрозненных частей, и на полные. Критерий множественных свидетельств чуть ли не по определению требует рассматривать источники, по которым изучают исторического Иисуса, как частичные, входящие в более широкие, – и это означает, что о таких следует судить особо. Иными словами, одной из причин появления такого критерия стал тот якобы очевидный факт, что обнаружение в двух или в нескольких источниках эпизода с участием Иисуса или его высказывания повышает вероятность аутентичности находки. Впрочем, это сразу же ставит вопрос о природе самих источников, в которых найдены такие сцены или изречения. Несомненно, рассказывать об этих случаях и репликах стали раньше, чем появился источник. А исследователи исходят из предпосылки «чем раньше, тем надежнее» – хотя и не доказано, будто она всегда верна, и само по себе Евангелие, как источник, может оказаться не менее надежным, чем отдельные первоисточники, которые можно в нем различить. Кроме того, исследователь, используя этот критерий, по умолчанию полагается на определенное решение синоптической проблемы (приоритет Марка). И даже если оставить в стороне тот факт, что в исторических исследованиях, где задействованы внебиблейские источники, Евангелия часто используются совершенно иначе[207], а именно – как отдельные и полноправные независимые источники, то все же в том, что касается развития Евангелий, этот критерий зависит от предшествующего нарратива. Таким образом, этот критерий не без труда выявляет источники и использует их, а поскольку он пытается обратиться к вопросу об их соответствии, он просто относит источники к предыдущему периоду (предположительно – в зависимости от обстоятельств).
5. Критерий феноменов семитского языка[208]. Критерий феноменов семитского языка включает в себя как использование особых черт семитских языков, так и отражение характерных особенностей Палестины. Критерий этот в ходу уже довольно долго, и о нем немало дискутировали, особенно на протяжении последних пятидесяти лет, но даже несмотря на этот факт, меня удивляет то, насколько успешно он противостоит критике, отчего широко применяется и сегодня. Хотя многим кажется, что это очень строгий и обоснованный критерий, он, быть может, зависит от исторической теории сильнее, чем любой другой. Критерий феноменов семитского языка – это прямое отражение немецкого историзма, что особенно заметно в работах таких ученых, как, скажем, Гумбольдт, выдвинувший постулаты лингвистического релятивизма, основанного на разнообразии используемого языка. В результате выделялись не только отдельные лингвистические особенности, ассоциируемые с использованием еврейского или греческого языка (хотя определить их труднее, чем принято считать), но еще и особые ментальности, которые им сопутствовали, – с тем расчетом, что сам язык предопределял способность к познанию. Такой лингвистически обоснованный национализм и, следовательно, подобное обособление прямо связаны именно с данным критерием, поскольку всех, кто говорил на семитских языках (даже владея при этом и греческим), сводили в одну группу, предполагая, что их мысли, речь и письменность обусловлены их лингвистическими и этническими истоками. А кроме того, при обращении к этому критерию начинает действовать и дихотомическое взаимоисключающее мышление, которое можно заметить в противопоставлении двух ментальностей: древнееврейской и греческой. Господствующая ментальность, ассоциируемая с критерием семитского языка, часто вносит столь суровые ограничения, что искажает картину античного мира, отчего возникает картинка, изображающая мнимое противостояние евреев всем прочим народам, – хотя сами эти евреи были эллинизированной этнической группой в греко-римском мире, этнически многообразном, но при этом стремившемся к всеохватности. Критерий феноменов семитского языка не только несет в себе ложную логику противопоставления (напоминая нам о лингвистическом релятивизме гипотезы Сепира-Уорфа)[209], но и приводит к ряду проблем при постановке вопросов – скажем, к подмене посылки желаемым выводом или к созданию ложной дихотомии[210]. Похоже, данный критерий требует для ранней Церкви наличия среды с безраздельным господством семитских языков, – хотя этому нарративу противоречат многие свидетельства[211]. В итоге очень трудно облечь в единое повествование и рассказы о жизни евреев в греко-римском мире (в который им приходилось интегрироваться и культурно, и лингвистически), и отчеты о их жизни в Палестине, и тот момент, что все самые ранние евангельские материалы передавались на греческом, и тот факт, что Церковь, с точки зрения ее источников и свидетельств, почти с самого своего начала была лингвистическим и культурным феноменом, связанным с греческим языком[212].
6. Критерий «смущения» (или противодействия редакторскому уклону)[213]. Критерий «смущения» в своем многолетнем развитии прошел ряд этапов. Он восходит по меньшей мере к работам Кеземана; впрочем, есть указания даже на то, что немцы пользовались им в XIX веке[214]. Тот, кто полагается на материал, противоречащий редакторскому уклону, сталкивается с трудностью: ему необходимо предсказать и «исчислить» соответствующий уклон, а для этого нужен заранее готовый и к тому же теоретически обоснованный набор предпосылок. Кроме того, в таком случае трудно характеризовать Иисуса иначе, нежели это сделали минималисты, которые описали его как человека, чей образ совершенно не походит ни на один из тех, какие отражены во всех литературных источниках, из которых мы о нем узнаем. В результате критерий «смущения» стал более популярным в недавних дискуссиях. Его вторая форма стремится найти такой материал, который должен был бы смущать раннюю Церковь, однако сохранился в ее повествованиях. Данный критерий, как и ряд других, о которых мы уже говорили, историографически не вполне надежен, поскольку создает «отделенного» Иисуса, чьи поступки нетипичны и внушают смущение, – но это форма критерия двойного несходства, равно так же позитивистская и минималистская. Возможно, эти поступки и реплики аутентичны, но они не могут быть репрезентативными. Кроме того, этот критерий полагается на «инвертированное» чувство содержательной связности повествования, на фоне которого некоторые деяния и изречения причисляются к «смущающим» – и прямо предполагает, что существуют ясные и четкие представления об обычном или нормальном поведении Иисуса, на фоне которых можно оценить его «смущающие» дела и слова. Кроме субъективного вопроса о том, что именно смущает последователей Иисуса, тут звучит и вопрос о том, что должно было смущать раннюю Церковь, и данный критерий пытается отыскать точки соответствия, но ему не хватает содержательно связных элементов для создания целого нарратива.
7. Критерий отвержения и казни (или исторической непротиворечивости)[215]. Критерий отвержения и казни, или исторической непротиворечивости событий, связанных со смертью Иисуса, некоторые нынешние библеисты, изучающие исторического Иисуса, считают наиболее надежным[216]. Он в чем-то сходен с уже упоминавшимися критериями когерентности и «смущения» и, быть может, что важнее всего, с критерием несходства, а потому содержит в себе, пусть и наряду с немногими достоинствами, историографические пороки тех критериев. Если говорить о непротиворечивости, данный критерий основан на предпосылке о том, что существуют установленные исторические факты, связанные с Иисусом, которым могли бы соответствовать другие факты: к таким, скажем, относится то, что Иисуса казнили иудейские и римские власти. Впрочем, данный критерий не позволяет утверждать, что те события действительно произошли – он говорит лишь о том, что есть определенные другие события, которым соответствуют упомянутые. В плане «смущения» он должен установить, какое именно действие «смущает», и уточнить, для какой именно группы оно предстает таким: для последователей Иисуса – или для ранней Церкви. Что касается несходства, данный критерий уделяет внимание событиям, связанным со смертью и казнью Иисуса, и изолирует их, предполагая их отличие и их особый характер по сравнению с другими событиями и изречениями в Евангелиях, а потому его направленность носит позитивистский и минималистский характер. В лучшем случае данный критерий может занимать скромное место в историографическом отчете сторонника интеграционизма.
8. Критерий исторического правдоподобия[217]. Критерий исторического правдоподобия – это попытка Тайсена и Уинтер преодолеть ограничения всех предыдущих критериев[218]. Он задействует два класса критериев, каждый из которых подразделяется. Первый класс – критерии правдоподобия последствий, с двумя подкритериями: противодействие редакторскому уклону и содержательная связность источников. Второй класс – критерии правдоподобия исторического контекста, где также есть два подкритерия: соответствие окружению и контекстуальное своеобразие. С помощью данного критерия Тайсен и Уинтер пытались преодолеть минималистский скептицизм критерия несходства и надежно поместить Иисуса в его контекст. Тем не менее этот видоизмененный критерий не умаляет значения иных традиционных критериев, об историографических недостатках которых мы уже говорили. Данный критерий включает в себя такие критерии, как когерентность, редакторский уклон, множественные свидетельства и двойное несходство в модифицированном виде, хотя их позитивистский ракурс, похоже, сохраняется. Все эти критерии едины в том, что каждый из них почти во всем полагается на когерентную теорию истины, а потому их направленность нельзя считать чисто интеграционистской.
Заключение
Критерии аутентичности при изучении исторического Иисуса обладают особым статусом, как показал этот краткий обзор, где они рассматривались по отношению к критериям лингвистически информированного исторического исследования. Эти критерии возникли не в первые века христианства и даже не в Средневековье и не в период Возрождения. Большинство из них появилось в рамках немецкой школы историзма в XIX–XX веках, и нередко они связаны с критикой форм.
Теперь, когда мы знаем их историческое развитие, легче понять, почему в ХХ веке в исследовании исторического Иисуса появлялись некоторые тенденции, особенно среди немецких ученых. Существует стандартная периодизация, в которой в изучении исторического Иисуса выделяют четыре этапа: это, во-первых, период Leben-Jesu-Forschung (достойно внимания то, что он даже обозначается по-немецки); период отсутствия поиска (начало ХХ века, расцвет критики форм); период Второго поиска и, наконец, так называемый период Третьего поиска, – и все они становятся понятны в представленных выше рамках. Тесная связь между ходом изучения исторического Иисуса в Германии и развитием критериев аутентичности позволяет прояснить ряд вопросов, имеющих отношение к «Исследованию Иисуса». Один из таких вопросов касается появления самих критериев: того, как они были созданы и почему обрели именно такую форму; другой вопрос посвящен природе их недостатков.
У этих критериев есть ряд существенных ограничений. Одни связаны с предпосылками немецкого историзма и несут на себе его отпечаток. Другие ограничены в степени подробности данных, а также в их количестве. Многие (а возможно, и все) критерии можно считать разновидностью критерия двойного несходства. Но даже несмотря на свою популярность и на то, что его широко применяли на протяжении последних ста лет (без сомнения, из-за влияния немецких исследователей), он способен предоставить лишь ограниченный набор историографических данных. А поскольку большинство критериев связано с ним, они тоже дают нам в лучшем случае ограниченное количество нерепрезентативных данных для воссоздания жизни Иисуса. Неудивительно, что в результате – по крайней мере в некоторых немецких ученых кругах – именно из-за этого критерия и его вариаций интерес к жизни Иисуса ослабел. У других критериев есть свои дополнительные ограничения, отчего и сложно создать исторический нарратив.
Эти критерии могут быть только частью лингвистически информированного подхода к написанию исторического повествования, – из-за понятий взаимосвязи и истины, которые в них заключены. А о более полноценном интеграционистском подходе, который в попытке создать коммуникативный нарратив об Иисусе полагается на полный спектр данных, в сфере изучения исторического Иисуса нам пока еще остается лишь мечтать.
Раздел 2
Археология и топография: Иисус и его мир
Галилея I века: десять главных проблем реконструкции
Джеймс Чарлзворт, Мордехай Авиам
Введение
Нам не понять таких исторических деятелей, как Иисус или Иосиф Флавий, если мы не представим себе повседневную жизнь их родины. Этот краткий очерк призван оценить все, что кажется методологически необходимым для воссоздания с большей научной точностью образа Галилеи I в. н. э., – особенно Нижней Галилеи до 67 г. н. э., с которой были тесно связаны и Иисус, и Иосиф. Мы уделим внимание десяти главным проблемам, представленным в публикациях последних лет[219].
У очерка два автора[220]: один – текстолог и историк, другой – археолог и знаток топографии Галилеи. Подобная работа в команде невероятно важна. В наши дни просто невозможно посвятить жизнь изучению первоисточников – их почти тысяча – и при этом серьезно исследовать археологию и топографию Галилеи.
Но до сих пор все те, кто пытался воссоздать и понять жизнь галилейской земли до 70 г. н. э., почти всегда либо ориентировались на Евангелия и труды Иосифа Флавия и лишь изредка обращали внимание на работу археологов, либо анализировали находки, обнаруженные в ходе раскопок, и время от времени заглядывали в тексты. И очерк призван перебросить мостик через ту пропасть, которая сейчас разделяет и специалистов из разных научных областей, и их попытки воссоздать прошлое.
Соображения Чарлзворта развивались и обретали форму все то долгое время, пока он изучал древние еврейские тексты, готовил их к печати и знакомился с отчетами об археологических открытиях в Галилее и о раскопках во многих поселениях[221]. Кроме того, на его рассуждения, придав им облик, серьезно повлияла долгая жизнь в Галилее (с перерывами с 1968 по 2006 год), куда он отправился ради того, чтобы своими глазами увидеть Кинерет (Галилейское море) и другие манящие места Верхней и Нижней Галилеи. Авиам живет в Галилее, где руководит раскопками Йодфата (Иотапаты) и других крупных древних римских и еврейских поселений[222]. Он – прекрасный знаток Мишны и трудов Иосифа Флавия.
Для воссоздания картины жизни в Галилее I столетия невероятно важны пять взаимосвязанных особенностей, связанных с методикой исследований. Первое: научное изучение Галилеи I в. н. э. необходимо проводить только при помощи индукции – но не дедукции. Иными словами, исследователям надлежит глубоко изучить топографию и археологию Галилеи и делать выводы на основании того, что очевидно, пусть и не доказано, а любые гипотезы им следует строить исходя из собственных впечатлений, осознанных истин и находок, обнаруженных при раскопках[223]. Второе: наука должна не только следовать принципу индукции, но и принимать во внимание всю полученную информацию. Ученые, приступая к исследованиям, не должны присваивать явлениям ярлык «релевантных данных». Третье: используются все уместные методики, по меньшей мере из таких сфер, как топография, археология, социология, антропология, экономика, нумизматика, демография, геология, – а кроме того, следует вдумчиво и проницательно анализировать все тексты (в особенности тексты Евангелий, свитков Мертвого моря, псевдэпиграфов, апокрифов, Мишны и сочинений Флавия). Четвертое: интерпретация всех данных и попытка воссоздать прошлое должны развиваться с учетом интуиции, подкрепленной как серьезным изучением археологических данных, так и глубоким анализом текстов. Пятое: предварительные догадки и попытки синтеза данных необходимо критически осмыслить, а также обсудить с компетентными коллегами, чтобы выявить степени вероятности и избежать позитивистских исторических реконструкций. Эти пять методик вовсе не уникальны, и сейчас их применяют многие выдающиеся археологи, исследующие Галилею и Иудею[224].
В свете этих методик мы перейдем к десяти вопросам, связанным с тем, как поместить исторического Иисуса в контекст Галилеи I века. Истоки этих вопросов – знакомство с публикациями, редакторская работа, чтение древних еврейских текстов (в том числе Евангелий), впечатления от пребывания в Галилее, а также проводимые археологические раскопки.
1. Как разработать более надежный метод интерпретации археологических данных?
2. Как датировка помогает придать смысл нашим оценкам?
3. Насколько важна топография в воссоздании галилейской культуры I в. н. э., особенно если речь идет о местах, которые, как свидетельствуют источники, часто посещал Иисус?
4. Можно ли провести парадигматическое различие между культурой и традициями городов и селений, предполагая дихотомию городской и деревенской культуры? Почему в Евангелиях не говорится о том, что Иисус заходил в такие города, как Сепфорис или Тивериада, или в такой поселок, как Гамла?
5. Что представляли собой синагоги в Галилее до 67 г. н. э.?
6. Как доказать, что перед нами еврейский дом или еврейская деревня?
7. Стоял ли Капернаум на крупном торговом пути, и мог ли в нем жить или располагаться с гарнизоном римский сотник?
8. Уместно ли говорить о «крестьянах» в Галилее?
9. Возникала ли напряженность в отношениях галилеян и иудеев?
10. Насколько еврейской была Галилея I в. н. э., и следует ли называть Иисуса «маргинальным иудеем»?
Интерпретация
Итак, наш первый вопрос: как разработать более надежный метод интерпретации археологических данных? Те, кто далек от раскопок, часто полагают, будто у археологов всегда есть четкие подсказки, которые помогают им с научной точностью интерпретировать данные. Вот, скажем, в слое пепла нашли монету, датированную 98 г. до н. э. – вроде бы здесь и не нужно никаких толкований, ведь так? Но кто кого поджег? И откуда мы знаем, что возгорание не случайно? Первый тезис: находка интерпретируется исходя из контекста – исторического и в особенности археологического. Если предмет уже содержит в себе датировку, как римская монета, и находится в слое, который поддается датировке, да и к тому же найден при раскопках, тогда у нас есть все ключи к интерпретации. Но такие случаи – исключение.
Стоит археологу предложить интерпретацию, и можно быть уверенным, что коллеги оспорят его мнение. Почему? Раскопки ставят вопросы, на которые, как правило, нет четких ответов. Мы приведем два примера того, насколько необходима интерпретация, и покажем тесную связь между археологическими находками и текстологическим материалом. Первый пример – ветхозаветный Асор, второй – Сепфорис (Циппори) новозаветного периода.
Асор. Далеко на севере от Кинерета, в Верхней Галилее, над холмистыми грядами возвышаются впечатляющие руины древнего Асора, некогда – средоточия ханаанской амфиктионии. Как гласит Библия, этот большой город был сожжен Иисусом Навином (Нав 11:11). Многие библеисты полагают, что пожар произошел примерно в 1250 г. до н. э. Археологи обнаружили, что огромные базальтовые глыбы внутри ханаанского дворца растрескались от жуткого жара. Возможная датировка события – середина XIII в. до н. э.
Вопросов – великое множество. Загорелся ли дворец случайно? Или кто-то поджег его? И если так, то кто?
Возможно, дать верную интерпретацию поможет идол, найденный недалеко от дворца. Кажется, его разбили люди. Но помогает ли эта догадка? Дает ли она подсказку, указывает ли путь к ответу? Если да, то можно исключить филистимлян (почти всегда пребывавших южнее) и хананеев: ханаанского идола могли разбить лишь те, кто его презирал. Возможно ли, что это совершили евреи под предводительством Иисуса Навина?
Доказательства этой гипотезы отсутствуют. Однако чаша весов все же склоняется в пользу Иисуса Навина, или, если говорить более научно, – ко времени завоевания Земли Обетованной еврейскими племенами в начале железного века. И на этом основании многие, особенно Игаэль Ядин, делают вывод об историчности ветхозаветных нарративов.
Театр Сепфориса. На северной окраине Сепфориса (или Циппори) находится впечатляющий театр в римском стиле[225]. Когда он создан? Он явно относится к раннеримскому периоду, но к какой его части? До 70 г. н. э. или после? Кэрол Мейерс и Эрик Мейерс уверенно датируют его началом II в. н. э.: «Театр… по-видимому, относится к периоду после правления Антипы»[226]. Джеймс Стрэндж полагает, что театр построил сам Антипа еще задолго до 70 г.: «Среди построек, возведенных Иродом Антипой в Сепфорисе, был и театр на три тысячи мест»[227]. Ирод Антипа правил с 4 г. до н. э. по 39 г. н. э.[228], а потому в вопросе датировки театра в Сепфорисе Мейерсы и Стрэндж существенно расходятся. Эти ученые – первоклассные археологи, и они сами занимались раскопками Сепфориса. Как тогда объяснить расхождения в датировке постройки театра? Чья версия верна, и почему профессионалы, работавшие на одной и той же территории, дают столь разные оценки? К слову, следует подчеркнуть, что ни один из тех, кто проводил раскопки театра, не опубликовал итогового отчета.
Прежде всего очевидно, что археологи вели раскопки в различных частях Сепфориса. Мейерсы уделили внимание южному сектору театра, и возможно, именно эта часть датируется концом I в. или началом II в. Стрэндж копал в 30 ярдах [ок. 27 м] севернее и, по его словам, обнаружил доказательство того, что театр построили раньше, еще до 70 года. Так что же покажут раскопки? Кто прав? Или правы все?
По-видимому, правы все. Скорее всего, театр в Сепфорисе первоначально строил Антипа, а впоследствии, на рубеже веков, здание расширили. Южная часть распложена дальше от сцены, и театр мог расширяться на юг. Этот сценарий вполне убедителен: Сепфорис вырос после 70 г. н. э., когда многие евреи из Иудеи переселились на север. Роберт Бэйти приводит еще один аргумент в пользу того, что театр построил Антипа[229]. И если это так, то и Циппори, и его театр следует внести в список тех мест, которые составляли мир, повлиявший на Иисуса, ведь Назарет, где Иисус провел почти двадцать лет, находится менее чем в двух часах ходьбы на восток от Циппори.
Так же все обстоит и с римским театром в Бейт-Шеане (Скифополе): более древняя часть, прежде неизвестная, обнаружилась внутри поздней постройки. Находку датировали второй половиной I в. до н. э.[230]. Если Ирод Великий построил театр в Кесарии Приморской[231], то почему его сын не мог сделать этого в своей галилейской столице, располагавшейся сначала в Сепфорисе и только потом в Тивериаде?
К слову, в Тивериаде тоже нашли театр в римском стиле, и пусть его точная датировка еще не проведена, это дополнительный аргумент в пользу того, что Ирод Антипа построил подобный театр в Сепфорисе[232], да и грандиозный театр в Тивериаде тоже мог построить он. В археологии новые открытия совершаются чуть ли не каждый месяц, данные непрестанно уточняются, и в связи с этим особенно важно то, что раскопки театра в Тивериаде влияют на интерпретацию других реалий, в частности тех, что найдены в Сепфорисе.
Возможно, эти два примера помогут неспециалисту понять, как проходит интерпретация археологических свидетельств. Она подразумевает вдумчивое исследование, изучение и анализ всех материалов из самых разных мест, – как с территории, на которой ведутся раскопки, так и с других участков, связанных с ней; кроме того, необходимы лабораторные исследования, а потом составляется итоговый отчет. Догадки и интерпретации уточняются в ходе дискуссий; обсуждать их могут не только археологи, но и геологи, нумизматы, социологи и специалисты из других областей точных наук. Равно так же археологи предлагают возможные интерпретации, которые со временем могут стать более вероятными, – правда, по факту подтверждаются лишь немногие. Иногда лучше сохранять «творческий конфликт» и поддерживать «соперничество» интерпретаций: благодаря этому картины минувших эпох воссоздаются на более информированной основе.
Датировка
Вот наш второй вопрос: как датировка помогает придать смысл нашим оценкам? Насколько она важна (а это целая сфера) в воссоздании галилейской культуры I в.? В ряде традиций, отраженных в древних источниках, некоторые места неверно соотносили с более ранними событиями; в современных интерпретациях порой слишком вольно смешивают свидетельства из различных археологических слоев и традиции с разной степенью исторической достоверности. Важно подчеркнуть, что датировка места или предмета, которая часто проводится на основании керамики, нумизматики, конкретного слоя или останков – главное подспорье при интерпретации. Кроме того, следует критически подходить к свидетельствам Иосифа Флавия: иногда он поразительно точен (например, при топографическом описании Гамлы), а временами использует анахронизмы (в частности, называет управляющих ранней эпохи «прокураторами», в то время как они, безусловно, были префектами).
Высоко на горе Мерон – памятник Хирбет-Шема[233]. Добираться до него, возможно, придется, срезая путь по гряде – на джипе, прямо через заросли, как пришлось нам летом 2006 года, – и вы увидите множество массивных камней, предназначенных для мавзолея. По традиции это место чтут как могилу Шаммая, одного из величайших законоучителей эпохи Иисуса.
Шаммай никогда не был в Галилее. Само место появилось здесь не ранее I в. н. э., а синагога у могилы, как показывают раскопки, – в III–IV вв. (или, по версии Джоди Магнесс, даже на рубеже IV–V вв.)[234]. Теперь здесь все заброшено, массивные балки и колонны обвалились.
Древний саркофаг, ассоциируемый с Шаммаем, датирован X в. или даже более поздним периодом. Название же происходит, по-видимому, от названия близлежащей арабской деревни Кафр-Самой. Нельзя исходить из предпосылки, согласно которой ключом к толкованию становится традиция. Места погребений Шаммая, Гиллеля, Хони ха-Меагеля и других подобных им прославленных деятелей Верхней и Нижней Галилеи не только не предшествуют 70 г. н. э., – но даже, скорее всего, возникли намного позже тех дней, когда Талмуд сводили в кодекс, не говоря уже о той более давней эпохе, когда создавалась Мишна.
Несмотря на это, на территории Хирбет-Шемы в период Второго Храма явно жили люди. Самые ранние монеты, найденные там, датируются эпохой Хасмонеев. Монеты и керамика раннеримской эпохи отсутствуют. В 2006 году Чарлзворт обнаружил там фрагмент галилейской грубой керамики[235]. Эта небольшая находка указывает на то, что в эллинистический период территория была населена.
Многие еврейские деревни, поселки и города, как кажется, появляются в Галилее только в эпоху Хасмонеев и до римского «завоевания» в 63 г. до н. э. Такие поселения, как Мигдаль (Магдала), Арбель, Назарет, Йодфат были, судя по всему, основаны при Хасмонеях, – и, вероятно, еще прежде 100 г. до н. э.[236]. Ныне установлено, что переселение евреев из Иудеи в Нижнюю Галилею началось в эпоху Хасмонеев, или еще прежде, чем настал I в. до н. э. И завершающее доказательство того, что евреи из Иудеи начали заселять Нижнюю Галилею – это появление там еврейских обычаев и разрушение храмов к концу эллинистической эпохи (особенно в таких местах, как гора Мицпе ха-Ямим, Эль-Айтех и Хирбет-эль-Эйка)[237].
Впрочем, обнаружение римской керамики и римских построек часто вводит в заблуждение тех, кто пытается воссоздать культуру Галилеи времен Гиллеля и Иисуса. Со временем Нижняя Галилея стала совершенно иной по сравнению с тем какой была в дни Иисуса. В 66–67 гг. римляне сравняли с землей Йодфат и Гамлу, сожгли значительную часть Магдалы и Тивериады[238]. После 70 г. в Галилею стали стекаться евреи, в иудаизме завершился период Второго Храма, и это оказало огромное влияние на многие группы, в том числе и на те галилейские общины, в которых на протяжении столетий, с 300 г. до н. э. по 40 г. н. э., создавались Книги Еноха. К следующему вопросу нам следует подойти с большой осторожностью: отнести ли то или иное поселение или определенный слой к периоду до 70 г. (то есть к эпохе Гиллеля, Иисуса и Иосифа Флавия), – или к периоду после 70 г., времени, когда многие иудеи, включая священническую элиту и авторитетных деятелей, переселились с юга страны на север, в Галилею?
Вопрос о датировке начинает волновать особенно остро, если изучить до сих пор неопубликованный отчет о римской бане в Капернауме. Когда построена эта баня – до 70 г. или позже? И откуда это известно? Подобные вопросы помогут определить развитие тем в очерке и сделать завершительные выводы.
В данный момент мы должны подчеркнуть первостепенную задачу: разграничение римских находок до и после 70 г. Очевидно, что те находки, которые относятся ко времени Иисуса (4 г. до н. э. – 30 г. н. э.) нельзя смешивать с изменениями культуры Галилеи после 70 г.
Один пример поможет проиллюстрировать важность точной датировки руин или археологического слоя. Кедеш – город эллинистической эпохи, административный центр, подвластный Тиру, но в нем сохранились и постройки более позднего римского периода. Именно к ним, а не к эллинистической эпохе, относится монументальный храм, датированный примерно III в. н. э.[239]. Как утверждает Джоди Магнесс[240], орел, треножник и лира, а также открытый потолок указывают на то, что храм был посвящен Аполлону. На месте раскопок нашли множество массивных известковых саркофагов, а на них – самый богатый орнамент из всех, какие удалось встретить в Израиле: один соперничает с изукрашенным саркофагом, обнаруженном в знаменитых усыпальницах Тира. Эти наблюдения доказывают существование культурной связи нееврейской Верхней Галилеи с финикийским регионом, расположенным на северо-западе.
Еврейская Верхняя Галилея похожа на Нижнюю Галилею. При этом культура Верхней Галилеи более разнообразна. На горе Мерон, в поселении Гуш-Халав (Гискале), Наворайе и других местах были обнаружены миквы, каменные сосуды и «иерусалимские» масляные лампы, и эти находки свидетельствуют о том, что евреи в Верхней Галилее, безусловно, жили.
«Чувство места»
Наш третий вопрос: насколько важна топография в воссоздании галилейской культуры I века? Топографию мы понимаем в первом значении этого слова, в том смысле, в каком оно приводится в словарных статьях: детализированное отображение и зарисовка разнообразных особенностей сравнительно ограниченной территории или местности. Таким образом, топография – это не только ландшафт или физические контуры поверхности земли, но и географические особенности, те же реки и озера, а также флора и фауна.
Разделение Галилеи. Начиная с Книги Иудифи и позднее у Иосифа Флавия в Иудейской войне (III, 3.1), а также в Мишне и Тосефте[241] евреи обычно говорят о «Верхней Галилее» и «Нижней Галилее». Это точная терминология. Путь из Рош-Пинны в Акко идет мимо Вирсавы (термин Флавия); она расположена на одиноком холме, который высится на восточных границах долины Бейт-Керем. Оба места, поселение и долина – это северная граница Верхней Галилеи. Если ехать дальше на запад, гора Камон, что высится на шестьсот метров, останется слева, а справа будет гора Мерон, вдвое выше. По контрасту с ними гора Фавор, которую в силу теологической важности[242] часто, хотя и ошибочно, называют высочайшей горой Нижней Галилеи, на самом деле поднимается всего на пятьсот метров над уровнем моря[243]. Археологи обнаружили, что реалии Верхней Галилеи начиная с железного века и до раввинистического периода свидетельствуют о связи холмистой северной Галилеи с культурой Тира и Сидона, то есть с Финикией. А вот реалии Нижней Галилеи отражают тесную связь с еврейской культурой Иудеи, расположенной южнее[244]. Так тексты и археологические находки указывают, что галилейская культура разделялась на две ветви в зависимости от высоты над уровнем моря и широты. Долина Бейт-Керем – не только географическая, но и культурная граница между этими территориями. Есть свидетельства, что разделение культур происходит уже в медном веке, в V тысячелетии до н. э.[245].
Определяют Галилею и скалы. На восточной стороне долины Хула и озера Кинерет – Голанские высоты, а к северу – массив Хермон, где, согласно Плинию, Страбону и Флавию[246], обитали итуреи. На западе долины – крутые склоны Неффалимовой горы, а на западном побережье озера Кинерет – величественные горы Арбель и Нитай. Вдоль северных границ долины Бейт-Керем протянулись скалы Митлоль-Цурим, а на западе – отвесные гроты Рош ха-Никра. Они высятся над Средиземным морем, поднимаясь на 64 метра, и отмечают западную границу Галилеи, отделяя современный Израиль от Ливана. На протяжении столетий эту область называли «Тирийской лестницей» (см.: И. В. II, 10.2).
В гротах Рош ха-Никра море бьется о скалы. Его силу чувствуешь, когда входишь в подземные пещеры и туннели. Обычно волны разбиваются о берег, но здесь всей громадой обрушиваются на утесы, испещренные отметинами от их ударов за долгие века. Длинные туннели – самая естественная дань силе природы.
Галилею определяют и горы (возможно, кто-то из читателей, в зависимости от страны и опыта, скорее сочтет их «высокими холмами»). Иосиф Флавий упоминает Птолемаиду, «приморский город, окруженный горами» (И. В. II, 10.2). С Керен-Нафтали, «рога горы Неффалимовой», далеко внизу можно увидеть долину Хула и проследить за движениями караванов или армий, идущих хоть на север, хоть на юг[247]. Это идеальное место для крепости. Авиам провел в этом месте раскопки. Он доказал, что там действительно располагалась крепость эллинистического периода. В 38 г. до н. э. ее захватили Ирод Великий и римские войска, следовавшие из Дамаска. Легионеры Ирода возвели циркумвалационную стену. У него были и лучники, «горцы» из Ливана, который находился как раз за горами к северу. Летом 2006 года мы нашли дно прекрасной чаши, принадлежащей к типу керамики терра сигиллата, что вновь указывает на культурную связь между Верхней Галилеей и северо-западом.
Плодородие и болота. Гекатей, описывая землю евреев, сообщает, что ее почвы богаты и плодородны (текст дошел в изложении Флавия, Пр. Ап 1.195). Далее Флавий отмечает, что древняя Палестина «давно уже давала обильные урожаи» (И. Д. XV, 5.1), а к западу от Кинерета простираются поразительно зеленые земли, место, где природа «как будто задалась целью соединить… противоположности», самое райское место на земле (И. В. III, 10.8). Это очевидное преувеличение следует оценивать в свете путешествий Флавия в Египет и Италию. Он был иудеем и хорошо знал, сколь богаты средиземноморские почвы. Если взглянуть на территорию от Арбеля к западу от Кинерета, можно убедиться в точности его оценки.
Впрочем, Иосиф упоминает и о болотах неподалеку от этой плодородной области. Долина Хула, земля от горы Хермон до Вифсаиды, – это болота и топи Самахонитского озера (И. В. III, 10.7; IV, 1.1), полные змей и москитов. Еврейский автор Притчей Еноха (1 Ен 37–71), создавший книгу, вероятнее всего, в период царствования Иродиадов, раскрывает свое происхождение, когда проклинает тех (по всей видимости, римлян и иродиан), кто забирает плодородную сухую землю и оставляет евреям только таящие угрозу болота (ср.: 1 Ен 48:8; 63:1–10)[248].
Дороги. Иосиф упоминает дорогу из Галилеи в Иерусалим. Хотя можно было совершить это путешествие за три дня (Жизнь 269), это была скорее тропа, а не специально проложенная дорога. Дороги римского периода были обнаружены в Нижней Галилее, особенно в Капернауме, в Магдале (Мигдаль, Тарихея) и Сепфорисе, но не удалось найти ни одной римской дороги, построенной до 70 г. Лишь две имперские дороги проходили по Галилее с запада на восток, обе они датируются периодом после 70 г., хотя почти несомненно, что их строили на тропах более раннего периода. Одна из дорог ведет из Акко в Тивериаду и проходит по Нижней Галилее, а другая, проложенная в Верхней Галилее, ведет из Тира в Панеаду. Первый путь определяли города, связанные с римским миром: Акко, Сепфорис и Тивериада[249]. Две другие дороги, пересекавшие Галилею, протянулись с юга на север. Первая пролегала от Легио до Сепфориса, а вторая от Скифополя (Бейт-Шеана) до Тивериады (или даже до Панеады)[250]. Очевидно, что в I–II вв. н. э. евреи чувствовали, сколь важны эти пути, в основе которых лежали местная культурная традиция, топография и география. Социологическое исследование этих довольно основательных дорог помогает скорректировать ряд неверных интерпретаций реалий еврейской Галилеи, связанных с эпохой до 70 г. Так, Галилея не была отрезана от Иудеи, как заявляли исследователи XIX столетия.
Кинерет (Галилейское море). В Древнем Израиле было всего два озера с пресной водой: Кинерет и Хула (Самахонитское озеро). Культурное значение этих озер может ускользать от современников, посещающих Израиль, поскольку сейчас для сельскохозяйственных и бытовых нужд существует множество резервуаров с пресной водой. В древности лишь два этих озера (наравне с источниками и пересыхающими водопадами) снабжали водой весь Израиль. Миссия Иисуса ограничивалась лишь северо-западной частью озера Кинерет (вероятнее всего, сюда входила и Магдала).
Флора и фауна. Топография, как мы уже говорили, определяется растительным и животным миром. Область к западу от Кинерета вновь процветает, как и в древние времена. Стоя под смоковницей северо-западнее Магдалы (в Генисаретской земле) в Нижней Галилее и рассматривая плоды, усыпавшие ствол, мы вспомнили слова авторов Мишны: смоковницы растут в Нижней Галилее, но не в Верхней. Западнее Кинерета – тучные поля с изобилием овощей и фруктов, и как тут не вспомнить строки Иосифа Флавия?
Вдоль Генисарета тянется страна того же имени изумительной природы и красоты. Земля по тучности своей восприимчива ко всякого рода растительности, и жители действительно насадили ее весьма разнообразно; прекрасный климат также способствует произрастанию самых различных растений. Ореховые деревья, нуждающиеся больше в прохладе, процветают массами в соседстве с пальмами, встречающимися только в жарких странах; рядом с ними растут также фиговые и масличные деревья, требующие более умеренного климата. Здесь природа как будто задалась целью соединить на одном пункте всякие противоположности; здесь же происходит чудная борьба времен года, каждое из которых стремится господствовать в этой местности (И. В. III, 10.8).
В конце XIX века европейские исследователи писали о том, что видели в Нижней Галилее, неподалеку от Арбеля, горы Нитай и источника Амуд, оленей и медведей. Последнего леопарда здесь видели и, к сожалению, убили в 1956 году. Топографию Галилеи определяют птицы; тут больше их видов, чем в почти любой схожей области мира. За год в долину Хула прилетает с полмиллиона перелетных птиц, представители 270 видов. Большая часть недолго отдыхает здесь на пути из Москвы или Амстердама в Египет и даже в Кейптаун – или же, напротив, из южных краев в Амстердам или Москву.
Все эти топографические особенности, безусловно, свойственны не только Галилее наших дней. Если мы пройдем по ней или просто сравним современные виды Гамлы или Йодфата с описаниями Иосифа Флавия, мы поразимся тому, сколь точные описания он дал. Уже ясно, что рассказ Флавия о топографии Галилеи – как, впрочем, и о других областях этой земли – во многом авторитетен. Притчи Иисуса полны топографических и географических подробностей и часто вспоминаются в странствиях по Нижней Галилее (или по другим местам Израильской земли).
Города, поселки и деревни
Прежде всего нас не должно вводить в заблуждение смешение понятий город, поселок и деревня в произведениях Флавия. Город – это греческий полис. В Галилее (в широком смысле) есть лишь несколько «городов»: Акко, Кесария, Гиппос, Сепфорис и Тивериада. Магдала – не город, а большой и важный поселок. Гамла – тоже поселок. Йодфат – поселок, или большая деревня. Капернаум – точно деревня. Назарет – очень маленькая деревня.
Наш четвертый вопрос: можно ли провести парадигматическое различие между культурой и традициями городов и деревень, предполагая дихотомию городской культуры – и культуры исключительно сельской, на которую города никак не влияли? Можно ли противопоставить города поселкам и деревням? Очевидно, что следует избегать простого ответа «да». Понятно, что в городах, еврейских ли, римских ли, была «городская культура». Она представлена, прежде всего, общественной архитектурой – улицами, храмами, театрами, акведуками и иногда форумом. Подобные постройки не характерны для деревень. В архитектуре поселка Йодфат тем не менее присутствует социальное расслоение: есть там и дома бедняков с земляным полом, и роскошный дом с фресками, который еще предстоит раскопать. До определенной степени проще провести границу между городом и деревней, но не стоит полагаться на парадигматически четкое разграничение между ними.
В I веке н. э. в состав Галилеи и граничащих с ней территорий входили маленькие и большие деревни (Назарет, Кана, Капернаум и Коразим), поселки (Магдала, Гамла, Йодфат) и большие города (Акко [Птолемаида], Кесария Филиппова, Гиппос [Сусита], Сепфорис и Тивериада), и столицы различных размеров (Сепфорис, Тивериада, Вифсаида и Панеада)[251].
Четыре основных города (или больших поселка) формировали ландшафт Галилеи.
1) Нееврейский город Акко (Птолемаида) стоял на западной границе, у самого моря. Отсюда в 67 г. до н. э. Веспасиан и Тит повели в глубь Галилеи прекрасно подготовленное шестидесятитысячное войско. Сейчас от римской Птолемаиды осталось мало свидетельств.
2) Ирод Антипа (4 г. до н. э. – 39 г. н. э.) сделал Сепфорис столицей Галилеи, а Иосиф Флавий назвал его «сильнейшим из галилейских городов» (И. В. II, 18.11). Это был главный город на пути с запада на восток по долине Бейт-Нетофа. Культура здесь находилась под влиянием Рима: это очевидно как на основании археологических находок (в особенности относящихся к более позднему периоду), так и в связи с его немедленной капитуляцией перед римскими войсками в 67 г.
3) Тивериаду тоже строил Антипа. Время строительства относят к 18–20 гг. н. э. – на основании монет, которые чеканились в городе после Первой Иудейской войны[252]. Сюда Антипа перенес из Сепфориса свою столицу, и повседневная жизнь на побережье Кинерета (Галилейского моря) стала иной. Вероятнее всего, затраты на строительство приозерной столицы потребовали повысить налоги, ставшие тяжким бременем. И этот фактор следует учитывать, когда мы стремимся оценить служение Иисуса, которое началось спустя восемь лет после основания Тивериады. Недавно обнаружились некоторые постройки времен Антипы: театр, городские ворота (но без стен) и каменные двухцветные плиточные полы. Возможно, последняя находка связана с дворцом Антипы, на котором, согласно Иосифу Флавию, «были изображения животных» (Жизнь 65) и позолоченные кровли (Жизнь 66). Флавий упоминает и великолепный молитвенный дом (Жизнь 277), но конкретные доказательства его существования пока отсутствуют[253].
4) Магдала (Мигдаль, Нунайя, Тарихея) была большим поселком (некоторые полагают, что и городом) на западном побережье Кинерета[254], примерно в пяти километрах к северу от Тивериады. Это родина Марии Магдалины (Мф 27:56, 61). Текст Евангелия от Марка, дошедший до нас, упоминает о том, что Иисус посещал «пределы Далмануфские» (Мк 8:10), но некоторые важные греческие источники заменяют «Далмануфу» на «Магдалу»[255]. Иосиф Флавий упоминает, что население Магдалы составляло примерно 40 тыс. жителей (И. В. III, 10.9–10), однако очевидно, что это число – пример использования автором преувеличений и типологизаций в отношении цифр[256]. По нашему мнению, в Магдале жили где-то 5–6 тысяч человек. Летом 2006 года, благодаря тщательной расчистке территории, нам удалось открыть многие элементы городской архитектуры: мощеные улицы, колонны, возможно, нимфеум (фонтан), форум и башню (ивр.,מגדל, мигдаль), которые относятся к позднеримскому периоду[257].
Важно ли отсутствие упоминаний о том, что Иисус заходил в эти четыре города? То, что он не появлялся в каком-нибудь одном или двух – это еще можно объяснить совпадением. Но ни в одном из четырех? Или причиной всему – избирательность евангельских источников? А верны ли некоторые греческие или сирийские тексты, в которых говорится, что Иисус посещал Магдалу (Далмануфу)? Или нам стоит задуматься об иных вариантах воссоздания его жизни? Избегал ли Иисус появляться в этих городах из-за радикальности своего учения?[258]
Некоторые отвечают «да»: именно характер учения вынуждал Иисуса избегать этих городов. Иисус был истинным иудеем; и он не добавлял в свое учение ни греко-римского символизма, ни греко-римской логики – он возрождал дух озарений великих пророков, таких как Исаия или Иеремия.
Другие утверждают, что в свете наших знаний о городах и деревнях Галилеи на этот вопрос возможен и иной ответ. В сравнении с множеством городов и деревень, упомянутых у Иосифа Флавия – о сколь многих говорят евангелисты? Об очень немногих. Более того, сколько из этих мест посетил Иисус? В самый подробный список войдут лишь Назарет, Кана, Капернаум, Ним, Вифсаида и Коразим (Хоразин), всего шесть из двухсот четырех галилейских деревень I в., упомянутых у Иосифа Флавия, притом что по имени Иосиф называет лишь сорок. Потому не стоит предполагать, будто Иисус никогда не бывал в Магдале или других городах и поселках. Несомненно, евангелисты отредактировали предания об Иисусе в соответствии с керигмой, а эти предания были уже отобраны и в значительной мере исправлены. Поэтому, возможно, отсутствие упоминаний о том, что Иисус посещал эти города, – лишь случайность.
Археологические находки и исследования показывают, что еврейскую культуру не следует слишком резко делить на город и деревню. В таком городе, как Йодфат, мы находим следы присутствия всех социальных слоев. Более того, и евреи, и римляне легко, быстро и беспрепятственно перемещались с места на место, из деревень в города. Сплав сельской и городской культур в Нижней Галилее I в. следует рассматривать в свете предшествующего многовекового эллинистического влияния на еврейскую мысль в Израильской земле. И пусть даже единая еврейская культура проявляется в Нижней Галилее еще за столетие до 70 г., каждый местный населенный пункт имеет свои особенности.
В течение столетий многие признанные авторы и профессора изображали Галилею до 70 г. н. э. как область, где культура была еврейской лишь поверхностно. Исследователи наших дней, далекие от археологии, многие из которых никогда не работали в Галилее, заключают, что Галилея в начале I в. н. э. – то есть во времена, когда проповедовал Иисус – находилась под эллинистическим влиянием, как и города Декаполиса, скажем, Гадара, Скифополь, Пелла и Филадельфия. На основании этого иудео-греческого синтеза профессор Бёртон Мэк заключает, что Иисус был киником[259]. Это утверждение игнорирует и свидетельства канонических евангелистов (и их источники), и традицию, сохраненную многими псевдэпиграфами (особенно 1 Ен), и сочинения Иосифа Флавия, и доказательства, подтвержденные раскопками в Нижней Галилее. Несомненно, в Нижней Галилее жили по большей части евреи, и более того, через традиции и праздники они были тесно связаны с иудаизмом Иудеи.
Исполняя заповедь об обязательном паломничестве в Иерусалим на Песах, Иисус, как многие галилеяне, отправился из Галилеи в Иудею и взошел в Святой Город. На большом камне, недавно обнаруженном в синагоге в Магдале, есть изображения, которые напрямую связывают этот камень с иерусалимским Храмом. В нижней его части изображена менора; скорее всего, это копия меноры иерусалимского Храма. Слева и справа – изображения массивных сосудов, по-видимому, связанных с церемонией возлияния воды[260] в Иерусалиме, которая проводилась в Храме. Изображения, высеченные на каждом конце нижнего основания, вероятно, символизируют Святая святых.
Следует помнить и о том, чем ответили римляне на еврейское восстание в Галилее. Йодфат, или Иотапата – это город, в котором Иосиф Флавий, в то время командующий в Галилее, капитулировал перед будущим императором Веспасианом. Когда-то это был величественный город с прочными прекрасными зданиями, и в нем проживало примерно 2500 человек. Все, что дошло до нас – тесаные каменные глыбы, на которых некогда стояли дома, а кроме них – руины домов, стен и микв. Безусловно, римляне хотели оставить в Галилее символическое послание. Но в чем оно заключалось?
Галилея была вулканом, извергавшим революционеров. Веспасиан и римляне говорили прямо, так, чтобы послание врезалось в память: решитесь противостоять Риму – мы сравняем ваш город или деревню с землей. Сейчас в Йодфате никто не живет, и кажется, будто именно о нем писал Шелли в сонете «Озимандия»: «…кругом нет ничего, глубокое молчание… Пустыня мертвая… И небеса над ней»[261]. Так же как публичное распятие, уничтожение города было римским способом подвести итоги восстания: если вы против нас – вас ждет поражение. Несомненно, Нижняя Галилея, а в особенности Йодфат и Гамла – это свидетельство гнева Рима.
Завершим, вернувшись к нашему вопросу: почему Иисус не посещал большие города? На самом деле следует спросить иначе: почему евангелисты не упоминают о том, что Иисус заходил в эти города? Или это простое совпадение? Полагал ли Иисус, что его весть лучше подходила для деревенских жителей, населявших северо-западное побережье Кинерета? Требовал ли Иисус – реальный, исторический Иисус – от своих последователей избегать больших городов и «на путь к язычникам не ходить»? (Мф 10:5). Это важные вопросы. Археологические находки позволяют понять, что жители Капернаума, небольшой деревни, разделяли культуру Тивериады или Сепфориса, но не были столь подвержены влиянию римлян и иродиан. К сожалению, согласно Евангелиям, проповедь Иисуса не была особо успешной даже в этих небольших деревнях.
Синагоги Галилеи
Наш пятый важный вопрос: что представляли собой синагоги в Галилее I века?[262] Служила ли еврейская синагога до 70 г. знаком места, связанного с жизнью общества или религией?[263]
Понятно, что галилейские «синагоги» I в. зачастую не отличались столь замечательной архитектурой, как после IV–V вв. В каждой галилейской деревне I века была «синагога», или место, где собирались иудеи. Были ли эти синагоги «домашними»?[264] С одной стороны, для всех построек, опознанных как синагоги, скажем, в Гамле, характерна четкая структура. С другой стороны, возможно, какие-нибудь найденные нами руины без явных признаков вполне могли служить в I веке «синагогой».
Возможно, и даже скорее всего, в некоторых из этих синагог по субботам читалась Тора, как сообщают Лука или его источник (Лк 4:16–22) и надпись Теодота[265]. Несомненно, в синагогах читали и изучали Священное Писание (Тору). А может быть, в некоторых галилейских синагогах в какой-то форме совершалось богослужение и возносились молитвы еще задолго до того, как в 70 г. было сожжено единственное место для жертвоприношений.
А как насчет синагог I века в Магдале или Капернауме? Предполагаемая синагога в Магдале – здание очень небольшое, но практичное и прочное. Первыми ее раскопали францисканцы, назвав «мини-синагогой»[266]. Что это за место? Можно сказать, что «синагога», если определять синагогу в самом общем смысле – как постройку, где иудеи могли собираться вместе. Но есть множество причин, по которым каменную постройку в Магдале не следует так именовать. В ней есть лишь скамьи (или ступени) на северной стороне, нет четкого входа, и ее границы определяются источником с проточной водой. Возможно, это была будка-кладовка над родником или даже нимфеум[267].
Там же, в Магдале, к северу от здания, в котором францисканцы усмотрели синагогу, недавно нашлось нечто впечатляющее: под слоем ила, нанесенного с запада Вади-Хаммам, обнаружилась синагога I в., несомненно восходящая ко временам Иисуса, а в ней мы нашли монету 40 г. н. э.[268], фрески на стенах и неоконченную мозаику. Эта синагога – первая из всех найденных, которая совершенно точно существовала в те времена, когда Иисус вершил свое служение. Внутри был найден камень с изображениями, которые связывают это место с Храмом; возможно, он служил подставкой при чтении Торы[269]. Вполне вероятно, что в этой синагоге учил Иисус – и, возможно, здесь он встретил Марию Магдалину.
Большое и знаменитое белое здание в Капернауме – это, безусловно, синагога, но ее построили на рубеже V–VI вв.[270]. Откуда нам известна эта дата? Под полом синагоги нашлось более сорока тысяч бронзовых монет, одна из них датирована 470 г., таким образом, синагогу не могли построить раньше[271].
Но может ли под этим слоем оказаться другая синагога? Если да, то относится ли она к I веку? И не в ней ли учил Иисус?
Нижний уровень – из черного базальта, но нельзя с уверенностью сказать, что он относится к более раннему периоду. Возможно, он служит фундаментом белой синагоги и датируется тем же веком. Стефано де Лука полагает, что рядом с центром этого базальтового основания синагоги находится то, что осталось от синагоги I века, возведенной во времена Иисуса. И если мы сочтем маловероятным то, что синагоги перемещали из одного места города в другое, вполне возможно, что в Капернауме, под руинами синагоги, представшей нашим взглядам, находится еще более древняя.
Иудейские дома и селения
Наш шестой главный вопрос: как доказать, что перед нами еврейский дом или еврейская деревня? Важны шесть факторов. Дом или деревня несомненно еврейские, если в них есть все или некоторые из следующих элементов:
1. Еврейские монеты (хасмонейские, иродианские и иные еврейские монеты I в.).
2. Миква (еврейская ванна для ритуальных омовений)[272].
3. Погребальные традиции, отражающие еврейские обычаи (все дошедшие до нас оссуарии появились после 70 г., однако не исключено, что обычай, связанный с ними, был известен в Галилее I в.)[273].
4. Каменные сосуды для еврейских очистительных обрядов (ср.: Ин 2:6, в Галилее уже найдены три мастерские по изготовлению каменных сосудов).
5. Дополнительные свидетельства соблюдения еврейских законов кашрута, в особенности отсутствие свиных костей (впрочем, даже их наличие не доказывает, что поселение не было еврейским, поскольку евреям разрешалось продавать свиней римлянам).
6. Еврейские надписи (особенно на иврите или еврейско-арамейском).
Конечно, требовать присутствия всех этих признаков в каждой еврейской деревне – это слишком позитивистское отношение. В Йодфате и Гамле мы находим лишь пять элементов из шести. Впрочем, захоронения там еще не раскопаны, поэтому потенциально эти два места вполне могут обладать всеми шестью.
Элементы никогда не определяют в полной мере суть явления или концепции. Она определяется тем, как они совместно исполняют свои функции, создавая стиль или отличая то или иное место от других. А кроме того, следует обращаться к фантазии, к собственному опыту, строить догадки и полагаться на проницательность, – при этом, конечно, проверяя свою интерпретацию при помощи тех средств, которые предложены в начале этого очерка.
Все шесть элементов зависят от кумулятивного аргумента, который ведет к возможностям, или, скорее, к вероятностям. Например, Капернаум явно был еврейской деревней, пусть там даже по сей день и не нашли никаких микв. Они и не требовались: наилучшая миква – та, в которой есть родниковая вода, а такой становилась «живая вода» (маим хайим), поступавшая из Кинерета. В Капернауме археологи обнаружили каменные сосуды и еврейские монеты, однако останки животных не исследовались, а также почти не проводились раскопки захоронений.
Будь у нас возможность исследовать города и деревни I в. в ходе крупномасштабных раскопок на участках, оставшихся неизменными с той давней эпохи, и будь у нас достаточное финансирование, которое бы позволило уделить пристальное внимание костям животных и другим реалиям, тогда бы мы сумели установить то, как именно эти шесть элементов помогают определить и понять еврейскую культуру Нижней Галилеи – и, возможно, их удалось бы найти в каждой еврейской деревне.
Если в поселении есть свиные кости, это не доказывает, что оно не принадлежало евреям. На участке могли неправильно провести раскопки, да и сами кости могут относиться к слою, не связанному с евреями, более позднему или, напротив, более раннему, – а могут и просто оказаться частью свалки. Археологические данные указывают на то, что евреи действительно следовали законам кашрута. Согласно древним еврейским законам евреям разрешалось разводить свиней, а также использовать их кожу и кости и даже продавать неевреям и самих свиней, и их мясо. Евреям запрещалось лишь есть свинину и других некошерных животных (и, конечно, не все евреи неизменно соблюдали законы кашрута).
Монеты – это главная улика. Тысячи монет, отчеканенных в эпоху Хасмонеев, найдены не только в Иудее, но и в Галилее. Как в Гамле, так и в Йодфате археологи обнаружили целые груды таких монет (особенно монет Александра Янная). Как объяснить этот факт? Эти монеты находились в обращении в регионах, населенных евреями, на протяжении целого столетия? Или мы можем допустить, что некто продолжал чеканить их и в I в. н. э.? Если так, то этот обычай, возможно, указывает на то, что власть Хасмонеев была предпочтительнее презираемой власти потомков Ирода (с исключением лишь Ирода Антипы). И мы вполне можем ожидать от галилеян подобной политической лояльности – учитывая то, что нам известно из письменных источников.
Многие из тех, кто посвящает свои письменные труды исследованию Галилеи – и, возможно, даже слишком многие, – изначально предполагают, что галилеяне неохотно пользоваться монетами, предпочитая бартер. Но это не подтверждается письменными источниками[274].
Что отличает еврейские погребения? В Иудее погребальные практики были различными. Например, до сих пор нет полной уверенности в том, что кумраниты были единственными, кто хоронил умерших в неглубоких могилах, лицом на север и без погребального инвентаря.
В окрестностях Иерусалима и в Иудее традиционное еврейское захоронение среднего и высшего класса представляло собой могилу, выдолбленную в скальной породе с погребальной нишей – кохим. Эти ниши иногда содержали оссуарии (ящики для костей), порой украшенные, для вторичного захоронения. Кости в оссуарий складывали только евреи. В Галилее мы не нашли ни одного захоронения, которое бы относилось лишь к I в. В еврейских деревнях есть множество могил, которые содержат артефакты I века, и в том числе оссуарии, но там находятся и вещи, созданные во II–III вв. Кроме оссуариев и «подрезанных» масляных ламп, у нас нет подтверждений именно еврейских погребальных обрядов. Мы предполагаем, что захоронение еврейское, если оно найдено в поселениях, в которых встречаются свидетельства пребывания евреев. В двух еврейских городах – Гамле и Йодфате – еврейские захоронения не найдены. Возможно, еще предстоит обнаружить простые могилы, вырытые в земле и закрытые каменными плитами.
Капернаум и торговые пути: караваны и центурионы
Итак, мы подошли к седьмому основному вопросу: стоял ли Капернаум на крупном торговом пути, и мог ли в нем жить или располагаться с гарнизоном римский сотник? Как прекрасно известно – слишком известно, чтобы упоминать об этом здесь, – многие исследователи категорично отвергли историчность Евангелий и провозгласили, что римский сотник не мог находиться в Капернауме до 70 г. н. э., поскольку это просто невозможно.
Для того чтобы должным образом ответить на наш седьмой вопрос, следует внимательно изучить топографию, культуру Нижней Галилеи, торговые маршруты (особенно так называемый «приморский путь», Via Maris), а также различать в Капернауме слои, которые относятся к периоду до 70 г. н. э. и после этого времени (Кфар-Нахум [еврейский] и Талхум [арабский]). И лишь затем, в самом конце, а не изначально, следует рассмотреть историческую достоверность традиции, сохраненной евангелистами. А у нас нет подтверждений того, что исследователи, отрицающие возможность существования торгового пути рядом с Капернаумом и присутствие в городе сотника, учли эти моменты в своих трудах.
Для начала признаем, что к этому вопросу не стоит относиться с презрительной беспечностью. Не следует намеренно выискивать в Евангелиях доказательства их исторической ценности – но и не стоит отворачиваться от тех реалий I века, которые, возможно, в них отражены. Сотник вполне мог находиться в каком-либо месте и без сотни солдат. Даже на поле боя у центурионов не всегда были в подчинении сто воинов: иногда под их началом находилось всего десять человек. В нашей реконструкции Капернаума до 70 г. следует учесть и возможность того, что сотник мог выйти в отставку, жить в городе, и даже, стремясь упрочить свое социальное положение, помогать с покрытием затрат местной синагоги (Лк 7:4–5). Если воспринимать свидетельство Матфея в прямом смысле и не как указание на авторитет центуриона (а кажется, что Tendenzen именно таковы), то в подчинении у последнего вполне могли находиться солдаты: «Ибо и я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов…» (Мф 8:9). Впрочем, все же следует признать, что перед нами весьма редкий случай.
До 70 г. Капернаум был самой восточной еврейской деревней в Нижней Галилее[275]. За Иорданом, всего в нескольких километрах к востоку, начинались владения Филиппа с Вифсаидой Юлией. Капернаум стоит у озера Кинерет, к северу от него простираются холмы, и внизу, вдоль берега, пройти совсем нетрудно. «Приморский путь», Via Maris, идет точно на север, соприкасаясь с Магдалой; впрочем, он, скорее всего, шел и на северо-восток, мимо Капернаума. И если так, то сотник и группа солдат под его началом могли находиться на приграничном посту, причем командовать он мог не обязательно римлянами, а, скажем, иродианами. И им не нужно было жить в самом Капернауме: их могли расквартировать в небольшом лагере неподалеку.
Римская баня в Капернауме заслуживает внимательного исследования и подробных дискуссий; к сожалению, отчет о ней все еще не опубликован. Если будет доказано, что баня относится ко времени до 70 г., следует установить, предназначалась ли она только для римлян. Наличие в поселении римских бань необязательно свидетельствует о том, что в нем жил хоть кто-то, кроме евреев. Мишна, пусть и позже, сообщает нам о том, что бани посещали раввины; кроме того, бани были в Тивериаде и Сепфорисе.
Датируется ли эта баня эпохой Траяна и Адриана – или ее построили до 70 г.? Материалы еще не изданы, а раскопана баня только с восточной стороны, которая принадлежит Греческой Православной Церкви. Кроме того, она проходит и в западные части Капернаума, которые находятся в юрисдикции францисканцев. Скорее всего, раскопки, организованные с научной строгостью, помогут ответить на ряд вопросов, которые возникают сами собой, если мы допустим возможность того, что римский сотник мог пребывать в Капернауме до 70 года и во времена Иисуса.
Теперь перейдем к вопросу о дороге, проходящей рядом с Капернаумом. В июне 2006 года и много раз впоследствии мы посещали Омрит, который расположен к северу от Капернаума по дороге на Панеаду (Кесарию Филиппову), и встречались с командой археологов, проводившей там раскопки: это Джон Эндрю Оверман, Габриэль Мазор и Дэн Шовальтер. Омрит – это комплекс, где сохранились руины храмов римского периода. На территории комплекса, видимо, находились три храма, один внутри другого. Самый ранний относится к позднему эллинистическому или раннеримскому периоду. Он скрыт под более поздним, массивным и импозантным храмом эпохи Ирода. В 20 г. до н. э. император Август посетил Галилею, и Ирод вполне мог возвести храм в его честь; возможно, это и есть знаменитый Августеум, который прежде напрасно искали в Кесарии Филипповой. Третий храм датируется более поздним периодом римского владычества; вероятно, он связан с визитами Траяна или Адриана.
Можно ли сказать, что во втором слое мы нашли храм Августа? Такова версия археологов, и мы присоединяемся к ней. Новая локализация Августеума, построенного Иродом Великим – это Омрит, а не пещера и не источник в Кесарии Филипповой (Панеаде), как считалось ранее[276].
В ходе раскопок найден и фрагмент римской дороги, которая вела на север в Дамаск, через горы Хермон. Эта мощеная дорога датируется II–III вв. н. э., однако несомненно, что рядом с Омритом проходила дорога и в I в. до н. э., тогда, когда храмы только строились. Августеум, скорее всего, находился на изгибе дороги, которая шла на север и сворачивала на восток, к Дамаску.
Эти находки заставляют снова обратить внимание на знаменитый евангельский отрывок. Где именно Петр понял, что Иисус есть «Христос»? Эти события связывались с Панеадой. Но скорее всего, Иисус и его ученики шли на север по этой дороге и видели монументальный «мраморный» Августеум. Греческий текст сообщает, что они были на пути в Кесарию Филиппову (Мк 8:27).
Что важного в этой работе археологов в Омрите? Она значима для «Исследования Иисуса». Здесь, в Омрите, на римской дороге, впервые претворяется в жизнь прекрасно известная история. Августа повсеместно провозглашали «сыном Божьим». Эта традиция помогает нам понять события, описанные в Мк 8:27–30. Евангелист Марк не утверждает, будто Иисус задал этот вопрос в Кесарии Филипповой – он говорит, что все произошло «на пути» (ἐν τῇ ὁδῷ) в селения Кесарии Филипповой. А именно на пути к ней и находится Омрит. В таком случае вопрос Иисуса («За кого почитают Меня люди?») и ответ Петра становятся понятнее, чем в случае, если этот вопрос прозвучал перед жертвенниками Пана в Панеаде. Марк, как и его керигматические источники, стремился подчеркнуть, что «Сын Божий» – это именно воскресший Иисус, а не покойный кесарь.
Нашли ли в Капернауме дом Петра и Андрея?[277] Сразу скажем, что нам известен только один дом в Капернауме, который, возможно, принадлежал Петру и считается таким по традиции[278]. Во-вторых, известно, что октогональную церковь V в. возвели на месте более древнего здания, а значит, данное место считалось сакральным, и еще в ранний византийский период его соотносили с домом Петра. В-третьих, во II столетии нашей эры – а может, еще в конце I в., – в этом доме были оштукатурены полы и стены, что также указывает на его особый статус, и, возможно, на штукатурке было выведено имя «Петр»[279]. В-четвертых, отсутствие в доме бытовых предметов повышает вероятность того, что он мог служить «домашней церковью». В-пятых, домом пользовались и в I столетии до н. э., и в I столетии н. э., и там найдены рыболовные крюки. С какой-то долей уверенности можно заключить, что этот дом не только почитался как дом Петра – но и был тем самым домом Петра, в котором учил Иисус. Евангелисты пишут, что Иисус совершил в Капернауме множество исцелений (Мф 8:5, Мк 1:21–28; 2:1–12, Лк 7:1–10, Ин 4:46–54); и некоторые из них, возможно, произошли в доме Петра или неподалеку.
Крестьяне в Галилее?
«Крестьянин» – это человек из низкого социального класса, вовлеченный, как правило, в сельскохозяйственный труд. Английское слово peasant («крестьянин») восходит ко французскому paysan («деревенский»), уходящему в феодальное прошлое. Подобные европейские реалии не должны затмевать наш образ Нижней Галилеи до 70 г. Крестьянин наивен, неграмотен, не умеет читать, и у него почти или совсем нет денег. Он, как правило, не арендует землю, а служит землевладельцу как раб: пашет землю и возделывает ее ради чужой выгоды. А вот теперь, не забывая об этом, зададим наш восьмой вопрос: корректно ли в историческом контексте говорить о «крестьянах» в Галилее?
Этот небольшой экскурс в суть понятия «крестьянин» раскрывает проблемы, возникающие с тем синтезированным представлением об Иисусе, которое предложил Джон Доминик Кроссан. Совершенно верно подчеркнув важность антропологического исследования, Кроссан утверждает, «что успех или провал в любой попытке изучить исторического Иисуса зависит от того, как мы обращаемся с литературным уровнем самого текста»[280]. Нам остается только восхититься ясностью и четкостью этой фразы – но как же быть с археологией? Разве можно ее игнорировать? И может ли труд Джерарда Ленски заменить работу археологов и изучение галилейской культуры?[281] А не допустил ли Кроссан ошибку, поверив в существование особого социального конструкта – «средиземноморского крестьянина»?[282] Мы никогда не слышали такого термина от археологов, работающих в Галилее[283]. Не совершил ли он просчет, когда привлек для изучения Галилеи реалии другого региона? Не отошел ли от индуктивного метода и сбора археологических данных, связанных с I столетием нашей эры, к методу дедуктивному, а от антропологических исследований – через экзегезу Нового Завета – к синтезу, который позволяет ему изобразить Иисуса «средиземноморским крестьянином»? И как вообще кто-то может говорить о такой концепции, как «средиземноморский крестьянин», если учесть, сколь разными были культуры Средиземноморья от Испании до Карфагена и от Карфагена до Антиохии – не говоря уже о сложных культурах Рима, Коринфа, Патмоса, Пергама и Тира?
Теперь, упомянув о смешении римской и еврейской культур в галилейских городах и деревнях, которые непременно необходимо рассматривать как часть культуры Средиземноморья, мы должны признать, что в I столетии нашей эры почти полностью отсутствуют фермы. Деревни есть – а ферм нет[284]. Конечно, в деревнях жили землепашцы, и они возделывали землю на холмах и в долинах Нижней Галилеи. Находки в Йодфате, единственном галилейском городе I столетия, найденном в ходе раскопок, показывают, что землепашцы обрабатывали землю, выращивали пшеницу, ячмень, чечевицу, нут, оливки, инжир и другие фрукты и овощи, разводили овец, коз и коров. В полях они выкапывали цистерны, чтобы орошать посевы. Они удаляли с полей камни и строили террасы (эта традиция и до сегодняшнего дня заметна в Назарете)[285]. Их городские дома были простыми, но не бедными. Многие галилеяне занимались земледелием, большинство владело своими участками, а некоторые могли читать части Торы. Сейчас нам понятно и то, что евреи в Нижней Галилее развили отрасли промышленности: они ткали и производили масло, причем в количествах, превышающих потребности местной деревни или города.
Поэтому следует прекратить разговоры о галилейских крестьянах – и, следовательно, Иисуса не следует так изображать. Он был плотником, согласно Евангелию от Марка (Мк 6:3). Может быть, он даже никогда не брался за плуг, работая на ферме. И, несомненно, он знал грамоту, более того, он не был рабом и никто не заставлял его трудиться на полях, – а именно этого требует, или по крайней мере подразумевает, само слово крестьянин. Евангелисты сообщают, что толпы приходили в восторг от высокого уровня знаний Иисуса (его мудрости), от его ораторского искусства и просто от общения с ним.
Иудея и Галилея: особенности региона. Бандиты, Иоанн Гискальский и Иосиф Флавий
В конце XIX века историки, часто подпадая под влияние романтизма, утверждали, что жизнь Иисуса следует разделять на галилейскую весну и иерусалимскую зиму – вот только Иисус умер весной, а его жизнь была достаточно долгой. Противопоставлять топографию Нижней Галилеи и Иудеи неразумно, хотя в первой преобладает зелень, а во второй – засушливые земли. Безусловно, в топографии и культуре Иудеи и Нижней Галилеи есть различия, но в этих различиях – свои нюансы. Не следует принимать за чистую монету уверения жителей Иерусалима о том, что галилеяне совершенно некультурны. Некоторые в Святом Городе смотрели свысока на любого чужака (ср.: Мк 14:66–71), но пусть даже мы и знаем о такой оценке жителей Галилеи, это не дает нам права согласиться с ней.
Итак, мы подошли к девятому из наших вопросов: возникала ли напряженность в отношениях галилеян и иудеев? Безусловно. Ярчайший пример – соперничество Иоанна Гискальского и Иосифа Флавия, уроженца Иерусалима (а также конфликт между Иоанном Гискальским [галилеянином] и Шимоном Бар-Гиорой [иудеем]).
Гискала – одна из самых отдаленных северных еврейских деревень Палестины. Самого известного ее уроженца звали «Иоанном». Согласно Иосифу Флавию, он был человеком воинственным и необразованным. Этот разбойник мог войти в социологическую категорию «влиятельных людей». Он противостоял эллинистической культуре на северных окраинах и был крайне встревожен тем, что Иосифу Флавию, иудею, поручили возглавить кампанию на севере. Он даже пытался убить Иосифа, но не сумел. Позже он добрался и до Иерусалима, где враждовал с Шимоном Бар-Гиорой – иудеем, как и Иосиф – еще сильнее, чем с римлянами. Каждый из них сжег продовольственный склад врага, – и тем самым они обрекли евреев на голод, убивший многих еще до того, как римляне в сентябре 70 г. взяли город и сожгли Храм.
Археологические находки в Йодфате и Гамле, связанные с I столетием, ясно указывают на то, что многие религиозные элементы, опознаваемые в материальной культуре, тесно связывают Иудею и Галилею в культурном отношении. Миквы и каменная утварь, а также структура синагог – там, где ее возможно опознать – соединяют (как мы уже отмечали) галилейскую культуру с Иудеей. Более того, изображения на большом камне, найденном в синагоге в Магдале, напоминают о Храме. Еврейская культура Нижней Галилеи была связана с Иерусалимом прочными узами.
Еще интереснее то, что в Галилее явно использовали «иерусалимские масляные лампы». И пусть даже в Йодфате обнаружились четыре печи для обжига, в которых изготавливали самую разнообразную керамику, а в Галилее, как нам известно, производили по меньшей мере один вид масляных ламп, мы также видим, что восемь из каждых десяти масляных ламп, найденных в Йодфате и Гамле, а то и больше, были изготовлены в Иерусалиме. Почему же они появились в Нижней Галилее? Пока что на этот вопрос нет вразумительного ответа.
Культурная связь между Нижней Галилеей и Иудеей проявлялась очень ярко; единственным серьезным отличием между этими областями до 70 г. была традиция вторичного погребения в оссуариях. Эта практика, судя по всему, присутствует до 70 г. лишь в Иудее. В Галилее она появляется лишь во II столетии н. э., и ее развитие связано с переселением евреев из Иудеи в Нижнюю Галилею; оно шло двумя волнами, после 70 г. и после 132 г.[286].
Была ли Галилея маргинальной?
Наш десятый вопрос: насколько еврейской была Галилея I в. н. э., и следует ли называть Иисуса «маргинальным иудеем»? Ответ становится очевидным при изучении текстов и археологических свидетельств. Нееврейская культура была нехарактерна для Нижней Галилеи и не играла в ней определяющей роли. Культура Галилеи была еврейской, и мы уже отмечали ее тесные связи с иудаизмом Иудеи. По крайней мере в десяти городах Галилеи мы находим миквы, созданные до 67 г.
Хасмонейские монеты найдены в более чем сотне галилейских селений. Каменная утварь, связанная с законами ритуальной чистоты – примерно в тридцати.
Иисус не был маргинальным иудеем. Он был иудеем до глубины души, он не облекал свое учение в греко-римские термины и концепции, и более того, он видел свою миссию в проповеди, обращенной исключительно к иудеям, и наставлял своих учеников не ходить «на пути язычников» (Мф 10:5). Джон Мейер написал пятитомный труд, посвященный историческому Иисусу, и, к сожалению, его работа названа «Маргинальный иудей». Вот что он пишет: «Иисус был иудеем-маргиналом, возглавлявшим движение маргиналов в окраинной провинции огромной Римской империи»[287]. Безусловно, кто-то высоко оценит это описание, но из-за него у некоторых читателей, к несчастью, может возникнуть ошибочное представление о том, что Иисус был иудеем не по сути, а лишь в самой малой степени.
Еврейская культура в Нижней Галилее свидетельствует о том, что Иисус не был «маргинальным иудеем». А те, кто так утверждает, тем самым предполагают, что его учение не имело отношения к фарисеям, и оказывают доверие спорному конструкту: нормативной и доминирующей форме иудаизма, известной нам благодаря раввинистической литературе. Раскопки еврейских деревень в Нижней Галилее, где Иисус жил и учил, должны опровергнуть эту извечную ошибку – пренебрежение тем фактом, что Иисус был иудеем в полной мере. Он был ревностным приверженцем иудейской религии, он соблюдал ее нормы, последнюю неделю жизни он провел в Иерусалиме, отмечая Песах согласно требованиям Торы. Поколения исследователей воспитывались в рамках традиции, основанной на представлениях о маргинальности Иисуса. Некоторые, игнорируя еврейскую суть Нижней Галилеи, особо подчеркивали, что Иисуса следует устранить из числа основателей новозаветной теологии (так, например, считал Р. Бультман). А ближе к концу XIX века другие исследователи (безусловно, настроенные против евреев или всех семитских народов) даже утверждали, что Иисус и вовсе не был евреем.
Нерешенные вопросы
В заключении мы уделим внимание четырем важным проблемам, о которых археологи ведут жаркие споры[288]. Прежде всего: где находилась Вифсаида?[289] Так названы два места. Одно – прославленная Вифсаида, найденная при раскопках командой археологов, которую возглавляли Рами Арав и Ричард Фройнд. Да, возможно, это Вифсаида – но можно ли сказать, что это Вифсаида Юлия? В Вифсаиде Арава и Фройнда раскопаны поразительные стены железного века и некоторые артефакты I в. Очень возможно, что она когда-то находилась у залива к северу от Кинерета, и ее занесло илом уже после времен Иисуса.
Многие археологи не убеждены в том, что Вифсаида, которую открыли Арав и Фройнд, – это Вифсаида Юлия. Нет убедительных свидетельств того, что в ней находился дворец знаменитого тетрарха Ирода Филиппа II. И чем подтвердить, что он расширил «деревню» и превратил ее в «город»? Иосиф Флавий указывает, что Филипп был похоронен тут в 33 или 34 г. н. э. (И. Д. XVIII, 4.6), но где же его могила? Впрочем, возражение не вполне убедительное, ведь на поиски могилы Ирода в Иродионе ушло несколько десятилетий.
Удивляет, что в предполагаемой столице Филиппа найдены лишь две монеты с его изображением. Археологи ищут город не к северу от Кинерета, а на его берегах, и если бы столицу там обнаружили, это доказало бы неправоту Арава и Фройнда. Но ее не нашли. Возможно ли, что Вифсаида Юлия и правда найдена?
Мы предлагаем возможный сценарий. Все, что нашли по сей день – это несколько больших бытовых и простых построек, но зданий, характерных для полиса, или города, раскопать не удалось. Пока что нет лучшего варианта для Вифсаиды, чем город, который предлагают так именовать Арав и Фройнд. Возможно, им удалось обнаружить на вершине телля «старую деревню» Вифсаиды. А Вифсаида Юлия могла лежать южнее, ниже по склону холма, и тогда дворец Филиппа еще предстоит открыть. Тогда все будет так же, как в Сепфорисе: там более ранний город, вероятно, располагался на вершине холма, а его расширение при Антипе – ниже и южнее.
Вторая проблема: где находилась Кана, о которой упоминает четвертый евангелист? (Ин 2:1–12). Две наиболее вероятные возможности – это Кафр-Кана и Хирбет-Кана. Первая располагалась рядом с Назаретом, на дороге, по которой паломники шли из Сепфориса в Тивериаду; к слову, поэтому в Кафр-Кане построили церковь, а в Хирбет-Кане – нет. Легко представить, почему византийские паломники предпочли опознать Кафр-Кану как место, где Иисус совершил чудо, описанное в Евангелии от Иоанна: они знали о ней, поскольку проходили мимо, когда шли из Назарета в Тивериаду.
Во время археологических раскопок в Кафр-Кане, проведенных под руководством Ярдены Александер, были найдены руины домов, и некоторые из них относятся к I в. н. э.
Нельзя утверждать, что в Кафр-Кане постоянно жили люди с эпохи неолита и до византийского периода. Находки времен неолита обнаружены лишь у ручья с одноименным названием. Железный век представлен в Карм эр-Расе, в пятистах метрах к северо-западу от центра Кафр-Каны. Как полагают археологи, ведущие там раскопки, это и есть «настоящая» Кафр-Кана, или Кана Четвертого Евангелия.
Во время раскопок в Хирбет-Кане, которые с 1998 г. вела группа Дугласа Эдвардса (ныне покойного), были собраны данные, убедившие археологов в том, что перед ними древняя Кана. Тех, кто приходил в Хирбет-Кану во времена Византии и крестоносцев, в этом не требовалось и убеждать. Археологи, помимо прочего, нашли десяток с лишним микв и множество каменных сосудов, а кроме того – два тайных укрытия, одно из которых точно датировано I столетием нашей эры. Возможно, эти убежища – немые свидетели угрозы, исходящей от римлян, жестоко убивавших местное население[290].
В конце XIX века были найдены руины синагоги ранневизантийского периода (вероятнее всего, IV–V вв.). Недавно нам сообщили, что штукатурка в ней датируется 50–150 гг. н. э.[291].
Итак, в Хирбет-Кане сделаны открытия, важные для «Исследования Иисуса». Среди них: резная и точеная каменная керамика; по меньшей мере один колумбарий для голубей; осколки стекла; монеты эллинистической и римской эпох; ряд из двенадцати или тринадцати неукрашенных захоронений без надписей (типичное еврейское захоронение, всего примерно 80 ниш), синагога, или бейт-мидраш, датируемая I в. (а, возможно, и чуть более ранним периодом, если доверять датировке штукатурки)[292] и большая красильня (впрочем, нет свидетельств керамического производства, главной отрасли промышленности в Йодфате, расположенном поблизости). При раскопках не нашли никаких признаков стен, никаких наконечников стрел и никаких свидетельств разрушения города в ходе Первой иудейской войны.
В Хирбет-Кане люди жили с железного века и до исламского периода. Она стоит над одной из самых плодородных равнин Галилеи. Что же мешает ей стать главным претендентом на роль евангельской Каны? Иисус мог дойти до Кафр-Каны где-то за час, а до Хирбет-Каны ему пришлось бы идти целый день. Конечно, мы знаем, что Иисус мог ехать на осле. А в древности люди не так сильно волновались о потере времени, как мы сегодня.
Точно ли мы опознали древнюю Кану? Уверенности нет. И Кафр-Кана, и Хирбет-Кана – еврейские деревни I в.; в обеих найдены каменные сосуды и миквы. Возможно, будущие раскопки помогут склонить чашу весов в пользу Хирбет-Каны.
Третья проблема: были ли в Галилее I века фарисеи? В этом вопросе мнения Чарлзворта и Авиама, возможно, расходятся, но лишь слегка.
Чарлзворт убежден, что фарисеи, наравне с представителями других еврейских групп, могли присутствовать в Галилее, хотя, конечно не обладали в ней такой господствующей ролью, как в Иудее. Савл, фарисей, родился за пределами Палестины. Филон упоминает о ессеях и подобных группах или сектах в Египте. Есть свидетельства о самаритянах, живших вне Святой Земли. Евангелисты повествуют о том, что книжники и фарисеи были посланы из Иерусалима в Галилею, чтобы устроить Иисусу экзамен. (Это не следует принимать как доказательство того, будто в Галилее до 70 г. не было местных фарисеев). Еще в текстах говорится о том, что Иисус делил с фарисеями трапезу и общался с ними, а они советовали ему остерегаться Антипы. Не следует думать, будто все эти события происходили в одной лишь Иудее. А кроме того, ясно, что проповедь Иисуса во многом напоминала учение фарисеев[293]. И зачем же тогда хоть кому-то из историков ограничивать деятельность еврейских групп или сект рамками Иудеи и Иерусалима?
В арсенале археологов нет метода, позволяющего определить, что миква или каменный сосуд принадлежит фарисею. Но они доказали, что в культурном отношении миквы, каменные сосуды и еврейские монеты связывают Нижнюю Галилею с Иудеей – но не с Верхней Галилеей. Таким образом, фарисеи могли жить в Галилее, однако до 70 г. они не играли главной роли в галилейской культуре.
Иосиф Флавий и Филон упоминают, что в Палестине проживало четыре тысячи ессеев, большинство – не в Кумране: там хватало места лишь для полутора сотен человек. Оба автора отмечают, что ессеи жили рядом с деревнями и городами или на их окраинах по всей Израильской земле, – а значит, и в Галилее. Скорее всего, евреи, создавшие за четыре века Книги Еноха (особенно Первую книгу Еноха), жили в Галилее и, вероятно, были связаны с ессеями[294].
Принимая все это во внимание, следует рассмотреть и другую точку зрения, которая кажется Авиаму более вероятной. Сектантские течения в иудаизме определялись властью Храма и развивались в связи с ним. Поэтому такие группы, как саддукеи, фарисеи и даже ессеи, появились изначально в Иерусалиме, там и была сосредоточена их деятельность.
Для других групп прежде всего характерно оппозиционное отношение к Иерусалимскому Храму. Самаритяне возвели свой храм на горе Гаризим и проводили в нем богослужения, но потерпели поражение в войне, и их храм был сожжен Иоанном Гирканом в конце II века до н. э. Даже группы, создавшие Книги Еноха, – они существовали примерно с 300 г. до н. э. до I в. н. э. и, возможно, в Галилее, – противились возвеличиванию Моисея и Торы и совершению богослужений в Иерусалиме (сравните Книгу Юбилеев). Зелоты не могли появиться ранее 66 г. н. э., потому они не рассматриваются при воссоздании культуры и жизни религиозных сект времен Иисуса. Когда разговор заходит о сектантском иудаизме, всегда необходимо принимать во внимание Храм и Иерусалим. Чарлзворт согласен с этими догадками, но предпочитает не ограничивать еврейские группы Иудеей и помещает их также и в Нижнюю Галилею.
Необходимость определить географию распространения фарисейского движения приводит к обсуждению вопроса о миквах и каменной утвари. Под землей нашлись сотни микв[295]. Эяль Регев предполагает, что разделение ступеней микв связывает их с фарисеями[296]. Этот довод кажется неубедительным: подобные миквы найдены и в Кумране. Нет таких архитектурных особенностей, которые позволили бы связать конструкцию микв с какой-либо конкретной сектой. Группам фарисеев было свойственно разнообразие, а потому можно допустить, что у них было два типа микв. Кроме того, фарисей предпочел бы иметь отдельную микву для себя, а другую для жены; такие миквы могли слегка отличаться.
Каменные сосуды одинаковы по всей Нижней Галилее и Иудее. Схожесть черт, характерных для всех микв и каменной утвари – весомый аргумент в пользу идеи существования единой религиозной культуры иудаизма, характерной и для сект, и для групп, и для жителей различных регионов.
Четвертая проблема: какие еще предстоит обнаружить свидетельства, необходимые для воссоздания образа Галилеи I века? Мы ограничены объемом, а кроме того, обещали археологам не разглашать, что уже найдено в ходе раскопок, и можем сделать лишь несколько комментариев, сказав, что за последнее время обнаружилось несколько волнительных, а может, и многообещающих находок. Богато украшенный фресками дом в Йодфате, который еще предстоит тщательно изучить, мы уже упоминали.
Еще одна важная и существенная задача – опознать и раскопать в Галилее какую-либо иную синагогу, однозначно построенную до 70 г. Это помогло бы установить, насколько синагога в Магдале типична для галилейских синагог того времени – и в чем именно выражается это сходство. Гамла, согласно Иосифу Флавию, расположена в Галилее – но она, безусловно, находится на Голанских высотах, и потому считать синагогу в Гамле образцом галилейских синагог, скорее всего, неправильно. Вероятно, еще удастся провести раскопки синагоги недалеко от арабской деревни Кабул. Об этом месте упоминает Иосиф Флавий, описывая кампанию Гая Цестия Галла. В те дни здесь уже стояла деревня, и Цестий Галл сжег ее за год до того, как началось вторжение 67 г. Иосиф Флавий очень сожалеет об этом: дома в деревне были великолепными, он сравнивает их с домами Тира и Берита.
Мы побывали там, изучили останки впечатляющего здания и основание колонны, почти разрушенной от эрозии. Что здесь находилось? Возможно ли, что это руины синагоги I века? Вокруг, прямо на поверхности, были найдены фрагменты керамики эллинистической и раннеримской эпох.
Римскую баню в Капернауме, особенно в области, принадлежащей францисканцам, необходимо тщательно изучить, применив точнейшие научные методы. А если удастся получить должное финансирование, тогда еще предстоит исследовать римскую дорогу, ведущую на север через Магдалу, и северную часть самой Магдалы.
Заключение
В наши дни специалисты в «Исследовании Иисуса» признают, сколь важны археология и топография в воссоздании жизни и учения Иисуса из Назарета[297]. Поскольку новозаветные Евангелия сочинялись во имя обращения многих «к благой вести», неверно полагать, будто провозглашения не могут содержать достоверных исторических прозрений[298]. Так, например, по традиции считали, что Евангелие от Иоанна представляет собой в высшей степени развитую христологию и в нем нет ни упоминаний об исторических событиях, ни надежных исторических сведений. Сейчас, благодаря археологическим находкам, сделанным по большей части нехристианами, установлено, что Евангелие от Иоанна – во многом надежный источник, позволяющий понять и воссоздать картину иудаизма, а также архитектуру и топографию Иерусалима до 70 г. н. э.[299].
Для многих новизна поэтического языка Иисуса сегодня утрачена. Даже нечто гениальное становится привычным, если повторять его слишком часто. Но в тиши древних руин, безмятежных со времен Иисуса, перед нами сам собой предстает образ иудея, любившего бродить по холмам и долинам, обретая вдохновение в земле и культуре своего народа. Мы часто сидели на руинах в Нижней Галилее, вслушиваясь в те же самые звуки, какие слышали Иисус и Иосиф Флавий: тихий шум природы. Это спокойствие звало задуматься о чарующем прошлом, об ушедших временах. Мы становились сопричастниками древних идей, чей облик обретал форму под влиянием величественного и чудного пейзажа Галилеи, и представляли себе тех, кто пытался найти верный путь прежде. Галилея хранит древнее – но и дает рождение новому. Теперь, получив и возможность изучать манускрипты, которыми владели современники Иосифа Флавия и Иисуса, и доступ к свидетельствам повседневной жизни в Нижней Галилее (и других местах древней Палестины), особенно к реалиям и архитектуре, мы можем яснее и подробнее воссоздать жизнь евреев в Нижней Галилее до 70 года. И этот очерк – это приглашение «не оставлять той сферы смысла», в которой рождались и обретали облик идеи таких гениев, как Иосиф Флавий и Иисус.
Иисус в культуре его мира: о «закоулках» современных исследований
Шон Фрейн
Мне кажется, сейчас мы находимся на очень любопытной стадии исследований исторического Иисуса. Желание привлечь к нашим усилиям внимание широкой публики и совершить открытие ради дешевой рекламы – это сильные искушения, и они могут подорвать доверие к нашим дисциплинам, но все же никогда еще исследователи Иисуса не обладали столь обширной информацией, как сейчас. И главный вопрос в том, готов ли каждый из тех, кто занят в этой сфере, рассмотреть свои наивысшие достижения в свете той же самой «герменевтики подозрения», которую он столь успешно применяет к исследованиям других. И поскольку тем, кто живет в стеклянных домах, не следует разбрасываться камнями, мой личный вклад основан на том, как эти проблемы решал я сам – это мысли о выборе, который я совершил, и о том, почему я счел необходимым изменить свое мнение. Свои соображения я разместил в двух рубриках: в первой мы поговорим о связи с археологическими свидетельствами, а во второй – о том, как используются письменные источники.
Археологические свидетельства
Вряд ли возможно сомневаться в том, что привлечение археологических исследований, связанных с Галилеей эллинистического и римского периодов, внесло новый аспект в споры об историческом Иисусе. Впрочем, выводы весьма разнообразны, а способы реконструкции Галилеи как отдельного региона порождают немало вопросов. И как же нам соединить все то, что мы узнали из недавних археологических публикаций о Галилее, с письменными источниками – и понять то ближайшее окружение, в котором вершил свою миссию Иисус?[300]
Безусловно, хорошо бы начать с того, что изначально мы не станем говорить о самом Иисусе, – особенно если учесть те прекрасно задокументированные личные пристрастия, которые, словно клеймо, так и остаются на всех, кто решает предпринять такую попытку. Пусть археология сама расскажет нам о разнообразии региона: она уже успела сбросить оковы, делавшие ее «служанкой библеистики», и разработала свои собственные методы, цели и задачи, зачастую – в диалоге с социальными науками. В связи с этим следует помнить, что интерес к Галилее, с точки зрения археологии, не ограничивается обсуждением исторического Иисуса. Самую недавнюю главу в исследовании археологии Галилеи написали Эрик Мейерс и другие ученые, проявляющие интерес к изучению древних галилейских синагог позднеримского периода и византийской эпохи; этот акцент на более поздних веках находит свое отражение в ряде современных исследований[301]. Впрочем, все еще слишком велик риск того, что исследователи исторического Иисуса уделят внимание лишь тем свидетельствам, которые соответствуют нашим изначальным предположениям или требованиям, предъявляемым в свете того или иного представления об Иисусе. А кроме того, при этом часто пренебрегают датировкой, забывая о том, что точно датировать археологический материал гораздо труднее, чем того желали бы историки. Так, термины «ранний», «средний» и «поздний» применительно к римскому периоду, возможно, и отражают максимально точную оценку, какую может дать археолог, говоря о времени возведения той или иной постройки, но все же эти эпохи охватывают столетия, а это не очень помогает, когда нам нужны точные сведения о первых десятилетиях I в. н. э.
Возьмем для примера Сепфорис. Не слишком ли быстро мы ухватились за перевод Иосифа Флавия, в котором город времен Антипы описан как «красивейший город всей галилейской страны» (πρόσχηµα τοῦ Γαλιλαίου παντὸς, И. Д. XVIII, 2.1), связав это описание с потрясающими находками, сделанными на раскопках? Большую часть этих находок следует отнести к позднему периоду агрессивной урбанизации Востока, проводимой римлянами после 70 г. и после 135 г., когда город сменил имя и стал называться Диокесарией. Такие находки, как мозаика Диониса; дома Нила и Орфея; сложные системы для хранения воды; кардо – мощеная улица, идущая с севера на юг, и даже театр сейчас достоверно датируются II–IV вв.[302]. И если мы объединим свидетельства из разных периодов, тогда, конечно, Сепфорис I века воссияет, словно яркий символ мощи римского имперского присутствия на родине Иисуса. Постколониальной теории нужны очевидные свидетельства насаждения монументальной архитектуры – иначе как должным образом объяснить сопротивление местного населения? На самом же деле материальные свидетельства, которые с уверенностью можно отнести к началу I в., указывают на то, что в то время Сепфорис представлял собой гораздо более скромное поселение. К удивлению исследователей, не удалось найти никаких свидетельств разрушения города, которое, по словам Иосифа Флавия, в 4 году до н. э. устроил Вар (И. Д. XVII, 10.9), ни стен, возведенных Антипой (И. Д. XVIII, 2.1). Возможно, это связано с тем, что западную часть верхнего города, где располагалась арабская деревня, в 1948 г. разровняли бульдозерами. Однако это ставит перед историком дилемму: какое описание Сепфориса более соответствует реалиям I века и на каком основании делается подобный вывод, если учесть, что текст и лопата в данном случае свидетельствуют о разном? Какие следы романизации, если таковые вообще имеются, могут относиться к первым десятилетиям нашей эры? И как решение повлияет на образ Иисуса – и на представления о том, почему он, возможно, избегал этого города?[303]
Это не значит, что мы должны отказываться от диалога с археологией. Но требуется более сложный подход, учитывающий и нюансы, и понимание различных археологических тенденций, методов и предпосылок. Кроме того, здесь необходима «герменевтика подозрения», особенно тогда, когда археологи позволяют себе всеобъемлющие интерпретации, разработанные под влиянием общественных наук[304]. Они связаны с макросистемами, которых в регионе, возможно, никогда и не было. Но как быть с реальными взаимодействиями на микроуровне, проявленными в семейной жизни или родовой структуре повседневной жизни обычных людей? Если мы хотим как можно точнее представить то, в каком окружении проходила галилейская миссия Иисуса, мы должны прежде всего яснее различить особые типы поселений, которые обычно широко описываются как города, поселки и деревни. Как отличалась жизнь в поселениях разного рода? И какие факторы играли ведущую роль при определении их этоса, иными словами – привычек, нравов, характера, обычаев? Экономические – скажем, натуральное или рыночное хозяйство, или хозяйство смешанного типа? Социальные – наличие элит, слуг, родовых групп, или «иных» формирований? Или культурно-религиозные – монокультурный или смешанный тип?[305] Когда я последний раз был в Галилее, на Голанских высотах, я снова вспомнил о том, как близко друг к другу находились Гамла и Гиппос (Сусита) – но как сильно отличались их этосы! Андреа Берлин, исследовав керамику из Гамлы, ставит интереснейший вопрос о том, как менялись в городе образцы коммунальных социальных отношений, однако следует дождаться результатов исследования в Гиппосе, прежде чем проводить окончательное сравнение[306]. Примерно так же все обстоит и с изучением крупных центров, скажем, таких как Иотапата и Хирбет-Кана – и, с другой стороны, Сепфорис. Иосиф Флавий упрекает Сепфорис за нейтралитет в дни восстания 66 г. н. э. и отмечает, что город, «окруженный многочисленными селениями», мог оказать помощь восставшим, если бы хотел (Жизнь 346). Какова была связь между этими деревнями и центром? Подразумевает ли Иосиф Флавий, что город мог ожидаемо получать от деревень ресурсы и рассчитывать на помощь, если ему требовалась защита? И если это так, то касалось ли это всех деревень Нижней Галилеи – или только тех, что располагались в непосредственной близости от центра? И было ли так всегда – или лишь в период кризиса? Какое место в иерархии галилейских персоналий и поселений предстояло занять жителям Иотапаты и Каны?[307] И что можно сказать о еще менее значимых местах, упомянутых вскользь – Гарисе, Асохисе и Назарете?
Еще один аспект обращения к археологии в изучении исторического Иисуса – это ряд широко распространенных обобщений. Как нам не устают повторять, в Галилее жили прежде всего крестьяне. Тем не менее, как верно отмечает Фрэнсис Джеральд Даунинг, эта картина «стандартизирована, монохромна, а прояснять ее призваны антропологические исследования существующих крестьянских сообществ, проводимые исследователями [мужчинами] с XIX столетия до середины XX в.»[308]. Другие стереотипы – «языческая Галилея»; Галилея, не знающая Торы; Галилея зелотов – почерпнуты прямо из древних источников, и никто не пытается допустить даже мысли о предубежденности этих источников или проверить их на соответствие конкретным историческим реалиям. Сам Даунинг утверждает, что сперва нам нужно понять, каким образом так называемые галилейские крестьяне были связаны со своим непосредственным окружением. Вслед за работой Пьера Бурдьё, посвященной крестьянам-берберам в доколониальном Алжире, Даунинг, говорит, что для крестьян характерен габитус, иными словами, «диапазон выбора действий, “контролируемая импровизация”, с которой развиваются люди одной национальности в сообществах». Это подразумевает, что в самой сути крестьянина скрыта гибкость, и многое зависит от того, каким образом отдельные люди адаптируются к воспринятым образцам поведения, принятым в каком-либо регионе. Согласно Бурдьё, для бербера-крестьянина прежде всего характерна сильная привязанность к земле: «Труд был общественной функцией, обязанностью любого, кого заботил его облик в собственных глазах и в глазах сообщества, и это не имело отношения ни к доходам, ни к выручке – в противоположность капиталистической экономике, для которой цель труда – получать деньги и подчиняться логике прибыли и дохода»[309].
Даунинг не предлагает применять данную модель к галилейскому крестьянину, хотя и ясно показывает, что это возможно. Напротив, по его мнению, даже если мы можем показать, что галилейские крестьяне не разделяли подобной привязанности к земле, было бы по-прежнему важно рассмотреть,
как их отношение к труду и производству могло влиять на их представления о других аспектах жизни. Он не развивает эту догадку, но, возможно, благодаря вере в то, что эта земля была обетованием Яхве, данным в залог избранности Израиля, привязанность евреев к земле могла играть очень важную роль в отношении к ней галилейских крестьян, а выражалось это – конечно, при условии, что многие из них были евреями (впрочем, это кажется вероятным), – в том, что многие из них были иудеями и обращались с урожаем согласно законам, которые ассоциировались с Иерусалимским Храмом[310]. В действительности эти же законы были чувствительны к климатическим и сезонным особенностям различных микрорегионов в Галилее и других местах, с учетом разделения между Верхней и Нижней Галилеей и долиной (м. Шеб 9:2). Ландшафтная археология позволяет резко разделить типичные виды труда для различных областей. Где-то видны следы производства оливкового масла, где-то – вина, некоторые регионы славились добычей рыбы, были также обнаружены следы террасирования горных склонов – знаки суровой борьбы за существование, которую, должно быть, вели в древности многие жители Галилеи[311].
Так почему же мы должны ограничить мир Иисуса одной лишь Галилеей? Может, это просто итог мнимого противопоставления Галилеи и Иерусалима, «навязанного» многими толкователями евангельских свидетельств? Ранние исследователи, такие как Фридрих Шлейермахер, полагались на Евангелие от Иоанна, но эту зависимость подверг критике и видоизменил Давид Фридрих Штраус в труде «Das Leben Jesu kritisch bearbeitet» («Жизнь Иисуса, критически переработанная», 1835). В последующие несколько десятилетий данная критика привела к полному отвержению – и полагаться стали на тексты синоптиков, в особенности на Евангелие от Марка. Недавно в Обществе библейской литературы учредили отдел, который уже опубликовал два тома о проблеме исторического Иисуса и Четвертого Евангелия. Но все же до сих пор не вполне сформировался подход, позволяющий применить этот документ при исторической реконструкции, – он разве что помогает воссоздать общину Иоанна[312]. Все становится еще сложнее, если учесть, что в этой работе представлены удивительно точные сведения об Иерусалиме и, в меньшей степени, о топографии Иудеи, а главное внимание в ней уделено тому, как проходила миссия Иисуса именно в Иудее, а не в Галилее[313]. Кроме того, весьма впечатляют последние достижения в области археологии Иерусалима. Особую важность для любой дискуссии об Иисусе в Святом Городе представляет «Дом священника», найденный в еврейском квартале[314], а также дальнейшее изучение Овчей купели и обнаружение Силоамской купели в Кедронской долине; обе опознаны как миквы[315]. Кроме того, в недавно опубликованном отчете, посвященный уделу Вениамина, приведены сведения о раскопках фермерского комплекса (Каландия) и деревни (Кирьят-Сефер), датируемых поздним эллинистическим периодом; они позволяют лучше понять особенности сельской жизни в Иудее[316]. Все это может послужить важной точкой отсчета для сравнения галилейских поселений сходного размера – если они расположены в областях, где для той же эпохи постулируется стойкая верность иудейским религиозным обычаям.
Подобное отсутствие внимания к археологическим находкам в иных регионах помимо Галилеи (понимаемой в узком смысле) распространяется и на более обширную Галилею, о которой свидетельствуют тексты, подпадающие под широкое описание «литературы о восстановлении земель» (Чис 34:7–9, Нав 13:7–9, 3 Цар 8:65, 1 Пар 13:5, Иез 47:15, Ам 6:2). Например, странствия Иисуса, описанные Марком, как кажется, отражают именно этот «широкий вариант»: границы Тира, деревни Кесарии Филипповой, сердце Декаполиса – ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας («вся окрестность Галилеи», Мк 1:28), как описывает ее Марк. Я еще вернусь к этому вопросу, но, безусловно, необходимо рассматривать Галилею в ее более широком естественном окружении, которым является южный Левант, – и только потом делать выводы о культурной и религиозной принадлежности данного региона, хотя бы просто для того, чтобы провести сравнение между традиционно еврейскими территориями и «внешним кругом». Правда, нынешние политические разногласия в регионе делают сотрудничество крайне затруднительным, но это не должно мешать нашему знанию о том, какие возможности может предложить эта более широкая перспектива. Исторически периферия Финикии и Сирии существенно влияла на облик внутренних районов той области, которую мы называем Галилеей. И нам по меньшей мере следует обратить внимание на те аспекты в истории Иисуса, которые отражают подобный взаимный обмен, сколь бы хрупким он ни казался в ту или иную эпоху: для евреев он полон символического смысла[317].
Литературные источники
Если предположить, что мы слишком избирательны, что фокус нашего внимания неимоверно узок и что мы часто некритичны при обращении к археологическим свидетельствам в исследованиях исторического Иисуса, непременно возникнут вопросы о том, как мы используем литературные источники.
Я уже упоминал и об игнорировании Четвертого Евангелия, и о том, что оно могло бы нам предложить. Конечно, в наш век консервативных религиозных взглядов нет недостатка в тех, кто желал бы приписать образу Иисуса и его изречениям в описании Иоанна абсолютную историчность. В качестве примера приведем попытку Йозефа Ратцингера (папы Бенедикта XVI), который в книге «Иисус из Назарета» пытается обратиться к кризису веры, в своем представлении, порожденному чрезмерно скептическим подходом исследователей исторического Иисуса. Понятно, что эта книга не является «историческим» исследованием в привычном смысле этого слова, а скорее представляет собой богословское сочинение, основанное на идее, согласно которой Иисус в полной мере знал о своей мессианской роли с самого начала проповеди. Ясно, что при подобном подходе ключевым источником будет текст Иоанна, а не синоптиков. К слову, довольно забавно, что Ратцингер критикует Мартина Хенгеля, который слишком легко сбрасывает со счетов свидетельство Иоанна по причине крайне богословской направленности источника, притом что оба они, и Хенгель, и Ратцингер, одинаково смотрят на вопрос о том, знал ли Иисус о своей мессианской роли. С моей точки зрения, историческая «ценность» рассказа Иоанна исходит из того, что в нем, как всеми признано, утверждена человеческая природа Иисуса (Ин 1:14), и оттого теологические предположения укоренены в реальной и повседневной жизни евреев I века в Галилее, Иудее и Иерусалиме[318].
Стоит принять тот факт, что этот нарратив имеет в своей основе определенные исторические намерения, и становится возможным сформулировать ряд специфических исторических вопросов, которые он поднимает. Чем доказывается, что жители Галилеи принимали участие в иерусалимских праздниках? Чем могло обернуться путешествие в Иерусалим для галилейских крестьян, привязанных к земле и связанных сельскохозяйственными циклами? (Ин 7:1–9). Какова была природа взаимоотношений между жителями Галилеи и Самарии, особенно в свете археологических находок из обеих областей? (Ин 4:9). Каков был уровень соблюдения законов ритуальной чистоты в Галилее? (Ин 2:6). Почему иерусалимская элита относилась к выходцам из Галилеи с пренебрежением, и каков был статус изучения Торы в Галилее I века? (Ин 7:40–42). Как исторически связано движение Иисуса с группами Иоанна Крестителя в Иудее? (Ин 3:22–25). Я не предлагаю беспрекословно принимать текст Иоанна ни в этих случаях, ни в других, но мы будем несправедливы к доступным источникам, если отбросим эти свидетельства tout court[319], лишь потому, что знаем о христологическом и теологическом характере труда Иоанна.
Еще один наглядный пример – та слишком вольная легкость, с которой приверженцы критики форм отвергают взгляды синоптиков на передвижения Иисуса. Эти повествования расцениваются как более поздние, обобщенные произведения евангелистов – и считается, что никакой исторической ценности в них нет. Но если посмотреть на эту проблему даже в теории, то почему допустимо применять к «истории» Иисуса систему взглядов, которая восходит к современной научно-социологической перспективе, обремененной предположениями XIX–XX вв. о «примитивных» обществах – и при этом игнорировать непосредственную историческую связь евангелистов с реалиями, о которых они пишут? Следует спросить, что стоит за подобными решениями, особенно в свете современных воззрений на устную передачу евангельских преданий и авторские намерения синоптиков? Классики критики форм, те же Дибелиус и Бультман, видели в евангелистах всего лишь компиляторов устных традиций, созданных в сообществе, возникшем после Пасхи, – и тем самым заранее исключали возможность того, что в формировании Евангелий сыграла свою роль и память о событиях, бывших еще до Пасхи. Но поскольку авторы стремились создать нарратив об Иисусе, мы непременно должны предположить – хотя бы на совершенно ясном основании пролога в Евангелии от Луки, – что те, кто желал перевести «историю» Иисуса в письменную форму, сочли исследовательские методы хранителей традиции уместными и подходящими, даже если Марк и Матфей не столь четко указывают на цели и задачи своих сочинений, как это делает Лука[320].
Анализ риторики и композиции сочинений Иосифа Флавия ставит новые проблемы перед исследователями Нового Завета, которые, по обычаю, принимали его свидетельства о жизни в Галилее и Иудее за чистую монету. Сейчас уже не принято цитировать Флавия, когда это подходит нашим целям, без тщательного критического анализа общего намерения, скрытого в основе того или иного его сочинения. Важно понимать, какую роль та или иная история или какой-либо случай могли играть в различных сочинениях Иосифа, написанных в период с 70 по 90 г., когда он находился в Риме под покровительством Флавиев[321]. Это понимание станет новым препятствием в обращении к трудам Иосифа Флавия для исторической реконструкции, но мне кажется, что преодолеть эту преграду можно.
Для начала: вся история античного мира написана высокопарным языком, политизирована и подается под определенным углом. Однако признание этих аспектов текста не требует от нас, да и не должно требовать того, чтобы мы исключали другие ракурсы, в том числе и чисто исторический. Тексты – это многоуровневая реальность, и для осмысления этого, возможно, потребуется, выражаясь словами Поля Рикёра, «герменевтический окольный путь» – но нам незачем отказывать источнику в доказательной ценности, как это предлагают сделать некоторые недавние исследования. Конечно, доказательства нужно оценивать на основании вероятности, а не определенности, особенно когда доступны несколько источников, и они используются независимо.
Таким образом, «Иудейская война», «Иудейские древности» и синоптические Евангелия предлагают интересный материал для сравнения, связанный с тем, как отражена в них жизнь Галилеи. И заметны не только соответствия между этими довольно различными источниками в описании ландшафта, занятий и социальных связей городов и деревень, но и любопытные сходные моменты в рассказе о передвижениях ключевых фигур – самого Иосифа и Иисуса – и в том, как их воспринимали. В частности, интересно отметить, что в обоих источниках долина и прибрежная зона вокруг Кинерета описываются как центр событий. Обоих, и Иосифа, и Иисуса, проверяли иерусалимские книжники, на обоих нападали местные зелоты из-за мнимого обвинения в нарушении еврейского закона (Мк 3:22, 7:1; Жизнь 197–198; Мк 3:1–6; Жизнь 134–135). Безусловно, подобные совпадения заслуживают дальнейшего внимания со стороны историков, поскольку позволяют обнаружить устойчивые тенденции в галилейском образе жизни, способные отразить и тот социальный мир, в котором действовал Иисус, и его характерные реакции на этот мир[322].
Мне кажется, что при обсуждении спектра литературных источников, о которых можно и нужно говорить на дебатах, связанных с историческим Иисусом и его особым видением Израиля, исследователи Нового Завета довольно избирательны. С одной стороны, они готовы приписывать ранним христианским учителям и проповедникам и знакомство с широким корпусом литературы периода Второго Храма, и искусное владение навыками в толковании мидрашей с целью приложения этих текстов к Иисусу, – и в то же время игнорируют те способы, при помощи которых об Иисусе могли сообщить сами эти источники. Но почему они столь сильно желают отказать Иисусу в праве стать полноценной частью его же собственной традиции? Возможно, это связано с чрезмерным применением критерия несходства, который до недавнего времени обладал почти что каноническим статусом среди тех, кто исследовал Иисуса и его мир. А может быть, это связано с использованием социологических категорий, таких как «крестьянин», с его современными коннотациями: «невежественный» и «неграмотный». Можно еще спросить, почему особый акцент сделан на сектантских сочинениях, хотя они и правда важны как документальное свидетельство различных отношений к главным символам иудаизма той эпохи. Иисус сам, как кажется, не вел себя как сектант, и потому его следует рассматривать в рамках мейнстрима, или, как сказал Эд Сандерс, «общепринятого иудаизма»[323].
В таком случае у нас могла бы появиться своего рода еврейская «матрица», первооснова – более разнообразная, чем та, какая рассматривается обычно при попытке верно определить религиозное и социальное окружение мира Иисуса[324]. В последнее время многие склонны устранять из образа Иисуса черты пророка апокалипсиса и делать акцент на элементах Премудрости в его учении – но при этом у исследователей, которые так поступают, нет должного понимания тех способов, посредством которых эти два «чистых» жанра тесно переплетаются в литературе Второго Храма. Иногда становится интересным, читали ли вообще сторонники этой точки зрения Книгу пророка Даниила, где Премудрость и апокалиптический взгляд на мир вполне спокойно соседствуют и не считаются разобщенными жанрами. Это в той же степени справедливо для традиционных «учительных книг»: Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова, и Премудрости Соломона, в которых различные источники познания мира, от человеческих наблюдений до божественного откровения, могут входить в одну категорию Премудрости (Сир 39:1–12)[325].
Эти соображения затрагивают и дальнейшие вопросы о еврейском образовании и роли устной передачи традиции как в Галилее, так и в других местах. Недавние исследования, посвященные Пятикнижию и определяющие время его финальной редакции, а может, и создания, эпохой державы Ахеменидов, равно так же подходят для обсуждения того, каким было еврейское окружение в I веке. И почему же тогда этот свод не желают причислять к литературе периода Второго Храма, отражающей самые разные тенденции и различия той эпохи? Исследователи Нового Завета могут многое узнать о разнообразии иудаизма этого периода, если обратят более пристальное внимание на текущие споры о еврейском Священном Писании и о том, как шла канонизация в иудаизме. Если мы рассмотрим образ Иисуса в рамках этого общего интерпретативного окружения, то добавим к обсуждению новый аспект – и тогда Иисус сам ясно выразит и свое характерное/уникальное понимание Бога Израиля, и представление о собственном месте в более значительной картине мира.
О топографии, библейских традициях и крещении Иисуса
Джереми Хаттон
Введение
В 1994 году исследователь Еврейской Библии Питер Мэшинист опубликовал статью «Чужие или свои», в которой рассмотрел исторические истоки Израильского народа в свете коллективной исторической памяти израильтян[326]. В статье делался вывод – возможно, ожидаемый, учитывая сильное влияние мотива Исхода из Египта и завоевания Земли Обетованной на основной корпус еврейских текстов, – о том, что колена Израилевы осознавали себя группой чужаков в Ханаанской земле. Это, в свою очередь, позволяет утверждать, что решающим моментом в своем становлении как народа израильтяне полагали вхождение в Землю Обетованную через реку Иордан. Мой очерк призван возразить различным социально-экономическим теориям, которые на протяжении ХХ века подвергали сомнению достоверность и точность библейских повествований о завоевании Ханаана: это теория кочевого вторжения Альбрехта Альта[327], теория социального восстания Джорджа Менденхолла и Нормана Готвальда[328] и теория рурализации Лоуренса Стэгера[329], сравнимая с последней, но в меньшей степени связанная с материальными аспектами. Независимо от того, насколько объективны изображенные в этих теориях картины становления государства «Израиль» в южном Леванте, неизменен тот факт, что оно осознавало себя как единство, созданное из «чужаков», получивших землю во владение от своего Бога.
Не без трепета я, исследователь Ветхого Завета, участвую в коллоквиуме, посвященном историческому Иисусу. Но возможно, именно я, «чужак», смогу предложить несколько хороших догадок о библейских традициях, скрытых в основе символизма, которым воспользовался Иоанн Креститель, когда перенес место своего служения к востоку от Иерусалима, к реке Иордан; именно этот символизм стал фоном для новозаветного нарратива о крещении Иисуса и его последующей миссии. Далее станет ясно, что многие исследователи Нового Завета признавали особую важность крещения. Однако исследователи Ветхого Завета до недавних пор особо не показывали, будто им знакомы многочисленные отголоски многих традиций, изучаемых нами в своде новозаветных текстов[330]. Этот недостаток дает все основания и для дальнейших исследований топографии того места, где Иоанн крестил Иисуса, и для размышлений о символизме этого действия с точки зрения более древней ветхозаветной традиции.
Я не ставлю своей целью изложить рассказ о событиях, связанных с крещением Иисуса, претендующим на историчность, – можно даже сказать, что я остаюсь своего рода «чужаком» среди исследователей, чьи работы опубликованы в этой книге. Я хочу уделить внимание коллективной памяти израильского народа в эпоху римского владычества и рассмотреть то, как в этой памяти отразились разнообразные исторические и религиозные традиции, связанные с различными библейскими сюжетами о переходе Иордана. И поэтому, исходя из поставленных задач, я не буду заниматься реконструкцией исторических предположений, связанных с крещением в водах Иордана и переходом реки, – теми деяниями, которые, возможно, совершали и Иоанн, и Иисус. Хотя я не отвергаю возможность того, что Иоанн Креститель выбрал место служения в совершенно определенном месте и тем самым намеренно символически подчеркивал свою связь с библейской традицией, используя образы, взятые из нее, историческая достоверность каждого из этих утверждений неважна в контексте настоящей дискуссии. Меня гораздо сильнее интересуют литературные мотивы и библейская традиция, поскольку именно их использовали авторы Евангелий, создавая и изображая личности Иоанна и Иисуса как предтечи и Мессии. Если говорить еще более конкретно, я попытаюсь проанализировать характеристики двух этих персонажей, проявленные в синоптических Евангелиях (Мф 3:1, 5–6; Мк 1:4–5; Лк 3:3) и у Иоанна (напр.: Ин 1:28) благодаря тому, что место крещения авторы относят к реке Иордан в Иудейской пустыне.
Место крещения
Если мы хотим в полной мере понять, какие традиции лежали в основе крещения, мы должны сначала выяснить, где находилась та территория, которую создатели синоптических Евангелий осмыслили как место служения Иоанна. Давно известно, что место может передавать смысл как в вымышленных нарративах, так и в литературном воплощении исторических событий[331]. Поэтому, прежде чем обсуждать ветхозаветные традиции, которые легли в основу нарратива о крещении, повлияли на него и привели к его созданию, необходимо точнее определить место, где вершил свою миссию Иоанн. Райнер Ризнер недавно предоставил сильный довод в пользу того, что эта миссия, как о ней сообщает Евангелие от Иоанна, проходила в «Вифании Заиорданской» – и это указывает не на традиционное место крещения в южной части Иорданской долины, а скорее на другую область, Батанею[332].

Карта южной части реки Иордан, показывающая возможное расположение древних городов и мест паломничества в византийскую эпоху, а также главных вади и бродов. Составлена на основании карт 3053 I и 3153 IV Инженерных войск США (Службы военной картографии), Иордан, серия 1:50 000 (К737), версия 1-AMS. Четырьмя буквами в системе бродов Эль-Махтас/Хаджла обозначены: А) Махадат эль-Махтас, B) Современное место крещения, C) Старое место крещения, D) Махадат Хаджла. © Дж. Хаттон
Однако из нескольких аргументов, на которых основано это мнение, можно, в частности, выделить два и оспорить их на основании топографических реалий, предполагаемых в Евангелии, а также тщательного исследования и воссоздания событий, о которых говорит текст Иоанна. Во-первых, аргументация Ризнера подкрепляется стандартным вариантом прочтения Ин 1:28, где топоним обозначается как «Вифания»[333] (другие исследователи, их меньшинство, читают его как «Вифавара»). Во-вторых, Ризнер приводит маршрут путешествий Иисуса, описанный в Ин 11, и обнаруживает, что исходная
точка четырехдневного путешествия должна быть гораздо дальше, за пределами области на Иордане.
В другой своей работе я подверг сомнению обоснованность обоих этих аргументов, и приведу здесь ее краткий синопсис[334]. В ней я кратко рассмотрел текстологические свидетельства, на основе которых Ризнер читает топоним, обозначающий место крещения Иисуса в Ин 1:28, как «ἐν Βηθανίᾳ», в противовес прочтению «ἐν Βηθαβαρᾶ». Хотя с последним вариантом, ἐν Βηθαβαρᾶ, сторонником которого выступал Ориген[335], несомненно, возникали свои сложности, традиционное принятие прочтения ἐν Βηθανίᾳ как совершенно ясного и беспроблемного lectio difficilior[336] вызывает вопросы с точки зрения литературной и редакционной критики. Ризнер замечает, что «в Евангелии от Иоанна путь Иисуса пролегает из Вифании (Ин 1:28; 10:40) в Вифанию (Ин 11:1)»[337], и это, по его мнению, подрывает аргументы в пользу прочтения Βηθανίᾳ как исторически точного и изначального: «…возможно, текст Ин 1:28 – это на самом деле вставка, сделанная самим евангелистом, посредством которой он обратил себе во благо возможность внести в текст инклюзио[338], заменив словом Βηθανίᾳ более древнюю и исторически точную традицию»[339].
Затем я постарался объяснить этимологизацию, к которой обратился Ориген, трактовавший Βηθαβαρᾶ как οἶκος κατασκευῆς («Дом Приготовления»)[340]. Ряд исследователей предполагает, что таким образом он «творчески переработал» название (Бефвара) в масоретском тексте Суд 7:24, читая само слово как (Дом Творения) – и понимая его смысл как «Дом Приготовления»[341]. Это предложение также кажется сомнительным: в то время как κατασκευάζω действительно представляется попыткой Оригена передать древнееврейское, это делается лишь в космологическом контексте творения у Исаии (Ис 40:28; Ис 43:7), и вошло в христианскую святоотеческую литературу со сходным семантическим диапазоном[342]. Более вероятным кажется то, что Ориген ссылается здесь на использование глагола κατασκευάζω в Мк 1:2. Но глагол κατασκευάζω никогда не появляется в тех местах Ветхого Завета, на которые ссылается Евангелие от Марка (прежде всего Мал 3:1, но также Ис 40:3 [цит. в Мк 1:3, где слово, «подготовьте», передается формой глагола ἑτοιµάζω], и Мал 4:4–5 [LXX 3:22–23]). Это означает, что очевидную отсылку Оригена к идее «приготовления» у Марка (κατασκευῇ; в LXX так передается древнееврейское, «труд, приготовление», Исх 35:24) не вывести напрямую из топонима. Напротив, то, что в тексте Марка использован данный термин – будь это случайное графическое искажение древнееврейского текста, намеренная игра слов или, возможно, изменение под влиянием устной традиции, – само по себе оберегает традицию, согласно которой именно Иоанну предстояло «подготовить» (κατασκευάζω) путь Иисусу в «Доме Приготовления» (οἶκος κατασκευῆς < >). Поэтому, независимо от причины, по которой в тексте Марка применялся глагол κατασκευάζω, я утверждал:
…путаница связана не с филологическим искусством Оригена, а с традицией истолкования, сохраненной Марком. Эта традиция соединяет искаженный топоним, случайно присутствующий в нарративе о крещении (например, вместо надлежащего), с пассажами Ветхого Завета, теологически важными для представления этого события в тексте Марка (Ис 40:3, Мал 4:4–5). Эта традиция, помимо прочего, принесла с собой багаж в виде существительного (κατασκευῇ), соотносимый с которым глагол (κατασκευάζω) не использовался ни в одном из пассажей, переведенных Оригеном, но у Марка был применен как приемлемый, хотя и несовершенный, перевод глагола, присутствующего в Мал 3:1 и Ис 40:3. Поэтому эта изобретательность в интерпретациях принадлежит Марку[343].
Далее я добавил еще один довод против скептицизма, с которым Ризнер относится к традиции определять место крещения в районе Эль-Махтаса или Хаджлы – бродов через Иордан. Очевидная история редакций Евангелия от Иоанна не позволяет с легкостью выдвигать предположения о достоверности маршрутов, описанных в тексте. Представление о том, будто четырехдневное путешествие (Ин 11) переносит место крещения в Васан (Батанею) – как то полагает Ризнер, – тает, словно свеча, при тщательном исследовании маршрута в так называемом «Источнике знамений», частично сохранившемся в Евангелии от Иоанна. С точки зрения редакционной критики наиболее вероятным кажется то, что упоминание места крещения в Ин 1:28 – это уступка евангелиста или синоптикам, или, по крайней мере, традиции крещения в южном Иордане, оберегаемой в синоптических Евангелиях (хотя может показаться, что фраза «на другой стороне Иордана» [πέραν τοῦ Ἰορδάνου] хранит дополнительные сведения). Эта уступка, как считает Роберт Фортна, вытеснила указание на место крещения, упомянутое в «Источнике знамений», к которому обращался евангелист. В этом воссозданном источнике пассаж Ин 1:35–49 предварялся текстом, ныне известном как Ин 3:23 – «Иоанн также крестил в Еноне близ Салима» (ἦν δὲ καὶ ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείµ). Потом евангелист вставил целый стих, Ин 1:28, и фразу πέραν τοῦ Ἰορδάνου в Ин 3:26 и Ин 10:40 – и тем самым место крещения стали соотносить не с той областью, о которой говорилось в «Источнике знамений», а совершенно с другой[344].
Даже если оставить в стороне слишком упрощенную трактовку критики редакций Евангелия от Иоанна, неверное понимание причин, по которым Иисус ждал два дня, прежде чем отправиться в Вифанию (Ин 11:6), в сочетании с излишним доверием к исторической достоверности евангельского текста, рушит любую методичную попытку опознать место, откуда начали свой путь Иисус и его ученики. Поэтому у нас очень мало причин доверять Ризнеру, у которого Вифания находится в Васане.
Стоит соотнести все сделанные на данный момент наблюдения с тем, что рассказывали о месте крещения ранние паломники, и с данными мозаичной Карты из Мадабы, и становится все очевиднее, что создатель Евангелия от Иоанна, упоминая Βηθανίᾳ/Βηθαβαρᾶ, мог иметь в виду лишь область вокруг бродов Эль-Махтас/Хаджла, которую по традиции и считали местом крещения. Несоответствие двух сохраненных в Евангелии от Иоанна традиций, одна из которых унаследована от более раннего источника, а другая приведена в соответствие с синоптическими Евангелиями, ставит вопрос о топографическом символизме, который свойствен всем евангельским повествованиям: именно из-за него все четыре Евангелия, явно или сокровенно, соотносят место миссии Иоанна Крестителя с бродами Эль-Махтаса/Хаджлы. Но почему же эта область была важна, причем важна настолько, что создатель Четвертого Евангелия предпочел перенести туда место служения Иоанна Крестителя, вопреки указаниям одного из собственных источников? Это несоответствие ставит и другую проблему: вопрос о том, сколь исторически достоверны евангельские указания на место крещения – и нам приходится принять тезис о деисторизации, которого я придерживаюсь в этой работе. Трудно утверждать с абсолютной уверенностью, что Иисус был крещен на реке Иордан (а не в Еноне в Самарии). Тем не менее мы должны признать, что авторы синоптических Евангелий, связывая крещение Иисуса с рекой Иордан, создают в своем повествовании особое пространство, в котором и происходит событие, и это пространство полно скрытых смыслов, передаваемых самим местом действия, и типологически совмещено со множеством других библейских традиций.
Далее я рассмотрю различные ветхозаветные традиции, которые перенимались, меняли облик и сохраняли свой авторитет и в миссии Иоанна Крестителя, и в дальнейшей истории Иудеи. В их числе – рассказ о входе колен Израилевых в Ханаан (Нав 3:1–5:1); повествования об Илии и Елисее, в которых упомянут Иордан (особ. 4 Цар 2:7–14), и триумфальный переход Давида через реку (2 Цар 19). Все три описанных перехода совершены в районе бродов Эль-Махтас/Хаджла – и, видимо, миссия Иоанна Крестителя, крестившего в Иордане, находила в сознании иудеев самый широкий отклик.
Переход Иордана: Илия, Елисей, Исход и завоевание Земли Обетованной в историях о крещении
Подавляющее большинство критиков Нового Завета признают, что топографическая привязка крещения Иоанна к «пустыне [Иудейской]» и «реке Иордан» – это переложение повествований об Илии и Елисее (в особенности о вознесении Илии в 4 Цар 2:7–14), а также преданий о завоевании Земли Обетованной в Нав 3:1–5:1, где израильтяне, перейдя Иордан, овладевают Ханааном, как обещал Бог их предкам[345]. Эти критики совершенно точно понимают, какие последствия влечет соотнесение места крещения в Евангелии от Иоанна с современными бродами Эль-Махтас/Хаджла. А разве могли бы они считать иначе? С древних времен эти два брода ассоциировались не только с местом крещения: считалось, что именно здесь колена Израилевы вошли в Землю Обетованную и что именно здесь Илия был взят на небеса, а Елисей унаследовал милоть (накидку) пророка.
История Исхода и странствий по пустыне достигает кульминации, когда народ Израилев входит в Ханаанскую землю, перейдя Иордан: с этого события начинается завоевание Ханаана. А значит, река «создает идентичность», как говорит о том Рэйчел Хэверлок, и служит «самым ранним библейским пределом, по достижении которого проводятся обряды посвящения и преображается идентичность»[346]. Роль реки сходна в рассказах об Илии и Елисее, и ее всеобъемлющее присутствие в корпусе повествований можно описать (пусть временами лишь косвенно) лишь как роль главного персонажа: такая же отведена реке Миссисипи в «Приключениях Гекльберри Финна» у Марка Твена. Предполагается, что река присутствует непрерывно; она незримо стоит за текстом, создает условия, формирует облик, влечет вслед за своим течением все, о чем повествует остальной текст. И краткий обзор, призванный показать, как упрочнение этого образа, объединяющего Израиль через яркие истории об Исходе и завоевании Ханаана, связано с развитием идентичности пророков в цикле повествований об Илии и Елисее, вполне способен прояснить суть этого географически-литературного топоса.
Цикл историй об Илии и Елисее
Илия становится пророком. 3 Цар 17:2–6
Известность реки Иордан и ее влияние на идентичность ранних израильских пророков видны уже в описании главных событий служения Илии: преображение простого крестьянина в названного и призванного пророка YHWH происходит у Нахаль-Керита (поток Хораф, 3 Цар 17:2–6). В период железного века русло реки пролегало, скорее всего, севернее той области, о которой мы говорим, и сейчас это Вади-эль-Ябис, хотя, конечно, такое отождествление требует более детальной реконструкции. Родной город Илии, Фесвия (вероятно, наилучшее воссоздание имени – Фесвия Галаадская)[347], скорее всего, располагался в верховьях Вади-эль-Ябис (к востоку от Иордана), то есть в израильской части Трансиордании. Несмотря на то что топонимический элемент «Галаад», проявленный в таких составных названиях, как Иавис Галаадский (Явеш-Гилад) и Рамот Галаадский, видимо, указывает только на то, что город лежал в горной местности к востоку от реки Иордан[348], Винфрид Тиль ссылается на описание путешествий паломницы Эгерии, побывавшей в Палестине в конце IV в. Проводник Эгерии привел ее к месту, где чтили память пророка Илии, на Вади-эль-Ябис (к востоку от Телль-эль-Маклуба [2144.2011])[349]. Отзвуки имени родного города Илии сохранились в современном топониме Эль-Истиб[350], а имя пророка – в названии близлежащего места, Мар Ильяс (примерно в 500 м к юго-востоку от Эль-Истиба)[351]. Тиль смог исследовать только Эль-Истиб и нашел там останки византийской церкви, однако керамика периода железного века до сих пор не обнаружена ни на одной из указанных территорий[352]. Хотя малочисленность археологических свидетельств мешает отождествить оба места с исторической Фесвией, в этой области есть поселения железного века. По итогам исследований, проведенных в Трансиордании, Зигфрид Миттман предложил считать, что Фесвия, возможно, располагалась там, где сейчас находится Хирбет-эль-Хедамус (2202.1967)[353]. У этого места есть свои преимущества: оно находится всего в 2 км к востоку от Эль-Истиба и Телль-Мар-Ильяс, а кроме того, есть следы того, что в период железного века, с 1200 по 586 г. до н. э. (Iron Age I–II), здесь было довольно много поселений[354]. Судя по керамике, найденной при раскопках, период железного века, охватывающий время с 700 по 586 г. до н. э. (Iron Age IIС), представлен хорошо[355], и это согласуется с тем, чего нам следует ожидать, если принять версию Миттмана об отождествлении этого места с Фесвией.
К сожалению, продолжающиеся археологические раскопки, свидетельствуют: нельзя отрицать, что мы, отождествляя Нахаль-Керит с верховьями Вади-эль-Ябис, уже изначально предполагаем, что традиция, связывающая Илию с этой местностью, достоверно описывает исторические события, в которых фигурирует пророк. Отчасти на основе тех же традиций мы отождествляем Телль-Абу-Шуш (203.197) с Авел-Мехолой, родным городом Елисея[356]. Телль-Абу-Шуш расположен на западном берегу Иордана, лишь в нескольких километрах ниже места впадения Вади-эль-Ябис в Иордан, и господствует над четырьмя бродами: с севера на юг – Махадат Фатхалла, Махадат Умм эль-Мугар, Махадат Абу Шуш и Махадат эд-Духени[357]. И к слову, вряд ли по воле случая поблизости находится место, уже к IV в. н. э. опознанное как Енон Иоанна Крестителя (Ин 3:23)[358] – по-видимому, то же самое место упоминается на мозаичной Карте из Мадабы как «Енон, что близ Салима» (Αινων ἡ ἐγγύς τοῦ Σάληµ). С ним не следует путать «Енон, где сейчас Сапсафа» (Αινων ἔνθα νῦν ὁ Σαπσάφας), который стоит на восточном берегу реки и гораздо южнее, напротив Иерихона[359]. Тем не менее Карта из Мадабы сохранила два места, в которых по традиции располагали Енон Иоанна Крестителя, так что византийская традиция тоже признает существование второго Нахаль-Керита (потока Хораф) к востоку от пары бродов, которые входят в систему Эль-Махтаса/Хаджлы и расположены восточнее Иерихона.
Именно эта южная локация – второе место, в котором, согласно традиции, сохраненной в византийский период, временно скрывался Илия. Паломник из Пьяченцы (около 570 г.), ссылаясь на историю, в которой описывается, как вороны кормили Илию во время его скитаний (3 Цар 17:6), идентифицирует Вади-эль-Харрар как Нахаль-Керит[360]. На южном склоне Вади-эль-Харрар есть пещера, ныне окруженная святилищем, в котором почитают «Пещеру Иоанна Крестителя»[361]. И более того, Иоанн Мосх (ок. 575 г.) упоминает о пещере в окрестностях Вади-эль-Харрар: «Близ [Пещеры Крестителя] и слева протекает поток Хораф… куда был послан Илия Фесвитянин во время засухи; она обращена к Иордану»[362]. Но трудно понять, говорит ли Иоанн Мосх именно об упомянутой пещере, которая находится в пределах Вади эль-Харрар и ныне почитается как Пещера Крестителя. Хотя, возможно, он имел в виду именно эту пещеру, выходящую на запад, когда утверждал, что она «обращена к Иордану»; эта пещера находится в 2 км от реки. Столь же неясным мне кажется замечание о том, что Нахаль-Керит протекает слева. Конечно, оно может относиться к пещере, расположенной на южном склоне вади – той самой, о которой мы упоминали – но возможно, что Мосх говорил о гроте, который находится на крутом западном склоне известнякового утеса, вне устья вади. Последний вариант прочтения усложняется тем фактом, что Герберт Доннер не смог обнаружить каких-либо пещер на этом известняковом склоне к югу от вади, хотя к северу несколько пещер найти удалось[363].
Но пусть даже с географией и традицией связаны определенные трудности, мы можем сделать вывод: несмотря на то что Илия родился на севере Трансиордании, где его помнят и почитают, то место, где он возрастал как пророк, в традициях византийского периода также связано с областью Трансиордании, расположенной южнее. По-видимому, часть основы этой связи – инклюзио, объединяющий истории о том, как Илия скрывается в убежище, и о том, как он возносится на небеса[364]. Если пребывание Илии в (неопознанном) Нахаль-Керите – это первый элемент инклюзио, а вознесение, описанное в 4 Цар 2 – это второй его элемент, то вместе они образуют единый литературно-теологический мотив, и в таком случае логично предположить, что эти два события произошли в одном и том же месте. И хотя определить это место на основании библейского текста для первого элемента не представлялось возможным, со вторым все обстояло иначе.
Вознесение Илии и посвящение Елисея. 4 Цар 2:7–14
В отличие от библейского повествования о пребывании Илии в укрытии, которое не дает точной информации о расположении Нахаль-Керита, тексты, повествующие о вознесении пророка (4 Цар 2:7–14), апогее его жизни и непререкаемом подтверждении того, что он избран Богом, точно определяют, где именно произошло это событие: к востоку от системы бродов Эль-Махтас/Хаджла. Это согласуется с указанием на то, что пророк Илия и его преемник Елисей перешли реку напротив Иерихона (ст. 4–5). И хотя в 4 Цар 2:1 упоминается Галгал, вряд ли это тот же самый Галгал, о котором говорится в 2 Цар 19[365]. Более того, сказано, что пророки идут от Галгала в Вефиль (4 Цар 2:2–3), а затем в Иерихон (ст. 4), и лишь в конце переходят Иордан (ст. 6–8). Если упоминаемый здесь Галгал и есть Галгал, расположенный к востоку от Иерихона, то путь довольно странен: из Иорданской долины в Галгал, затем на холмы, чтобы достичь Вефиля, а затем обратно вниз в долину к Иерихону[366]. Чтобы добраться из Иерихона до реки Иордан, пророкам пришлось бы пройти рядом с местом, откуда они начали свой путь. Более того, сказано, что пророки «спустились» () из Галгала в Вефиль (4 Цар 2:2)[367]. Хотя термины «спуститься» и «подняться» в Ветхом Завете зачастую используются феноменологически, без стремления к топографической точности (например, к Иерусалиму можно только «подняться»), сложно предположить, будто это тот самый случай (даже несмотря на довольно сомнительную репутацию Вефиля, ср.: 4 Цар 2:23–24). Эту трудность можно обойти, лишь предположив, что, помимо Галгала, расположенного к востоку от Иерихона, был и второй Галгал – там, где находится современная Джальджулия[368].
В любом случае очевидно, что библейская традиция связывает события, описанные в 4 Цар 2:7–14, с местностью, лежащей к востоку от Иерихона, вероятнее всего, с системой бродов Эль-Махтас/Хаджла, или, с меньшей вероятностью – с бродом в 8 км к северу, Махадат эль-Горанийя, где расположен современный мост Алленби[369]. Эта традиция, равно как и другая, связанная с пребыванием Илии в укромном убежище, сохранилась в Вади-эль-Харрар и в византийский период – в названии близлежащего «Гебел Мар Ильяс» («холма господина Илии»), что высится над Пещерой Крестителя[370]. Об этом месте упоминают и паломники византийского периода. Паломник из Бордо (ок. 333 г.) утверждал, что у Иордана, километрах в восьми выше того места, где река впадает в Мертвое море, ему показывали «пригорок, с которого Илия был взят на небеса»[371]. Это же место Феодосий (ок. 530 г.) описывает как «небольшую гору, называемую Ермон»[372]. Еще спустя несколько десятилетий паломник из Пьяченцы добавил дополнительное истолкование, сказав, что эта гора упоминается «в псалме», хотя остается неясным, какой именно псалом имелся в виду: Пс 41:7; Пс 88:13 или Пс 132:3[373]. В связи с тем, что гео-агиографическая традиция византийского периода (если не более ранняя) смогла так быстро отследить текстуально устойчивые библейские традиции, связанные с вознесением Илии, не следует удивляться тому, что те же традиции более тонко связывают уединение Илии (3 Цар 17:2–6, см. ранее) с этим же местом.
Очищение Неемана. 4 Цар 5:1–19
Современные исследователи, как правило, признают наличие и подтекстов, скрытых в том, что Иоанн Предтеча крестил в Иордане, и отсылок к циклу об Илии и Елисее; впрочем, в некоторых вопросах расхождения остаются. Скажем, все еще спорят о том, воспринимался ли Илия как предтеча Мессии[374] – и возникает вопрос, считал ли Иоанн себя возродившимся Илией (даже несмотря на то, что Евангелие от Иоанна, по сути, пытается пресечь попытки такого отождествления, – Ин 1:21, 31–33; Ин 3:26–30[375], ср.: Мф 3:4, Мк 3:4, где авторы обоих текстов, напротив, находят в образах 4 Цар 1:8 основу для того, чтобы представить Иоанна как нового Илию[376]). Данную точку зрения поддержал Джеффри Трамбауэр, а вслед за ним – и Крэйг Эванс[377]. Джером Мёрфи-О’Коннор, напротив, признает «деянием в духе пророка» то, что Иоанн избрал Вивафару местом своей миссии, но утверждает, что Иоанн намеревался «лишь приблизить день эсхатологического суда, которому предшествовало бы возвращение Илии (Мал 4:5), о котором Предтеча и провозвещал»[378]. Хотя я не намерен углубляться в этот спор, логичнее всего, как мне кажется, счесть мотив Илии как предтечи мессии соединением нескольких ветхозаветных традиций (напр.: Мал 4:4–5; Ис 40:1–3) и трактовать их не как элементы исторически единого учения о спасении, а как итог богословской интерпретации библейских текстов, помещенных рядом друг с другом в канон[379]. Иоанн перенес свою миссию в область, которую, вероятно, переполняли коллективные воспоминания и традиции, связанные с деяниями Илии и Елисея, и в той мере, в какой он это сделал, разумно, вместе с Эвансом, предположить, что Иоанн типологически позиционировал себя как «эсхатологического Илию», независимо от характера предполагаемой связи Илии с Мессией или Днем Господним (или обеими традициями)[380]. Точка зрения Роберта Уэбба в сравнении с ранними дискуссиями более точна для понимания исторического Иоанна: он утверждает, что это Евангелия изображают Иоанна как возродившегося Илию, но отмечает, что Иоанн, в более широком смысле, сам принимает роль пророка[381]. И хотя это, скорее всего, слишком осторожная формулировка – Иоанн мог использовать целый ряд тропов, в общем смысле «пророческих», – она преуменьшает важность своеобразия места, на которое ссылаются канонические Евангелия. Топонимические традиции византийской эпохи, возникшие вокруг историй об Илии и Елисее, географически в высшей степени совпадают с традициями, которые сложились вокруг Иоанна Крестителя (см. выше), и это подтверждает все более сильное стремление толкователей того времени ассоциировать Илию с Иоанном.
Второй важный вопрос, имеющий отношение к тому, как в Евангелиях изображено крещение, совершаемое Иоанном, касается вот какого момента: осмыслялось ли оно как каждодневный очистительный обряд – или как эсхатологическое и спасительное деяние?[382] В отличие от ранних уверений, более ограниченных, Эванс утверждает, что Иоанн полагал свое крещение «пророческим, связанным с инициацией, возрождающим и однократным», но в то же время «повторяемым ритуальным погружением в воду ради очищения»[383]. Стремясь защитить свой аргумент и показать, что одно другому не мешает, Эванс обращается к библейским примерам, среди которых, помимо прочего, указывает на рассказ об очистительном омовении Неемана в Иордане (т. е. очищении от кожной болезни; 4 Цар 5:10–14). Скорее всего, этот эпизод имел место не у системы бродов Эль-Махтас/Хаджла, а намного дальше к северу по течению, поскольку крайними пунктами в маршруте Неемана выступают Арам и Самария (ст. 2–3). Тем не менее специфика Иордана здесь, как кажется, играет важную роль. Вот как Колин Браун ранее анализировал 4 Цар 5:6–13:
Такое впечатление, что этот эпизод таит в себе больше, чем просто очистительный обряд, ведь для очищения, по-видимому, подходит любая вода, не обязательно из Иордана. Скорее, возникает чувство, что этот обряд может представлять собой форму перехода в иудаизм, явно и специально связанную с Иорданом, и эта форма имеет отношение к просьбе взять столько еврейской земли, сколько снесут два лошака, чтобы на ней приносить жертвы Господу (4 Цар 5:17)[384].
Браун не решается поддержать точку зрения, согласно которой упомянутый обряд связан лишь с очищением, и это хорошо: каким бы ни было очищение Неемана в 4 Цар 5:6–13, по сути оно явно превосходит простой ритуал[385]. То, что Нееман становится частью народа Израиля и принимает веру этого народа, очевидно, однако погружение в воды Иордана не может подразумевать исключительно «перехода в иудаизм» (по Брауну), поскольку, как отмечает Хэверлок, «Нееман проходит своеобразное обращение в веру, но не теряет при этом своей [арамейской] национальной идентичности»[386].
И все же эту возможность необратимого преображения идентичности не следует считать свидетельством того, что крещение в водах Иордана, провозглашенное Иоанном, не было также потенциально повторяемым. Даже в рассказах об Илии и Елисее погружение в воды Иордана или переход на другой его берег реки остается многозначным. Эта многозначность окружает вплетенную в сюжет инициацию (напр.: 4 Цар 2:1–14) – и более того, очищение, которого удостаивается Нееман, является скорее социальным, чем ритуальным актом, оно делает его частью Израиля, дает ему сопричислиться к тем, кто чтит единого Господа. Но многозначность таит в себе и очищение, представленное в повествовании в форме ритуала[387]. Высшая степень этого очистительного эффекта – избавление человека от проказы – сама по себе символизирует сверхъестественную природу вод Иордана и, следовательно, их изобильную способность вызывать физические или метафизические изменения в тех, кто окунается в реку или переходит ее[388]. Я не вижу причин, по которым сопричастие к этому изобилию и этой «очистительной» способности не может периодически повторяться. И можно возразить Брауну: крещение, совершаемое Иоанном, могло считаться очистительным обрядом (или точнее, представленным в повествовании в форме ритуала), даже в том случае, если оно не соответствовало всем законам ритуального очищения, принятым у фарисеев.
Мотивы Исхода и завоевания Земли Обетованной
Тот факт, что в библейской и постбиблейской традициях Галгал, броды Эль-Махтас и Хаджла и Вади-эль-Харрар занимают центральное положение, не может не привлечь внимание к другому событию, важному для коллективной памяти еврейского народа. Событие, о котором мы говорим, произошло в этой же местности: это завоевание Ханаана Иисусом Навином. Как уже утверждалось ранее, вне зависимости от исторической достоверности библейского текста, повествующего о вхождении израильтян в Ханаан, данный рассказ доносит до нас множество традиций, сохранивших историческую память о том, как «израильтяне» завоевали по крайней мере холмистую местность, ставшую уделом Вениамина. Самая явная точка соприкосновения рассказа о завоевании Земли Обетованной с повествованиями об Илии и Елисее – переход как народа, так и пророков через реку, будто посуху (Нав 3:13 – 4:18, 4 Цар 2:8–9, 14).
Израильтяне переходят Иордан у брода к востоку от Иерихона ([Нав 3:16], [Нав 4:13], [Нав 4:19]). Так же как и в 4 Цар 2:7–14, место точной переправы не указано, и можно предположить, что это не броды Эль-Махтас или Хаджла, а другое место. Возможно, израильтяне со временем начали соотносить место, где их народ вошел в Ханаан, с территорией, где находится Махадат эль-Горанийя, и решили, что место вознесения Илии тоже находится неподалеку[389]. Но, безусловно, у нас мало причин считать, что вхождение в Ханаан, отраженное в коллективной памяти как начало завоевания, и переправа через Иордан Илии и Елисея происходили в разных местах. Вполне логично предположить: как бы ни почиталось то или иное из этих событий, второе осмыслялось как произошедшее в тех же местах. Тем не менее, несмотря на географические превратности Нав 3:1–5:1, система бродов Эль-Махтас/Хаджла предпочтительнее, чем эль-Горанийя, по крайней мере с точки зрения традиции византийской эпохи. И хотя Эгерия не соотносит место крещения с этой территорией (см. выше), она отмечает, что именно здесь колена Израилевы вошли в Ханаан (Нав 3:1–5:1)[390], и здесь же восточные колена соорудили жертвенник (Нав 22:10). Паломник из Пьяченцы также обращает на это внимание[391].
Очень важно признать концептуальную связь обоих событий в древнюю эпоху, проявленную как в текстах, так и географически. Это напомнит нам о том, что здесь мы необязательно имеем дело с фактами, которые можно проверить исторически, а скорее нас волнуют социологическая и богословская важность библейских традиций и их взаимозависимости. Эта важность укоренена в символизме и значимости той области, которую все четыре Евангелия называют местом (или одним из мест), где вершилась миссия Иоанна Крестителя. Как справедливо отмечает Уэбб: «Мы должны отдать должное Иоанну: он прекрасно осознавал, как воспримут выбранное им место [пустыня и Иордан – символические места, связанные с историей Исхода и завоевания Земли Обетованной], и, видимо, он, совершая свой выбор, благожелательно относился к такому восприятию [у своей аудитории] и вовлеченному символизму»[392]. Даже если мы не станем уверять в абсолютной исторической достоверности евангельских повествований и уделим внимание лишь тому, как изображено служение Иоанна Крестителя в канонических Евангелиях, мы, тем не менее, можем подтвердить основную мысль Уэбба и подходящим образом перестроить его утверждение: мы должны отдать должное авторам Евангелий, – они прекрасно осознавали символизм крещения в Иордане в рассказах об Исходе и завоевании Земли Обетованной. И в том, что они единодушно сохранили именно это место крещения, мы видим, что они определенно одобряют и символизм, проявленный в библейских традициях, и то, как эти традиции воспринимали те, кто их хранил и передавал.
«По воде как посуху». Исх 13–15
К сожалению, композиционную связь (а в особенности сравнительную датировку) Нав 3:1–5:1, 4 Цар 2:7–14 и их общего «посредника» – Исх 14–15, оценить трудно, и это еще не сделано на должном уровне. Хотя есть вероятность того, что Четвертая книга Царств сохраняет подлинную древнюю традицию повествований об Илии и Елисее, восходящую еще к периоду, предшествовавшему девтерономической эпохе и, возможно, датируемую концом IX в. до н. э.[393], и что Книга Иисуса Навина (Нав 3:1–5:1) содержит один или несколько относительно ранних источников, все же в окончательной форме оба пассажа сложились не ранее конца VII в. до н. э., поскольку они проявляют черты, присущие девтерономической традиции, или даже слиты воедино с девтерономической историей[394]. Какие бы традиции ни присутствовали в Израиле и Иудее до того, как обрела облик редакция девтерономической истории в правление царя Иосии[395], по-видимому, мотив вхождения в Землю Обетованную через Иордан (Нав 3:1–5:1, 4 Цар 2:7–14) развился как вторичная переработка рассказа о переходе через море, будто посуху (Исх 14) и поэтической предшественницы этого рассказа, Песни Моря (Исх 15:1b–18), в свою очередь основанной на образах, взятых из ранней ханаанской мифологии, в которой молодой мужественный бог грозы и бури подчиняет себе – а в некоторых вариантах убивает – дьявольское морское божество[396]. Тем не менее критический взгляд на тексты (Исх 14–15, Нав 3:1–5:1, 4 Цар 2:7–14) с позиций источниковедения и умеренно критическое прочтение Исх 15:1–18 позволяет обнаружить мифотворческое влияние иной направленности. Бернард Батто утверждает, что в Священническом кодексе повествовательная основа пассажей Книги Исхода (Исх 13:17–15:1, 15:19–21 [особ. 13:20, 14:1–4, 8, 9b, 10a [c], 15–18, [21a, c], 22–23, 26–27а, 28а[b], 29, 15:19])[397] берет начало от мотива перехода через море, будто посуху, проявленного в более ранних культовых традициях, сохраненных в Галгале, – но отмечает, что в Песни Моря подобная традиция отсутствует[398]. И более того, краткий анализ Исх 15:1b–18 позволяет выделить целый ряд общих мифологем, некоторые из них я привожу ниже:
1. Использование корня (ст. 1b, 7), как я утверждал ранее[399], в нескольких случаях ассоциируется с текстами «мифологического» (или «вселенского») плана, в которых либо говорится, что Господь «высоко превознесся» (Исх 15:1, см. также: Ис 2:10, 19, 21), либо враги Господа «приходят в ярость» (букв. «воздымаются», напр., Пс 88:10).
2. Частые отсылки к морю (; ст. 1, 4, 8 и др.) сами собой рождают ассоциации с мифическим фоном песни – эта оценка подтверждается тем, что египетским солдатам (ст. 4) отводятся роли безымянных врагов (, ст. 6–10), знакомых по таким мифологическим контекстам, как Пс 88:11[400].
3. Упоминание о «глубинах» моря (и, ст. 5, 8) также сравнимо со схожими мифологическими и мифологизированными контекстами (напр. Ис 51:10, 63:13, Авв 3:10, Иов 41:23 и т. д.)
Тем не менее внимательное прочтение Песни не позволяет усмотреть в ней четких свидетельств традиции, повествующей о том, что Израиль переходил Чермное море, будто посуху. Самое большее, на что можно указать – это глагол («переходить», «проходить мимо») в ст. 16, но контекст связан с тем, что «проходящие» были источником страха для царств Трансиордании (ст. 15), поэтому он прямо не относится к переходу через Красное море[401]. Более того, Батто утверждает, что ни «Яхвист» (источник J), ни «Элохист» (источник E) не знают традиции перехода через море, будто посуху (Исх 13:17–19, 21–22; 14:5–7, 9a, 10b–14, 19–21, 24–25, 27b, 30–31 и т. д.)[402]. Гораздо более вероятно, что именно пассаж из Книги Иисуса Навина (Нав 3:1–5:1) повлиял на Книгу Исхода (Исх 14), иными словами, влияние шло в обратном направлении. Традицию перехода через море, будто посуху, лежащую в основе нескольких рассказов, сохраненных в Нав 3:1–5:1, заимствовал Священнический кодекс, и ее спроецировали в прошлое, на повествование Книги Исхода, получив тем самым инклюзио, обозначивший начало и конец скитаний по пустыне.
Хотя здесь и невозможно в полной мере распределить источники Нав 3:1–5:1 ввиду ограниченного объема публикации и сложности вопроса, я позволю себе несколько небольших замечаний. Во-первых, элементы Священнического кодекса и Второзакония, наложенные поверх Нав 3:1–5:1, в которых Иордан выступает как еще одна параллель к переходу через море (ям) в Исх 14 – и через «Тростниковое море» (ям-суф) в Исх 15[403] – сводят воедино две важные темы: а) мифологическое поражение олицетворенного Моря в облике врагов народа (Исх 15); б) метафорический образ перехода через море, будто посуху, в качестве знаменательного события (или, более точно, ряда событий) в истории спасения Израиля. Во-вторых, в сцене с пророками (4 Цар 2:7–14) использованы те же образы – в особенности образ, в котором река Иордан приобретает мифологические аспекты морского монстра[404] – пусть даже этот аспект труднее распознать. Впрочем, можно утверждать, что в 4 Цар 2 может присутствовать тонкая полемика, направленная против религиозного синкретизма династии Омридов и проявленная в цикле историй об Илии и Елисее. Так же как в словах о том, что YHWH не найти ни в ветре, ни в землетрясении, ни в огне (3 Цар 19:11–12), традиционно усматривают скрытый удар по израильскому ваализму (или, что более вероятно, по израильскому яхвизму, выражавшему свое богословие в образах, в какой-то мере сходных с теми, какие применяли для описания Ваала)[405], здесь образ пророка, разделившего воды Иордана, может быть тайной издевкой, намекающей на отсутствие силы у Ваала – по контрасту с мощью пророков YHWH. Конечно, точная датировка 4 Цар 2:7–14 и правдоподобное описание развития текста Нав 3:1–5:1 – обязательные предпосылки для расстановки приоритетов в споре о традиции перехода через море, будто посуху. Но даже без твердого знания о сравнительном приоритете этой традиции эти рассказы о реке Иордан, типологические и наложенные поверх древних, позволяют хоть в чем-то понять смыслы, которые хотел вложить в свой поступок Иоанн Креститель, когда выбирал Иордан в качестве места для служения – или, более корректно, смыслы, вложенные в то, как изображена в канонических Евангелиях его миссия на реке Иордан.
Иордан как космическая сила и место обрядов перехода
Интертекстуальные и символические связи с метафорическим образом перехода народом Израилевым через Красного море, будто посуху (Исх 14–15) и перехода через Иордан (Нав 3:1–5:1) отождествляют реку с космической силой: перейти эту водную преграду можно только благодаря чудесному вмешательству Господа. Сущность, названная в текстах Угарита «князь-Море, судья-Река» (zbl ym… tpt nhr; KTU 1.2.IV.24–25), значительно демифологизирована и лишена индивидуальности в дошедших до нас израильских традициях, однако библейский текст сохраняет многие следы личности этого персонажа в описании реки Иордан. Новое олицетворение Иордана происходит в Пс 113:3, 5, где утверждается, что во время Исхода:
Столь же мифологичен по охвату пассаж Иов 40:18, где утверждается, что «Иордан устремился ко рту» чудовищного Бегемота, одного из космических врагов, которого способен повергнуть лишь Господь (как и Левиафана; Иов 40:20–41:26).
При обсуждении мифологических тем важно помнить, что люди могут очень быстро переходить из одного состояния сознания в другое, и эти состояния, в свою очередь, существуют внутри матрицы доступных конфигураций, в которых формирование концептуальных представлений – со свойственными им «бинарными оппозициями» – сопоставляется с практическими мирскими реалиями повседневного «типизированного опыта»[406], и в которых история (иными словами, каждодневный опыт) может расшириться в полноценную мифологию. Подобный мифологизированный (возможно, заново) характер Иордана – лишь одно из заметных библейских представлений об этой реке. В то же время намного более простое понимание Иордана, представленное в Нав 3:1–5:1, 4 Цар 2:7–14 и 4 Цар 5:1–19, сохраняет те же бинарные оппозиции, описанные выше (порядок – хаос, свой – чужой), но одновременно с этим проявляет и более будничное представление о самой реке. Хотя переходы влекут преображение состояния (и тем самым представляют левый и правый берега Иордана как бинарные оппозиции)[407], сами они признаются земным опытом: река – не мифическое чудовище, а лишь водное пространство, требующее божественного вмешательства, чтобы люди могли его пересечь. В Нав 3:1–5:1 и 4 Цар 2:7–14 воды разделяются одним и тем же божественным вмешательством, и в каждом случае переправа влечет смену состояния: в Нав 3:1–5:1 израильтяне вступают в Ханаан и полностью преображаются, становясь богоизбранным народом, исполнившим свое предназначение; в 4 Цар 2:7–14 Илия взят на небеса, и это подтверждает, что он – пророк Божий, а Елисей, наследуя одеяние предшественника, подкрепляет свой пророческий статус. Подобное представление Иордана, демифологизированное, но все же символичное, существовало рядом с гораздо более мифологизированным в одно и то же время и, по-видимому, это совершенно никому не мешало.
Осознав, что в библейских повествованиях и поэзии нам явлены изменчивые и многозначные образы, связанные с Иорданом, легко согласиться с Брауном в том, что господствующий символизм крещения, совершаемого Иоанном Предтечей – символизм, о котором столь упорно свидетельствуют библейские тексты – принимает характер обряда перехода, исполненного в точности «на границе, у самого входа в Землю Обетованную»[408]. Как утверждает Браун, «Иоанн устраивал символический исход из Иерусалима и Иудеи как предваряющий шаг к тому, чтобы вновь перейти Иордан – как раскаявшийся, освященный Израиль, – и снова потребовать обратно землю в символическом воссоздании возвращения из Вавилонского плена»[409]. В то же время, хотя ученые и согласны с тем, что Иоанн, совершая свое крещение, стремился воспроизвести завоевание Ханаана, наполненное образами возвращения в Землю Обетованную после Вавилонского пленения, ограничение скрытого символизма, связанного с переходом через Иордан или погружением в его воды, только сравнением с Нав 3:1–5:1 и 4 Цар 2:7–14, упускает важную традицию, способную расширить наше понимание всей значимости крещения, совершаемого Иоанном. Эта традиция, сохраненная в 2 Цар 19, признана лишь недавно и пока что еще не играет важной роли в дискуссиях об историческом символизме и литературном значении Иоаннова крещения[410].
Переход через Иордан. Отвага Давида
В другой своей работе я анализировал переход Давида через Иордан, описанный в 2 Цар 19, как отчет о предположительно исторической переправе, превращенный в повествование[411]. В сущности, если исходить из того, что «обряд» повторяется неоднократно, несколькими участниками, для которых он и устроен, 2 Цар 19 ни о каком обряде перехода не говорит[412]. Скорее…
…действия, совершаемые Давидом во время перехода через Иордан… ритуальны в той мере, в какой они создают впечатление участия в обряде, в то время как никакой обряд явно не предполагается. Более того, здесь речь не идет об историческом переходе Давида через Иордан, напротив – это рассказ о подобной переправе, превращенный в повествование, и он задуман именно с целью проявить ритуальное дополнение обыденных действий, призванных к тому, чтобы переправиться через реку – эта черта характерна и для ряда иных перикоп, посвященных переходу через Иордан (Нав 3–4, 4 Цар 2:1–18). Переход Давида через Иордан в 2 Цар 19 следует рассматривать как действие, в котором обычные аспекты перехода реки вброд, – помощь товарищей, трудности при переправе и т. д. – были преувеличены, и как событие, имевшее последствия для последующего положения Давида в обществе Иудеи и Израиля[413].
Текст представляет собой «ритуализированное повествование» о переходе Давида через Иордан, в котором само литературное описание имеет оттенок «определенных традиций ритуального действия – внешне или по сути – без необходимости изображения обряда per se»[414]. Дальнейшее обсуждение я построил на модели обрядов перехода, которую сформулировал Арнольд ван Геннеп и уточнили Виктор Тёрнер и другие[415]. Я утверждаю, что временное пребывание Давида в Трансиордании дает основание для преображения его статуса: из свергнутого царя он становится восстановленным монархом. Сам переход от лишенного прав простолюдина к взошедшему на престол монарху уже отражает переходную стадию развития традиций, предшествующих девтерономистической эпохе: таким традициям свойственны описания царей, восходящих на престол или жаждущих на него взойти, и царских путешествий – сперва на восток, через Иордан, а затем обратно в Ханаан с возросшим влиянием[416]. В ранних рассказах о судьях и героях-избавителях (напр. Аод в Суд 3:15–23, Гедеон в Суд 7:24 – 8:21 и Саул в 1 Цар 11:1–11) переход через Иордан не осмысляется как преображающее событие; кроме того, в них также отсутствует, по крайней мере с точки зрения повествователя, активное стремление протагониста к царской власти. Скорее именно тем, что под руководством каждого протагониста одерживается победа, подтверждается то, что он достоин быть предводителем израильтян, что и дает повод для повышения его статуса. Цель перехода через Иордан в этих повествованиях всегда приземленна и определяется логикой военной стратегии. Но когда наложения касаются хронологически более позднего эпизода – 2 Цар 19, в котором, опять же, изначальная логика, лежащая в основе пребывания Давида в Трансиордании, вовсе не была преображающей, а диктовалась предпочтением безопасного региона опасному Иерусалиму, в котором властвовал Авессалом, – резче проявляется и иное назначение восточного берега Иордана как такого места, где можно безопасно укрыться и переждать угрозу. В свете наших исследований особенно интересно, что этот эпизод также происходит у бродов Эль-Махтас/Хаджла, в том самом месте, которое раннехристианская традиция позже соотнесла с местом служения Иоанна и крещения Иисуса.
Роль временного пребывания в безопасной Трансиордании в том виде, в каком говорят об этой роли библейские рассказы, станет яснее, если мы снова рассмотрим пророческие традиции, связанные с Илией и Елисеем. Хотя и кажется, что основой такого преображения стало более позднее развитие хронологически предшествующего литературного мотива, в соответствии с которым переход через Иордан придает законную силу претензиям героя на власть и принятию этой власти[417], текстуальное сопоставление Нав 3:1–5:1, 2 Цар 19, 4 Цар 2:7–14 и евангельских рассказов о крещении Иисуса образует сложную интертекстуальную сеть, в которой переход через Иордан и погружение в его воды символизируют обретение власти в полной мере, а в частности в Евангелиях – исполнение пророчества о восшествии Иисуса на престол Царства.
Заключение
Тема перехода через Иордан в качестве символически зашифрованного выражения, призванного сообщить о вступлении в роль предводителя, возникла в эпоху Второго Храма не только в евангельских рассказах о крещении Иисуса (Мф 3, Мк 1, Лк 3; и в какой-то мере Ин 1), – в которых погружение в Иордан служит pars pro toto[418] полного двойного перехода через реку и обратно[419], – но и в некоторых притязаниях «лжепророков», о которых повествует Иосиф Флавий. В дни прокураторства Куспия Фада (44–46 гг.) самозваный пророк Февда (Тода) «уверял, что прикажет реке [Иордану] расступиться и без труда пропустить их» (И. Д. XX, 5.1, ср.: Деян 5:36). Позже, когда прокуратором был Феликс (52–60 гг.), безымянный египтянин заявлял, что уведет своих последователей в пустыню, а затем проведет их «кружным путем» назад в Иерусалим (И. В. II, 13.5; И. Д. XX, 8.6; Деян 21:38). Общепризнано, что эти честолюбивые предводители и другие «пророки» стремились упрочить свое сакральное и политическое лидерство, совершая путешествия из Иерусалима и обратно, и при этом в проповедях своих они полагались на прекрасно известный метафорический образ Исхода из Египта и завоевания Земли Обетованной, а также на сопутствующую ассоциацию своих последователей с возрожденным Израильским царством[420]. Однако, насколько мне известно, никто в достаточной мере не соотносил аспекты пребывания на безопасной земле и претензии на власть с рассказом о том, как Давид переходил через Иордан (2 Цар 19).
Это явное невнимание слегка удивляет, ведь большинство комментаторов признает топографическое своеобразие места крещения точно в той области, где израильтяне вошли в Ханаан[421]. Тем не менее представляется возможным вдохнуть новую жизнь в современные исследования Нового Завета при помощи относительно старой идеи, согласно которой соотнесение места, где крестил Иоанн, с системой бродов Эль-Махтас/Хаджла еще ярче подчеркивает новозаветные параллели между личностью Иисуса и личностью царя, давшего имя роду Давидову, о котором повествует 2 Цар 19. Главная роль, отведенная крещению Иисуса в текстах Матфея и Марка, не только становится частью символизма эсхатологического преображения сынов Израилевых (Нав 3:1–5:1), но также характеризует Иисуса как господствующего Мессию, нового царя Израильского (2 Цар 19). Этот аспект крещения как признания права на царство не был рассмотрен в исследовании Уэбба, поскольку представляет собой эффект литературного сопоставления рассказов о крещении (которые и сами по себе являются сюжетными воплощениями предполагаемого исторического события) с литературными и религиозными традициями, ясно показанными в библейских текстах. Другими словами, я не утверждаю, будто притязание на царство было историческим элементом крещения, которое совершал Иоанн; скорее это литературное утверждение, и сделали его авторы Евангелий, используя отсылки и аллюзии к Ветхому Завету, а также (часто неявное) отождествление места, где вершилась миссия Иоанна, с системой бродов у южного конца Иордана.
Несомненно, справедливо утверждение, согласно которому ни Иоанн, ни Иисус даже не думали, будто претензия на царство – это доминирующий богословский элемент миссии Иоанна. По-видимому, Иоанн крестил многих, но только один признан мессией в Евангелиях. Но именно то, что Евангелия сосредоточены на Иисусе, отделяет его от других – как особенную и единственную в своем роде личность, наделенную символическим правом унаследовать это царство. Так же как в 2 Цар 19 многие незначительные персонажи переходят Иордан, не обретая при этом монархических прерогатив, так и в Евангелиях сюжетное повествование отражает событие так, чтобы потом признанные выводы о персонаже были очевидны в контексте самого события. Одним словом, верил ли в тот миг Иоанн в то, что крещение Иисуса в Иордане – это знак воцарения Иисуса, понимал ли он это (и считал ли так сам Иисус) – это неважно: сюжетное повествование, на которое по-своему повлиял каждый евангелист, рассматривает крещение Иисуса в свете древних библейских традиций, по сути признавая в Иисусе и торжественно избранного пророка, и утвержденного Царя Израильского.
Городская архитектура римского Востока и образ империи
Габриэль Мазор
В последние десятилетия специалисты по Новому Завету стали свидетелями постепенной, но совершенно необходимой смены спектра исследований, связанной с применением новых методологических подходов. Исследования исторического Иисуса ввели в традиционный теологический дискурс, прежде скованный немалыми ограничениями, новые сферы знаний: археологию, еврейскую историю и раввинистическую литературу. Для того чтобы лучше понять еврейскую культурную среду времен Иисуса, мы изучили и пересмотрели итоги ряда археологических раскопок, проведенных в еврейской Галилее и Иерусалиме, на территориях, имеющих отношение к периоду Второго Храма[422]. И все же спектр исследований должен быть значительно шире. Под властью имперского Рима, в дни Pax Romana (пусть они порой и прерывались кровавыми столкновениями), упомянутый регион испытал серьезное влияние римской идеологии и образа Римской империи, – это стало важнейшей культурной стадией в романизации, и степень этого влияния, как и его последствия, равно так же необходимо оценить.
В период между сражением при мысе Акций (сентябрь 31 г. до н. э.) и изданием акта о «восстановлении республики» (январь 27 г. до н. э.) была заложена основа новой империи, оформленная в государственной идеологии ее первого правителя[423]. Титулы, которые он приобрел – Август[424], принцепс[425], Отец Отечества[426] и император — отражают не только гений императора, но и образ созданной им империи.
В своем классическом шедевре – Римская Революция — Рональд Сайм посвятил целую главу тому, как формировалось такое мнение[427]. Привлекая внимание к обилию поэтических строк, прославлявших идеологию, Сайм показывает, как имперская образность утверждалась через литературу[428], и как роль Октавиана Августа в этой благородной, трудной и священной задаче восхвалялась Вергилием: «Вот он, тот муж, о котором тебе возвещали так часто: Август Цезарь, отцом божественным вскормленный, снова век вернет золотой на Латинские пашни» (Эн VI, 791–793)[429]. Спустя полвека Вильям Макдональд, равно так же как и Сайм, уделял внимание литературе и утверждал: «…искусство и архитектура, должно быть, представляли собой движущие силы столь же мощные и орудия столь же эффективные, как и любые иные, какие были призваны формировать общественное мнение и распространять имперскую образность по всей обширной территории империи»[430]. По мере того как империя Августа возрождалась из пепла, новая образность, новая идеология и новая культура вышли на первый план и открыто утверждались во вновь созданной имперской урбанистической архитектуре, которая к 14 г. до н. э. уже упрочила свое положение. И пусть она восходила к самым разным культурным истокам, проистекавшим на благодатной почве различных традиций, имперское градостроительство и в частности архитектура оформились в Средиземноморском регионе в объединяющий культурный элемент, своего рода койне, и немалую роль в этом сыграли восточные провинции Римской империи.
Когда Помпей завоевал Восток (64/63 г. до н. э.), Келесирия стала римской провинцией – и в ней началась новая эра. По словам Иосифа Флавия, многие греческие полисы, прежде разрушенные Хасмонеями и пустовавшие много лет, получили от Помпея свободу, потом их восстановил и перестроил Авл Габиний, и туда вернулись законные жители и новые поселенцы (И. В. I, 8.6; И. Д. XIV, 5.2–4)[431]. Так что градостроительство в этом регионе было не римским новшеством, а наследником давней и глубоко укорененной традиции, установленной династиями эллинистической эпохи (Птолемеями или Селевкидами) еще в III–II вв. до н. э.
В эллинистический период в Келесирии – и на побережье, и вдали от моря, в глубине страны, и в так называемом Декаполисе в Трансиордании[432], – было основано более тридцати полисов. Одни восходили к финикийским поселениям, другие – к семитским, и лишь немногие строились «с нуля»[433]. Населяли их в большинстве своем местные жители, меньшую же часть граждан составляли греки различного происхождения. Названия, культура, административный аппарат и язык во всех полисах были греческими[434]; впрочем, исследователи в последнее время спорят о том, сколь много значила традиционная греческая культура в этой области в эллинистический период и как сильно она повлияла на регион[435]. Но в любом случае, какую бы форму ни приняла эта культура, позже, когда геополитический статус стал другим и эллинистические полисы превратились в греко-римские города, она видоизменилась. Надпись, обнаруженная в Нисе-Скифополе на пьедестале статуи, посвященной Марку Аврелию, свидетельствует о том, что граждане города больше тяготели к культуре греков: примерно спустя четыре столетия после основания города они называют себя «народом Нисы, также называемой Скифополем, греческим городом Келесирии»[436].
Вскоре после римского завоевания, в последней четверти I в. до н. э., интенсивное градостроительство с воодушевлением продолжил царь Ирод Великий, вдохновитель архитектурных инициатив и пылкий приверженец архитектурного стиля, культуры и образности Римской империи[437]. В честь Октавиана Августа он основал Себастию и Кесарию Приморскую с ее прекрасной глубоководной гаванью, а кроме того, посвятил гению императора три храма (в Кесарии, Себастии и Панеаде)[438]. По свидетельству Иосифа Флавия, Ирод перестроил другие города своего царства, в том числе Иерусалим, Ашкелон, Анфедон, Антипатриду и Габу[439], возвел великое множество грандиозных сооружений в ряде городских центров Провинции Сирия – в Берите, Тире, Сидоне, Дамаске, Лаодикее и Антиохии, и щедро спонсировал архитектурные замыслы в Малой Азии[440]. Его потомки основали свои города: Архелаю, Тивериаду, Сепфорис, где жили евреи, а также Вифсаиду Юлию и Кесарию Филиппову[441].
На протяжении I–II вв. и даже в III–IV вв. появление новых городских центров время от времени ассоциировалось с различными императорами, скажем, с Веспасианом (Флавия Неаполис), с Траяном (Бостра), с Адрианом (Элия Капитолина), с Филиппом (Филиппополь) и с Максимианом (Максимианополь)[442].
Около тысячи автономных городских образований, соединенных сложно устроенной сетью дорог, составляли обширную Римскую империю. Она охватывала все Средиземноморье, разделившись на провинции, подчиненные относительно небольшому административному механизму. Ключевым фактором, который обеспечивал эффективность имперского контроля, была взаимно замкнутая сеть городов и дорог: города почти всегда располагались на перепутьях, благодаря чему их главные артерии и дороги местного значения становились частью общей системы, как будто вплетаясь в нее[443]. При основании города в первую очередь освящались его границы – его померий, сакральный предел, очерчивали, распахивая землю священным плугом, и с точки зрения идеологии и образности церемония эта была невероятно важной[444]. Затем на померии, именно там, где завершались основные местные дороги, достигавшие перепутья, на котором строился город, и входившие в него по главным улицам (кардо и декуманус максимус), возводились городские ворота, часто стоявшие отдельно, а за ними в восточных провинциях империи начинались монументальные колоннадные улицы[445]. Как считает Пол Занкер, сеть дорог, пересекающая город, подразумевает чувство причастности к чему-то большему (res publica romana)[446]. Теперь города физически соединялись друг с другом, их стиль становился визуально и символически гармоничным и единым, и они создавали койне, призванный охватить всю империю, или, согласно Макдональду, «коллективную идентичность, в которой целое полагалось большим, чем сумма его частей»[447]. Архитектура и градостроительство сплетались в ясную и четкую систему имперских образов и повсеместно придавали городскому быту Римской империи гармоничную однородность, а сама образность провозглашала важную весть романизации и эффективно служила имперской культуре и идеологии Рима.
Для образности Римской империи времен принципата была характерна идея Pax Romana; эта же идеология влияла на римскую внешнюю политику и систему обороны. Эту концепцию поэтически изложил грек-оратор, – а потом, через тысячу лет, ее методично проанализировал военный историк. В 155 г. н. э. Элий Аристид в присутствии Антонина Пия прочел свой панегирик, прославив Pax Romana, и даже «высокий стиль», полный клише и гипербол, отличавших эллинистическую ораторскую традицию, не помешал ему выразить имперскую образность, дух и идеологию[448]. Спустя восемнадцать веков, изучая политику, которую Римская империя в разные периоды проводила в области обороны, Эдвард Люттвак назвал систему Юлиев-Клавдиев «гегемонистской империей»[449]. По его словам, римская внешняя политика управляла разнообразными периферийными зонами, которые могли пребывать под частичным контролем Рима, испытывать влияние римской дипломатии и состоять из полуавтономных областей, частично подвластных империи, или же полностью подчиненных провинций. Имперская система защиты границ в областях, наделенных степенью автономии, мобильные легионы в провинциях и эффективное использование высокоразвитой сети дорог – вот благодаря чему возникла в высшей степени цельная систему обороны, оберегавшая Pax Romana. В силу практических, экономических и стратегических причин большинство городов в огромной империи, и в том числе сам Рим, не обносились стенами. Порой строительство стен даже воспринималось как бунт – так, например, расценили попытку восстановить стены Иерусалима, которую предпринял Агриппа (41–44 гг. н. э.); ее тут же пресек Клавдий. По тем же причинам Иосиф Флавий перед Первой Иудейской войной прежде всего, помимо прочего, возвел укрепления в ряде еврейских городов (Иотапата, Гамла, Тивериада, Сепфорис) и деревень Галилеи[450]. В отсутствие стен городские пределы указывали, во-первых, померий, наделенный сакральным смыслом, – он обозначал границы для всех, кто подчинялся закону, – а во вторых, ворота (ἱερᾷ καὶ ἄσυλος καὶ αὐτόνοµος – «святые, оберегающие, независимые»), в то время как юрисдикцию города отмечала его хора, земля, на которой граждане занимались сельским хозяйством. Так выражались влиятельная идеология и яркая образность города, его своеобразие, единство, чувство того, что граждане к нему сопричастны, его святость, его четко установленные границы, закон и порядок[451]. В Сирии Палестинской и Аравии, провинциях римского Востока, в греко-римском градостроительстве отразилось широкое многообразие идей, ставшее итогом культурных и архитектурных городских традиций, топографии и самых разных факторов, влиявших на городское планирование. Антиохия, Апамея и даже до какой-то степени Дамаск, сумевшие развиться из важных эллинистических городских центров, а также города, подпавшие под влияние их культуры – скажем, та же Кесария Приморская – в своей римской планировке остались, в общем-то, верны традиционной гипподамовой системе, в то же время заменив величественные платеи на кардо или декуманус максимус[452]. Некоторые города переняли римскую ортогональную планировку либо в традиционном виде, как Гераса или Филиппополь, либо в более свободной форме, которая менялась в зависимости от разных факторов или препятствий или же приспосабливалась к ним, – к последним городам относятся Бостра, Пальмира, Баальбек и Элия Капитолина. Другие города (Себастия, Флавия Неаполис, Гадара, Гиппос и Петра) развивались вокруг главной магистрали – монументальной декуманус максимус, или, как Тивериада, вокруг кардо максимус. Сепфорис, Филадельфия, Канафа и Ниса-Скифополь в связи с неровным рельефом местности сделали планировку полуортогональной[453]. Центр города также оказывался разным: его могли встроить в ортогональную планировку, сделав центрированным (Филиппополь), разрозненным (Бостра) или выстроенным вдоль главной магистрали (Гадара, Гиппос, Флавия Неаполис), а могли и расположить отдельно от других районов (Гераса, Канафа). Городской форум – в тех областях, где говорили по-гречески, его называли агорой, – не всегда был фокусной точкой городского центра и не всегда вмещал гражданскую базилику или храмы. Ниса-Скифополь и Элия Капитолина отражают необычный для региона модель: ядром городского планирования, вокруг которого развивается центр города, здесь становится агора, на которой расположены и базилика, и храм. Эта необычная для востока планировка сложилась, по-видимому, под влиянием Запада в эпоху Римской республики[454].
Согласно Занкеру, агора, символически объединившая две крайности – городскую автономию и абсолютную лояльность Риму, – в облике комплекса, который, подобно римскому Капитолию, включал помимо форума также храмы, святилище-иерон и алтари, отражает политико-религиозную концепцию, скрытую в сути делового центра римского города[455]. Переплетение священного и политического пространства – это выражение идеологического представления Рима о центральной власти и официальной имперской образности. Кроме того, это проясняет, как функционировал политический механизм Римской империи. Базилика (на Востоке – «базилика стоя», στοά βασίλειος), политический и юридический центр города, в скором времени преобразилась (сперва на Востоке, в Нисе-Скифополе и Пальмире, а затем и на Западе – в Риме, Кирене и Лептис-Магне) в кесариум, связанный с культом правителя, обрела экседру со статуями императора и богини Ромы и во времена Августа стала несомненным символом почитания и прославления императорского гения; император к тому времени уже обладал титулами принцепса и великого понтифика[456].
В творческую суть имперской архитектуры вплелись две главные черты: во-первых, классический греческий лексикон, связанный с формами и ордерами, знак близкого знакомства и тесной связи с панэллинистическими и республиканскими истоками империи, а во-вторых – стремление новой эры к экспериментам и творческому своеобразию. Вот что утверждает Макдональд:
…архитектурные элементы… неотъемлемо присущие символизму империи, вышли на первый план во времена Августа, когда их имперский посыл прозвучал особенно сильно. …Новый путь… оригинальный и побуждающий к действиям… содержал традиционные элементы [и] предполагал обращение к истокам… и преемственность: суть его составляли греческие идеи, переосмысленные и видоизмененные римлянами[457].
Таким образом, архитектура отражала двойственный образ империи, утверждая, что традиции все еще сильны, но что при этом наступила новая эра.
Восточные провинции, архитектура которых уже была давно и тесно связана с традициями эллинистической эпохи, быстро и охотно приняли новое направление, изменившее облик имперской иконографии, и Ирод играл в этом роль первопроходца[458]. Такое чувство, что Восток стал огромной лабораторией, в которой с традиционным архитектурным лексиконом эллинистической эпохи сплетались архитектурные идеи и концепции новой империи, неведомые прежде. Со временем последние слились с западными архитектурными представлениями и символизмом, и по мере того, как эти идеи приводились в равновесие и претворялись в жизнь, они распространились по всей империи. Так средиземноморские города объединялись в архитектурный койне – и начинали походить друг на друга, словно маленькие подобия Рима. Их архитектура, отражая свойственную им образность, служила движущей силой империи в повседневной жизни: связь людей и зданий становилась крепче. Таким был главный символ и многонациональной ткани римской имперской цивилизации, и самой сопричастности к римлянам.
Как считает Макдональд, имперская архитектура освободилась от греческих корней, когда перешла к экспериментам с новым отношением к городскому пространству и к творческим архитектурным композициям. Базовые геометрические формы, лишенные украшений, уступили сочетаниям форм, распределенных гармонично, с учетом масштаба и смысла, и подчеркнутых сложной системой декора, изысканной перспективой и эффектом светотени[459]. Макдональд утверждает: «Римскую архитектуру можно определить как свод законов, воплощенных в каменной кладке. Она вызывала у людей ответный отклик через формы, призванные наставлять и поучать, и с той же целью применяла основные геометрические фигуры, чью выразительную силу, по замыслу творцов, должны были признавать и немедленно постигать все, кто обладал способностью чувствовать»[460]. Новая архитектура провозглашала имперские лейтмотивы: стойкость, устремленность к цели, постоянство, стабильность и безопасность. По мнению Макдональда, в иерархичном, уравновешенном и в высшей степени гармоничном расположении архитектурных особенностей, наделенных глубоким смыслом, нашли свое отражение те же самые основания, какие были свойственны пирамидальной структуре империи[461], а именно – ее эффективный механизм управления, ее прекрасно организованная, пусть и распределенная, администрация, ее армия, ее правовая система и, конечно, само устройство римского общества.
Колонны, главные структурные элементы традиционных и прекрасно знакомых классических ордеров, совершенно свободные от любых ограничений, получили в имперской архитектуре новое определение. Их сместили ближе к стене, и колонны потеряли свой структурный raison d’être[462], но обрели другие эффекты: декоративный, художественный и символический. Колонны с их осевой симметрией не тяготели к определенному направлению и в высшей степени легко адаптировались к любому положению. Коринфская капитель с ее диагональными завитками, лишенная четкой направленности, хорошо подошла новой модели и поэтому была довольно популярной в имперской архитектуре. Колонны, возведенные вдоль фасадов с их замысловатыми стенами, стали невероятно живописными. Они создавали изысканный ракурс и яркий узор, заметные еще ярче благодаря гармоничному эффекту светотени. Колонны играли роль роскошного декора монументальных фасадов, украшая арки (Оранж), ворота (Гераса), фасад театральной сцены (Ниса-Скифополь), нимфеум (Милет) и многие другие прекрасные памятники (Библиотека Цельса в Эфесе, «Мраморный двор» в Сардах), а мрамор и гранит с их богатыми оттенками творили новую, искусно украшенную, величественную архитектуру, подобную стилю барокко[463].
Даже когда колонны использовались как структурный элемент, творческое своеобразие все равно проявлялось. Колоннадные улицы, градостроительное новшество Востока, очень быстро начали свой эпохальный путь на Запад, придав новый смысл главным дорогам, соединенным по оси[464]. Грандиозные, прекрасные колоннады видоизменили привычную улицу в объемный, более выразительный в перспективе и независимый архитектурный ансамбль, – своего рода центр, источник, рождавший чувство направленности, постоянства, стабильности и безопасности. Колоннадная улица с ее затененными портиками, с разными украшениями каркаса, возведенными на всем ее протяжении, – их роль играли пропилеи, нимфеумы, экседры, – отражала пространственную архитектуру стилизованного градостроительства, производившую в высшей степени театральный эффект. Тем не менее, несмотря на свою монументальность, эта архитектура была общественной, практичной, соразмерной людям, открытой и чуткой и к их потребностям, и к понятной им образности. Через связь всей городской архитектуры – то есть всех зданий, связанных с властью (агора, базилика), с религией (храмы, святилища, алтари), с повседневной жизнью (театры, амфитеатры, бани, рынки) – создавался уравновешенный, гармоничный и впечатляющий своим величием городской декор. Колоннадные улицы помогали организовать плавное и целенаправленное движение, наполняя смыслом повседневную городскую суету, и тем самым повсеместно создавали согласованную однородность жизни в римском городе для граждан[465].
Изысканные фасады – нимфеумы, декорации позади театральных сцен, библиотеки, мраморные дворы римских терм, арки и городские ворота – выступали свидетельством живописной архитектуры, призванной отразить, сколь много в то время значили имперская образность и отождествление с империей. Эдикулы, пилястры и отдельно стоящие на пьедестале колонны придавали фасадам еще больше монументальности в духе барокко[466].
Искусно продуманная декоративная первооснова системы образов, связанных с гражданственностью, выраженная не в функциональном градостроении, а в возведении гармоничных и живописных зданий в самых разнообразных масштабах – от грандиозного до миниатюрного – быстро обрела в провинциях римского Востока статус лингва франка в архитектурном декоре городов. В ней всегда сохранялась строгая симметрия, гармонично структурированная ясно выраженным повторением частей и композиционных мотивов, представленных на осевой линии в обрамлении второстепенных сопровождающих элементов. Уравновешенность привлекала внимание к главной детали, расположенной в центре. На храмовых фасадах, служивших главным композиционным элементом арок, в эдикулах и на пропилеях находили свое отражение общепризнанные религиозные образы, исполненные глубочайшего священного смысла. Триада создавала яркий имперский образ и символизировала безопасность, отражая посыл, неотъемлемо присущий имперской идеологии и системе образов, – поскольку пребывала в равновесии и, подобно пирамидальному устройству общества, свидетельствовала о первостепенной важности веры, божественности, памяти или социально-политической концепции. Тем не менее сама архитектура была, по существу, народной, масштаб ее в полной мере соотносился с восприятием пешехода, она оказалась практичной и доступной, и города восточных провинций охотно ее приняли.
В период принципата городские центры по всей огромной Римской империи и в особенности на Востоке, как в этнически еврейских, так и в греко-римских поселениях, принимали участие в «формировании мнения». В архитектуре, выбранной для градостроительства, они утверждали общественно-политический койне имперской образности, а также культуру и идеологию Римской империи. Это происходило по всей империи, шаг за шагом, но поразительно быстро, и апогей такой практики пришелся на конец II в. н. э. Там же, в это же время, в одном и том же культурном и социально-политическом окружении, развилось христианство, постепенно превратившись из сельского еврейского культа (Eclesia ex circumcisione, «Церковь обрезания») в городскую религию (Eclesia ex gentibus, «Церковь язычников»)[467]. Разумно предположить, что культурные и социально-политические модели, усиленные идеологией и образностью империи и утвержденные в имперской архитектуре; служили мощной движущей силой и эффективным инструментом в формировании мнений и помогали распространять не только систему образов Римской империи, но и образность и идеологию христианства. Значимость римской имперской архитектуры и римского градостроительства не уменьшилась и в ту эпоху, когда на римский Восток проникло христианство и началась история ранней Византии. Все греко-римские полисы сохранили свой величественный облик – разве что заменили храмы на церкви. К слову, церкви располагали именно в римских гражданских базиликах, и такие архитектурные предпочтения вовсе не случайны. Внутреннее пространство базилики должным образом оформили в согласии с триадической системой духовных образов, на ее прекрасных мозаичных полах вольно запечатлели религиозные повествования, и воздействие ее образов и идей не ослабло ни на миг даже в ту эру, когда и саму память о Римской империи окутал туман забвения[468].
Иисус и нумизматика. Роль монет в воссоздании образа и мира Иисуса
Дэвид Хэндин
Нет никаких сомнений в том, что монеты времен Иисуса могут помочь нам воссоздать некоторые аспекты мира, в котором он жил, а также лучше понять людей, живших в то время.
Чеканные монеты были лидийским изобретением конца VII в. до н. э. Их ввели в обращение на Древнем Ближнем Востоке в начале V в. до н. э.[469]. Однако монеты не сразу заменили предыдущую экономическую систему, построенную на бартере и использовании взвешенных металлов[470]; этот процесс шел долго и медленно[471]. Впрочем, к I в. н. э. монеты применялись уже широко, наряду со старыми экономическими системами[472].
Согласно Евангелиям, Иисус прекрасно осознавал значимость денег – и монет, и иных форм валюты. При его жизни бронзовые монеты различного номинала чеканились в Галилее, Иудее и Самарии, более того – в этих областях находились в обращении многие серебряные монеты, даже несмотря на то, что они в указанный период там не производились. Иными словами, и «бронза», и «серебро» были в широком ходу, – а значит, Иисус, много странствующий по этим краям, был знаком со способами применения денег, включая использование монет в крупных и мелких сделках[473].
Сто лет тому назад Эдгар Роджерс, священник и нумизмат, позволил себе высказать мысль, актуальную до сих пор:
К сожалению, существует очень мало заслуживающих доверия оценок денежных сумм, упомянутых в Новом Завете. Может быть, столь тотальная критика покажется дерзкой и неуместной, однако факт остается фактом: многие превосходные Толковые Библии и Библейские словари, как ни прискорбно, создают совершенно ложное представление о деньгах в Новом Завете[474].
Кроме того, путаница восходит еще ко времени издания Библии Тиндейла (1525 г.) и последующей версии – Библии короля Якова (1611 г.) – и к возникшим в те дни прецедентам. Неудивительно, что авторы этих переводов имели склонность «перетолковывать номиналы древних монет, встречающихся в греческих, латинских и еврейских библейских источниках, в соответствии с достоинством английских монет XVI–XVII вв.»[475].
Таким образом, эти классические переводы Священного Писания дают нам больше информации о монетах, которые были в ходу в Королевстве Англия в начале Нового времени, а не в Древней Галилее или Иудее! Например, древнегреческое слово λεπτόν, призванное описать монету наименьшей ценности, – возможно, половину пруты[476] или кодранта, – стало передаваться словом mite. Это слово из древненидерландского языка, и означает оно «маленький обрезок»; монета с таким названием действительно была в обороте во Фландрии в XIV веке. Монета, именуемая драхмой или динарием, стала серебряным «пенни» из-за британских серебряных пенни, находящихся в обороте в те дни. Собственно, до сегодняшнего дня в Англии принято использовать для одного пенни аббревиатуру – 1d, которая восходит к римскому динарию, бывшему в ходу около двух тысяч лет назад.
В дополнение к подобной путанице библейские источники при упоминании монет почти никогда точно не называют конкретный тип монеты, и остается лишь экстраполировать на текст иную доступную информацию, используя в качестве источников данные археологических раскопок или сами монеты. Однако исследование этих монет может помочь нам лучше понять Иисуса, его мир и евангельскую историю.
Одна из самых важных функций денег, которую можно напрямую соотнести с жизнью Иисуса, была связана вот с чем: еврейским паломникам требовалось обменивать деньги, когда они приходили в Иерусалимский Храм. Например, в Деяниях сообщается, что в праздник Пятидесятницы «в Иерусалиме находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом» (Деян 2:5). Иными словами, множество иудеев со всех концов Древнего мира совершали путешествия на Святую Землю. Паломники приносили с собой не только особые традиции и языки, но и имущество, в том числе деньги в родной валюте или монеты, которые им принесла торговля в дороге.
Похожим образом обстояли дела и в других активно посещаемых областях Древнего Ближнего Востока, где в одном и том же месте можно было встретить множество самых разных видов монет, стандартов веса и систем денежного обращения, благодаря чему развивалась сеть независимых меновщиков. Они выполняли очень важную функцию, особенно в Иерусалиме, где по прибытии еврейским паломникам нужно было обменять их привезенные деньги на серебряные тирские монеты, чтобы оплатить ежегодную пошлину, равную половине шекеля, на нужды Иерусалимского Храма[477]. Более того, поскольку чужестранцы не брали с собой в путь много мелких денег, эти меновщики, или, проще, менялы, также выполняли важную функцию по размену монет более крупного номинала на мелочь, необходимую для повседневной купли-продажи или оплаты услуг.
Обмен валюты в Древнем мире был таким же бизнесом, как и сегодня – в аэропортах и городах по всему миру. Сегодня, меняя валюту, мы платим комиссию. Точно так же все обстояло и две тысячи лет назад. Менялы взимали небольшую плату, которая в раввинистической литературе названа словом «колбон» (м. Шкал 1:6) – возможно, оно происходит от похожего греческого слова κόλλυβος, «маленькая монета».
В подобном деле часто случались злоупотребления. Яаков Мешорер отмечает: «Большая часть храмовых доходов поступала от евреев, приходивших туда, чтобы исполнить свой религиозный долг. Поэтому совсем неудивительно, что это приводило к волнениям и противостояниям»[478]. Возможно, многие возрадовались тому, как «вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков» (Мф 21:12)[479].
В Евангелии от Иоанна при описании этих событий «меновщики» (Ин 2:14) обозначены греческим словом κερµατιστής, восходящим к слову κέρµα, дословно «маленькие кусочки», иными словами, «мелочь». Подобное именование указывает и на то, что в древней Палестине монеты в прямом смысле слова рубили на части, и эти фрагменты, так называемое «рубленое серебро», использовались для размена. В I в. н. э. рубили для размена и бронзовые монеты, но обычно не на мелкие кусочки, только пополам[480].
Столы, опрокинутые Иисусом, были характерной частью процесса обмена валюты. В Евангелии от Матфея есть строки: «…посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью» (Мф 25:27). Греческое слово, переданное как «торгующим», в оригинале выглядит как τραπεζίταις и восходит к слову τράπεˆζα, «стол». В данном контексте менялы становятся банкирами: они могут принять деньги на хранение и вернуть их позднее с процентами. Хотя Закон Моисеев содержит отдельный запрет на подобную деятельность (Втор 23:20–21), его толковали по-разному, и, как замечает Дэниел Спербер:
Деятельность еврейского банкира, шулхани[481], была вполне определенной природы, поскольку все сделки он должен был вести в соответствии с библейским запретом на получение выгоды. В Талмуде есть много упоминаний о деятельности таких банкиров. Еще одной интересной особенностью этого дела была выдача денег, оставленных на хранение, по первому запросу[482].
История о монете во рту у рыбы также показывает, сколь много значили деньги в мире Иисуса:
Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с посторонних? Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны; но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир[483]; возьми его и отдай им за Меня и за себя (Мф 17:24–27).
Ежегодно в начале месяца Адар, прежде Песаха, еврейские чиновники собирали налог для Храма. Для взыскания этой подати на пятнадцатый день месяца Адар по всей стране ставились столы менял[484]. Через десять дней менялы прекращали сбор денег на местах и возобновляли свою деятельность при Иерусалимском Храме (м. Шкал 1:3).
Эту подать платили практически все евреи, в том числе и те, кому не особо приходилось по душе то, что происходит в Иерусалимском Храме. Как законопослушный иудей, соблюдавший предписания, Иисус знал об этом ежегодном налоге для Храма, мы видим это в Евангелии от Матфея (Mф 17:24–27). Нам не сообщают о том, какие действия повлекло за собой наставление Иисуса, но если монету во рту рыбы нашли, то из описания, приведенного в Евангелии от Матфея, становится понятным, что это был тирский шекель: ежегодный храмовый налог составлял половину шекеля, и в общей сложности нужно было заплатить именно шекель – за Иисуса и за рыбака Петра[485].
Тирский шекель и тирские полшекеля, наряду с другими монетами, имели хождение в Древней Иудее и Галилее[486]. Известно, что тирские монеты принимались в качестве оплаты храмовой подати, отсюда и значение менял при Храме. Как это ни парадоксально, но из-за чистоты серебра и точности веса в Храме использовались именно тирские монеты, хотя на них было выгравировано изображение бога Мелькарта, тирской версии Геракла. Высокий авторитет тирских монет позволяет предположить, что именно они имеются в виду и в повествовании о печально известных «тридцати сребрениках», и в рассказе о «монете во рту у рыбы», и во всех других сюжетах, связанных с крупными серебряными монетами.
Помимо денежных операций с достаточно крупными суммами, Евангелия также сообщают, что Иисусу были знакомы и более мелкие, даже совсем мелкие денежные единицы, такие как лепты вдовицы:
И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое (Мк 12:41–44)
Точные курсы валют древности не известны, и Талмуд в данном вопросе выражается довольно туманно, и все же буквальное прочтение наводит на мысль о том, что монета бедной вдовицы [греч. λεπτόν] была половиной пруты, по всей видимости, самой мелкой монетой из всех, что обращались в то время в древней Палестине. В одном месте Талмуд утверждает, что в I в. н. э. шекель состоял из 256 прут (или «пруто2 т», форма множественного числа в иврите) – и, следовательно, из 512 полупрут, или лепт[487]. В другом Талмуд утверждает, что в I в. н. э. 768 прут составляли один серебряный шекель[488], и под этими прутами могли иметься в виду лепты. Любой из предложенных вариантов подразумевает, что прута на самом деле была очень мелкой монетой. (Представьте себе, если бы один доллар равнялся тысяче центов!)
В те дни за пруту можно было купить несколько масляных ламп с фитилями – или гранат[489].
Иисус из Назарета, без сомнения, знал о монетах, имевших хождение в Галилее, а также в Иерусалиме и его окрестностях. Здесь были бронзовые, серебряные, порой золотые монеты, иудейские, римские, сирийские, набатейские…[490] В число монет местной чеканки, широко распространенных во времена Иисуса, входили монеты первосвященников: племянников и внучатых племянников Иуды Маккавея[491]. Были в обороте и монеты Ирода Великого и троих его сыновей: Архелая, повелителя Иудеи; Антипы, который властвовал в Галилее; и Филиппа, правившего дальними северными территориями.
Все эти правители, кроме Филиппа[492], чеканили монеты в соответствии с библейским запретом на сотворение кумиров, это была дань моде того времени: не так давно евреи успешно противостояли Селевкидам, а теперь нарастало недовольство римлянами[493]. Ни на одной из этих монет не было «кумира», никто не изображал на них свои профили, и лишь на одной мы видим живое существо: это орел на маленькой бронзовой монете Ирода Великого[494]. К слову, иудейские монеты того периода чеканились только из бронзы: еврейские цари были не вправе выпускать свои серебряные монеты, и стали чеканить их лишь позже: во время Иудейской войны (66–70 н. э.) и восстания Бар-Кохбы (132–135 н. э.).
Когда Иисус сказал: «…отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Mк 12:17), он, скорее всего, говорил не о местной монете, а о серебряной с изображением римского кесаря – либо Августа, либо Тиберия[495]. Большинство нумизматов в наши дни предполагают, что это была драхма или динарий, первая – греческого происхождения, а вторая – римского. В любом случае они составляли четверть тетрадрахмы или шекеля.
Греческое слово «драхма» встречается лишь в одном месте Нового Завета: в притче о женщине, убирающей свой дом для того, чтобы найти потерянное серебро: «Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет?» (Лк 15:8). Роджерс находит вполне вероятным, что монета, упомянутая тут, «на самом деле – динарий». Его рассуждения просты и логичны:
Греческая драхма и римский динарий были приблизительно эквивалентны и равнялись весу примерно шестидесяти зерен. Если женщина копила деньги и тайно хранила их, то у нее могли быть драхмы – из государства Селевкидов или даже из Афин; но если речь шла о монетах, бывших в повседневном обращении в ту эпоху, тогда говорить можно только о римских динариях, распространенной валюте в Палестине. И в данном случае достаточно характерно то, что св. Лука использует исконно греческое слово вместо эллинизированной латинской формы, – примерно как если бы в наше время писателю-французу пришлось назвать британские полпенса словом су. Данную теорию подтверждает и стиль, который у св. Луки очень часто оказывается намного ближе к классическому, нежели у других евангелистов[496].
Динарий, как замечает Роджерс, «скорее всего, самая интересная монета, упомянутая в Новом Завете, и атрибуция ее довольно точна… По всей видимости, один динарий работник получал за день работы в поле, как и в Средние века»[497].
Начиная с 6 г. н. э., при императорах Августе, Тиберии, Клавдии и Нероне, некоторые префекты и прокураторы Иудеи чеканили собственные монеты, и в число таких, по-видимому, входили Копоний, Марк Амбибул, Валерий Грат и Понтий Пилат[498].
Я хочу подчеркнуть: именно благодаря тому, что нам известны эти и похожие истории из Нового Завета, мы и можем прийти к выводу о том, что Иисус прекрасно понимал и ценность денег как таковых, и их полезность как для оплат, так и для покупки и продажи вещей, связанных с бытовыми нуждами. Он был проницательным наблюдателем и, несомненно, знал, что деньги могут быть и символом человеческой алчности, и выражением человеческой доброты и милосердия. Как писал Роджерс в 1914 году, обычный мир повседневной торговли был важен для Иисуса:
Многие уроки божественного учения рождаются из факта существования денег: например, притча о талантах или о женщине, ищущей потерянное серебро… Многие торжественные напутствия – не брать с собой ни золота, ни серебра, – возникли из самой возможности обладания имуществом. Есть много прекрасных примеров, связанных с ними и их силой: и бедную вдовицу, отдающую свои лепты, и кающуюся Магдалину, льющую на голову Иисуса драгоценное миро, переполняет счастье[499].
Раздел 3
Иисус в иудаизме
Иисус в иудеохристианском континууме. Незамеченный ракурс: мысли о практике и методике
Том Холме́н
«Иисус в континууме» – что это означает?
Наши размышления исходят из третьего принципа исторического метода Эрнста Трёльча: корреляции — понятия, означающего, что все события и процессы взаимосвязаны[500]. Мы поговорим о том, как должен был бы применяться этот принцип (и вытекающие из него следствия) в изучении Иисуса – и как он применяется на деле. Согласно Трёльчу, изучение Иисуса необходимо, помимо прочего, вести в соответствии с принципом корреляции, и только тогда оно сможет заслужить право называться «историографией»[501]. Разумеется, личность Иисуса (по крайней мере, временами и в некоторых аспектах) рассматривали в богатстве исторических взаимосвязей. Однако некоторые стороны принципа корреляции все еще ждут своего осмысления и применения – как минимум, более полного и вдумчивого – чтобы изучение Иисуса действительно приблизилось к серьезному, по-настоящему историческому исследованию[502]. Посмотрим же, как с этим обстоят дела.
«Незамеченный ракурс»?
Уже довольно давно фраза «Иисус в иудаизме» кратко выражает и определяет собой исходную точку любого исторического исследования, связанного с Иисусом: необходимо изучать и понимать Иисуса в рамках иудаизма его времени – не противопоставляя их, а рассматривая как непрерывный континуум[503]. Иисус был иудеем, и научная достоверность требует изображать его именно как иудея, жителя Палестины I столетия. Здесь мы видим, как применяется в «Исследовании Иисуса» принцип корреляции Трёльча. Иисус и иудаизм, из которого он вышел – феномены взаимосвязанные. Серьезный исторический рассказ об Иисусе не может обойти стороной связь Иисуса с иудаизмом. Выражение «Иисус в иудаизме» здесь вполне подходит. При всей лаконичности этой фразы и ее способности превратиться в лозунг, а порой даже почти что в мантру, она предложила конструктивный подход к Иисусу как к историческому феномену и она оказалась достаточно гибкой, однако четко очертила рамки того, что относится к Иисусу, а что – нет[504]. Иными словами, она прекрасно донесла всю суть.
Однако все это – еще не полная, а лишь частичная реализация принципа корреляции в отношении к историческому Иисусу. Точнее сказать, наука прошла здесь лишь половину пути: рассматривать Иисуса в контексте иудаизма его времени – значит видеть лишь половину взаимосвязей того исторического явления, которое мы называем историческим Иисусом. По словам Трёльча, историческое объяснение феномена (равно как и события, и процесса) должно содержать его прошлое и его последствия. Изучать Иисуса в контексте иудаизма значит рассматривать его связи с древним иудаизмом, из которого он вышел и который ему предшествовал. Однако для того, чтобы эта взаимозависимость, в которой мы воспринимаем Иисуса, стала более полной, необходимо спросить и о том, как связан Иисус с тем, что появилось после него, – то есть изучить Иисуса и в контексте раннего христианства. Именно это – серьезное включение раннего христианства в наши исследования – и есть тот незамеченный ракурс, о котором я говорил.
Разумеется, есть и такие исследования, в которых серьезно рассматриваются и прошлое, и последствия. Среди современных работ по историческому Иисусу такие труды найти несложно. Можно сослаться, например, на проекты Николаса Томаса Райта и Джеймса Данна[505]. Труд Райта «Истоки христианства и проблема Бога» (Christian Origins and the Question of God) и книга Данна «Христианство в становлении» (Christianity in the Making) посвящены именно раннему христианству, и цель этих работ – связать «это христианство» с «тем Иисусом». С методологической стороны хороший пример – «Поиск достоверного Иисуса» Герда Тайсена и Дагмар Уинтер[506]. Тайсен и Уинтер подчеркивают объяснимость контекстуально достоверного (т. е. связанного с контекстом древнего иудаизма) Иисуса в связи с последующим христианством и выдвигают в связи с этим некоторые важные критерии подлинности[507].
И тем не менее наш современный разговор о рассмотрении Иисуса в рамках последующего раннего христианства в чем-то схож с другой беседой, к слову, не очень давней и связанной с рассмотрением Иисуса в контексте древнего иудаизма. То, что Иисус был иудеем, а значит, изучать его следует в контексте иудаизма, признано уже давным-давно (если можно так сказать, учитывая, что само изучение исторического Иисуса – наука довольно молодая)[508]. Однако вплоть до 1970-х – 1980-х годов эта точка зрения, как правило, приглушалась и подавлялась. В науке она применялась крайне непоследовательно, и вовсе не была, как сейчас, отправной точкой и основой любого исследования Иисуса. Лишь в последнее время этот фон – «Иисус в контексте иудаизма» – вышел на первый план[509].
В этой статье я хочу показать: если в рассмотрении Иисуса в контексте древнего иудаизма коренной перелом уже произошел, в отношении к рассмотрению Иисуса в рамках раннего христианства этому перелому еще только предстоит случиться[510]. Несомненно, вторая точка зрения сейчас также хорошо известна, и многие исследователи приветствуют ее наряду с первой. Но нужно еще четко понять и признать, что в изучении Иисуса есть, говоря в общих чертах, истинный дефект, и он останется до тех пор, пока рассмотрение связи Иисуса с ранним христианством не станет стандартным исходным пунктом и ракурсом в любом исследовании, – наряду с рассмотрением Иисуса в отношении к древнему иудаизму. Когда представление об Иисусе в иудаизме наконец совершило свой революционный прорыв, последствия для всей области исследований были ошеломляющими[511]. Я убежден: если мы добавим к этому представлению об Иисусе «пост-контекст», иными словами, его связь с тем, что последовало позже (и, следовательно, воспримем Иисуса как соотнесенный исторический феномен), мы добьемся таких же радикальных перемен.
Итак, надежд у нас немало. Однако для того, чтобы в современном научном мире связь Иисуса с ранним христианством приблизилась по уровню внимания к связи Иисуса с древним иудаизмом, необходимо предпринять решительные меры. Перед нами необъятный океан вопросов, ответов, дискуссий, исследований – но прежде всего нужно изменить название. Термин «Иисус в иудаизме» следует поменять на «Иисус в континууме». Не следует больше изучать Иисуса «в иудаизме» (то есть – только в этом контексте!). Его надлежит изучать «в континууме» – в непрерывной последовательности явлений и событий от раннего иудаизма до раннего христианства. Этот ракурс – перспективу континуума – нельзя больше упускать. Однако легко предсказать, что, прежде чем этот новый термин сможет донести всю свою суть, нам придется разрешить немало вопросов. Основные мы перечислим далее.
Изучение Иисуса «в континууме»
Независимо от того, как оценивать работы Трёльча в целом, наследие его принципа корреляции актуально по сей день. В наше время никто не станет отрицать, что при изучении исторического Иисуса необходимо принимать во внимание его связь с ранним христианством – и относиться к ней намного внимательнее, чем это делается сейчас[512]. Как же улучшить нынешнюю ситуацию? Вот хороший, позитивный вопрос, который мы можем рассмотреть (и рассмотрим) немедленно, без тех преград и препятствий, которые для многих связаны с принципами Трёльча[513]. Теперь я вкратце опишу то, что хочу назвать континуальным ракурсом или континуальным подходом к историческому Иисусу. Что же означает здесь «континуум»?
Прежде всего он означает рассмотрение целостной перспективы, неразрывное восприятие древнего иудаизма и раннего христианства. Он не предполагает возможности связать Иисуса лишь с чем-то одним – хотя, разумеется, вполне возможно рассматривать Иисуса или в континууме древнего иудаизма, или в континууме раннего христианства. Более того, вполне естественно сосредоточиться в своем исследовании лишь на одном из этих измерений. Однако «континуум» как особый подход или перспектива, о которой мы здесь говорим, предполагает именно целостное восприятие того и другого, а также рассмотрение их в связи с научным изучением Иисуса. Иными словами, мы ищем место Иисуса в этом континууме.
Во-вторых, слово «континуум» ни в коем случае не призывает обращать внимание лишь на преемственность и непрерывность. Напротив, сюда вовлечены и неразрывность, и прерывания – как формы исторических переходов. Иисус мог соглашаться с древним иудаизмом по различным вопросам, мог расходиться с ним – как и раннее христианство могло в чем-то следовать проповеди Иисуса, а в чем-то от нее отклоняться. В каждом случае задача исследователя – изучать элементы как непрерывности, так и ее отсутствия. И перед ними встает проблема: требуется объяснить, почему даже вне обоих аспектов – как связи Иисуса с древним иудаизмом, так и его связи с ранним христианством, – континуальный подход применим к обеим формам перехода: и к непрерывности, и к ее отсутствию[514]. «Континуум» в каком-то смысле находится в определенном соотношении с «взаимосвязью». И равно как не следует описывать взаимосвязанные феномены в терминах одной лишь неразрывности, поскольку в них есть и прерывания, то же верно и для «континуума».
Итак, что же означает «изучать Иисуса в континууме»? В этой статье я хочу указать на некоторые практические стороны континуального подхода, которые, даже несмотря на то что сейчас мы размышляем лишь о методике, имеют для нас значительные последствия, – и особенно в вопросе о том, каков должен быть ход мысли в том или ином исследовании исторического Иисуса[515].
Как уже ясно, нам необходимо принимать во внимание и исследовать две стороны континуума: «древний иудаизм – Иисус», и «Иисус – раннее христианство». Однако эти два аспекта влекут за собой три разные задачи. Во-первых, необходимо выявить убедительный образ Иисуса в контексте древнего иудаизма; во-вторых – в «пост-контексте» раннего христианства; а в-третьих – и это самое важное – необходимо описать самого Иисуса. Одного Иисуса. Иисус в контекстах древнего иудаизма и раннего христианства должен оставаться одним и тем же, понятным и правдоподобным. Можно сказать, мы должны быть начеку и следить, чтобы «два Иисуса» из двух измерений нашего исследования совпадали[516].
Более того, мне кажется, что третью задачу необходимо решать саму по себе. Нет нужды говорить о том, что именно она стоит в центре всего предприятия, и ей необходимо уделить особенное внимание. Однако сейчас в исследованиях Иисуса, как в текущих, так и в недавних, мы ясно видим, что ничего подобного и в помине нет. Даже в эпоху Третьего поиска эта задача по большей части остается вне поля зрения исследователей – прежде всего потому, что никто не дает себе труда серьезно и систематически изучить связь Иисуса с ранним христианством. Мы прояснили его связь с древним иудаизмом, но это затмило (возможно, своим блеском) другую сторону континуума, так что в интерпретации исторического Иисуса теперь царит явный дисбаланс: мы усердно ищем Иисуса, который бы хорошо вписался в иудаизм I века – однако не слишком задумываемся о том, как объясняет такой Иисус новорожденное христианство и как он сам объясняется через него, и тем самым утрачивается целостное видение континуума.
Континуальный ракурс требует от нас выполнения третьей задачи: нам нужен не «Иисус в иудаизме» (лишь в иудаизме), а «Иисус в континууме» (от иудаизма до раннего христианства!) Этот ракурс задает вопросы, связанные именно с третьей задачей: понятна ли, логична ли наша картина Иисуса в иудейском контексте, когда мы изучаем другой аспект: взаимосвязь Иисуса с ранним христианством? Как связать нашу картину Иисуса в иудейском контексте с ранним христианством – и возможно ли это вообще? Наша задача требует задавать такие вопросы. И если правдоподобия и соответствия во всем добиться не удается – значит, в нашей концепции Иисуса что-то нужно исправить. Но здесь мы сталкиваемся с основной проблемой, которая преследует «Исследование Иисуса» даже в эпоху Третьего поиска: условности ученой среды крайне неохотно допускают возвращение к перемене образа Иисуса.
Теперь настало время для конкретных предложений, способных улучшить положение дел в этой области.
Хождение по герменевтическому кругу: меры помощи
Какой у нас нормальный ход мысли при исследовании, связанном с Иисусом, – если мы пишем статью или книгу о каком-либо аспекте жизни или учения Иисуса, скажем, «Иисус и Завет»? Как правило, сначала мы подробно исследуем взгляды на Завет, царившие в современном Иисусу иудаизме, а затем, уже в этом контексте, стараемся понять, что думал об этом Иисус. Затем мы публикуем книгу или статью – и только после этого, быть может, задумываемся о том, как решался тот же вопрос в раннем христианстве[517].
Не правда ли – наши исследования обычно строятся так?
Контекст (ветхозаветный/иудейский/греко-римский) → Иисус → выводы
Быть может, несправедливо говорить, что при этом мы не уделяем связи Иисуса и раннего христианства вообще никакого внимания. И все же такую методику едва ли можно назвать удовлетворительной. С точки зрения континуального подхода подробный разбор связи Иисуса и раннего христианства должен дать нам неоценимую информацию об Иисусе. Очень вероятно, что она заставит нас кое в чем пересмотреть и наше понимание Иисуса в его отношении к древнему иудаизму. Но книга или статья уже в печати! И то, что мы выясняем, изучая Иисуса в контексте раннего христианства, уже не удастся совместить с тем Иисусом, которого мы обрисовали, изучая его исключительно в контексте древнего иудаизма.
Итак, задача «совмещения Иисусов» встречает на своем пути самое что ни на есть практическое препятствие. Ход рассуждений, принятый всеми при изучении Иисуса, построен так, что сама его структура пресекает дальнейшее движение по герменевтическому кругу. Он не позволяет исследовать Иисуса в континууме. Эта проблема заметна даже в упомянутых трудах Райта и Данна. Обе книги – «Истоки христианства и проблема Бога» и «Христианство в становлении» – это многотомные исследования как исторического Иисуса, так и раннего христианства. Естественно, в исследовательские программы Райта и Данна входит и задача определить место Иисуса в контексте древнего иудаизма. Однако если аспект «древний иудаизм – Иисус» и у Райта, и у Данна воплощен в едином и связном исследовании, то аспект «Иисус – раннее христианство» распадается на несколько исследований, написанных одно за другим. Разумеется, такая структура не допускает обратного движения, замыкания герменевтического круга, которое необходимо, чтобы аспект «Иисус – раннее христианство» повлиял на возникающий в нашем представлении образ исторического Иисуса, – хотя бы так, как повлиял на этот образ аспект «Иисус – древний иудаизм». Вместо этого Райт и Данн сначала представляют нам свои взгляды на Иисуса-иудея («того Иисуса»), а затем переходят от него к рождению и развитию христианства («этого христианства»)[518] – и мы уже не можем исправить свои представления об Иисусе как историческом деятеле по мере того, как перед нами разворачивается картина раннего христианства.
Разумеется, столь пространные проекты неизбежно должны учитывать реалии – и ориентироваться, например, на максимальный размер отдельного печатного тома. Быть может, в конце проектов и Райт, и Данн внесут коррективы в первоначальную картину[519]. Однако континуальный подход настоятельно требует от нас пересмотреть стандартные практики и методы. Обычный ход исследования, в котором мы сперва имеем дело с «иудейским бэкграундом» Иисуса (или избранных аспектов его проповеди и миссии), а затем пытаемся понять его (или эти аспекты) в этом свете, плохо приспособлен для выполнения нашей третьей задачи – выявления образа Иисуса, постижимого и в древнем иудаизме, и в раннем христианстве. Очень вероятно, что, пока мы не переосмыслим свои намерения и планы, континуальный подход к Иисусу в полном объеме так и останется для нас недостижимым.
Вместо этого я предложил бы изменить сам ход исследований Иисуса таким образом, чтобы авторитет, придаваемый аспекту «Иисус – раннее христианство», был не меньше того, какой обычно придают аспекту «древний иудаизм – Иисус». Раннехристианский «пост-контекст», как и контекст древнего иудаизма, должен рассматриваться: 1) как самостоятельное явление; и 2) до того, как мы обратимся к образу Иисуса. Безусловно, непосредственно в исследовательской работе ученые в принципе свободны применять любые герменевтические процедуры, какие сочтут нужными: скажем, в один день изучать аспект «древний иудаизм – Иисус», а на следующий обратиться к аспекту «Иисус – раннее христианство». Однако представлять свой труд на суд широкой публики исследователь должен в стройной и доступной форме. Уходя в печать, реальное исследование неизбежно упрощается и «каменеет», обретая форму. И выбор методики, плана исследования, способен как содействовать, так и мешать нашим попыткам уделить должное внимание требованиям герменевтического круга в непосредственной исследовательской работе. И кроме того, я утверждаю, что в особенности самый распространенный ход исследования, двухчастная модель «иудаизм → Иисус» совершенно удручает в том плане, что не дает нашим «герменевтическим качелям» пройти по всей связи Иисуса с ранним христианством – и вернуться обратно. Вот почему, учитывая, что аспекту «Иисус – раннее христианство» у нас уделяют куда меньше внимания, чем он заслуживает, работу следовало бы строить так:
Иудаизм → христианство → Иисус
Безусловно, пусть такая форма и позволяет уделить внимание тому, чего в наших нынешних исследованиях Иисуса обычно недостает, – претворить ее в жизнь трудно, а может, и нереально. Например, совершенно невозможно применять ее в многотомных исследованиях, подобных уже упомянутым трудам Райта и Данна. Истинная трехчастная структура требует, чтобы все части – иудаизм, Иисус и христианство – обсуждались в одном месте, а не в двух или нескольких отдельных томах, следующих друг за другом. Кроме того, такое разделение на тома, по всей вероятности, будет означать, что и само исследование разделится на отдельные, следующие друг за другом фазы – без возможности взаимодействия между ними и движения по герменевтическому кругу. Легче всего применить такую форму в исследованиях, касающихся отдельных аспектов учения и/или жизни Иисуса. Если кто-то интересуется, например, взглядами Иисуса на субботу – вполне возможно, обсудив представления о субботе в древнем иудаизме, перейти к раннехристианским представлениям о том же предмете, и лишь потом рассмотреть взгляды Иисуса. В таком случае трактовка будет неизбежно оценена с точки зрения критики – и прежде всего оценят то, сколь правдоподобной покажется связь Иисуса и последующих явлений.
В последние тридцать лет связь Иисуса с древним иудаизмом стала предметом постоянного и серьезного внимания исследователей. Настало время уделить внимание – такое же внимание – и его связи с ранним христианством. А это требует значительных изменений в нашей исследовательской практике. На мой взгляд, предложенную мной трехчастную структуру исследований: «иудаизм → христианство → Иисус» стоит хотя бы попробовать. Сами мы уже попытались ее применить в книге, озаглавленной «Иисус в континууме» (Jesus in Continuum).
Иисус в континууме: что дальше?
Континуальный подход к Иисусу включает в себя и вызов изучению раннего христианства с точки зрения «континуума». Если внимательное рассмотрение древнего иудаизма и раннего христианства обещает дать нам лучшее и более полное представление об исторической фигуре Иисуса, то внимательное рассмотрение миссии и послания Иисуса обещает лучшее и более полное представление о континууме древнего иудаизма и раннего христианства. Это означает, что исследователям раннего христианства следует серьезно и последовательно стремиться допускать наличие той роли, которую сыграла проповедь Иисуса в формировании взглядов и убеждений первых христиан. В самом деле, если Третий поиск справедливо считает Иисуса «истинным иудеем своего времени» – верно и то, что именно фигура Иисуса связывает древний иудаизм с ранним христианством. Если древний иудаизм, по выражению Джеймса Чарлзворта, «был полон жизни, словно запущенный генератор»[520], а Иисус, по словам Брюса Чилтона, «был и признаком, и итогом»[521] этого иудаизма – значит, у нас не остается иного выбора, кроме как видеть в Иисусе истинную движущую силу. С точки зрения континуума это означает, что Иисус стал значительным фактором в возникновении раннехристианских традиций. И любое исследование раннего христианства должно предложить нам логичное и достоверное изображение иудея Иисуса – активно действующего, предлагающего новые идеи и исполнившего миссию, оказавшую важнейшее воздействие на раннее христианство.
Далее, представление о континууме всесторонне противостоит представлению об отстраненности Иисуса. Благодаря особым акцентам, расставленным Третьим поиском, попытки изобразить Иисуса в отрыве от иудаизма в современных дискуссиях считаются неверными и недопустимыми. Однако современным спорам, по-видимому, не хватает столь же ясного и однозначного акцента на том, что недопустимо отделять Иисуса от раннего христианства. Это приводит нас к методу, наиболее близкому к связи Иисуса с ранним христианством – применению так называемых критериев подлинности. И, если в двух словах, проблема вовсе не в критерии несходства. Он лишь выделяет у Иисуса и в раннем христианстве непохожие элементы – или те, для которых нехарактерна преемственность, – и на этом основании делает предположения об их подлинности, а именно – подтверждает ее. Настоящие проблемы создает удивительно распространенный ход рассуждений, порой равноценный, так сказать, «критерию сходства»: когда традиции и обычаи, связанные с Иисусом, объявляются неподлинными на основании того, что присутствуют в раннем христианстве. Ограниченный объем статьи не позволяет углубляться в детали, однако достойны внимания, скажем, последствия часто высказываемой мысли, согласно которой считается, что та или иная традиция, «слишком похожая» на взгляды ранних христиан, вряд ли может восходить к Иисусу[522].
Итоги
Итак, благодаря нескольким десятилетиям странствий по дорогам Третьего поиска современные специалисты уже привыкли рассматривать Иисуса в рамках иудаизма. Теперь необходимо поставить перед собой следующую задачу: увидеть Иисуса-в-континууме, в рамках непрерывной последовательности событий от древнего иудаизма к раннему христианству. Я не предлагаю чего-то совершенно нового или невиданного: многие центральные элементы континуального подхода уже введены различными исследователями в научный обиход. Однако я предлагаю новое требование, способное кардинально изменить нынешний исследовательский ландшафт. Время фразы и лозунга «Иисус в иудаизме» прошло. Необходима новая мантра на основе незамеченного ракурса: Иисус в континууме. И мы не должны ограничиваться простой осведомленностью о том, как важно уделить внимание даже последствиям действий Иисуса, если мы пытаемся понять его как историческую личность. Нам необходимо нечто большее – и более конкретное. Я предлагаю практическую меру, которую в самом кратком изложении можно определить так: в наших книгах и статьях вслед за главой об «иудейском происхождении» Иисуса, но прежде, чем мы перейдем к рассмотрению его самого, должна быть вторая аналогичная глава – о раннем христианстве. Если мы начнем следовать такому ходу мысли, наши исследования приблизятся к континуальной перспективе, и мы раскроем образ Иисуса, постижимый и в его иудейском контексте, и во всеохватной связи с учением и взглядами ранних христиан.
Иисус и апокалиптическая эсхатология
Дейл Эллисон (младший)
Обрывки памяти
Все попытки найти так называемого исторического Иисуса натыкаются на слабость человеческой памяти. Даже если предположить, что Евангелия от Матфея и от Иоанна написаны очевидцами, а Марк и Лука, не будучи очевидцами сами, получали от очевидцев свой материал, – необходимости критической работы это не отменит[523]. Очевидцы вечно чего-то не помнят или помнят неправильно; личные воспоминания ничуть не более объективны или непогрешимы, чем труд историка. «Грехи памяти»[524] бесчисленны – современные исследования находят этому множество подтверждений.
• Вспоминать – не значит воспроизводить прошедшие события точно в том виде, как мы их восприняли. Память – по крайней мере, долговременная память – не только воспроизводит, но и воссоздает; она включает в себя воображение. Мы можем помнить не то, что произошло на самом деле, а то, что об этом думаем; наша память о единичном событии часто носит составной характер, представляет собой плод «процесса схематизирования»[525], слияния воедино взаимосвязанных или повторяющихся воспоминаний. Когда нас просят вспомнить прошлый День благодарения – мы заимствуем подробности из того, что знаем об этом празднике вообще, и воспоминания о конкретном Дне благодарения оказываются дополнены и частично заменены воспоминаниями о Днях благодарения в прошедшие годы.
• Порой ход времени проясняет события прошлого, однако в целом со временем наши воспоминания меркнут. Прошедшие недели, месяцы и годы затемняют воспоминания, крадут детали, снижают эмоциональную интенсивность. «На выходе» оказывается меньше, чем «на входе».
• Использование прошлого в интересах настоящего – грех, в котором критики былых времен обличали каждую страницу канонических Евангелий – ведет к искажению, поскольку эти интересы (в число которых почти всегда входит развлечение читателей или слушателей) прямо влияют на то, что извлекает рассказчик из своих воспоминаний и как он их интерпретирует. И отдельные люди, и целые коллективы преобразуют свои воспоминания в соответствии с определенными схемами, которые отвечают их нынешним задачам.
• Если, как в случае с каноническими Евангелиями, память становится историей – в игру вступают законы повествования и оформляют воспоминания на свой лад. Рассказчики стремятся извлечь из хаоса жизни порядок: они неизбежно навязывают своему материалу определенное начало, содержательную связность в середине и удовлетворительное завершение «сюжета» в конце. Кроме того, они склонны создавать стереотипное представление о своих персонажах, разделяя их на протагонистов и антагонистов, героев и злодеев.
• Воспоминания, выходящие за пределы личной памяти отдельных людей, нуждаются в одобрении со стороны какой-либо общины или социального института – и, следовательно, должны отвечать их интересам. Группы людей не станут бережно хранить и повторять воспоминания, противоречащие тому, что им дорого. Выживает то, что одобряет коллектив – а то, что не одобряется, исчезает.
• Воспоминания могут неверно передавать последовательность событий. Зачастую мы нетвердо помним, когда произошло то или другое, или меняем события местами. «Суждения о времени событий, по всей видимости, носят в высшей степени реконструктивный характер»[526].
• Люди могут «помнить» и то, чего с ними никогда не происходило. Иногда, просто услышав и подумав о каком-либо событии, они начинают верить, что сами были ему свидетелями. Бывает и так, что человек видит что-либо своими глазами, однако впоследствии его реальные воспоминания преображаются в соответствии с ожиданиями или ошибочными рассказами других.
• Мы склонны проецировать на прошлый опыт свои нынешние обстоятельства, взгляды и предрассудки, «подтягивая» наше прошлое Я к настоящему. Например, мы можем считать, будто в тот или иной момент верили в то, во что на самом деле поверили позже – и соответственно корректировать свои воспоминания. «Это должно было быть так» превращается в: «Разумеется, это так и было!»
Эти грехи памяти – список которых можно было бы и продолжать – конечно же, тревожат тех, кто исследует жизнь Иисуса. У нас нет причин верить в то, что те, кто его помнил, были застрахованы от подобных ошибок. Сравнивая наши источники и отмечая многочисленные расхождения между ними, мы убеждаемся в том, что подобный скептицизм вполне оправдан. Даже там, где Евангелия доносят до нас истинные воспоминания очевидцев – кто сказал, что эти воспоминания соответствуют действительности?
Скептицизм этот, разумеется, имеет давнюю историю; он возник задолго до современных исследований памяти. Именно понимание того, что наши источники не похожи на архивы фотографий и диктофонных записей, привело исследователей к поиску и разработке критериев подлинности, которые активно обсуждаются и применяются уже несколько десятилетий. К этим критериям и их применимости я отношусь с большим сомнением. Однако жалобы на эту тему я уже высказывал в других местах[527], и нет нужды повторять их здесь. Сейчас я хочу поговорить о другом. Мое желание – показать, что, даже не сковывая себя стандартными критериями и не пытаясь решить, до какой степени принадлежит Иисусу то или иное высказывание, или происходило ли в действительности то или иное событие, мы все же можем кое-что узнать об историческом Иисусе. Свой тезис я проиллюстрирую на примере темы: Иисус и эсхатология.
Картина в целом
Впрочем, вначале я сделаю еще несколько замечаний о человеческой памяти. Наблюдая за собой, мы замечаем, что наши долгосрочные воспоминания, представляющие собой «постоянно развивающиеся обобщения»[528], обычно включают в себя «события, лица, разговоры целиком – не отдельные эпизоды, не детали лиц, не слова, из которых складывался разговор»[529]. Иными словами, по мере того как наши воспоминания бледнеют и тают, от них сохраняется – если сохраняется вообще – общий облик, суть того или иного явления или события. Мы можем забыть слова или построение фразы, но помним ее смысл и значение. По выражению одного исследователя: «Буквальные черты, воспринимаемые чувственно, стираются быстрее, чем то, что воспринимается умом»[530]. Ограбленный человек едва ли забудет, что его ограбили; однако, как показывают критические исследования криминальных сводок – это обстоятельство ничуть не помогает пострадавшему запомнить во всех подробностях внешность грабителя.
Со временем конкретные детали меркнут, и все больше возможностей открывается для того, чтобы позднейшие впечатления, схожие с предыдущими, затемнили наши воспоминания. Чем дальше, тем более мы черпаем из памяти лишь суть происшедшего – или того, что происходит с нами снова и снова – а за подробностями обращаемся к иным воспоминаниям или просто к догадкам. С течением времени от воспроизведения и от конкретных воспоминаний наше сознание переходит к воссозданию и к более общим описаниям[531].
Мы можем помнить, как посетили Парфенон, но вряд ли сможем сказать, сколько колонн там видели.
Всем известно, что, когда на дороге сталкиваются два автомобиля, свидетели рассказывают об этом происшествии очень по-разному. Однако все, кто это видел, помнят, что машины столкнулись. Они могут вспомнить основной факт и в отношении этого факта вполне друг с другом согласны, хоть и расходятся во множестве деталей, – отчего их показания и противоречат друг другу. То же можно сказать о Мф 10, Мк 6 и Лк 9–10. Предание рассказывает, что, отправляя своих учеников на проповедь, Иисус что-то им запретил, а что-то разрешил. Однако в деталях тексты расходятся. В Мк 6:8 Иисус разрешает ученикам иметь сандалии и посох, в Мф 10:10 – запрещает. Точно так же и сообщения о Тайной Вечере сходятся в главном: на ужине незадолго до смерти Иисус преломил хлеб и сказал: «Сие есть Тело Мое», а затем взял чашу вина и сказал что-то о «крови» и «завете». Однако за пределами этих деталей рассказы сильно расходятся. Каковы бы ни были исторические факты – несходство этих текстов не должно никого удивлять.
Учитывая, что наша память, как правило, «размыта»[532], что общие очертания события или смысл разговора мы обычно помним лучше, чем детали, что мы перерабатываем поступающую к нам информацию, извлекая из нее смысл и структуру, – странно было бы воображать, что хранители преданий об Иисусе каким-то образом ухитрились выделить из общего ряда и запомнить какие-либо его конкретные выражения и действия, десятки таких выражений и действий – и при этом не сохранить о нем общего впечатления. Память…
работает намного более обобщенно, чем нам обычно кажется; в сущности, это конструкция, служащая для подкрепления и оправдания впечатлений, оставшихся у нас от произошедшего. Именно это «впечатление», которому едва ли возможно дать точное определение, прочнее всего сохраняется в нашем сознании. Постольку, поскольку детали, возведенные нами вокруг него, создают для него «логичное» окружение – большинство из нас остаются вполне довольны и склонны полагать, что эта конструкция вполне отражает реальное прошлое[533].
Таким образом, если предположить, что у тех, кто передавал предания об Иисусе, не было достоверной общей картины его служения, – то деталей они тем более запомнить не могли.
Современные исследования памяти заставляют меня отмежеваться от тех, кто, действуя методом исключения, полагает, что всю информацию об Иисусе мы должны получать из горстки притч и изречений, признанных подлинными, и что мы вправе, отодвинув в сторону все прочее, что содержится в предании, трактовать эти притчи и афоризмы в противоречии с общим представлением, которое передается самим преданием. Для иллюстрации: если Иисус был «мирским мудрецом», мало озабоченным «последними вещами» – как коллективно решил Семинар по Иисусу[534], – значит, синоптическая традиция, повсюду изображающая его как homo religiosus, ведет в тупик, и нам, возможно, вообще не следует обращаться к ней при исследовании допасхального периода; но в таком случае – как же нам убедить себя, что Иисус был мирским мудрецом? Так скептицизм пожирает сам себя.
К счастью, есть и другой путь. Предания I столетия – не аморфная масса. Напротив, у Марка, в Q, у Матфея и Луки, порой – и у Иоанна, и у Фомы снова и снова появляются одни и те же темы, мотивы, риторические стратегии; и именно в этих темах, мотивах и риторических стратегиях, вместе создающих об Иисусе вполне определенное впечатление, и стоит – более чем где бы то ни было еще – искать достоверные воспоминания о нем.
Я не стремлюсь объявлять речения и притчи Иисуса неисторическими – лишь говорю о том, что эти детали мы должны оценивать в соответствии с общим впечатлением, производимым нашими первичными источниками. В первую очередь следует доверять тому, что, по всем признакам, наиболее заслуживает доверия. А это требует начать с вопросов (хоть и не обязательно ими заканчивать). Каковы наши общие впечатления об Иисусе?
Отчасти благодаря критике форм нас загипнотизировали историями передачи того или иного изречения, рассказа о том или ином отдельном случае – истории, которые чаще, чем мы готовы это признать, представляют собой лишь более или менее обоснованные догадки. Если уж на что-то и возлагать надежды, то не на подлинность отдельных обрывков предания, а на то, что наши первичные источники верно передают суть дела: ибо если эти источники неверно описывают речи и деяния Иисуса в целом, не дают нам верного представления о положении, в котором он находился, неточно передают обычные темы его речей, лгут и о том, чем он занимался, и о том, каким человеком он был – на что нам вообще надеяться? Если основные свидетели подводят нас в самом главном – едва ли нам удастся своими умозаключениями восстановить недостающее, отодвинуть в сторону этих свидетелей и достать из-под земли какого-то другого Иисуса. Надеяться на что-то иное, воображать, будто мы способны «раскрыть» историческую истину так же ловко, как Шерлок Холмс раскрывал преступления, значит обманывать самих себя.
Иисус и апокалиптическая эсхатология
Предварив наше исследование таким прологом, обратимся теперь к теме, вызывающей много споров – об Иисусе и эсхатологии. В этом вопросе я следую парадигме, которую нам предложили Йоханнес Вайс и Альберт Швейцер[535]. Я понимаю Иисуса как «апокалиптического пророка», проповедовавшего эсхатологическое возрождение иудейского народа. При этом я не имею в виду, будто Иисус относился к какому-то предполагаемому «апокалиптическому движению», или будто в его учении непременно присутствовали характерные черты дошедших до нас письменных апокалипсисов. Я спокойно признаю: если кто-то ассоциирует слово апокалиптический с датами, нумерологией, мистическими откровениями, мифическими зверями или подробнейшими предсказаниями будущего, значит, к Иисусу это слово не подходит: судя по нашим источникам, подобных интересов за ним не замечалось. Я настаиваю лишь на том, что он проповедовал идеи, которые, за неимением лучшего, можно назвать «апокалиптической эсхатологией»: так я сокращенно именую ряд эсхатологических ожиданий, развившихся и завоевавших популярность в иудаизме после Вавилонского пленения: будущее воздаяние, победа над смертью, всеобщий суд, преображение мира и так далее. На мой взгляд, если Иисус проповедовал такую эсхатологическую идею и мыслимое им будущее включало в себя эсхатологическое воздаяние, воскресение, явление человечества на суд Божий и сверхъестественное исцеление мира, и кроме того, если он полагал, что все это произойдет очень скоро и эти ожидания стояли в центре его послания и его представления о себе самом – значит, он был апокалиптическим пророком.
Основная причина этого моего убеждения очень проста: количество материала, связанного с этим, в наших источниках. Вот список.
1. Несколько логий, в которых утверждается, что время нашего мира уже на исходе: Мк 9:1; 13:30, Мф 10:23 (ср. Лк 18:8: «подаст им защиту вскоре»). Сравним с эсхатологическими обетованиями в 1 Ен 94:6–8; 95:6, 3 Ездр 4:26; 8:61, Флп 4:5, Откр 1:1–3; 22:12; а также лейтмотивом неотвратимости в Ис 40–55.
2. То же убеждение в скоротечности прослеживается в Мф 23:34–36 = Лк 11:49–51, где утверждается, что всякая кровь, пролитая на земле, «взыщется от рода сего». Очевидно, что «род сей, то есть нынешнее поколение – последнее поколение в нынешнем порядке вещей: оно сталкивается с необходимостью взять на себя ответственность за всю предшествующую историю, ему угрожает божественный суд», и, по смыслу текста, вероятнее всего, «этот суд грозит слушателям очень и очень скоро»[536].
3. Выражение «судный день» (ἡµέρα κρίσεως), или сокращенное «суд» или «день сей», предвидят эсхатологический суд: Мф 10:15 = Лк 10:12, Мф 11:22, 24; 12:36, Лк 10:14. В позднейшем иудаизме это выражение (в Ветхом Завете и Септуагинте не встречающееся) стало синонимом термина «день Господень», понимаемого как эсхатологическое судебное испытание, после которого праведники будут вознаграждены, а грешники наказаны[537].
4. В Лк 12:5 = Мф 10:28, Мк 9:43–45 (ср. Мф 18:8–9); и Мф 5:22; 23:15, 33 говорится о геенне (раввин.), антониме «небес», пугающем месте посмертного существования или эсхатологического наказания (ср. 1 Ен 90:24, 26, Ор. Сив 4:186, 2 Вар 85:13, P.Oxy. 840 лиц.; и др.)
5. В этом месте наказания пылает огонь: Мф 7:19, Мк 9:47, Лк 12:49, Ин 15:6 (и, возможно, Мк 9:49), как часто бывает в иудейских апокалиптических текстах (1 Ен 10:6; 54:1–2; 90:24–25, Ор. Сив 3:53–54, 3 Ездр 7:36–38[538], Откр. Авр 31:2–5; и др.)
6. Mф 18:6–7 = Лк 17:1–2, Мк 9:42, а также 1 Клим 46:8 предостерегают против причинения вреда другим и предупреждают, что наказание за это будет хуже, чем надеть на шею жернов и бросить в море. Как признают все комментаторы, «хуже жернова на шею и утопления в море для обидчика (συµφέρει αὐτῷ) может быть только еще более страшное наказание, определенное на последнем суде»[539].
7. Как и в зороастрийских изображениях ада (см., напр. Ясна 31:20), здесь есть упоминания «тьмы внешней» (Мф 22:13; 25:30, ср. Греч. апок. Ездры 4:37, Зав. Иак 5:9) и «плача и скрежета зубов» (Мф 24:51, ср. Ор. Сив 2:305–306; 8:104–105, 231, 350).
8. Притча о неверном рабе у Матфея и Луки (Мф 24:45–51 = Лк 12:42–46), как кажется, призвана предостеречь о грядущем суде.
9. Загадочные слова Мф 24:40–41 = Лк 17:34–35 (ср. Ев. Фом 61) о том, что один возьмется, а другой останется, означают либо то, что грешники будут истреблены с лица земли (ср. Мф 13:41), либо (вероятнее) то, что праведники встретятся с Сыном Человеческим на облаках (ср. Мк 13:27, 1 Фес 4:17, Апок. Ил 5:4). В любом случае, перед нами описание некоей сверхъестественной «сортировки» людей в преддверии суда.
10. Лк 17:26–30 (ср. Мф 24:37–39) уподобляет грядущий суд Ноеву потопу и огню и сере, павшим на Содом: оба события и в иудейской, и в христианской литературе – популярные прототипы Страшного суда и конца света[540].
11. Мф 13:36–43 интерпретирует Мф 13:24–30 (= Ев. Фом 57) как аллегорию деления на праведников и делающих беззаконие в последний день.
12. Мф 13:47–50 – притча о неводе, закинутом в море – изображает то же разделение при помощи другой аллегории.
13. Мф 25:31–46 рисует памятную картину великого суда, начиная со сравнения: пастырь отделяет овец от козлов.
14. Угрозе эсхатологического суда соответствует и противостоит обещание небесной или вечной награды: Мф 5:12 = Лк 6:23, Мк 10:29–30, Мф 5:19, Ин 6:40; 14:2–3, Ев. Фом 19, 114.
15. Притча о богаче и Лазаре в Лк 16:19–31 призывает к человечности, обещая за это награду «на лоне Авраамовом» и грозя суровым воздаянием в «аду».
16. Парадоксальные речения об обмене статусами – первые станут последними, а последние первыми, и так далее – это отнюдь не наивно-оптимистические предсказания о повседневной жизни (Мф 10:39 = Лк 17:33, Мф 23:12 = Лк 14:11, Мф 25:29 = Лк 19:26, Мк 4:25; 8:35; 10:31, Мф 13:12, Лк 18:14, Ев. Фом 4). Житейская мудрость подсказывает, что со временем богатые становятся только богаче, а бедные только беднее. Вот почему в логиях Иисуса используется будущее время: «вознесутся», «сохранят [жизнь]», «будут первыми». Как и в Зав. Иуд 25:4[541] и в вав. Псах 50а[542], Иисус ожидает, что Бог перевернет вверх дном весь мир – а это может произойти лишь в преддверии будущего суда[543].
17. Учитывая параллель с каддишем («…и да установит Он царскую власть Свою… при жизни вашей, в дни ваши и при жизни всего Дома Израиля, вскорости, в ближайшее время»)[544], эсхатологические ассоциации, с которыми зачастую связано «царствие» в древней иудейской литературе Палестины[545], а также использование формы «да придет» (ἐλθέτω), напоминающее о «пришествии» Бога в ожиданиях иудеев[546], «да приидет царствие Твое» (Мф 6:10 = Лк 11:2) – это, скорее всего, не что иное, как призыв к Богу искупить мир раз и навсегда.
18. В Мк 1:15, Мф 12:28 = Лк 11:20 и Лк 22:18 вместе со словом βασιλεία используются глаголы, выражающие временные отношения (например, Мф 10:7 = Лк 10:9). Следовательно, они применяются не к некоей неизменной сущности, к «Царству Божьему, которое всегда здесь»[547] – ибо, если это царство уже пришло или вот-вот придет, «едва ли оно могло всегда быть доступно»[548] – но, скорее, к драматическому появлению некоей сверхъестественной, невиданной ранее реальности. В этих речениях «Царство Божье» – практически синоним «нового творения» или «грядущего века».
19. То, что царство находится в будущем, очевидно и из речений о том, как в него войти (Мк 10:15, 23–25, Мф 5:20; 7:21; 23:13). Будущее время в Мк 10:23 и Мф 5:20 (εἰσελεύσονται), параллелизм в Мк 9:43–47 (εἰς τὴν ζωὴν = εἰς τὴν βασιλείαν), эсхатологическое значение прохождения через узкую дверь или врата в Мф 7:13 = Лк 13:24, а также то, что не царство приходит к людям, а люди входят в царство – все это вместе дает очевидный смысл: в конце времен святые перешагнут порог и войдут в искупленный мир. Можно сравнить это со словами Павла о «наследовании» Царства Божьего (1 Кор 6:9–10; 15:50, Гал 5:19–21).
20. В Мк 10:30 Иисус проводит различие между «веком сим» и «веком грядущим» (ср. обычное раввин. и).
21. Некоторые логии о Сыне Человеческом, так же как, например, и тексты о Сыне Человеческом в 1 Ен 46:3–5; 62:2–16 и 69:26–39, представляют собой явные аллюзии на сцену последнего суда в Дан 7: Мк 13:26; 14:62, Мф 10:32–33 = Лк 12:8–9, Мф 19:28 = Лк 22:28–30, Ин 5:27, P.Oxy. 654.31[549].
22. Канонический Иисус, как и м. Санх 10:1 и фарисей Павел в Деян 23:6–8, верит в воскресение мертвых: Мк 12:18–27, Мф 12:41–42 = Лк 11:31–32, Лк 14:12–14, Ин 5:28–29[550].
23. Широко распространенное убеждение, корни которого восходят к иранской традиции и имеют параллели в эсхатологических движениях по всему миру, в том, что о пришествии нового века возвестят невиданные бедствия (ср. Дан 12:1, Откр 3:10, 3 Ездр 6:24, м. Санх 9:15), что царство сатаны не сдастся без боя (ср. 1QM, Зав. Дана 5:10–13), не просто появляется в Мк 13:3–23, но и находит свое полное выражение в Мф 11:12–13 = Лк 16:16 («Царство Небесное силою берется»); Мф 10:34–36 = Лк 12:51–53 (ср. Ев. Фом 16; «настало время не мира, но меча»), и, возможно, также и в других текстах[551].
24. Не раз Иисус увещевает людей бодрствовать, ибо эсхатологический кризис может начаться в любой момент: Мф 24:43–51 = Лк 12:39–46, Мк 13:33–37, Мф 25:1–13, Лк 12:35–38; 21:34–36. Бен Мейер верно заметил по этому поводу: «Кажется почти нелепым полагать, будто эсхатологическая проповедь, основанная на мотиве не просто неминуемого, но внезапного суда, оставляет открытым вопрос о том, какое поколение будет этим судом внезапно застигнуто – это или какое-либо другое»[552].
25. Мк 14:25 и Лк 14:24; 22:30 обещают эсхатологический пир (ср. Ис 25:6–8; 55:1–2; 65:13–14, Иез 39:17–20, 1QSa = 1Q28a II, Откр 19:9, 2 Вар 29:4–6, м. Авот 3:17, вав. Псах 119b и др.)
26. У Иисуса было двенадцать учеников – по числу колен Израилевых. Это обстоятельство, почти несомненно, отражает общее убеждение, связанное с Книгами Иеремии и Иезекииля, в том, что в конце времен двенадцать колен вернутся в Землю Обетованную[553]. Двенадцать апостолов символически представляют возрожденный Израиль. В соответствии с этим Мф 19:28 = Лк 22:28–30 обещает некоторым последователям Иисуса, что они будут «судить» – что означает либо «править», либо «производить суд» – двенадцать колен Израилевых. О возвращении иудеев из Рассеяния говорится также в Мф 8:11–12 = Лк 12:28–29: «многие», которые «придут с востока и запада» и возлягут с патриархами Авраамом, Исааком и Иаковом, несомненно, должны включать в себя рассеянные колена[554].
27. В некоторых текстах Иисус описывается как Мессия, освободитель Израиля, который должен прийти в конце времен: Мк 8:27–30; 11:9–10, Мф 23:10, Ин 1:41; 4:25, 29; 6:14–15; 9:22; 10:24; 11:27 (ср. Мк 15:2, 9, 18, 26, 32).
28. Канонический Иисус, отчасти в созвучии с некоторыми свитками Мертвого моря, утверждает, что эсхатологические пророчества Ветхого Завета в его время исполняются: см. Мф 11:10 = Лк 7:27, цит. Мал 3:1, Мк 9:13, с аллюзией на Мал 4:5–6, Мк 14:27, цит. Зах 13:7 (ср. P.Vindob. G 2325); и Мф 5:17, с общим утверждением, что Иисус исполняет «закон и пророков».
29. Отвечая на вопрос Иоанна Крестителя, Иисус имплицитно уравнивает себя с «тем, кто должен прийти» (Мф 11:2–4 = Лк 7:18–23), эсхатологическим судией (Мф 3:11–12 = Лк 7:16–17). При этом он, параллельно тому, что мы встречаем в 4Q521 (ср. также Ор. Сив 8:205–208), принимает язык пророческих текстов Исаии (Ис 26:19; 29:18–19; 35:5–6; 42:18; 61:1), подразумевая, что он и является исполнением этих пророчеств. Заповеди блаженств, в которых Иисус утешает плачущих (Мф 5:3, 4, 6, 11–12 = Лк 6:20–23) – делают примерно то же самое, в том плане, что они словно бы вторят Ис 61[555]; а в Лк 4:16–19 Иисус читает Ис 61 и говорит, что в его служении исполняются пророчества Исаии. Можно сравнить с этим постоянные заимствования из Ис 61 в Мидраше Мелхиседека (11QMelchizedek), где центральный герой, небесный освободитель Мелхиседек (= архангел Михаил), приносит эсхатологическое спасение и суд.
30. Лк 19:11 повествует о том, что, когда Иисус приблизился к Иерусалиму, его ученики «решили, что скоро должно открыться Царство Божие»; а в Ин 21:20–23 отражается вера некоторых христиан в то, что Иисус обещал пришествие Царства в течение жизни его учеников.
Учитывая изобилие соответствующих материалов, мы не можем критиковать автора Евангелия от Марка за то, что он, кратко излагая провозвестие Иисуса, внес в свой текст слова о том, что «приблизилось Царствие Божие» (Мк 1:15). Независимо от того, говорил ли Иисус по-арамейски что-то подобное, слова Марка честно отражают то, что обнаружил евангелист, изучая предание. В сущности, материала, связанного с эсхатологией, сохранилось гораздо больше – по моим подсчетам, более чем в два раза, – чем материала, имеющего отношение к изгнанию злых духов. К слову, кое-кто соглашается с тем, что Иисус изгонял бесов, но отрицает, что он был апокалиптическим пророком. Может быть, таким людям стоит подумать еще раз?
Я не согласен с Маркусом Боргом, считавшим, что кроме речений о грядущем Сыне Человеческом «очень немногое в Евангелиях может навести нас на мысль, будто Иисус ожидал скорого конца света»[556]. Он уточнял, что это за «немногое»: Мк 9:1; Мк 1:15, если толковать этот пассаж в свете Мк 9:1, а также «большая часть речений и притч Иисуса в редактуре Матфея»[557]. Но как насчет главы Мк 13 целиком? Или увещеваний быть бдительными и темы внезапности? Как насчет Лк 19:11, напоминающего о том, что ученики ожидали Царства Божьего с минуты на минуту (ср. Деян 1:6)? Или различных логий, которые, описывая будущее, упоминают о воскресении, возвращении колен Израилевых, геенне огненной, эсхатологическом пиршестве, последнем суде? В отличие от Борга, я вижу в этом общее направление – апокалиптическое. Говоря словами Джона Доминика Кроссана, «Иисус делает апокалиптические заявления почти на всех уровнях и во всех жанрах преданий»[558].
Будем справедливы к Боргу: он не оспаривал того, что некоторые эсхатологические речения восходят к самому Иисусу. Он утверждал лишь то, что наличие таких утверждений не обязательно делает Иисуса «пророком апокалипсиса», поскольку они не предвещают близкой неотвратимости[559]. Однако вероятно ли, чтобы кто-то – будь то один человек или многие люди – говорил о последнем суде и снова и снова возвращался к эсхатологическим вопросам, но при этом не считал, будто конец близок? Такая озабоченность последними днями несвойственна Fernerwartung, но вполне характерна для Naherwartung. Едва ли перед нами предшественники Григория Турского, который жил в VI столетии, а конца света ожидал в VIII–IX веках. Сомнительно также, что пророчество о разрушении Храма не было эсхатологическим по своему происхождению[560] или что автор его имел в виду два образа будущего: с одной стороны, близкую гибель Израиля и Храма, и с другой – куда более отдаленный эсхатологический суд. Есть ли параллели этому в иудейских текстах, как I столетия, так и более ранних? «Ни в одном из Заветов мы не встречаем столь сложной, разобщенной перспективы, включающей в себя как ближайшее, так и более отдаленное будущее»[561]. Если некоторые тексты о последнем суде, написанные в традиции Иисуса – как, например, несколько сектантских текстов о последнем суде из Кумрана – и не говорят об эсхатологии однозначно, в этом отражается лишь то тривиальное обстоятельство, что не все и не всегда проговаривается вслух; и даже те логии о суде, в которых не говорится напрямую об эсхатологическом «дне», о воскресении, о геенне огненной, и не упоминается близость и неотвратимость суда, не препятствуют такому их пониманию.
Сопутствующие размышления
Я не стремлюсь доказывать, будто какое-либо из упомянутых речений принадлежит Иисусу или что какое-либо из упомянутых событий или обстоятельств должно было произойти. Я хочу лишь обозначить общее направление и сформулировать нечто подобное взаимно исключающим альтернативам Швейцера: мы выбираем не между апокалиптическим Иисусом и каким-нибудь другим, – но между апокалиптическим Иисусом и скептицизмом. Мы
можем отвергнуть общий контур предания, саму идею, согласно которой Иисус был апокалиптическим пророком; в этом случае источники наши скудны и цинизм цветет буйным цветом. Или же мы можем сделать вывод о том, что представление Иисуса о замысле Божьем было некоей разновидностью апокалиптической эсхатологии – и в этом случае источники наши, быть может, вовсе не ведут в тупик и нам незачем прекращать работу. Какая же возможность вероятнее?
Быть может, кто-нибудь скажет, что на этой стадии необходимо провести историко-критическую работу и определить, какие из вышеперечисленных преданий восходят к Иисусу, а какие – к Древней Церкви! Именно так большинство из нас обычно и поступает. Однако задачу эту, судя по явной разнице итогов у разных исследователей, выполнить не так-то просто – и в любом случае, никакой необходимости в ней нет. Мы вполне можем ответить на вопрос, не вынося вердикт о том, принадлежит ли Иисусу то или другое речение. Дело в том, что целый ряд общих соображений подводит нас к принятию апокалиптического портрета Иисуса, представленного у синоптиков. К сожалению, здесь я не смогу подробно рассмотреть их все. Объем статьи позволяет мне лишь наметить линии рассуждений, каждое из которых необходимо развить и защитить от возможных возражений:
1. Многие ранние христиане верили, что эсхатологические события близки (ср. Деян 3:19–21, Рим 13:11, 1 Кор 16:22, Евр 10:37, Иак 5:8, 1 Пет 4:17, Откр 22:20). Древность их взглядов удостоверяет арамейское выражение µαράνἀ θά = («Гряди, Господи!» – 1 Кор 16:22, Дид 10:6)[562], а также и то, что древнейший дошедший до нас христианский текст, Первое послание к Фессалоникийцам, полон эсхатологических ожиданий (1 Фес 1:10; 3:13; 4:13 – 5:11, 23).
Вскоре после служения Иисуса мы встречаем у его последователей Naherwartung; знаем и то, что Иисус ассоциировал себя с Иоанном Крестителем, в чьих публичных выступлениях, если верить синоптическим Евангелиям, звучали отсылки к эсхатологическому суду, понимаемому как близкий и неизбежный (Мф 3:7–10, 11–12 = Лк 3:7–9, 15–18). И в самом деле: Иисус, по всей видимости, принял от Иоанна крещение – действие, представляющее собой некий богословский «гриф утверждения»; и предание рассказывает, что он открыто поддерживал служение Иоанна (Мф 11:7–19 = Лк 7:24–35; 16:16, Мк 11:27–33, Мф 11:14–15; 21:28–32; Ев. Фом 46). Снова и снова мы видим следующее: пытаясь воссоздать Иисуса, не ожидающего близкого конца света – иными словами, без апокалиптического Naherwartung, – мы отрываем его не только от ранних христиан, считавших себя его последователями, но и от человека, чье служение поддерживал он сам. Насколько такое вероятно? Кроссан, чьи взгляды на Иисуса совершенно отличны от моих, все же достаточно честен, чтобы признать: в моем аргументе есть смысл. Хотя это не «логический абсолют», ибо «Иисус мог быть и неапокалиптическим островком в апокалиптическом море – точно так же, как Ганди был островком ненасилия в мире насилия», все же это рассуждение «интригует своей обстоятельностью»[563].
2. Павел знал Петра, ученика Иисуса, а также Иакова, брата Иисуса (Гал 1:18 – 2:14); по его словам, оба они были свидетелями воскресения Иисуса, произошедшего «в третий день» (1 Кор 15:3–7). Собственно, вопрос уже решен: некоторые люди, лично знавшие Иисуса, уже вскоре после его распятия верили, что Бог воскресил его из мертвых.
Что же побудило Петра и других знакомых Иисуса провозгласить, чуть ли не сразу после его смерти, о том, что его воскресил Бог? Несомненно, часть объяснения – в том, что к своему пасхальному опыту они подошли уже с определенными богословскими представлениями и ожиданиями. Основное утверждение: «Он воскрес» – едва ли можно считать бесстрастным фактическим описанием произошедшего, независимо от того, какое именно событие за ним стоит. Это скорее богословская интерпретация события, и она не могла возникнуть в эсхатологическом вакууме. Весть о воскресении Иисуса ясно говорит нам о том, что ученики надеялись на воскресение мертвых и до Страстной Пятницы – иначе они объяснили бы происшедшее как-то иначе.
Откуда же стали бы раннехристианские группы черпать свои богословские представления, если не из проповеди Иисуса, не из «надежд, идей, символов и терминов, унаследованных напрямую» от него?[564] Быть может, пасхальная вера родилась после распятия – но зачата она была раньше. Вера в воскресение Иисуса не сложилась бы, не предшествуй ей вера во всеобщее воскресение.
3. То, что некоторые ученики Иисуса еще до Пасхи были полны апокалиптических ожиданий, вполне согласуется с изначальным исповеданием его «Мессией» (/χριστός). Это слово вовсе не было, как можно прочесть у некоторых современных авторов, «безобидным прозвищем»[565]. Очевидное отсутствие этого титула в Q[566] или в Евангелии Фомы вовсе не означает, что равенство Иисус = Мессия было «позднейшим изобретением»[567]. Рим 1:3–4 и 1 Кор 15:3 ясно показывают, что исповедание Иисуса «Мессией» входило в христианство с глубокой древности. Вероятнее всего, что по меньшей мере некоторые, с самого начала исповедовавшие воскресение Иисуса, подобно Петру в Деян 2–3, называли его «Мессией», иначе говоря, облекли его властью эсхатологического царя Израиля[568] – подобно тому как Акива, по свидетельству Талмуда, провозгласил Симеона бар Косбу (Кохбу) «царем-мессией» (иер. Таан 4:68d; вав. Таан 93b). Каковы бы ни были их точные мотивы, отождествление Иисуса с царем-освободителем вполне согласуется с тем, что мы знаем о христианах из других источников. Любая группа, убеждения которой включали в себя пришествие ὁ χριστός, воскресение его из мертвых и грядущее возвращение для вселенского суда (Мф 16:27, Рим 14:10, Откр 22:12), несомненно, имела апокалиптическую ориентацию. И если (как, по всей видимости, и было) некоторые из веривших в это были учениками самого Иисуса, это аргумент в пользу апокалиптической ориентации его самого: очевидно, они «стали его учениками именно потому, что были с ним согласны»[569].
4. В Мк 13, в своей эсхатологической речи, Иисус предсказывает события, которые исполнятся или начнут исполняться в Мк 14–16 – в рассказе о Страстях. Например, звучит пророчество о том, что солнце померкнет (Мк 13:24) – и это пророчество сбывается (Мк 15:53). Предвещается разрушение Храма (Мк 13:2) – и Храм рушится символически, когда разрывается его завеса (Мк 15:38). А если в Мк 13:35–36 Иисус предупреждает учеников: «Бодрствуйте [γρηγορεῖτε]… чтобы, придя [ἐλθών] внезапно, не нашел [εὕρῃ] вас спящими [καθεύδοντας]», то в Мк 14:34 и 14:38 Иисус приказывает ученикам «бодрствовать» [γρηγορεῖτε], а затем приходит [ἔρχεται/ἐλθών] и находит [εὑρίσκει/εὑρεῖν] их спящими [καθεύδοντας]. Эти и другие корреляции между эсхатологической речью у Марка и рассказом о Страстях, которому она предшествует, наводят многих комментаторов на мысль, что кончина Иисуса предвещает или предваряет собой эсхатологическую кончину мира[570].
Такое понимание Страстей Иисуса было распространено в Древней Церкви. В Мф 27:51–53 смерть Иисуса совпадает с солнечным затмением и воскресением мертвых (ср. Иез 37, Зах 14:4–5). Нечто подобное описывает и Иоанн. В Ин 16:21 «мессианские приветствия и радость, сопровождающая конечное спасение народа Божьего… понимаются в контексте Страстей и воскресения Христова»[571]; а в Ин 12:31 и 16:11 распятие Иисуса оказывается «судом [κρίσις] миру», возвещающим конец царству сатаны. Есть еще и Павел, чье «восприятие смерти Иисуса… столь же апокалиптично, как и надежда на его Второе Пришествие»[572]. Распятие – водораздел между прежним злым веком, где правили «начальства, власти и силы», и новым творением, над которым властен лишь мессианский Господь Иисус (1 Кор 15:25–27). Далее, Иисус для Павла – «первенец из умерших» (1 Кор 15:20): убеждение, из которого следует, что эсхатологическая жатва идет полным ходом, что воскресение Иисуса – лишь начало общего воскресения мертвых (ср. Кол 1:18, Откр 1:5, 1 Клим 24:1). Здесь снова кончина Иисуса становится, в определенном смысле, концом всего мира – или началом конца.
Учитывая, что эта связь смерти Иисуса с эсхатологическими мотивами звучит и у синоптиков, и у Иоанна, и у Павла, очевидно, она восходит к очень ранним временам; и вполне возможно, что этот паттерн – классический для иудейской эсхатологической мысли, в которой за страданиями следует победа – был в сознании учеников уже при входе в Иерусалим. Если они еще до того, как все свершилось, предвидели эсхатологические мучения, за которыми последует эсхатологическое доказательство, испытания, за которыми последует воскресение, и если Иисус был распят, а затем его снова увидели живым – значит, его последователи должны были не отбросить эсхатологические надежды, но, как и другие сообщества, ждущие конца света, скорректировать свои эсхатологические ожидания в соответствии с реальными событиями[573]. Эсхатологическая интерпретация исторического Иисуса помогает нам понять то, что в противном случае остается загадочным: первоначальную веру христиан в то, что смерть Иисуса влечет за собой и конец света.
5. Апокалиптические писания иудеев знакомят нас с типом эсхатологии, хорошо знакомой современникам и соотечественникам Иисуса. Среди апокалиптических материалов, широко известных во времена Иисуса, не только библейские книги – Ис 24–27, Книга Даниила, Зах 9–14, – но и части Первой книги Еноха, некоторые иудейские Оракулы Сивилл, а также «Завет Моисея»; а через несколько десятилетий после его смерти, во времена восстания Симона бар Косбы, к ним присоединились Третья книга Ездры, Сирийский апокалипсис Варуха, Откровение Авраама. Далее: и во времена Иисуса, и позже составлялись, переписывались, изучались свитки Мертвого моря, столь многие из которых насыщены апокалиптическими настроениями[574]. Замечания Иосифа Флавия о широкой популярности в Палестине Книги Даниила (И. Д. X, 11.7) – отразившейся и в кумранской[575], и в раннехристианской литературе, и в последующем включении этой книги в ветхозаветный канон – подтверждают: та апокалиптическая эсхатология, которую Вайс и Швейцер атрибутируют Иисусу, имела широкое хождение в иудейской Палестине до 70 года. Множество людей, как и герои Лк 1–2, жили в ощущении скорого и неминуемого преображения, разделяли надежду, что «один человек из их родного края достигнет всемирного господства» (И. В. VI, 5.4). Таким образом, апокалиптический Иисус, доводивший до совершенства комплекс дохристианских идей, вдохновленных священными книгами, прекрасно вписывается в контекст I века. Более того: в соответствии с этим, «быстрое распространение христианства было бы необъяснимо без широко распространенного среди иудеев того времени ощущения, что они живут в Последние Времена. Ибо… только благодаря этому толкованию Библии на основе апокалиптических предпосылок, свойственному не только кумранским и апокалиптическим текстам, но до некоторой степени и раввинистическим источникам, можно было счесть, что Церковь, применяя к Иисусу целый спектр ветхозаветных речений, действует разумно и приемлемо»[576].
6. В Евангелиях от Матфея и Луки Иисус сравнивает свою миссию со служением Иоанна Крестителя (Мф 11:18–19 = Лк 7:33–34). В Евангелии от Марка Ирод Антипа предполагает, что Иисус – это Иоанн Креститель, воскресший из мертвых (Мк 6:14). Там же, у Марка, отмечается, что так думали многие (Мк 8:28). А в Деяниях раббан Гамалиил сравнивает Иисуса и его последователей с Февдой и его движением, а также с Иудой Галилеянином и его движением (Деян 5:35–39). Эсхатологические ожидания, надежда на восстановление иудейского народа одушевляли и Иоанна Крестителя, и Февду, и Иуду Галилеянина. Иоанн был пророком, провозглашавшим скорый конец (даже Ориген, в Гомилиях на Евангелие от Луки, 23.1, признает, что слова Иоанна в Лк 3 естественнее всего понимать как ждущие «исполнения» «при конце времен»)[577]. Февда, по Иосифу, называл себя пророком, действовал как новый Моисей и представлял угрозу для римлян (И. Д. ХХ, 5.1). Иуда Галилеянин, по свидетельству того же Иосифа (И. Д. XVIII, 1.1), боролся за независимость для иудеев, полагаясь на помощь Божью. Что из этого следует? Эти несколько сравнений в канонических Евангелиях и Деяниях, четыре из которых вложены в уста посторонних и, вполне возможно, отражают нехристианское восприятие, звучат вполне естественно, если Иисуса помнили именно как пророка апокалипсиса, проповедовавшего Царство Божье, которое низложит римское владычество. Если же Иисус не был похож на всех этих людей, чаявших скорого и сверхъестественного искупления Израиля, – почему его с ними сравнивали?
7. Интерпретация Иисуса как пророка апокалипсиса не только ставит его в верный контекст Палестины I столетия, но и позволяет нам приложить к нему кросс-культурную типологию, знакомую современным антропологам. Тихоокеанские карго-культы; иудейские мессианские группы; америндские пророческие движения; христианские секты, ожидающие скорого крушения миропорядка – все они демонстрируют нам ряд черт, имеющихся, как я показал в другой своей работе[578], и в ранних преданиях об Иисусе. Такие эсхатологические движения склонны:
• обращаться к разочарованной части общества в период социальных перемен, угрожающих традиционным символам и ценностям, часто – во время борьбы за национальную независимость;
• считать настоящее и ближайшее будущее временем страданий и/или катастроф;
• воспринимать мир глобально; воображать, что сверхъестественное вмешательство необратимо изгладит из мира все зло и устранит все причины для страданий;
• считать победу добра скорой и неминуемой;
• стремиться к духовному возрождению и в то же время проповедовать благую весть;
• провозглашать равенство людей;
• делить мир на два лагеря – спасенных и неспасенных;
• нарушать общепринятые табу, связанные с религиозными обычаями;
• выступать сторонниками нативизма и сосредотачиваться на спасении всей общины;
• заменять традиционные семейные и социальные связи фиктивным родством;
• искать новые каналы для общения со священным;
• требовать активного вовлечения и безусловной лояльности;
• группироваться вокруг харизматического лидера;
• считать свои верования итогом особого откровения;
• в ожидании божественного спасения и освобождения занимать пассивную политическую позицию;
• ожидать возрождения рая в преображенном мире, куда вернутся предки;
• настаивать на возможности испытать опыт утопии уже в нашей реальности;
• возникать из предшествующих движений.
Все эти темы отражены в канонических Евангелиях; и, раз уж эсхатологическая «одежка» так подходит первым христианам, вполне можно предположить, что ее носил и сам Иисус. Иначе говоря, определение Иисуса как пророка апокалипсиса вполне объясняет, почему в преданиях о нем можно найти столько параллелей с эсхатологическими движениями по всему миру, чье богословие, как правило, изначально формируется пророками-основателями. То, что «в иудаизме I века эсхатологические движения встречались нередко»[579], лишь укрепляет нашу точку зрения.
Финальные штрихи
Пересказывать слова интересных людей и рассказывать о них разные истории – в природе человека; а Иисус, который «совершил изумительные деяния» (И. Д. XVIII, 3.3), несомненно, был человеком интересным. Его слова и дела врезались в память. По всей видимости, еще до Пасхи иудеи начали рассказывать друг другу истории об Иисусе – несомненно, зачастую преувеличенные или не основанные на фактах, и повторять его слова – без сомнения, не всегда точно. И, разумеется, первые христиане имели о своем Господе вполне определенное представление, – откуда бы оно ни исходило.
Важно другое: вскоре после того, как образы Иисуса, рассказы о нем и приписываемые ему речения вошли в обиход, для многих они стали неотъемлемой частью их религиозной идентичности и средством самоидентификации. Как только верования группы становятся смыслом ее существования и частью ее представления о себе, возникает лояльность к ним, и начинается процесс их естественной консервации. Люди гордятся своим общим прошлым и противостоят значительным изменениям в важных для них общих убеждениях. Вот почему так часто «самая ранняя структура исторического объекта ограничивает спектр того, что могут сказать о нем позднейшие поколения»[580]. Общество накладывает на коллективную память свои ограничения.
Особенно внимательно сосредотачиваются на прошлом религиозные группы; в результате восприятие прошлого превращается для них в некий интерсубъективный мир, который придает форму общественному согласию, становится авторитетным и продлевает свое бытие. В сущности, таково определение традиции: это рассказы и чувства, которые выражают личную и групповую идентичность и, следовательно, более или менее стабильно передаются на протяжении времени. Заинтересованность в традиции и ее сохранение идут рука об руку. Вот почему религиозные общины, даже совершенно незаинтересованные в разработке критической истории или неспособные ее создать, часто становятся хранителями воспоминаний или создают «пространство памяти», в котором новопришедшие проходят «мнемоническую социализацию»[581]. «Знакомство новых членов с коллективным прошлым – важный элемент инкорпорации их группой или общиной. Например, деловые корпорации, колледжи, армейские части зачастую первым делом знакомят новичков со своей коллективной историей, стремясь “помочь им освоиться”»[582].
Итак, следовало ожидать, что некоторые религии создадут себе письменные каноны, или, например, что некоторые любавичеры будут запоминать субботние проповеди своих ребе слово в слово и пересказывать их другим[583]. Схожим образом и 1 Кор 11:23–26 и 15:3–7 доказывают – если нам вообще нужны доказательства, – что ранние иудеохристианские предания об Иисусе, его культ и обряды хранили воспоминания о нем. Более того, на этих первоначальных преданиях, несомненно, строились синоптические Евангелия; иначе говоря, во многом в их основе были речения Иисуса и изначальные рассказы о нем, ходившие еще при его жизни. Единственная альтернатива этому мнению – та, что древнейшие воспоминания общины просто исчезли и были заменены чем-то совершенно иным – с исторической точки зрения попросту бессмысленна. Люди, «вспомнившие» такие деяния или речения, которых не помнил никто другой, или не соответствовавшие тому, что помнили все остальные, попросту не смогли бы навязать общине свои выдумки. Разумеется, традиция, связанная с Иисусом, не оставалась неизменной – и все же это была именно традиция.
Я не защищаю здесь чрезмерную, наивную доверчивость к достоверности синоптических Евангелий. В книгах Матфея, Марка и Луки встречается и легендарный материал, и отражение специфических христианских интересов; кроме того, они, вместе с их источниками, не могут не страдать всеми «грехами памяти», которые я перечислил в начале статьи. Однако я настаиваю на том, что материалы, собранные синоптиками, при всей их стилизованности и идеализации исходят из повествований и речений, имевших широкое хождение с самых ранних времен, и что в этих Евангелиях, особенно в том, как они изображают Иисуса, мы можем найти реальные воспоминания, способные сложиться в нечто большее, чем просто туманный образ. Мою уверенность подкрепляет то, что синоптики часто описывают Иисуса как пророка апокалипсиса – и действительно, как я показал в статье, такое его понимание, по всей видимости, восходит к основным верованиям древнейших Церквей. Иными словами, общее впечатление, получаемое нами из синоптических Евангелий, подтверждается всем тем, что нам известно о первоначальном христианстве.
От исторического Иисуса к Сыну Божьему керигмы: ролевой анализ и новозаветная христология
Герд Тайсен
Среди исследователей Иисуса принято считать, что ученики его говорили о нем после Пасхи намного больше, чем он сам о себе – до Пасхи. После распятия и воскресения в глазах учеников Иисус стал рядом с Богом. Пасхальные события пролили новый свет на все, что было прежде, в особенности в двух аспектах. Все воспоминания об Иисусе теперь были осенены тенью креста и озарены светом Пасхи. Везде, где явно превозносят Иисуса, это можно приписать его пасхальной славе. Любое осмысленное истолкование его казни могло возникнуть после Пасхи[584]. Однако не все здесь – ретроспектива. Исторический Иисус обладал невероятной харизмой; впрочем, находились и те, кто его отвергал и даже клеймил позором. У нас есть свидетельства того, что и до Пасхи ученики превозносили Иисуса чрезвычайно высоко. Но как это соотносится с поклонением ему после Пасхи? Связь исторического Иисуса и Сына Божьего, провозглашенного в керигме[585], остается – и это естественно – одной из ключевых проблем изучения Нового Завета. В истории решения этой проблемы обычно выделяются три стадии.
Либеральное богословие XIX столетия стремилось отыскать – за догматически искаженным изображением – истинного «исторического» Иисуса, человеческую личность столь яркую и неотразимую, что можно было понять, почему ученики впоследствии сочли его Богом. В историческом Иисусе они искали прежде всего человеческую суть, стремясь противопоставить эту историческую фигуру тому Иисусу, о котором проповедовала Церковь. Новый поиск, начатый в середине XX века, напротив, избрал своей отправной точкой Иисуса, провозглашенного Церковью, – и искал свидетельства, подтверждающие его истинность, в историческом Иисусе. Такие свидетельства нашлись – в том, как Иисус сознательно провозглашал свою эсхатологическую власть, чего в истории не делал еще никто и никогда. Иисус заявляет, что в нем начинается Царство Божье. Такому историческому Иисусу не было аналогий[586]. Что до Третьего поиска, то он отдалился от вопросов о легитимности в христианском богословии и принял исключительно исторический подход. Он равно открыт для христиан и иудеев, для людей религиозных и нерелигиозных – по крайней мере он к этому стремится. Как и Новый поиск, он старается отыскать в личности и жизни Иисуса нечто особенное, нечто уникальное – но не с целью показать, что ему нет аналогий. Скорее, он исходит из того, что уникальна каждая личность, оставившая след в истории. Подобно либеральному «Исследованию Иисуса», Третий поиск нацелен на человеческую природу Иисуса, и не с целью раскритиковать поклонение ему как Богу, – просто понять людей можно лишь исходя из их социального и культурного контекста. Теперь исследователи задают Иисусу светские вопросы, сформулированные историками. Таким образом, Третий поиск не стремится разрешать вопрос о связи исторического Иисуса и керигматического Сына Божьего – вопрос, составляющий основную историческую и богословскую тему Старого и Нового поисков. Однако, как ни парадоксально – быть может, именно он своими «светскими» вопросами сможет эту проблему прояснить.
В первой части этой статьи мы рассмотрим проблему, оставленную нам в наследство Новым поиском. Во второй части – переформулируем ее в категориях ролевого анализа исторического Иисуса. В третьей части – проведем такой анализ.
Исторический Иисус и Сын Божий керигмы. Новый поиск
Новый поиск выстроил между историческим Иисусом и Сыном Божьим керигмы три моста: имплицитную христологию – сознание Иисусом своей власти; вызванную христологию мессианских ожиданий, которые он пробуждал; и эксплицитную христологию, посредством которой Иисус выражал в почтительных титулах то, как он понимал себя сам.
Имплицитная христология связана с тем, как Иисус сознавал свою власть. Это сознание ярко проявляется в трех областях.
• В том, как Иисус понимал историю. Иисус превосходит всех пророков, бывших прежде него, включая и последнего пророка, Иоанна Крестителя. Он не просто хочет быть последним иудейским пророком – он хочет быть больше всех пророков, нашедших в нем свое исполнение. Иисус эсхатологически сознает в себе власть[587].
• В том, как Иисус понимал Тору. В подлинных антитезах Нагорной проповеди Иисус ставит себя вровень с Моисеем и проявляет талант искусного толкователя Закона, одновременно и усиливая, и смягчая его требования.
• В том, как Иисус понимал Бога. Слово «аминь», используемое в начале речений, указывает на их боговдохновенность. «Аминь» Иисуса – ответ гласу Божьему. И для Иисуса, и для всех остальных людей Бог – Отец, который всегда рядом.
В итоге – и в этом ученые давно согласны – Иисус приписывал себе решающую роль в истории взаимоотношений Бога и человечества. Он обладал «эсхатологическим сознанием власти», не зависящим ни от каких почетных титулов, которыми он именовал себя сам или которыми его награждали другие.
Вопрос о вызванной христологии связан с тем, чего ожидали от Иисуса другие, видя его деяния. Некоторые экзегеты предполагают, что Иисус и пробудил мессианские ожидания. И до наших дней часто считали, что Петр исповедал Иисуса Мессией уже после Пасхи, а задним числом эти слова отнесли ко временам жизни Иисуса[588]. А titulus crucis, надпись на кресте, как обычно полагают, представляет собой политическое недоразумение, возникшее на основе мессианских чаяний. Да, Иисуса казнили как «Царя Иудейского», но это ничего не говорит нам о том, как он понимал себя сам. И более того, сейчас исследователи пришли к согласию, пусть и минимальному, в следующем: возможно, титул «Христос», едва ли звучавший из уст самого Иисуса, также не имеет к тому, как он понимал себя сам, никакого отношения. Однако вполне вероятно, что на него, словно краски на холст, перенеслись мессианские ожидания. Консенсус в вопросе вызванной христологии намного более хрупок, чем в вопросе христологии имплицитной – с одной поправкой: то, чего ожидали от Иисуса окружающие, многие считают несущественным для решения вопроса о том, как понимал себя и свою миссию он сам.
Однако в вопросе об эксплицитной христологии Третьему поиску достался в наследство полный хаос. Минимальное согласие в том, что если Иисус и называл себя как-то особо, – то это было выражение «Сын Человеческий». Его мы слышим только из уст Иисуса. Однако о том, подлинны ли эти слова и можно ли назвать их «титулом», ведутся жаркие споры. Я коротко расскажу о четырех основных позициях в этих спорах.
1. Сторонники первой позиции считают, что подлинны только речения о будущем Сыне Человеческом. Говоря о Сыне Человеческом, Иисус использует третье лицо – следовательно, имеет в виду кого-то другого[589]. Он считал себя предшественником какого-то иного Спасителя, и лишь после Пасхи ученики отождествили его с тем, другим. Эта позиция противоречит имплицитной христологии. Либо Иисус сознавал, что его власть в эсхатологическом плане превосходит авторитет всех прочих пророков, – либо он, как Иоанн Креститель, видел в себе предшественника кого-то большего.
2. Сторонники второй позиции склонны полагать, что подлинными могут быть только речения о Сыне Человеческом в настоящем — например, о его власти нарушать субботу или о том, что ему нет приюта на земле. В этих отрывках «Сын Человеческий» означает попросту «человек» или «я, человек»[590]. Однако если Иисус понимал себя именно так, значит, он не приписывает себе исключительной власти по сравнению с прочими людьми. Он говорит: «Я, как человек, господин и субботы» (Мк 2:28) и: «Я, как человек, в отличие от птиц и лис, не имею где преклонить голову» (Мф 8:20). И это тоже противоречит имплицитной христологии – если только мы не предположим, что выражению «Сын Человеческий» Иисус придавал какой-то особенный, высокий и почтительный смысл.
3. Третья позиция: среди речений о Сыне Человеческом подлинных нет[591]. Эта позиция предполагает, что первые христиане истолковывали свои пасхальные видения в свете видений из седьмой главы Книги Даниила. Они видели фигуру, «подобную человеку», которой Бог отдал власть и суд, и отождествляли ее с Иисусом. Однако здесь остается историческая загадка. В Дан 7 говорится: «…как бы Сын Человеческий», а в речениях Иисуса о Сыне Человеческом любые указания на сравнение отсутствуют. Более того, в пасхальных явлениях никаких упоминаний о Сыне Человеческом нет[592], и ни одно из речений о Сыне Человеческом не объяснить одними лишь пасхальными мотивами.
4. Четвертая позиция: речения и о настоящем, и о грядущем Сыне Человеческом подлинны, и Иисус в них говорит о себе. Он ожидал, что в будущем примет на себя роль Сына Человеческого[593]. Здесь не возникает противоречия с эсхатологическим сознанием власти, но возникают две другие проблемы. Иисус говорит о Сыне Человеческом в третьем лице. Если он имеет в виду самого себя – к чему такая неоднозначность? Смущает и переход от нынешних деяний на земле к предстоящей возвышенной роли на небесах. Тот, кто явится с небес, должен сначала на небеса попасть – однако в речениях о Сыне Человеческом ничего об этом не говорится. И там, где в них звучат пророчества о страдании и воскресении Сына Человеческого, нет упоминаний о его вознесении на небеса.
Положение современных исследований можно выразить в трех тезисах. Во-первых, в том, что касается имплицитной христологии – все согласны с тем, что Иисус обладал эсхатологическим сознанием собственной власти. Во-вторых, вызванной христологией современные исследователи пренебрегают. То, чего ждали от Иисуса окружающие, они считают малозначимым по сравнению с тем, чего он ждал от себя сам. И, в-третьих, проблема эксплицитной христологии остается неразрешенной. Либо, говоря о Сыне Человеческом, Иисус принижал значение эсхатологического сознания своей власти – либо мы вынуждены путаться во внутренних противоречиях речений о Сыне Человеческом, в которых трудно отыскать какую-либо объединяющую идею.
Исторический Иисус и Сын Божий керигмы. Новый подход: социальный анамнез
Чем же может помочь в решении этих проблем Третий поиск? Возможно, в чем-то окажется полезным один из новых «мирских» методических подходов: социальный анамнез. Он выводит на первый план то, что до сих пор оставалось для нас второстепенным: вызванную христологию. Она связана с социальным взаимодействием между тем, чего ждали от Иисуса окружающие, и тем, как он сам реагировал на эти ожидания. Для лучшего понимания этих процессов мы должны опереться на три социологических понятия.
Первое из них – харизма: способность влиять на других и завоевывать у них авторитет без принуждения и без помощи организованной силы. Харизма проявляется только во взаимодействии тех, кто ей наделен, с теми, кто их окружает. Такое взаимодействие определяется ролевыми ожиданиями – иначе говоря, тем, какого поведения ожидают окружающие от людей, занимающих ту или иную позицию. Христологические титулы – это именно ролевые ожидания или, по крайней мере, нечто с ними сопоставимое. Итак, вот наш вопрос: какие ролевые ожидания предлагала Иисусу его аудитория – и какие из них он принимал? И начальной точкой нашего исследования должна стать не та, что естественна для современной ментальности – не личное самосознание Иисуса. Для начала мы должны спросить, чего ожидали от него последователи и враги[594].
Второе социологическое открытие, важное для нашего анализа – то, что ролевые ожидания ведут к типичным ролевым конфликтам. Это как интерролевые конфликты – например, между ролью «ученика Иисуса» и «члена своей семьи», так и интраролевые конфликты – между противоречивыми ожиданиями внутри одной и той же роли. Необходимо иметь в виду, что у каждого есть возможность переосмыслить свою роль, изменив традиционным ожиданиям. Это типично для харизматиков: они перекраивают ролевые ожидания своей аудитории и могут даже действовать независимо от этих ожиданий.
Это приводит нас к третьему социологическому открытию – к связи между харизмой и стигмой, «позорным клеймением». Харизматики часто сталкиваются с противостоянием, порой даже сознательно выбирают такие роли, в которых не могут быть приняты обществом. Они «клеймят» себя сами, провоцируют их аудиторию и увеличивают влияние на приверженцев. Те, кому удается выдержать отвержение и проклятия общества, тем самым показывают, что они сильнее. У них – сила, позволяющая подвергать сомнению общепринятые нормы и ценности. Так харизма и стигма, соединившись, дают возможность сделать рывок к принятию новых ценностей[595].
Социологический ролевой анализ создавался для современных обществ. Можно ли применить его к Древнему миру? Не будет ли анахронизмом его применение к преданиям об Иисусе? Ролевой анализ необходимо проводить в терминах культурной антропологии: он должен принимать во внимание ценности и образцы поведения Древнего мира, отличные от наших. Подозрение в анахронизме в нашем случае легко развеять: Древнему миру была знакома метафора theatrum mundi, идея о том, что мир – это сценическая постановка, где каждый из нас играет предписанную Богом роль. Образ этот мимоходом упоминается у Платона[596], а Эпиктет использует его в Энхиридионе:
Помни, что ты – актер в пьесе, характер которой определяется Драматургом: по Его желанию пьеса будет коротка или длинна; если Он пожелает, чтобы ты играл роль нищего – помни о том, чтобы и эту роль сыграть безупречно; то же и с ролью калеки, чиновника, обывателя. Ибо задача твоя в том, чтобы достойно восхищения сыграть предписанную тебе роль; но выбор роли остается за Другим. (Энх 17)[597].
Этот образ проясняет два отличия от современности. Мы живем, сознавая, что наши роли зависят от нашего поведения. Сами себе выписать «сертификат» мы не можем, но знаем, что этот «сертификат» подтверждает то, насколько хорошо мы играли. Разумеется, поведение человека и его способности играли свою роль и в древности. Но там мы видим куда более ясное сознание того, что в theatrum mundi никто не может создать себе роль сам. Роль дается человеку как данность, – словно марионетке[598]. Дальше ее можно лишь сыграть, хорошо или плохо. Суть в том, что роль и статус человека определяются извне. Это основная аксиома Античности, которую можно выразить так: никто не может сам определить себе роль[599]. Никто не может сам присвоить себе статус. В древности мы находим понимание непредвиденности статуса и роли. Статус мы получаем, роли нам предписаны. Их дает некая высшая инстанция, их «провозглашают» другие[600]. Второе отличие от нашего современного общества таково: роль, предписанную тебе в theatrum mundi, необходимо проиграть до конца, до ухода со сцены в миг смерти. В нашем обществе мы сознаем, что на протяжении жизни можем играть разные роли. В Древнем мире непредвиденность роли и статуса осознавалась куда более жестко. Раб может получить свободу – но в этом он зависит только от воли господина. И после этого он останется «вольноотпущенником», человеком неполноправным. По-настоящему свободны станут только его дети. Таким образом, изменение статуса происходит лишь вместе со сменой поколений. В рамках одной жизни изменения статуса ограничивались сокровенным убеждением в том, что социальное происхождение определяло социальную роль[601].
Непредвиденность статуса особенно важна для «возвышенных» ролей, превозносящих человека над другими. Никто не может сам себя сделать царем или императором. Так, Веспасиана провозгласило императором его войско. Были и божественные знаки, подтверждающие его императорское достоинство: пророчество Иосифа, оракул на горе Кармель, величание его «Сыном Бога» в египетском святилище и чудеса в Александрии[602]. Веспасиан должен был показать всем непредвиденность своего статуса, дабы не вызывать подозрений в том, будто он узурпировал роль императора.
Если даже земной статус невозможно присвоить самостоятельно – что уж говорить о статусе божественном! Иудаизм был в этом отношении особенно чувствителен. Быть может, Бог и может превознести кого-то до себя – но никто не может сам превознестись до Бога. Филон резко критикует самообожествление Гая Калигулы: возможно, Бог способен преобразиться в человека – но человек никак не может стать Богом! (О посольстве к Гаю 16). В области религии – особенно в мире единобожия – непредвиденность статуса и роли усиливается многократно.
В целом феномен непредвиденности статуса можно проиллюстрировать главами 6–8 Послания к Римлянам, где Павел описывает христианское спасение на примере трех ролевых отношений, принятых в быту: хозяин и раб, муж и жена, отец и сын[603].
1. Сперва Павел описывает искупленных как рабов, которые сменили хозяина (Рим 6:15–23). Сами рабы в этом процессе пассивны. Они не могут сами себя освободить, не могут изменить свой статус.
2. Затем Павел сравнивает искупленного христианина с женщиной, муж которой умер (Рим 7:1–6). В результате его смерти – непредвиденного события – она свободна снова выйти замуж.
3. Наконец искупленный предстает как усыновленный «сын». Никто не может усыновить себя сам. Усыновление происходит в Духе – благодаря иррациональной силе, которую люди могут лишь получить (Рим 8:14–27).
Об этой же непредвиденности статуса говорит Павел, когда пишет, что Бог «предопределил» христиан быть братьями и сестрами Христа (Рим 8:29). Никто не может сам себя к чему-то «предопределить». Это по силам только Богу.
Разумеется, между Павлом и Иисусом расстояние огромное. Однако то же представление о непредвиденности статуса мы находим у Иоанна Крестителя. Он критикует представление толпы о том, будто ее спасение предопределено: «И не говорите в себе: отец наш Авраам; ибо, говорю вам, Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму» (Мф 3:9). Здесь речь идет о радикальной непредвиденности статуса. Бог может приписать статус детей Авраамовых даже камням – и действительно превратить их в детей Авраама. Человек в этом процессе остается пассивным, что подчеркивают и сами крещения, которые совершает Иоанн. Из традиционных иудейских очистительных ритуалов, которые мог совершить над собой сам человек, Иоанн создал крещение, совершать которое мог только он. Никто не может крестить сам себя: любой должен быть крещен.
В преданиях об Иисусе также имеются некоторые указания на непредвиденность статуса. В притче о блудном сыне (Лк 15:11–32) утерянный статус младшего сына восстанавливает его отец, вручая ему одеяние и кольцо. Блудному сыну остается только их принять. В притче о мытаре и фарисее (Лк 18:9–14) мытарь оправдан Богом. В притче о суде над народами (Мф 25:31–46) праведные не ведают, что они праведны. Их статус приписывается им неожиданно для них самих. О непредвиденности статуса говорит Иисус, когда отвечает двоим сыновьям Зеведеевым, просящим себе почетных мест по правую и по левую руку от него: «А дать сесть у Меня по правую сторону и по левую – не от Меня зависит, но кому уготовано» (Мк 10:40).
Ролевой анализ и представление Иисуса о себе
Иисуса воспринимали как учителя и пророка: то и другое – относительно четко очерченные роли. Чего ждать от учителя или от пророка, каждый более или менее ясно себе представлял. Некоторые «исполняли» обе роли (так и один актер может воплощать ряд персонажей)[604]. В то же время Мессия и Сын Человеческий – роли уникальные, единичные. Больше одного Мессии быть не могло (если же предполагалось, что их будет двое, то один был Мессией-царем, и один – Мессией-священником)[605]. Так и Сын Человеческий, который явится с небес в своем космическом величии и будет виден повсюду, как молния, мог быть только один. Обе эти роли в каком-то смысле туманны. Не вполне ясно, что ожидалось от Мессии, и еще менее понятно, каковы были задачи «Сына Человеческого». Приведенная ниже таблица показывает четыре «роли» Иисуса, которые мы далее рассмотрим подробно.
Иисус в роли учителя
Вот мой первый тезис: имплицитная христология Иисуса куда менее «имплицитна» (т. е. независима от какого-либо титула), чем обычно полагают. В ее основе – ролевые ожидания, связанные с Иисусом как учителем и пророком. Напомним: большинство исследователей согласны с тем, что имплицитная христология Иисуса проявляется в том, как Иисус понимал историю, Тору и Бога. Осознание того, что он – исполнение пророчеств, связывает Иисуса с пророками; а толкование Закона – с Торой. Он превосходит Моисея в роли учителя, а пророков – в роли пророка. Более того: его понимание Бога охватывает обе эти роли. Слово «аминь» в начале речений – часть его роли пророка в той мере, в какой оно указывает на боговдохновенность. То, что Иисус изображает Бога как Отца – это часть роли учителя премудрости. В Книге Сираха учитель премудрости обращается к Богу как к Отцу (Сир 51:1)[606]. Таким образом, Иисус выражал понимание своего авторитета, которым обладал как учитель и пророк, но в то же время превзошел эти ролевые ожидания. Теперь мы должны показать, во-первых, что подобные ролевые ожидания действительно на него возлагались, и во-вторых, что он отвечал на них, не прямо объявляя себя учителем и пророком, но скрыто принимая эти роли.

Что касается роли учителя – здесь общественные ожидания очевидны: другие часто называют Иисуса «учителем»[607]. В Евангелии от Матфея это обращение мы слышим только от неучеников, разве что Иуда обращается к Иисусу «равви». Другие ученики при обращении к нему используют слово «Kyrie» («Господи»). Однако в Евангелии от Матфея Иисус, несомненно, представляет собой саму суть учителя – такого, рядом с которым ученики не могут поставить никого другого (Мф 23:8).
Как учитель, Иисус приводит толпу в восторг. Он учит не как книжники, а как власть имеющий (Мк 1:22). Соотечественники не могут понять, откуда у него такая мудрость. Разве он – не сын плотника? Его роль члена семьи и сельской общины входит в интерролевой конфликт с ролью учителя (Мк 6:1–6). Мы можем различить у Иисуса и личную интерпретацию этой роли. В отличие от других учителей, он – учитель странствующий. У нас нет четких свидетельств о других странствующих учителях в иудаизме того времени. Более того, другие учителя учили только юношей, а среди слушателей Иисуса мы видим и женщин. Он даже прямо обращается к ним, и в примерах, которые приводит, говорит и о мужчинах, и о женщинах[608].
В свете всего этого поразительно, что Иисус ни разу не называет себя учителем открыто и принимает эту роль лишь неявным образом. Исключением, быть может, является Мк 14:14. Объясняя ученикам, как найти комнату для пасхальной трапезы, Иисус приказывает им сослаться на него: «Учитель говорит…» Помимо этого, мы встречаем у него лишь общие утверждения об учителе, связанные в том числе и с ним самим, скажем: «Ученик не выше учителя…» (Мф 10:24–25), или: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос, вы же все братья» (Мф 23:8). Иисус говорит о себе как об учителе лишь косвенно, в третьем лице. Это не прямое самоназвание, но подразумеваемое самоопределение. Примерно так же в проповеди об успокоении труждающиеся и обремененные могут учиться у Иисуса (Мф 11:28–30). Как учитель мудрости появляется он и в пассаже о царице Юга, пришедшей к Соломону. А здесь «больше Соломона» (Мф 12:42). Но и здесь нет слова «учитель» как самоназвания. Роль учителя подразумевается; и все же нет сомнений, что Иисус принимал эту роль, предлагаемую ему другими.
Иисус в роли пророка
Нечто похожее происходит и с ролью пророка. Название «пророк» используется другими и выражает их ожидания. Люди видят в Иисусе пророка (Мк 6:15; 8:28). Увидев чудо, они восклицают: «Великий пророк восстал между нами!» (Лк 7:16). Народ в Иерусалиме (Мф 21:11) и ученики на дороге в Эммаус (Лк 24:19) говорят о нем как о пророке[609]. Эту роль Иисус также косвенно принимает. Само слово «пророк» мы слышим от него, например, в речении о том, что нет пророка в своем отечестве (см. Мк 6:4). Однако о роли пророка Иисус всегда говорит «в общем», не применяя это слово к себе.
Роли учителя и пророка частично совмещены, однако относятся к различным областям жизни Иисуса. Как учитель, он неотразим и успешен; как пророка его отвергают. Это совпадает с традицией, согласно которой пророки обычно погибают насильственной смертью. Тот же мотив звучит в притче о злых виноградарях (Мк 12:1–9), в утверждении, что не может пророк погибнуть вне Иерусалима (Лк 13:33), и в речении о том, что Премудрость Божья посылала пророков и глашатаев, но все они были убиты (Лк 11:49; 13:34). И снова становится очевидным ролевой конфликт, возникший на родине Иисуса. Иисус связывает неприятие себя там со своей ролью пророка, замечая, что пророка презирают в отечестве его (Мк 6:4). Харизма Иисуса – как учителя – превосходит даже мудрость и славу Соломона, привлекшие к тому царицу Юга. Как пророк Иисус и признан, и заклеймен позором. Но пророк и должен ожидать отвержения – или, как Иона, неудачи в своей миссии.
И снова Иисус говорит об этом в общих словах и в третьем лице, явно имея в виду и себя, но не указывая на это открыто. Мы не слышим, чтобы Иисус называл себя пророком; возможно, он даже не хочет определять себя так. Для роли пророка несомненно также характерна непредвиденность статуса. Пророк не может сам решить, быть ли ему пророком. В пророческом речении Иисуса слышится понимание этой непредвиденности: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится!» (Лк 12:49–50) Здесь мы видим сопоставление активности – задачи «возжечь огонь», и пассивного принятия «крещения» (βαπτισθῆναι). Решающий шаг – что бы он собой ни представлял – Иисус не может сделать сам; он должен принять его, как принимают крещение[610].
Вот что мы выяснили: хотя очевидно, что Иисус сознает себя учителем и пророком – прямо он об этом не говорит. Иисус принимает обе эти роли, сочетая их в речениях об Ионе, призывавшем Ниневию к покаянию, и о Соломоне, мудростью которого восхитилась царица Юга (Мф 12:41–42, Лк 11:31–32). Однако Иисус – больше Ионы и больше Соломона. Он превосходит и пророка, и учителя премудрости[611]. В обеих ролях он проявляет харизму, принимая традиционные ролевые ожидания и превосходя их. В обеих ролях Иисус присоединяется к группе (учителей и пророков). Это ведет нас к важному выводу: если Иисус «принял» эти роли, отождествил себя с ними, значит, согласно теории ролевых моделей в психологии религии, он в свете этих ролей «принял» и соответствующую роль Бога – того, кто послал его в качестве учителя и пророка. Такое принятие ролей, согласно теории, есть необходимое предварительное условие религиозного опыта[612]. Стать пророком означает ощутить призвание. Если в преданиях об Иисусе есть следы этого, мы должны отнестись к ним серьезно[613]. Быть пророком – значит сознавать, что ты послан (QЛк 13:34 и пар.; 11:49 и пар.) Быть пророком – значит быть отвергнутым другими людьми. Эти утверждения дают нам и след исторического Иисуса (QЛк 7:31–35 и пар.) Однако, как харизматик, Иисус «взламывает» ролевые ожидания, связанные с ним. Он – больше учителя, больше пророка. Быть может, лучше характеризуют его уникальные роли Мессии и Сына Человеческого?
Мессия как роль Иисуса
Одни ждали Иисуса как Мессию и надеялись на него, другие – преследовали и казнили. Сам термин «мессия» почти всегда применяют другие. Немногие исключения, когда его использует сам Иисус, легко объяснимы[614]. Простейший вывод, который мы можем сделать на основе известных нам свидетельств: мессианские ожидания были перенесены на Иисуса независимо от того, считал ли он себя Мессией сам. Этот вывод подтверждается пятью аргументами.
1. Всего за поколение до Иисуса в тех краях многие надеялись на появление царя из местных. В дни «разбойничьей войны» (4 г. до н. э.) такими «царями из народа» явились Симон и Афронг. Быть может, они и не называли себя «мессиями», но, несомненно, обладали харизмой. Пастух Афронг изображал из себя «нового Давида» (И. Д. XVII, 10.7–8), несомненно, возбуждая этим мессианские надежды, – ведь «новым Давидом» именовали Мессию. Если подобные надежды присутствовали за поколение до Иисуса – исторически вполне возможно, что и от Иисуса ожидали того же.
2. Согласно titulus crucis (Мк 15:26), Иисус был казнен как «Царь Иудейский». В подобных надписях иногда указывалось обвинение, выдвинутое против правонарушителя[615]. Однако это не было типичной чертой казни – такой, какую можно было бы выдумать и без всяких исторических оснований. По всей видимости, надпись, поставленная на кресте, исторична – и мы можем заключить, что на суде Иисуса, должно быть, спрашивали, является ли он «Царем Иудейским». Отвечая на обвинение Пилата, он, по всей видимости, от этого звания не отрекался. Ответь он: «Нет, я не царь иудейский», – и его последователи могли впасть в смятение и замешательство. Однако им не пришлось опровергать обвинение в том, что перед лицом судьи их учитель отказался от своих притязаний. Таким образом, мессианские ожидания по отношению к Иисусу не просто исторически возможны. Они имели место в действительности.
3. Это подтверждается тем, что «роль Мессии» в Евангелиях приписывают Иисусу как сторонники, так и противники. У первых это вызывает надежду, у вторых – страх. Петр исповедует Иисуса Мессией (Мк 8:29). При входе в Иерусалим люди ожидают «грядущего во имя Господа царства отца нашего Давида» (Мк 11:10). Римляне казнят Иисуса как «Царя Иудейского»; с этим согласны и иудеи, которые поносят его у креста, насмешливо называя «Христос, Царь Израилев» (Мк 15:26, 32). Там, где согласны друг с другом друзья и враги, скорее всего, кроется историческая истина.
4. Есть и еще один аргумент от истории предания. До Христа мы не встречаем свидетельств о страдающем Мессии – только о Мессии-победителе (ср. Пс. Сол 17–18). Возможно, именно после казни Христа идея Мессии-победителя была переосмыслена и превратилась в идею Мессии, терпящего поражение. Это тоже можно обосновать, опираясь на христианские источники. Ученики на дороге в Эммаус слышат от воскресшего Иисуса, что Мессия должен был пострадать (Лк 24:26, 36). Выходит, они этого не знали. Переосмысление термина мессия легче понять, если предположить, что этот термин ассоциировался с Иисусом еще до Страстей. Просто если предположить, что это случилось лишь после его смерти, тогда невероятно сложно понять, какой логикой руководствовались те, кто прилагал термин с триумфальным ореолом к Иисусу распятому. По всей вероятности, титул Мессия сыграл значительную роль в суде над Иисусом и при его распятии[616].
5. Наконец, последний аргумент, на мой взгляд, опровергает широко распространенное убеждение в том, будто мессианская вера выросла из веры пасхальной. У нас нет исторических аналогий тому, чтобы кого-либо объявили Мессией на основании его явлений после смерти. С другой стороны, есть свидетельства о людях, которых объявляли Мессиями при жизни. Рабби Акива провозгласил Мессией Бар-Кохбу (иер. Таан 4:68d); Иосиф считал, что мессианские пророчества его народа исполнились в Веспасиане, и провозглашал его «властелином над землей и морем и всем родом человеческим» (И. В. III, 8.9). О лжемессиях в Мк 13:21–22 также говорится, что их объявят Мессиями другие, говоря: «Вот, здесь Христос, или: вот, там». Почему бы и Петру не провозгласить Иисуса Мессией таким же образом?
Роль учителя и пророка Иисус принимал, хотя и непрямо; однако к роли Мессии относился иначе. Его нежелание принимать эту роль мы также можем объяснить.
Мессианские ожидания были внутренне противоречивы. В Пс. Сол 17 задача Мессии – изгнать из страны врагов. Он должен очистить Иерусалим от язычников, а затем окончательно их уничтожить (17:25). Но при этом, когда он восторжествует, язычники со всех концов земли придут увидеть славу его (17:34). Действия Мессии также описываются противоречиво. Он будет воевать (17:24–32), однако покорит мир словом уст своих (17:27), обходясь без оружия: «Не понадеется он на коня, всадника и лук… Сам Господь – Царь его» (17:37–38). Два сегмента роли вступают между собой
в интраролевой конфликт – конфликт между ожиданием, что язычники будут уничтожены, и надеждой получить от них признание.
Как отвечал Иисус на эти мессианские чаяния? Задачей Мессии, согласно Пс. Сол 17:28, было «судить колена народа». Иисус возложил эту задачу на своих двенадцать учеников. Хотя он не передал им открыто свое мессианское достоинство, они – вместе с ним – облечены правом и обязанностью «судить» (собранные вместе) колена Израилевы. Так Иисус превращает мессианские чаяния, направленные на одного человека, в «групповое мессианство». Он делает двенадцать учеников «мессианским коллективом». Несомненно, это должно было пробудить у учеников самые грандиозные ожидания. Когда двое сыновей Зеведеевых спорят о том, кто какое почетное место займет в его царстве, Иисус говорит им, что не в его власти распределять места (Мк 10:35–45)[617]. Сознание радикальной непредвиденности статуса мешает ему говорить об этом (Мк 10:40). Кроме того, он упрекает Петра, желающего провозгласить его мессией, – быть может, именно в «политическом» смысле этого слова. Вполне возможно, что Евангелие донесло до нас подлинный ответ Иисуса Петру[618]: «Отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мк 8:33). Иисус отвергает не сам мессианский титул, а отношение к нему Петра. Мессианские чаяния были в то время очень расплывчаты: они могли относиться и к Мессии-воину, и к Мессии, не берущему в руки оружие, и к тому, кто изгонит язычников из Святой Земли, и к тому, кто соберет их и приведет в Землю Обетованную. В этих чаяниях был заключен интраролевой конфликт. Быть может, поэтому Иисус не сумел оправдаться перед Пилатом: он не смог достаточно дистанцироваться от своей мессианской роли.
Не только внутренними противоречиями в мессианских чаяниях объясняется то, что Иисус не спешил их принять. Решающую роль здесь также играет аксиома о непредвиденности статуса. Иисус не мог сам приписать себе мессианское достоинство. Иудейское предание, засвидетельствованное Иустином, говорит об этом так: «Даже когда Мессия родился и живет где-то, он неизвестен: сам он не знает, кто он, и не имеет силы, пока не придет Илия, дабы помазать его и открыть всем» (Разг 8.4). Здесь перед нами установление статуса, неразрывно связанное с провозглашением статуса. В Псалмах Соломона нелегитимное царствование отвергается как самозваное: «В славе воздвигли [ἔθεντο] они [земное] царство в знак величия своего. Пустым сделали они трон Давидов в многошумном высокомерии» (17:7–8). Мессия, напротив, всей своей властью обязан Богу. О нем говорится: «Призри на них, Господи, и восставь им царя их, сына Давидова» (17:23). Очевидно, Иисус не мог открыто подтвердить справедливость мессианских ожиданий окружающих, поскольку был убежден, что лишь во власти Бога даровать ему этот статус – и лишь Бог может его провозгласить. В Евангелии от Иоанна мы находим следы нежелания Иисуса принимать титул «Мессия». После рассуждения о Пастыре Добром «иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты Христос, скажи прямо. Иисус отвечал им: Я сказал вам, и вы не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне»[619] (Ин 10:24–25).
Но что же сказать о самом загадочном именовании Иисуса – Сыне Человеческом?
Сын Человеческий
На мой взгляд, вполне очевидно, что Иисус действительно использовал выражение «Сын Человеческий». Оно засвидетельствовано во многих потенциально независимых преданиях: в Источнике Речений[620], в оригинальном материале Матфея[621] и Луки[622], в Евангелиях от Марка[623] и от Иоанна[624], и один раз – даже в Евангелии Фомы[625]. Выражение это мы слышим почти исключительно из уст самого Иисуса[626]. Верно, что в некоторых изречениях слова «Сын Человеческий» имеют явно вторичный характер – они вставлены как замена «Я» в прямой речи Иисуса[627]. Не все изречения, в которых присутствует выражение «Сын Человеческий», непременно содержали его с самого начала. Однако сам этот процесс в предании ясно показывает нам, что в изначальном христианстве слова «Сын Человеческий» понимались как общепризнанное самоопределение Иисуса. Многочисленные свидетельства этого выражения наводят на мысль о том, что оно действительно восходит к историческому Иисусу. И тем не менее сложности в его интерпретации снова и снова заставляют исследователей усомниться в его подлинности. Что же это за сложности?
В преданиях об Иисусе, упоминающих о «Сыне Человеческом», сочетаются две лингвистические традиции. В повседневном языке «сын человеческий» означает просто «человек»; но в языке прорицателей это – единственная в своем роде фигура, величественная и небесная, которой Бог передает правление миром в седьмой главе Книги Даниила. Повседневная языковая традиция антропологична, визионерская – мифологична. Использование в повседневном языке не несет в себе никаких ролевых ожиданий, разве только подчеркивает человечность Иисуса – быть может, в противовес чему-то иному. Использование в визионерском языке мы находим, вне Евангелий, лишь в трех апокалиптических текстах: в Дан 7, Книге подобий Еноха (Эфиопский Енох, 1 Ен 37–71) и 3 Ездр 13. По этим скудным остаткам традиции сложно судить, насколько широко она была распространена. Использование выражения «Сын Человеческий» у Иисуса связано с визионерскими текстами по содержанию, однако по форме близко к повседневной языковой традиции.
1. Сын Человеческий упоминается не в визионерских описаниях, но в словах, не предполагающих никакого экстатического опыта. Это соответствует повседневной языковой традиции[628].
2. Ни разу мы не встречаем сравнительной конструкции «как бы» из Дан 7, где говорится: «…как бы Сын Человеческий». Иисус постоянно говорит просто о «Сыне Человеческом». Это также соответствует повседневной языковой традиции[629].
3. Иногда этот термин используется инклюзивно – как там, где говорится, что Сын Человеческий – господин субботы, ибо суббота создана для человека (Мк 2:27–28)[630]. Такие изречения также близки к повседневной языковой традиции.
В то же время содержание речений Иисуса о Сыне Человеческом напоминает о визионерской языковой традиции. В Дан 7 власть над миром от Бога принимает «как бы Сын Человеческий». Это существо противостоит четырем мировым империям – Вавилону, Мидии, Персии и Греции, – которых символизируют четыре зверя[631]. Прежде Книга Даниила рассказывала о том, как вавилонский царь Навуходоносор уподобился зверю, а затем вернулся в человеческое общество и восстановил свое царское достоинство (Дан 4). Когда первый зверь, лев, поднимается на задние лапы, как человек, и обнаруживает человеческий ум – это означает превращение правителя в человека. Но в то же время это превращение отрицается: Вавилонское царство при Навуходоносоре остается львом, хоть и вставшим на задние лапы и обладающим человеческим разумом. Место его – среди зверей. В конце концов всех зверей победит «как бы Сын Человеческий» (кто-то, похожий обликом на «сына человеческого»). Этот «как бы Сын Человеческий» символизирует Царство Божье. Он олицетворяет собой власть «святых Всевышнего», которая отождествляется с властью Израиля (Дан 7:18, 22, 25, 27). Это противопоставление зверя и человека было несвойственно Древнему Ближнему Востоку. Впервые оно появляется в греческой философии, в которой прямохождение и разум воспринимались как неотъемлемые атрибуты человека, отличающие его от животного. Книга Даниила, с ее антиэллинистическим настроем и в то же время мечтой о «человеческой» власти, зависит от греков, хоть и восстает против них. Вот почему мы не можем просто противопоставить визионерскую, «мифическую» языковую традицию – и повседневную, «антропологическую». О «Сыне Человеческом» на небесах говорится, что он подобен людям на земле. Визионерская языковая традиция Дан 7 несомненно повлияла на речения Иисуса о пришествии Сына Человеческого, в которых он предстает неким космическим существом. Сравнительная конструкция «как бы» здесь не используется. Сын Человеческий становится мифической фигурой. И все же мы можем разглядеть здесь следы той визионерской традиции, в которой очевиден антропологический акцент и имеет место смешение с повседневным языком.
Иисус тоже сравнивает «Сына Человеческого» с животными. Лисы имеют норы, и птицы гнезда (Мф 8:20 и пар.), а Сыну Человеческому негде преклонить голову. В одном случае Иисус даже сравнивает со зверем правителя, называя Ирода «лисицей» (Лк 13:32). В сравнении со зверями-царствами из Дан 7 Ирод – «зверек» небольшой. Однако очевидно, что само восприятие политической силы как «зверя» не было чуждо Иисусу. Впрочем, оно остается для него вторичным мотивом.
В центре же стоит иной мотив. Противопоставление властей земных и небесных у Иисуса сменяется противопоставлением власти Бога – и власти сатаны. Изгнание бесов свидетельствует о том, что приходит Царство Божье (Мф 12:28 / Лк 11:20). Сатана связан (Мк 3:27) и утратил силу (Лк 10:18). Означает ли это противопоставление Царства Божьего и царства сатаны то, что противопоставление власти Бога и власти зверя ушло на задний план? Занял ли сатана место зверей из Дан 7?[632]
Возможно, есть и еще одна причина тому, что из проповеди Иисуса исчезли символы зверей. Поразительно, что, в противоположность широко распространенной в то время басенной литературе, у Иисуса образ Царства Божьего олицетворяют не звери, а люди. Притчи его, за очень немногими исключениями, не содержат в себе метафор, отсылающих к животным. Так, притча о заблудившейся овце – в сущности, притча о Пастыре Добром. Царство Божье в учении Иисуса постоянно сравнивается с поведением людей, а не животных. Мы вправе спросить, не видение ли Даниила, в котором Царство Божье «подобно человеку», поощряло или даже вдохновляло эти многочисленные «человеческие» метафоры в учении Иисуса? Если, согласно Дан 7:13, Царство Божье будет «как бы» Сын Человеческий, то и визуализировать его нужно с помощью образов людей. Однако в евангельских речениях о Сыне Человеческом сравнительная конструкция «как бы» отсутствует.
Выражение «Сын Человеческий» остается загадкой. Мы можем уверенно говорить лишь о его антропологическом значении – и о том, что оно, как и термин «мессия», сочетает в себе несовместимые ожидания. Оно применимо к любому человеку – и в то же время это высочайший и почетнейший титул. Оно относится к космическому существу, которое является с небес и открывает себя людям. Но об этом мифическом существе говорится, что оно «человек». Три проблемы препятствуют в наше время единообразному пониманию изречений, связанных с «Сыном Человеческим». Сформулируем эти проблемы в форме вопросов.
1. Почему Иисус говорит о «Сыне Человеческом» в третьем лице, как бы имея в виду не себя, а кого-то другого?
Это упоминание о себе в третьем лице – не единственное в преданиях об Иисусе. Об «учителе» и «пророке» Иисус также говорит в третьем лице, явно имея в виду себя. Когда он говорит: «Ученик не выше учителя своего» – это означает: «Ученик не выше меня, как его учителя». Когда говорит: «Должно пророку быть убитым в Иерусалиме» – это означает: «Я буду убит в Иерусалиме, как и другие пророки». Поскольку в других местах мы видим, как Иисус применяет к себе ролевые термины, вполне возможно, что и говоря о «Сыне Человеческом», он имеет в виду себя, – особенно в тех речениях, где Сын Человеческий предстает как лицо, действующее в настоящем. Однако, когда речения о Сыне Человеческом относятся к будущему, вполне возможно, что Иисус имеет в виду кого-то другого. Из этого мы заключаем, что, говоря о грядущем Сыне Человеческом, Иисус сознательно оставляет открытым вопрос о том, был ли этим Сыном Человеческим он сам.
Открытым остается и вопрос о том, какую задачу он должен выполнить. Речения о будущем Сыне Человеческом далеки от однозначности. Сын Человеческий появляется как свидетель перед Богом, как судия рядом с Богом, как тот, кто придет на место Бога. В Лк 12:8–9 он предстает как свидетель на Божьем суде: «Всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими; а кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред Ангелами Божиими». Подобно царице Юга и народу Ниневии Иисус станет свидетелем на суде Бога – хотя будет не только обвинять, но и защищать людей. Это речение вполне может быть подлинным; возможно даже, что именно оно, произнесенное еще до Пасхи, дало толчок к созданию послепасхальных речений о Сыне Человеческом[633]. Если в речении у Луки Сын Человеческий стоит перед Богом, то в Мк 14:62–63 он сидит как судия по правую руку Бога; иными словами, он уравнен с Богом. Когда Иисуса спрашивают перед Синедрионом, он ли Мессия, Сын Благословенного, он отвечает: «Я; и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Слово «узрите» здесь отсылает к Дан 7; место одесную Бога пришло из Пс 109:1. Возможно, на этот текст оказали влияние мистические переживания первых христиан, которым Иисус являлся в видениях как преображенное существо, принадлежащее к миру божественному. В других речениях Сын Человеческий занимает место Бога. «Сын Человеческий в день Свой» (Лк 17:24, 30) – аналог «дня Яхве»; «пришествие» Сына Человеческого (Мф 10:23, Лк 12:40) аналогично пришествию Бога[634]. В Мк 13:24–27 пришествие Сына Человеческого на облаках небесных, несомненно, описывается как богоявление.
Независимо от того, имел ли в виду Иисус под грядущим Сыном Человеческим самого себя, необходимо отметить, что роль этого будущего Сына Человеческого неизбежно двойственна и ей следует быть таковой. Только Бог может определить и назначить роль грядущего Сына Человеческого. Сам Иисус не может приписать этот статус себе. Он может лишь быть уверен в том, что в настоящем действует как Сын Человеческий, выполняя порученную ему Богом миссию на земле. И он надеется стать тем «сыном человеческим», который завершит этот божественный замысел в будущем. Но все это – лишь в руках Божьих. Иисус признает: «Не моя воля, но Твоя да будет». Таким образом, ответ на наш первый вопрос лежит в идее непредвиденности статуса.
2. Почему Иисус использует выражение, объединяющее его с остальными людьми, если хочет указать на свою избранность?
Выражение «Сын Человеческий» на первый взгляд тавтологично. Разумеется, Иисус – человек! Зачем ему это подчеркивать? Это утверждение – не банальность, лишь если есть вероятность, что Иисус – нечто большее, чем «просто человек». Иными словами, говоря о себе как о Сыне Человеческом, Иисус, возможно, стремился скорректировать какие-то внешние ожидания. Другие, быть может, видели в нем Мессию – он же отвечал на это: я – просто «человек». Местами речения о Сыне Человеческом в постпасхальной композиции текстов на самом деле корректируют ожидания других от Иисуса – как в сцене допроса перед Синедрионом (Мк 14:62–63) или исповедания Петра (Мк 8:27–30+31). Вполне возможно, однако, что, подчеркивая свою человеческую природу, Иисус стремился умерить и ограничить те ожидания. Если он ждал, что Бог наделит его решающей ролью в принесении на землю Своего Царства, значит, должен был Богу и предоставить определить и открыть эту роль. Сам он претендовал лишь на «роль» человека. Таким образом, Иисус говорил о Сыне Человеческом, поскольку таким образом мог говорить о самом себе, не «указывая» Богу[635]. Итак, ответ на наш второй вопрос тоже основан на идее заданности статуса.
3. Как представлял себе Иисус переход от нынешней деятельности к будущей славе Сына Человеческого?
С этой проблемой мы сталкиваемся уже в «Подобиях» из Эфиопской Книги Еноха (1 Ен 37–71), где Енох говорит о Сыне Человеческом как о некоей иной фигуре, не понимая, что в конце концов Бог призовет на роль «сего Сына Человеческого» его самого. Лишь во втором дополнении Бог приветствует его словами: «Это Сын Человеческий, рожденный для праведности, и праведность пребывает над ним, И праведность Главы Дней не покидает его» (1 Ен 71:14). По общему признанию, это дополнение, но его автор не видел никакой проблемы в том, что вначале Енох говорил о Сыне Человеческом как о ком-то другом, а затем получил эту роль сам. В конце концов, о Енохе ведь было известно, что он не умер, а «не стало его, потому что Бог взял его» (Быт 5:24). Эта традиция предполагает возможность перехода с земли на небо. Однако в преданиях об Иисусе остается неясным, как же этот переход должен осуществиться. Пророчества о страданиях, связанные с выражением «Сын Человеческий», не до конца заполняют этот пробел[636], – они приводят нас к воскресению Иисуса, но не к его возвеличиванию. Воскресения ждали большинство иудеев того времени; но посмертное возвеличивание до божественного статуса было ожиданием куда более серьезным. Кроме того, вполне возможно, что пророчество о воскресении Сына Человеческого – vaticinium ex eventu [предсказание задним числом. – Прим. пер.]. Мы можем заключить: Иисус не только принимал роль, уготованную ему Богом – он принимал и то, как Бог задумал дать ему эту роль. И здесь также «не моя, но Твоя воля да будет».
Итак, ответы на все три вопроса мы находим в концепции радикальной непредвиденности статуса. Иисус не может ни сам создать себе статус, ни сам его открыть. Это он должен оставить Богу. Он не может предугадать, кому Бог поручит свое последнее откровение. Вот почему Иисус говорит о себе косвенно, в третьем лице – так, чтобы, если понадобится, под этим можно было понять и кого-то другого. Иисус сознательно говорит о себе только как о «человеке» – это единственное, что он вправе о себе сказать. Говорить что-то еще – означало бы присваивать себе права Бога. Только Бог может возвысить человека до себя.
Таким образом, решение проблемы Сына Человеческого, предлагаемое нами, близко к решению Карстена Кольпе. Кольпе признает все три группы речений о Сыне Человеческом подлинными и истолковывает слова о грядущем Сыне Человеческом как «уверенность Иисуса в исполнении его миссии»[637]. Однако такая характеристика отличает интерпретацию Кольпе от представленной здесь: на наш взгляд, в этих речениях Иисуса выражается лишь уверенность его в непредвиденности своего статуса. Иисус может сам приписать себе лишь статус человека. В отношении ожиданий других, видящих в нем Мессию, он демонстрирует смирение и сдержанность. Он как бы говорит: пусть Бог и только Бог решает, кем мне надлежит быть и как и когда это открыть миру.
В двух древнейших источниках об Иисусе – Евангелии от Марка и Источнике Речений – эта идея заданности статуса выражается совершенно ясно. В Евангелии от Марка Иисуса «признает» глас с небес при крещении; ученикам его истинный статус открывается в преображении; во время распятия его признает сотник, после того, как разорвавшаяся завеса Храма указывает на его божественную силу. Однако и такое откровение еще неполно. Сотник восклицает: «Поистине, сей был Сын Божий!» Лишь возвещение ангела о воскресении вполне открывает истинный статус Иисуса: он жив и победил смерть. Откровение о сущности Иисуса, основанное на послепасхальном опыте, Марк переносит во время его жизни и окружает тайной, которая раскрывается только когда свершается Пасха (Мк 9:10). Воскресение целиком и полностью совершено Богом.
В Источнике Логий (речений) непредвиденность статуса и его откровения подчеркнута еще ярче. Сын получает свой статус от Отца; лишь Отец знает его: «Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф 11:27). Быть может, это послепасхальное речение – однако оно ясно свидетельствует о радикальной непредвиденности статуса. Открытие роли и статуса Иисуса – дело одного только Бога.
Рассматривая четыре проанализированные нами роли, мы можем заметить, что на пути от учителя и пророка к Мессии и Сыну Человеческому непредвиденность статуса возрастает. В иудаизме человек мог попытаться стать учителем. Он мог быть призван к пророчеству. Как Мессию его предопределял только Бог – и только Бог мог возвысить его как будущего Сына Человеческого. Иисус нигде открыто не называет себя учителем или пророком, однако, говоря о ролях учителя и пророка, принимает ее в том числе и на себя. С ролью Мессии – совсем иное дело; здесь он проявляет смирение и сдержанность. Принятие этой роли дало бы повод к недоразумениям. Он не хотел быть Мессией воинствующим. Возможно, говоря о «Сыне Человеческом», он сознательно спорил с мессианскими ожиданиями современников. «Сын Человеческий» – выражение, с одной стороны, очень скромное, но с другой – оно связано с большими надеждами, оно призвано показать: Иисус ожидает, что Бог предопределит его на роль грядущего Сына Человеческого. Он не может говорить об этом открыто, – ведь лишь Бог в силах даровать ему эту роль и открыть ее. Однако Иисус никогда не оставляет без отклика ожидания других. Вот что говорит нам об этой проблеме ролевой анализ. То, как понимает себя отдельный человек – не только его личное, частное дело, но и вопрос социального взаимодействия. А там, где в ожидания человека вовлечен Бог, вступает в игру представление о радикальной непредвиденности статуса. Только Бог может назначать роли в theatrum mundi[638].
Как мы видим в древнейших источниках об Иисусе, Евангелии от Марка и Источнике Логий, последователи Иисуса разделяют его представление о заданности статуса. Благодаря этому создается непрерывность между тем, как Иисус понимал себя сам, и христологией его последователей после Пасхи. Если окончательный статус Иисуса определяет только Бог, значит, провозглашение исторического Иисуса можно преобразить через переломный момент – распятие – в провозглашение Иисуса как Сына Божьего – и по-прежнему сохранить непрерывность. Такаси Онуки наглядно показывает и эту непрерывность, и моменты ее отсутствия[639]. Провозглашение исторического Иисуса он рассматривает как сеть мифологических представлений, разорванную распятием, но преображенную и «воскрешенную» в раннехристианских воззваниях. Неразрывность – в одинаковом понимании времени до Пасхи и после нее, в представлении о «всевременном сейчас», объемлющем прошлое, настоящее и будущее – как у исторического Иисуса, так и в вере ранних христиан. Разрыв с прерванными воззваниями Иисуса остается, но через него можно перекинуть мостик – благодаря идее непредвиденности статуса. Иисус верил, что его статус предстоит определить и открыть самому Богу.
Ученики провозгласили, что Бог, воскресив распятого Иисуса из мертвых, определил и открыл его статус на все времена.
Мы, исследователи Нового Завета, не можем определить, какой статус приписывал себе Иисус – и так и должно быть. Быть может, это приближает нас к историческому Иисусу больше, чем кажется. Однако есть и различие. Наша неуверенность проистекает из невозможности выбрать одну гипотезу из многих. Неуверенность Иисуса – это знак выражения его доверия Богу, который, когда настанет время, сам назначит ему, человеку, эсхатологическую роль, которой предстоит сделать его Сыном Человеческим[640].
Кумранские свитки и исторический Иисус
Питер Флинт
Предварительные замечания
Дискуссия о свитках Мертвого моря и историческом Иисусе ведется среди специалистов уже несколько десятилетий; история ее пестра и заключает в себе немало вызовов исследователю. В настоящей статье я хочу поднять эту тему вновь, в связи с двумя событиями: завершением 40-томного издательского проекта «Открытия в Иудейской пустыне» (Discoveries in the Judaean Desert, DJD)[641] – и быстрым выходом в свет, одной за другой, частей 10-томного проекта Принстонской богословской семинарии «Свитки Мертвого моря» (PTSDSSP)[642].
Вскоре после того, как в конце 1946 или начале 1947 года в Пещере 1 были найдены[643], а вслед за тем и опубликованы[644] первые свитки, положившие начало серии DJD, многим стало очевидно сходство между некоторыми писаниями Кумранской общины и Евангелиями – сходство, которое не могло быть объяснено случайностью. Например, в обоих собраниях упоминаются центральная фигура (Учитель Праведности, Иисус) и группа ее последователей (кумраниты, ученики Иисуса), которые верили, что живут в последние времена и что вот-вот явится мессия (или мессии).
Эта общность тем привела некоторых исследователей – впрочем, лишь малую их часть – к заключению, что перед ними христианские тексты, или же, по меньшей мере, что в некоторых из этих свитков содержатся прямые упоминания об Иисусе и событиях его жизни. Несомненно, на этих специалистов повлияли спекуляции о связях Иисуса с ессеями, бытовавшие и до открытия свитков. Неудивительно, что столь сомнительные заявления привлекли внимание прессы и воспламенили воображение популярных авторов; среди вдохновленных ими книг – бестселлер «Код да Винчи». В некоторых же академических кругах эти фантазии породили скептическое отношение к самим свиткам или, по крайней мере, стремление преуменьшить их важность в качестве первичных источников.
Куда большее число исследователей полагает, что ни к Иисусу, ни к раннему христианству свитки прямого отношения не имеют, однако все же проясняют для нас некоторые стороны его жизни и учения, а также некоторые иные пассажи и эпизоды Нового Завета. Впрочем, для многих исследователей оценка связи кумранских документов с историческим Иисусом и даже с Евангелиями представляет трудность; они стремятся – и это понятно – дистанцироваться от радикальных взглядов тех, кто усматривает в этих древних документах прямые указания на Иисуса.
В моей статье – три раздела, не считая этого предисловия. В первом я рассматриваю попытки увидеть в кумранских свитках христианские тексты, или же упоминания об историческом Иисусе, или новые откровения о его жизни. Ни одна из этих попыток нас не убеждает – вот почему раздел называется «Спекуляции об Иисусе, ессеях и Кумранской общине». Во второй части я показываю, как некоторые отрывки из ключевых свитков проясняют отдельные стороны жизни и учения Иисуса и создают для них фон. Здесь я подробно рассмотрю два текста: один касается Иоанна Крестителя, а другой напоминает эпизод Q, воспроизведенный в Лк 7:20–23 (= Мф 11:2–6) и в Лк 4:16–21. В последнем разделе я предлагаю некоторые выводы относительно кумранских свитков и исторического Иисуса.
Прежде чем двигаться дальше, перечислим некоторые факты и предположения.
«Свитки Мертвого моря» были обнаружены в нескольких местах в Иудее (Кумран, Вади-Мураббаат, Нахаль-Хевер и Масада), однако в дальнейшем я буду касаться лишь основного массива документов, найденного в Кумране.
Вот последние цифры[645]: в пещерах вблизи Кумрана найдено 944 свитка (рукописи), 711 из них – в Пещере 4.
Для удобства Кумранскую библиотеку делят на две категории: библейские свитки, в общей сложности 211, и свитки небиблейские, в общей сложности 733.
Из почти 300 библейских свитков около 285 написаны на иврите, 3 по-арамейски и 10 по-гречески. Из 750 небиблейских свитков на иврите написаны около 583, по-арамейски – 150, и по-гречески – 17.
Однако удобнее делить литературу, найденную в Кумране, по-другому, на три группы: библейские свитки (почти 300), апокрифы и псевдэпиграфы (около 150) и небиблейские свитки (около 600). Из небиблейской литературы по меньшей мере половину, а может быть, и более составляют тексты, созданные движением ессеев (яхад). Они известны как «сектантские свитки»: пример такого свитка – Устав общины.
Палеографический и радиоуглеродный анализы датируют кумранские свитки временем между 250 г. до н. э. и 68 г. н. э. (когда Кумран был уничтожен римлянами). Большая часть важных сектантских свитков относится к периоду до нашей эры; это означает, что древние христиане не могли быть их авторами.
Большинство исследователей согласны между собой в том, что в сектантских свитках отражены идеи группы ессеев, поселившейся в Кумране; того же мнения придерживаюсь и я. Предположения некоторых о том, будто эти свитки составлялись не ессеями или же были написаны не в Кумране, на мой взгляд, лишены серьезных оснований[646]. Дальнейшие рассуждения на эту тему выходят за пределы задач этой статьи.
Иисус, ессеи и Кумранская община. Умозрительные теории
Задолго до открытия свитков Мертвого моря некоторые исследователи предполагали связь между Иисусом и ессеями – иудейской религиозной группой, о которой писали Иосиф Флавий, Филон Александрийский и Плиний Старший. Карл-Фридрих Бардт в 1780-х годах объяснял загадки в жизни Иисуса тем, что тот был «тайным агентом» ессеев, которые и инсценировали его смерть[647]. А восемьдесят лет спустя (1863) учеником ессеев счел Иисуса Эрнест Ренан[648].
С появлением свитков в 1946–1947 годах эти спекуляции только усилились. Большинство исследователей признавали, что в этих древних документах возможно обнаружить нечто полезное для понимания Евангелий и других новозаветных книг, поскольку ранняя их датировка (с 250 г. до н. э. по 68 г. н. э.) охватывает жизнь Иисуса и возникновение Древней Церкви. Кроме того, между Иисусом и ессейским Учителем Праведности обнаружилось поразительное сходство. В 1950 году, когда было известно содержание лишь немногих свитков, французский исследователь Андре Дюпон-Соммер писал о том, что Иисус кажется «поразительной реинкарнацией» Учителя Праведности.
Все в этом иудейском Новом Завете готовит нас к появлению Нового Завета христиан. Учитель из Галилеи, как предстает он перед нами в новозаветных книгах, во многом кажется поразительной реинкарнацией Учителя Справедливости [т. е. Учителя Праведности. – Изд.]. Подобно ему, Он проповедовал покаяние, бедность, смирение, любовь к ближним, целомудрие. Подобно ему, предписывал соблюдение Закона Моисеева, всего Закона – однако дополненного и усовершенствованного откровениями, ниспосланными Ему самому. Подобно ему, был Избранным, Мессией Божьим, искупителем мира. Как и он, вызвал вражду первосвященников из партии саддукеев. Подобно ему, был приговорен к смерти и казнен. Подобно ему, предсказал гибель Иерусалима, захваченного и разрушенного римлянами за то, что Его умертвили. Подобно ему, Он станет высшим Судией в конце времен[649].
Из этой выдержки очевидно, что Дюпон-Соммер не отождествлял Иисуса с предшествовавшим ему Учителем Праведности. Однако не все были столь внимательны. Это сходство, а также уверенность многих исследователей в том, что в Кумране обитала община ессеев (именно их идеи обнаружены в сектантских свитках; именно они переписывали свитки и прятали или хранили их в пещерах), стали благодатной почвой для множества книг и статей, старавшихся связать Иисуса с движением ессеев и Кумранской общиной.
Например, журналист Эдмунд Уилсон опубликовал в журнале «Нью-Йоркер» несколько статей о свитках Мертвого моря, где утверждал среди прочего, что Иисус провел у ессеев свои детские годы. В 1955 году он собрал свои заметки в книгу под названием «Свитки Мертвого моря», а в 1969 году выпустил расширенное и дополненное издание: «Свитки Мертвого моря: 1947–1969»[650]. В 1962 году Чарльз Фрэнсис Поттер высказал мнение, что Иисус был обычным человеком, а его учение о Боге и мессианские идеи были сформированы ессеями[651].
Джон Аллегро
Даже один из первых издателей Кумранских свитков, Джон Марко Аллегро, видел прямые связи между Иисусом, ессеями, свитками и Кумраном.
Присоединившись к издательской группе в 1953 году, Аллегро издавал свитки из Пещеры 4 – сперва в журналах, затем, в 1968 году, в официальной публикации[652]. К несчастью, в этом издании столько ошибок, что использовать его можно лишь вместе с вышедшей четыре года спустя 114-страничной статьей Джона Страгнелла, в которой эти ошибки исправлены![653] Пересмотр издания британского ученого был поручен другой группе исследователей[654]. Филип Дэвис великодушно замечал по этому поводу: «Работу Аллегро критиковали как небрежно выполненную – очевидно, что он был более заинтересован в том, чтобы как можно шире распространить содержание свитков»[655].
Аллегро когда-то готовился стать методистским священником, с годами все более терял веру, становился агностиком и критиковал традиционное христианство. В ранней его книге о свитках, опубликованной в 1956 году[656], его суждения об Иисусе и свитках еще сдержанны и отличаются нюансами, например:
На этой стадии нам следует проявлять осторожность – воздерживаться от чересчур догматических суждений о жизни и смерти Учителя Праведности, а также от ярких сравнений или противопоставлений его фигуры – и фигуры Учителя христиан.
Некоторые свитки, как кажется, описывают скорее городское ессейство, чем аскетический быт Кумранского монастыря. Несомненно, между этими двумя ветвями движения должны были существовать значительные различия, и Иисус, конечно, был лучше знаком с ессеями городов и селений, чем с насельниками замкнутых монашеских общин, подобных Кумрану… На мой взгляд, эти свитки все более и более побуждают нас искать эсхатологический смысл дошедших до нас речений Иисуса: слова его становятся куда понятнее, когда мы рассматриваем их в свете скорого и неминуемого катаклизма, а также связанного с ним внутреннего конфликта в сердцах людей, который разгорался все сильнее по мере того, как это время приближалось[657].
Со временем взгляды Аллегро становились все радикальнее и резче. В 1956 году он заявил в программе Би-би-си, что обнаружил среди кумранских свитков текст, посвященный поклонению распятому Мессии, который, как верили кумраниты, явится вновь во славе. Аллегро имел в виду ст. 3:5–9 Пешер (Комментария) на Книгу пророка Наума, где особо упоминается распятие: по его словам, этот отрывок рассказывает нам, что «Разъяренный Лев», или Злой Священник, распял «искателей прямого пути» и Учителя Праведности, который должен теперь воскреснуть:
[ «Разъяренный Лев», то есть Яннай] явился в Кумран и арестовал вождя общины, загадочного «Учителя Праведности», а затем предал его наемникам на распятие… Когда иудейский царь удалился, [кумранские сектанты] взяли израненное тело Учителя и положили хранить его до Судного дня… Они верили, что Учитель воскреснет из мертвых и возглавит стадо своих верных (народ нового завета – так они себя именовали) на пути в новый, очищенный Иерусалим… Очевидно, что эта ессейская история полна удивительных совпадений с историей Иисуса Христа[658].
Для британского исследователя все это представляет собой распространенное среди иудеев I века суеверие, и история о смерти Иисуса, его воскресении и возвращении во славе – лишь другой пример такого суеверия. Такие сенсационные утверждения, вместе с заявлениями о том, будто в кумранских свитках можно найти им неопровержимые доказательства, подвигли нескольких других членов издательской группы[659] к решительным действиям. Они направили в лондонскую «Таймс» коллективное письмо, в котором отрицали какую-либо «прямую связь между предполагаемым распятием «учителя праведности» ессейской секты – и распятием Иисуса Христа»[660]. По словам этих видных специалистов, Аллегро «превратно понял тексты или же выстроил цепочку предположений, не подтверждаемую фактами»[661]. Аллегро пришел к мнению, что его преследуют за взгляды и что другие редакторы, христиане – особенно католики – препятствуют публикации некоторых свитков, поскольку в них содержится информация, опасная для традиционного христианства.
Затем, в 1979 году, Аллегро выпустил книгу, которую, пожалуй, лучше всего назвать печально известной: «Священный гриб и крест: исследование о природе и происхождении христианства из культов плодородия Древнего Ближнего Востока»[662], где предположил, что древнейшее христианство было оргиастическим культом плодородия, в котором использовались галлюциногенные грибы, содержащие псилоцибин. Более того: самого Иисуса никогда не существовало, первые христиане выдумали его под воздействием наркотика. Эти абсурдные фантазии заставили четырнадцать видных британских ученых (в том числе Годфри Драйвера, оксфордского наставника Аллегро) публично осудить «Священный гриб и крест», и издатель вынужден был даже извиняться за то, что выпустил в свет эту книгу. Аллегро оставил свою должность в Манчестерском университете и до самой своей смерти в 1988 году пребывал в «академическом изгнании».
Наиболее полно идеи Аллегро об Иисусе, раннем христианстве и кумранских свитках выражены в книге «Свитки Мертвого моря и христианский миф» (1979)[663]. Там он заявляет о том, что «распознал» некую мистическую традицию, основанную на потреблении галлюциногенных грибов и породившую миф об Иисусе. Аллегро полагал, что авторы Евангелий, не сумев понять мысли ессеев, восприняли символические нарративы, присутствующие во многих свитках ессеев, как буквальную истину, – так и расцвело традиционное христианство. Кроме того, он «обнаружил» в свитках источники некоторых ключевых идей и практик раннего христианства и гностицизма. Приведем пространную выдержку, из которой становятся ясны основные тезисы Аллегро: 1) гностическое христианство (в его понимании) выросло из движения ессеев; 2) никакого Иисуса Христа – исторической личности, жившей в Палестине I века – не существовало; 3) евангельский Иисус – лишь позднейшая переработка образа Учителя Праведности:
Итак, во многом благодаря свиткам Мертвого моря мы теперь уяснили себе, что в так называемый межзаветный период… в движении ессеев сложилась та самая смесь древнего ханаанского язычества, профетического яхвизма, вавилонской магии и иранского дуализма, из которой родилось гностическое христианство. Однако она не породила, да и не могла породить Иешуа/Иисуса Мессию – реального человека, жившего в Палестине I столетия и хотя бы отчасти напоминавшего того добродушного и невероятно наивного (не говоря уж об откровенном невежестве) пророка-заклинателя, образ которого во многом создан народным воображением на основе Евангелий.
За Иисусом западной религиозной традиции стоит другая историческая личность – Учитель Праведности, живший сотней лет раньше. Он был народным вождем, но не волшебником… Он увел своих последователей в пустыню и терпел вместе с ними величайшие лишения и разочарования, не говоря уж о спорах и расколах внутри собственного движения. Он верил, что страдания – его собственные и его последователей – приблизят спасение Израиля… Он верил, что идет по стопам первого Иешуа / Иисуса, введшего израильтян в Землю Обетованную – и, подобно ему, установил для людей своего Завета Путь, основанный на Законе, когда-то открытом Моисею, однако теперь этот Закон требовалось заново истолковать и применить к новой ситуации. Поскольку теперь, благодаря открытию свитков Мертвого моря, у нас есть письменное изложение этого Пути, нам нетрудно проследить, как менялось это откровение в дальнейшем, меняясь под воздействием общественно-политической ситуации I века, в согласии с тем, что именно требовалось верующим, пребывающим на периферии иудаизма или совершенно вне иудейских заповедей, – пока наконец не стало выражением сильной личной веры.
Эту-то новую религию впоследствии начали называть мессианством – или «христианством»[664].
Аллегро завоевал сомнительную пальму первенства по компрометации свитков Мертвого моря в глазах серьезных библеистов. Его называют «отцом кумранских сенсаций»[665], поскольку его книга стала образцом и основой для множества позднейших своеобразных и даже порой неестественно странных сочинений об Иисусе и ессеях, объединяемых критическим настроем по отношению к традиционному пониманию Иисуса (наиболее известные авторы подобных книг – Барбара Тиринг и Дэн Браун, о которых ниже). Кроме того, Аллегро – отец теорий заговора, гласящих, что ученые и Церковь будто бы пытались скрыть свитки Мертвого моря, ибо во многих из них – согласно его фантазиям – содержатся сведения, представляющие прямую угрозу традиционным представлениям об Иисусе и даже самому христианству. Самый известный пример таких теорий – «Заговор свитков Мертвого моря» Майкла Бейджента и Ричарда Ли, книга, на основе которой написан «Код да Винчи»[666].
Барбара Тиринг
Австралийка Барбара Тиринг, как и Аллегро, изучала иврит и библеистику и немало времени посвятила изучению свитков. В своей книге 1992 года «Иисус и загадка свитков Мертвого моря»[667] Тиринг утверждает, что Евангелия – это зашифрованные сочинения ессеев, содержащие в себе два уровня смысла: первый, буквальный, для «младенцев во Христе» – и второй, понять который можно лишь с помощью методики пешер. Подобно тому, как пешарим объясняют читателям истинный смысл различных библейских текстов, Тиринг расценивает свою методику пешер как необходимую для понимания истинного смысла Евангелий – через раскрытие того, что произошло на самом деле. По ее мнению, Новый Завет – не что иное, как шифровка, написанная с целью скрыть реальные исторические события и роль реально существовавших личностей.
По мнению Тиринг, метод пешер раскрывает нам истинные личности главных евангельских персонажей. Например, «Иоанн Креститель» – это Учитель Праведности, «Иисус из Назарета» – его противник, Злой Священник (иногда называемый также «Человеком Лжи»); в Евангелиях рассказывается о расколе ессейской группы на две партии, возглавляемые Иоанном (Учителем) и Иисусом (Злым Священником). Многие другие личные имена и групповые названия также имеют второй смысл: «Авраам» – это Гиллель Великий, «Анания» – Симон Волхв, «апостолы» – Иоанн Марк (множественное число указывает на то, что Марк представляет и своих единомышленников), а «все» – царь Ирод Агриппа I.
Таким же образом она истолковывает и евангельские топонимы, «привязав» их к кумранским локациям: «Иерусалим» почти всегда означает Хирбет-Кумран, «Море Галилейское» – Мертвое море, «река Иордан» – ручей под названием Вади-Сехаха (впадающий в Вади-Кумран). Место, где Иисус вершил свои деяния – это, по словам Тиринг, почти всегда Кумран, прежде всего Эйн-Фе́шха (куда, по ее мнению, изгонялись кумранские монахи, как-либо нарушившие ритуальную чистоту), Мацин (связанный с женатыми ессеями), Хирбет-Мирд (там пребывали ессеи, подпавшие под более сильное влияние «Запада») и Мар-Саба (излюбленное место паломничества аскетов).
Реконструкция жизни Иисуса, сделанная Тиринг, выглядит по меньшей мере удивительно. Местами она вычитывает из Евангелий то, чего там просто нет, – например, что Иисус был дважды женат на Марии Магдалине, что он был распят, но не умер неподалеку от Кумрана, что его бесчувственное тело положили в Пещере 8, а потом он уехал в Рим и дожил там до старости. Приведу лишь одну выдержку:
Иисус не умер на кресте. Он оправился от яда, друзья помогли ему бежать из гробницы; вместе с ними он отправился в Рим, где мы и находим его в 64 г. н. э.
Это не предположение – это следует из текста, прочитанного по методу пешер. Основная аксиома этого метода – в том, что никаких сверхъестественных событий и никаких видений не было: все это выдумки для «младенцев»[668].
Большую часть жизни Иисуса Тиринг «располагает» в Кумране – и, соответственно, оспаривает общее согласие исследователей в том, что открытые там свитки относятся к периоду с 250 г. до н. э. по 68 г. н. э. Более того: по большей части эти рукописи относятся к I в. до н. э. или еще более древней эпохе – и, следовательно, описывают идеи и события, предшествовавшие жизни Иисуса, а вовсе не современные ему.
Предположив, что Учитель Праведности и его современники – под которыми она разумеет Иоанна Крестителя, Иисуса и прочих – жили при римском правлении в I в. н. э., Тиринг старается доказать, что палеографические датировки, принимаемые большинством специалистов, субъективны, и что это «слепое доверие к палеографии» подвергается «язвительной критике со стороны нового поколения исследователей свитков»[669]. Это совершенно не так: новое поколение исследователей свитков поддерживает палеографическую датировку в свете нового метода радиоуглеродного датирования, включающего в себя ускорительную масс-спектрометрию (AMS)[670]. Австралийская исследовательница вкратце упоминает об ускорительной масс-спектрометрии, однако делает из ее результатов неверные выводы.
Теории Тиринг об Иисусе и истоках христианства практически не основаны ни на Евангелиях, ни на кумранских свитках. В своей «методике пешер» она превратно понимает и истолковывает само понятие пешер; ее датировка свитков сомнительна; постулируемые ею связи между Кумраном и соседними общинами Иудейской пустыни – под большим вопросом, а предположения о взаимоотношениях между свитками и Новым Заветом почти полностью лишены оснований. Согласимся с тем, как в 1993 году оценил ее работу Николас Томас Райт: «Можно смело сказать, что ни один серьезный исследователь не примет эту фантастическую теорию всерьез. Опубликована она почти десять лет назад, научный мир имел время к ней присмотреться – и сделал самые неутешительные выводы»[671].
Заключительное замечание
Из-за таинственности учения ессеев, загадок в происхождении многих свитков Мертвого моря, а также различных слухов вокруг их публикации свитки привлекают особое внимание любителей тайн и сенсаций, особенно в связи с историческим Иисусом. Даже такие крайние взгляды, как у Аллегро и Тиринг, нельзя просто отбросить: ведь оба они – серьезные библеисты, а Аллегро был одним из первых издателей свитков. Более того, по-видимому, их радикальный подход отчасти основан на ином, куда более респектабельном взгляде на исторического Иисуса, в котором, однако, гностицизм, демифологизация и «миф об Иисусе» также временами выходят на первый план.
Более популярные книги и идеи об Иисусе и свитках нет необходимости упоминать в научной статье; впрочем, скажем пару слов о «Коде да Винчи»[672]. Внимательное чтение этой любопытной книги открывает в ней подтекст: мы видим, что ее радикальные заявления об Иисусе (будто бы он не умер на кресте, был любовником Марии Магдалины, у них были дети и т. д.) возводятся здесь к древним источникам, прежде всего к свиткам Мертвого моря, и основываются на неких «научных данных». Хотя сам Дэн Браун ничего не смыслит ни в свитках, ни в содержании их, ни в датировке и путает все на свете, нельзя не заметить, что большинство – если не все – сомнительные идеи об историческом Иисусе, содержащиеся в «Коде да Винчи», можно найти и в научных работах об историческом Иисусе, особенно в тех, где «гностицизм» и «демифологизация» стоят на первом месте.
Свитки, Иисус и Евангелия
Хотя, насколько нам известно, ни один из кумранских свитков не был написан христианами или для христиан, многие исследователи видят в этих древних документах несомненную связь с происхождением христианства. Место, где они были найдены (менее 25 км от Иерусалима), их датировка (250 г. до н. э. – 68 г. н. э.), языки, на которых они написаны (иврит, арамейский и греческий) – все это делает кумранские свитки важным источником для понимания многих сторон Евангелий и жизни Иисуса.
В целом можно сказать, что некоторые свитки проясняют Евангелия, поскольку: 1) дают полезную информацию об иудейском обществе, группах, обычаях и верованиях того времени; 2) сообщают нечто новое о древнем иудаизме; 3) показывают, что многие стороны евангельской вести непосредственно связаны с «материнской» религией; и 4) подтверждают некоторые базовые различия между проповедью Иисуса и других иудейских групп, упоминаемых в Евангелиях.
Более того: ряд ключевых кумранских текстов содержит идеи или формулировки, схожие с теми, какие мы находим в некоторых евангельских отрывках.
Свитки Мертвого моря и Евангелия. Схожие темы и формулировки
Ученые, подробно исследовавшие связь кумранских свитков с историческим Иисусом или Новым Заветом – это, помимо прочих, Джеймс Чарлзворт (авторитетнейший автор в этой области)[673], Джордж Брук[674], Джозеф Фицмайер[675], Крэйг Эванс[676], Герман Лихтенбергер[677], Хайнц-Вольфганг Кун[678] и Йорг Фрей[679].
Эти специалисты, основываясь на трудах более ранних исследователей, составили список из нескольких свитков и многих ключевых отрывков, в которых темы и формулировки схожи с евангельскими, особенно в изображении Иисуса. Приведем тринадцать примеров такого сходства.
1. Общее использование Ис 40:3
Свитки: Устав Общины (1QS) 8:12–16
Евангелия: Мк 1:3, Мф 3:3, Лк 3:4, ср. Ин 1:23
2. Крещение или ритуальное омовение и прощение грехов
Свитки: 1QS 2:25–3:9
Евангелия: Мк 1:4; 10:38, 39; 11:30, Мф 3:7; 21:25, Лк 3:3; 7:29; 12:50; 20:4
3. Упрек товарищу по общине
Свитки: 1QS 5:24–6:1; Дамасский документ (CD) 9:2–8
Евангелия: Мф 18:15–17, Лк 17:3–4
4. Заповеди блаженств, их структура
Свитки: Блаженства (4Q525) фрагменты 1, 2 ii и 3
Евангелия: Мф 5:1–12, Лк 6:20–23
5. Спор о субботе
Свитки: CD 10:15–11:18, особ. 11:12–14, также 11:10, 16; Различные правила (4Q265) фрагменты 6.1–7.10
Евангелия: Мк 2:23–3:5, Мф 12:1–12, Лк 6:1–11; 13:10–16, ср. Ин 5:16, 18
6. «Сын Человеческий» и «Сын Всевышнего» как возможные мессианские титулы
Свитки: Апокриф Даниила (4Q246) 1:9–2:9
Евангелия: Мк 14:61, Мф 4:3–6; 26:63, Лк 1:26–38; 4:3–9; 22:70, ср. Ин 1:34, 49; 11:27; 20:31
7. Распятие
Свитки: Пешер Наум (4Q169) фрагменты 3–4 i.6–8.
Евангелия: напр. Мк 15:24–25; Мф 27:22–36; Лк 23:33; Ин 19:18–23.
8. Умирающий или побеждающий мессия? (Сейчас исследователи единодушны в том, что мессия побеждает.)
Свитки: Свиток Войны (1Q285), фрагмент 7, строки 1–6.
Евангелия: Мф 16:15–21, Лк 24:25–26, 46, ср. Деян 2:21–36; 8:26–40
9. Мессианский пир
Свитки: Устав Собрания (1QSa или 1Q28а) 2:11–22
Евангелия: Мк 14:25; Мф 26:29; Лк 22:16, 18, 30
10. Пророк, мессия-священник, царственный мессия
Свитки: 1QS 9:5–11; 1QSa или 1Q28a 2:11–22; ср. CD (Гениза А) 22:12–13; CD (Гениза Б) 19:7–13, 33–35; 20:1–3
Евангелия: Мк 12:35; 15:32, Мф 1:1; 2:1–6; 22:42, Лк 20:41, Ин 7:42
11. Мессия-пророк
Свитки: Мессианский апокалипсис (4Q521) 2:1–13
Евангелия: Q (Лк 7:20–23 = Мф 11:2–6)
12. Мелхиседек как возвеличенная/священническая фигура
Свитки: Небесный князь Мелхиседек (11Q13) 2:2–25
Новый Завет: Евр 7:2–10
13. Дух Святой
Свитки: 1QS 3:7; 8:15–16; CD 2:12; Благодарственные гимны (1QHa) 4:38; 8:30; 15:9; 20:14–15
Евангелия: Мк 1:8, Мф 3:11; 12:31–32; 28:19, Лк 4:1; 11:13; 12:12, ср. Ин 3:34; 14:26; 20:22
Рассмотрим в свете соответствующих евангельских параллелей два кумранских текста. Один из них – Устав Общины, известный также как Наставление в дисциплине, один из наиболее известных кумранских текстов, написанный в I в. до н. э. Второй – Мессианский апокалипсис (4Q521)[680].
Общее использование Ис 40:3
Сходство в использовании ключевых отрывков из Писания в Евангелиях и сектантских свитках порой поражает. Например, значение служения Иоанна Крестителя[681] во всех четырех Евангелиях (Мк 1:3, Мф 3:3, Лк 3:4, ср. Ин 1:23) выражается словами Ис 40:3:
Тот же отрывок использовали кумранские насельники в Уставе общины, объясняя свой уход в пустыню:
И когда станут эти общиной в Израиле, (13) согласно этим правилам, будут они отделены от обители нечестивых и уйдут в пустыню, дабы приготовить путь ему, (14) как написано: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему» (как у Ис 40:3). (15) Таково истолкование Закона, заповеданного (Богом) через Моисея, чтобы действовать сообразно всему, что открывается в каждое время, (16) и с тем, что открыли пророки святым духом Его (1QS 8:12–16)[682].
Смысловое различие здесь достаточно тонкое. В евангельских отрывках пророчество исполняется тем, что вестником Бога в пустыне становится Иоанн, – и дальше повествование переходит непосредственно к его проповеди. Автор 1QS более точно следует тексту Исаии[683]: он полагает, что лишь в пустыне община может подготовить пришествие Господне, изучая Тору.
Однако, невзирая на это различие, общее использование Ис 40:3 важно для исследования происхождения христианства: оно показывает нам, что по меньшей мере одна иудейская группировка на заре нашей эры также связывала Ис 40:3 с подготовкой к пришествию Мессии. Следовательно, то, что евангелисты, приводя эту цитату в соответствующем контексте, опирались на подлинные дохристианские предания об Иоанне Крестителе, более вероятно, чем то, что этот стих из Писания соотнесли с ним в ретроспективе. Иными словами, отрывок из 1QS помогает установить аутентичность использования Ис 40:3 применительно к Иоанну Крестителю как вестнику грядущего Мессии.
Пророк, мессия-священник, царственный мессия
В этой части Устава общины обсуждается цель существования общины. Вслед за подробным описанием «Дома святости» и наставлениями касательно правосудия и собственности, колонка 11 заканчивается – вслед за этим идет пробел – предсказанием о явлении трех фигур. Первая – «Пророк», что наводит на мысль о пророке, подобном Моисею, предсказанном во Втор 18:17–19, или об Иоанне Крестителе в Новом Завете. Две другие фигуры – это мессии, и не один, а двое: «Ааронов» (тем самым – мессия-священник) и «Израилев» (видимо, потомок Давида, тем самым – царственный мессия):
В то время люди (6) выделят Дом святыни для Аарона, чтобы объединились Святое святых и Дом общины для Израиля, шествующего непорочно. (7) Лишь сыны Аарона властвуют над судом и имуществом, и по их слову выходит жребий для всякого разряда людей общины. (8) А имущество людей святыни, шествующих непорочно, – пусть их имущество не смешивается с имуществом лукавых людей, которые (9) не очистили своего пути, с тем чтобы отделиться от Кривды и идти совершенным путем. И ни от какого совета Учения (Торы) не должны отходить, следуй (10) всякой закоснелости своего сердца, а будут судимы первыми законами, которыми люди общины начали наставляться (11) до прихода пророка и помазанников Аарона и Израиля (1QS 9:5–11)[684].
Еще один текст на ту же тему – Устав собрания (1QSa), приложение к копии списка Устава общины, найденной в Пещере 1. Единственный сохранившийся список Устава собрания относится к I в. до н. э. В этом документе говорится о грядущей фигуре, названной «Мессией Израилевым» (2:14, 20), и о «Священнике» (2:12 [слово не сохранилось], 19), авторитет которого явно превосходит авторитет Мессии Израилева[685].
Мессианские титулы можно найти и в третьем сектантском тексте, Дамасском документе, два позднейших списка которого были найдены в Каирской генизе (они известны как «версия А» и «версия Б»). В одном отрывке из версии А, где приведены правила для тех, кто живет в походных условиях, есть упоминание «Мессии Аарона и Израиля» (12:23–13:1). Версия Б Дамасского документа – это позднейший, переработанный список, отражающий взгляды Кумранской общины. В одном отрывке из этого списка, где подчеркивается исполнение пророчеств, мы встречаем упоминание о «Мессии от Аарона и от Израиля» (20:1)[686].
Мессия-пророк
Второй текст, который мы подробно обсудим – Мессианский Апокалипсис (4Q521), палеографическая датировка которого также относится к I в. до н. э. Один из важнейших свитков для понимания Иисуса и его служения, 4Q521, рассказывает нам о мессианстве того времени; некоторые его отрывки поражают своим сходством с пассажами об Иисусе в синоптических Евангелиях. Этот текст представляет собой список «атрибутов» или признаков, которые в сознании по меньшей мере некоторых иудеев были связаны с грядущим пришествием мессии-пророка:
(2.1) […Небе]са и земля прислушаются к Мессии Его (или Помазаннику Его)
(2) [и все, ч]то в них, не уклонится от заповедей святых.
(3) Укрепитесь, искатели Господа, на службе Ему!
(4) Не видите ли вы Господа – все, кто надеется в сердцах своих?
(5) Ибо Господь о благочестивых позаботится, и праведников назовет по имени,
(6) и на нищих изольет дух Свой, и верных обновит Своею силою.
(7) Ибо Он возведет благочестивых на престол царства вечного,
(8) Пленников освободит, слепым отверзнет очи, [скло]ненных поднимет.
(9) Вечно буд[ет] склоняться [к] тем, кто [надее]тся на милость Его […];
(10) и пло[д…] ни для кого не замедлит;
(11) И совершит Господь чудеса, каких не бывало прежде, по сло[ву] Его.
(12) Ибо раненых Он исцелит, мертвых оживит, нищим принесет благую весть;
(13) и Он … […] Бесприютных Он не оставит Своей милостью, и алчущих сделает богатыми[687].
Ключевые слова и фразы 4Q521 проливают новый свет на Лк 7:20–23 (= Мф 11:2–6), отрывок, происходящий из Q. Здесь ученики Иоанна Крестителя – в это время постепенно разочаровывающегося или теряющего иллюзии – приходят к Иисусу с важным вопросом:
(20) Они [ученики Иоанна], придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель послал нас к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому должно прийти, или другого ожидать нам? (21) А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение.
(22) И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют; (23) и блажен, кто не соблазнится о Мне!
Кажется очевидным, что этот отрывок заимствован: автор Евангелия изображает Иисуса «Тем, Кто должен прийти» (ὁ ἐρχόµενος), что в данном контексте может означать только Мессию. Ответ на вопрос утвердительный: Иисус не произносит слова мессия, однако это подтверждается чудесами, совершенными Богом (или самим Иисусом). Дальнейшее исследование показывает, что этот отрывок не может относиться к царственному мессии (из рода Давидова) или мессии-священнику, но лишь к тому, кто творит чудеса и приносит благую весть: мессии-пророку.
Некоторые исследователи связывают этот пассаж не с историческим Иисусом, а с усилиями евангелистов изобразить Иисуса Мессией. Иными словами, весь этот случай, по их мнению – выдумка Древней Церкви, не основанная или почти не основанная на фактах. Позднее происхождение этого отрывка якобы подтверждается упоминанием воскрешения мертвых среди названных чудес. Оживление или воскрешение мертвых, – говорят защитники этой теории, – в Еврейской Библии практически неизвестно, само это понятие появилось позже[688], и иудей I века не мог об этом говорить. Из этого многие заключают, что авторы Евангелий, верившие в воскресение Иисуса, выдумали эту встречу с учениками Иоанна, дабы подкрепить впечатление об Иисусе как Мессии.
Открытие 4Q521 требует от нас новой оценки Лк 7:20–23 (= Мф 11:2–6). В отличие от отрывков из Луки и Матфея, в 4Q521 открыто используется термин «мессия» (строка 1:, “к Мессии Его”). Более того: в евангельских отрывках мы встречаем семь конкретных признаков пришествия Мессии, о трех из которых пророчествует Ис 35:5–6 и еще об одном Ис 61:1–2; четыре из них перечислены в 4Q521 (см. таблицу ниже). Наконец, оживление или воскрешение мертвых у Исаии не встречается, однако упоминается в 4Q521 (строка 12:, “мертвых оживит”). Эта черта 4Q521 совпадает с Лк 7:22 (= Мф 11:5). Примечательное сходство между 4Q521 и Лк 7:21–22 (= Мф 11:4–5) подтверждает мнение о том, что список чудес, сопутствующих приходу Мессии и схожий со списком Q, был знаком по меньшей мере некоторым иудеям начала нашей эры. Следовательно, вполне возможно, что слова Лк 7:21–22 восходят к историческому Иисусу и что он считал себя Мессией Израиля и притязал на этот титул[689].
Кроме того, этот кумранский текст проясняет проповедь Иисуса в Назарете (Лк 4:16–21), которая, если верить некоторым комментаторам, также выдумана Лукой для того, чтобы изобразить Иисуса Мессией. Этот отрывок лишь отчасти согласуется с Ис 61:1–2, которого открыто цитирует: один его элемент отсылает нас к Ис 58:6, а другой – к Ис 61:1–2.

(16) И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. (17) Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: (18) Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, (19) проповедовать лето Господне благоприятное. (20) И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. (21) И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами.

Как мы видим из таблицы выше, наиболее поразительны соответствия между 4Q521 и Лк 4:18–19; и из них можно сделать несколько выводов. Во-первых, 4Q521 подтверждает, что понятие мессии-пророка в I в. н. э. было известно по крайней мере некоторым иудеям. Как отмечает Джон Коллинз, 4Q521 описывает действия, ожидаемые от мессии-пророка[690], – и они во многом совпадают с Ис 61:1–2. Во-вторых, то, что представления о мессии-пророке существовали еще до Иисуса, позволяет увидеть в них часть ранней керигмы, связанной с Иисусом, а не позднейший домысел Q. В-третьих, 4Q521 дает нам сводный список действий, ожидаемых от мессии-пророка – схожий с тем, что мы встречаем в отрывке из Евангелия от Луки, и лишь отчасти совпадающий с Ис 61:1–2[691]. Это позволяет предположить, что Лк 4:18–19 не составлен на основе Q, а восходит к более раннему источнику. Существование 4Q521 даже наводит нас на мысль: а что, если Иисус сперва начал читать из Исаии, но затем отошел от текста и стал говорить о компонентах списка, известных его слушателям?
Кумранские свитки и исторический Иисус. Итоги
Попытки исследователей, подобных Аллегро и Тиринг, «отыскать» Иисуса в Кумране или сделать его ессеем, доказали свою полную несостоятельность. Свитки Мертвого моря писались не христианами, и ни Иисус, ни какие-либо иные евангельские персонажи в них не упомянуты.
Несколько свитков, однако, проясняют Евангелия в пяти аспектах: а) дают нам сведения об иудейском обществе, религиозных группах, верованиях и обычаях той эпохи; б) рассказывают о древнем иудаизме; в) показывают, что евангельское благовестие многим обязано «материнской» религии; г) подтверждают некоторые различия между вестью Иисуса и проповедью других иудейских религиозных групп; и, наконец, д) некоторые кумранские тексты почти дословно схожи с некоторыми отрывками из Евангелий, и это наводит на мысль, что некоторые слова, вложенные евангелистами в уста Иисуса, не выдуманы позднейшим христианским богословием, а предвосхищены в ранних иудейских текстах. Быть может, мы никогда не сумеем восстановить точные слова и действия Иисуса; однако пассажи из некоторых свитков позволяют нам установить подлинность определенных слов и действий, приписанных Иисусу.
Возможно, лучше всего завершить эту статью так же, как мы ее начали – цитатой из Андре Дюпон-Соммера. Показав (как упоминалось выше), что Иисус кажется «поразительной реинкарнацией» Учителя Праведности, французский исследователь продолжает:
Учитель Справедливости [т. е. Праведности. – Прим. ред.] умер ок. 65–63 гг. до н. э.; Иисус Назарянин – ок. 30 г. н. э. Во всех случаях, где сходство наводит на мысль о заимствовании – это заимствование со стороны христианства. В то же время появление веры в Иисуса – основы для Церкви Нового Завета – едва ли можно объяснить без реальной исторической деятельности нового Пророка, нового Мессии, который вновь разжег пламя и привлек к себе все обожание людей[692].
Об Иисусе и иудейских торжествах
Майкл Аллен Дейз
Вступление: Иисус имоадим
Если мы признаем, что Иисус был не только евреем, но и приверженцем иудаизма, то нам следует уделять галахическому аспекту его жизни не меньше внимания, чем богословской, социально-экономической и политической сторонам. Иудаизм Второго Храма был связан не только с идеологией, социальным положением и властью, но и в той же мере – если не в большей – с системой верного соблюдения установленных порядков; следовательно, воссоздавая религию Иисуса, мы должны учитывать не только веру, власть и социальное неравенство, но и закон, обычаи, ритуалы. Среди этих галахот следует обратить особое внимание на то, что в нашем языке именуется «праздниками», «святыми днями», «календарными ритуалами»[693], а в Еврейской Библии называлось моаде Яхве — «назначенные времена Господни»[694] – иначе говоря, на определенные дни года, в которые всему Израилю и во имя всего Израиля полагалось совершать определенные ритуалы[695]. Из евангельских повествований очевидно, что моадим играли значительную роль и в служении Иисуса, и в обстоятельствах его смерти; исходя из этого, в данной статье я постараюсь коротко рассказать о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать, чтобы проследить эту роль более подробно.
Моя статья состоит из двух частей. В первой дан обзор уже проведенных исследований по теме «Иисус и моадим» и перечислены четыре области, в которых этот вопрос уже рассматривался: точные даты Распятия и Тайной Вечери – и, следовательно, символическое значение этих дат; календарь, которому следовал Иисус; праздничное Sitz im Leben его смерти и то, сколь часто он в дни своей миссии совершал паломничества. Во второй части, отметив препятствия, возникающие на пути любого, кто хочет узнать об этом больше, я намечу два пути, по которым все же могут пойти искатели. С оговоркой, что все находки необходимо просеивать сквозь «сито» исследований Галилеи, я предлагаю, во-первых, еще раз обратиться к рассказу Иоанна о паломничествах Иисуса в Иерусалим – сравнив этот рассказ с повествованием синоптиков; и, во-вторых, пристальнее присмотреться к тем выводам о литургическом контексте смерти Иисуса, какие можно сделать на основании Первого послания к Коринфянам.
К чему мы уже обращались?
Распятие, Тайная Вечеря и Песах, или Хаг ха-Маццот
По меньшей мере четыре проблемы, связанные с Иисусом и моадим, уже исследованы библеистами, отчасти в ходе изучения других вопросов. Первая восходит к прекрасно известному хронологическому разногласию в датировке Тайной Вечери и смерти Иисуса. Синоптики говорят, что Тайная Вечеря пришлась на Песах (иудейскую Пасху) – 14 нисана, а распятие – на первый день Хаг ха-Маццот (праздник Опресноков, 15 нисана)[696]; Иоанн же, напротив, относит распятие ко дню Песаха, а Тайную Вечерю – к 13 нисана[697]. И если синоптики изображают Тайную Вечерю как преображенную пасхальную трапезу, то Иоанн не придает ей никакого праздничного смысла; вместо этого он связывает Песах непосредственно со смертью Иисуса, произошедшей в тот самый день и час, когда закалывают пасхальных агнцев. Споры идут по вопросу о том, в самом ли деле Иоанн здесь противоречит синоптикам, и если это так, – то чей же рассказ соответствует действительности[698]. Однако хотя и та и другая гипотеза претендуют на знание фактической истины о том, как прошли последние дни Иисуса, основной научный интерес их – в связи между смертью Иисуса и двумя моадим. Что произошло в день иудейской Пасхи: Тайная Вечеря – или распятие? И что это меняет в символическом смысле обоих событий?
Календарь
Вторую проблему, которая уже интересовала научный мир, подняла, стремясь разрешить упомянутое хронологическое противоречие, Анни Жобер. Проблема эта связана с календарем, которому следовал Иисус. Иными словами, вопрос ставится не о самих моадим, но о продолжительности и делении года, в котором эти моадим намечались[699]. В Иудее и Галилее I в. н. э. использовались по меньшей мере два календаря: лунно-солнечный 354-дневный, узаконенный в культе и потому используемый большинством иудеев – и солнечный 364-дневный, в прошлом предложенный группами, создавшими Первую книгу Еноха и Книгу Юбилеев, а в эпоху Иисуса хранимый Кумранской сектой и, возможно, другими группами, подобными ей[700]. Различие между этими календарями – в продолжительности года и его делении на месяцы, вкупе с методом «исправления» лунно-солнечного года[701] и различными способами вычисления Ханапат ха-Омер[702], – означало, что для различных групп праздники, изначально назначенные на одну дату, могли приходиться на разные дни года[703]. Исходя из этого, Жобер предполагает, что разногласие между синоптиками и Иоанном в вопросе о Тайной Вечере и распятии Иисуса можно объяснить, если произвести своего рода сближение календарей.
Жобер полагает, что в год, когда был распят Иисус, Песах по 364-дневному календарю выпадал на вторник, а по 354-дневному календарю – на пятницу. Иисус был распят в пятницу – в день Песаха по 354-дневному календарю, однако сам он следовал 364-дневному календарю и вкушал свою пасхальную трапезу (Тайную Вечерю) во вторник вечером, тремя днями ранее. За два с половиной дня, прошедшие после трапезы, Иисус был арестован и прошел через несколько судов: однако эти события, забытые отчасти невольно – а отчасти и осознанно, как того требовали наставления в вере, – были впоследствии «спрессованы» евангелистами в один вечер четверга, и так изобразились в Евангелиях[704]. Таким образом, по Жобер, хронологическое расхождение между синоптиками и Иоанном объясняется слиянием двух традиций, при котором исказилось реальное течение событий. Матфей, Марк и Лука верно изображают Тайную Вечерю как пасхальную трапезу, однако ошибаются, полагая, что она произошла вечером в четверг, а смерть Иисуса – в первый день праздника Опресноков, Хаг ха-Маццот. Иоанн, напротив, справедливо соотносит смерть Иисуса со днем Песаха, пятницей – однако, как и синоптики, неверно относит Тайную Вечерю к вечеру четверга и, датируя ее 13-м, а не 14-м нисана, лишает ее пасхального значения.
Тезис Жобер вызвал в лучшем случае смешанные отклики[705]. Однако, подняв этот вопрос, она положила начало обсуждению другой важной проблемы, связанной с Иисусом и моадим: по какому календарю отмечал моадим сам Иисус?
ПраздничноеSitz im Lebenсмерти Иисуса
Третья «линия следствия» по вопросу об Иисусе и моадим поднимает более фундаментальную проблему: верно ли вообще, что Иисус умер в дни Песах-Маццот? Ключевыми здесь становятся разрозненные детали канонических рассказов о Страстях, которые, по мнению некоторых, указывают на Суккот (Праздник кущей): сосредоточенность Иисуса на Храме[706], центральный образ Праздника кущей; цитаты из Пс 117 (или аллюзии на эту главу), входящую в молитву Галель, воспеваемую на Суккот[707]; толпа с (пальмовыми) ветвями в руках, как предписывалось на Суккот в Лев 23:40[708]; ссылки на Зах 14[709] – эсхатологическое видение, сосредоточенное на Суккот, которое могло пониматься как гафтара[710] для этого праздника (вав. Мег 31а); притча о винограднике, которая, вследствие упоминания о сборе винограда[711], вполне подходила для Праздника кущей[712]; и, наконец, как отмечают Филип Каррингтон, Жан Даниэлу и Чарльз Смит, Иисус ожидал, что смоковница, на которой не было ничего, «кроме одних листьев», принесет плоды ко дню иудейской Пасхи[713]. Смоквы созревали от середины ава до середины тишрея (близ Суккота), но не в нисан (на Песах)[714]; исходя из этого Каррингтон, Даниэлу и Смит рассматривают пояснение в Евангелии от Марка «…ибо еще не время было собирания смокв» (Мк 11:13) как глоссу, вставленную евангелистом или позднейшим редактором, который увидел (неверно?) в последних главах «нисан и приготовления к Песаху»[715].
Все эти факторы заставили Смита занять агностическую позицию относительно Sitz im Leben распятия Иисуса. Он допускает, что Иисус, верша свою миссию, мог совершать паломничества в дни различных праздников, однако полагает, что и указания на Суккот, и привязка к Песаху в известных нам евангельских рассказах – не что иное, как остатки связи Древней Церкви с иудейским богослужебным годом[716]. Другие, со своей стороны, убеждены либо в том, что пассажи, о которых идет речь, – это чтения из христианизированного иудейского лекционария[717], либо в том, что «пасхальный фон» смерти Иисуса – это переработка Sitz im Leben иного праздника: если не самого Суккот[718], то Хануки[719], которая, по мнению некоторых, восходит к празднику Суккот или заимствует его черты[720].
Паломничества в миссии Иисуса
И, наконец, последний вопрос, поднимавшийся уже неоднократно: сколь часто в дни своей миссии Иисус совершал паломничества в Иерусалим? Равно как и датировка распятия и Тайной Вечери, решение этого вопроса могло помочь и в другой проблеме: Иоанн и синоптики противоречили друг другу в том. Сколь долго продолжалась проповедь Господня, Praedicatio Domini. Синоптики рисуют такую картину: Иисус побывал в Иерусалиме лишь однажды, на Песах, в конце служения; а указания на весну и, возможно, лето (нисан и сиван) в начале миссии на первый взгляд предполагают, что она в целом длилась чуть больше года, от одного Песаха до другого[721]. У Иоанна Иисус «восходит» в Иерусалим четыре раза, а может, и пять: в дни первого Песаха; на некий неназванный праздник; в дни Суккот; на Хануку (возможно)[722] и во время последней иудейской Пасхи[723]. Более того, за это время проходят три Песаха, и необходимо заключить, что, по мнению Иоанна, служение Иисуса продолжалось никак не меньше двух лет: год между первым и вторым Песахом, год между вторым и третьим. Предпринималось немало усилий доказать историческую достоверность первого или второго сценария или же совместить их[724], и из попыток совмещения возникли две гипотезы, согласно которым в дни своей миссии Иисус совершал паломничества не только на последний свой Песах, но и на другие моадим.
Первым было высказано мнение, что изначальная хронология в Евангелии от Иоанна совпадала с хронологией синоптиков. Восходит оно к Самуилу Пети (XVII в.)[725], однако, как правило, ассоциируется с Иоганном ван Беббером и Йоханнесом фон Бельзером (рубеж XIX–XX вв.)[726]. Ключевой аргумент в их логике состоит в том, что упоминание Пасхи (τὸ πάσχα) в Ин 6:4 – это вставка в изначальный текст[727]. Без этого слова фраза читается так: «Приближался же праздник иудейский», следовательно, речь может идти либо о Суккот (Празднике кущей), упоминаемом в Ин 7:2[728], либо, если поменять местами Ин 5 и 6, о неназванном празднике из Ин 5:1[729], который опознавали как Шавуот (Праздник седмиц). В любом случае, праздники, перечисленные у Иоанна, вполне могли пройти в течение одного богослужебного года: Песах (2:13), Шавуот ([6:4]), Суккот ([6:4], 7:2), Ханука (10:22–23), Песах (11:55) – следовательно, они укладываются в хронологию, предлагаемую синоптиками[730].
Вторая гипотеза утверждает обратное: хронология миссии Иисуса у синоптиков совпадала с хронологией в Евангелии от Иоанна в ее принятом виде[731]. Отчасти это мнение подтверждается намеками синоптиков на то, что Иисус в дни служения бывал в Иерусалиме и прежде последнего Песаха, когда встретил смерть: он был знаком с людьми в городе и окрестностях[732], он проповедовал в иудейских синагогах, согласно текстуальной традиции Лк 4:44[733]; а кроме того, плач Иисуса об Иерусалиме понимался не как оплакивание Иерусалима предсуществовавшим Христом через пророков, но как слова Иисуса, который не раз говорил об Иерусалиме, пока вершил свою миссию[734]. Хотя вполне возможно, что он приходил в город ради праздников, само число посещений указывает на то, что миссия Иисуса длилась дольше года, а значит, это позволяет лучше подстроить хронологию синоптиков под хронологию Иоанна, согласно которой служение Иисуса заняло два года, а может, и несколько лет.
Защитники обеих этих гипотез были убеждены, что их хронологический синтез синоптиков и Иоанна отражает реальную последовательность событий в общественной деятельности Иисуса. И поскольку оба этих синтеза постулируют, что Иисус в дни своей миссии часто совершал паломничества, перед нами встает еще один, четвертый вопрос об Иисусе и праздниках, уже не раз волновавший библеистов, изучающих Новый Завет: как отмечал праздники Иисус? Вернее, праздники и традиции он, конечно же, почитал, но вовлекался ли он в иерусалимский храмовый культ, и если да, то насколько сильно?
Подведем итоги. До сих пор в библеистике обсуждались четыре проблемы, связанные с отношением Иисуса к моадим: датировка и символизм Тайной Вечери и распятия; календарь, по которому Иисус отмечал праздники; праздничный Sitz im Leben его смерти; и то, какую роль в следовании праздничным традициям для него играли паломничества.
Два пути
Углубляться в эти проблемы не позволяет скудость данных. Еще более верно это для вопросов, вытекающих не из евангельских повествований, а из самой сути иудейских праздников. Например: какие именно праздники Иисус включал в свой богослужебный год? Каким символизмом наделял каждый из них? Как именно их отмечал? Изменялось ли что-то в отношении Иисуса к праздникам по мере взросления? Или – когда он перешел от частной жизни к служению людям? Осознавая эти ограничения, я все же предложу еще по крайней мере два направления исследований, на которых можно было бы задать вопросы и надеяться получить ответы. Одно из них – пересмотреть наши данные и вновь попытаться согласовать рассказы синоптиков и Иоанна о миссии Иисуса. Второе – внимательно рассмотреть то, что говорится о Sitz im Leben смерти Иисуса в Первом послании к Коринфянам.
Галилейские исследования
Перед тем как идти дальше, хотелось бы сделать одно предостережение: все наши выводы об Иисусе и праздниках необходимо просеивать сквозь «сито» исследований Галилеи. Вот что пишет Шон Фрейн: «…в нынешнем академическом климате просто немыслимо пытаться воссоздать жизненный путь Иисуса, не уделив должного внимания географическому, политическому и социальному контексту его служения»[735]. И все, что мы уже узнали или только намерены узнать об отношении Иисуса к праздникам, необходимо проверять на фоне вопросов, в свете которых Иисус предстает как галилеянин I в. н. э.
Разумеется, и сами исследования Галилеи рождают много споров. И если говорить о самых важных проблемах, связанных с соблюдением праздников, то прежде всего встает такая: кто жил в Галилее I века: евреи или неевреи? Если евреи, то каким был их культурный этос – иудейским или эллинистическим? Если они исповедовали иудаизм, то какой именно – древнеизраильский, вавилонский, прозелитический (итурейский), иудейский? Если иудейский, то как относилась Галилея к остальной Иудее: слушалась по доброй воле – или подчинялась силе? И как тогда галилеяне совершали паломничества в Иерусалим: часто и охотно – или неохотно, от случая к случаю? Соблюдали ли они заповеди Торы и запреты галахи, как прочие иудеи? Было ли в Галилее свое фарисейство – и если да, то как его галаха влияла на отношения галилеян и иудеев?[736] Более того, существуют разные мнения даже о том, были ли галилеяне богаты или бедны (и, следовательно, могли ли они позволить себе паломничество)[737]; подчинялись ли они Риму или противились ему (и, соответственно, сколь «политическими» были их моадим)[738]; и были ли у них в I веке (по крайней мере до первой войны с римлянами) синагогальные субботние и праздничные службы, отчасти заменявшие паломничества в Иерусалим[739].
Но даже и помимо всех этих споров множество вопросов, связанных с географией, экономикой, политикой и религией Галилеи, имеют важнейшее значение для раскрытия того, как Иисус относился к иудейским праздникам. И там, где не удается преодолеть разногласие, необходимо привлекать к аргументации сведения, полученные в ходе исследований, линии которых мы уже наметили – и еще наметим, чтобы они поддержали или опровергли ту или иную точку зрения – или же сами, в свою очередь, были поддержаны или опровергнуты ею.
Синоптики, Иоанн и Praedicatio Domini
С такой оговоркой я проведу первую линию дальнейшего исследования связи Иисуса и моадим — а именно пересмотрю вопрос о разногласиях синоптиков и Иоанна в описании миссии Иисуса. Ранее я упоминал, что многие экзегеты вплоть до ван Беббера и фон Бельзера пытались «сократить» длительность миссии Иисуса в Евангелии от Иоанна, приведя ее в соответствие с данными синоптических Евангелий, однако попытки не удались из-за недостатка текстуальных подтверждений главному их тезису – тому, что упоминание иудейской Пасхи в Ин 6:4 якобы представляет собой позднейшую вставку[740]. Я и сам приходил к тому же выводу, рассматривая вопрос о том, сколь долго длилось служение Иисуса согласно Иоанну, однако я приводил в свою пользу более основательные текстуальные аргументы; и теперь, на основе своих изысканий, хочу предложить новую версию этой теории.
Суть моего предположения в том, что Пасху, упоминаемую в Ин 6:4, следует понимать не как обычный Песах, отмечаемый 14 нисана, а как Песах-Шени, празднуемый 14 ияра (см. Чис 9:9–14); и, следовательно, если мы читаем Евангелие от Иоанна в первоначальном его варианте (где гл. 5 и 6 меняются местами), то праздники у Иоанна вписываются в один-единственный богослужебный год. То, что иудейская Пасха в Ин 6:4 – это Песах-Шени, следует из четырех факторов, выводимых как из текста Иоанна, так и из иудейских праздничных традиций. Изложим вкратце нашу аргументацию: 1) закон хадаш требует, чтобы ячмень, упомянутый в рассказе о кормлении пяти тысяч (Ин 6:9), ели после обычного Песаха, а не до него, однако в главе 6 говорится, что иудейская Пасха «приближалась» (Ин 6:4); 2) дарование манны, которому в основном посвящена Ин 6, в Священническом кодексе связывается с Песах-Шени (Исх 16:1); 3) неопределенный характер Песах-Шени хорошо согласуется с отсутствием в Ин 6 каких-либо упоминаний о паломничестве Иисуса на Песах[741]; а кроме того, если мы меняем местами ст. 5 и 6, то: 4) вполне возможно, что подобное расположение праздников в этом тексте у Иоанна создано намеренно и имеет свой смысл. Перед нами выстраивается такая последовательность: Песах (Ин 2:13), Песах-Шени (Ин 6:4), некий неназванный праздник (Ин 5:1), Суккот (Ин 7:2), Ханука (Ин 10:22–23) и Песах (Ин 11:55); а временная близость событий Ин 5 к событиям Ин 7 указывает, что неназванный праздник в Ин 5:1, весьма вероятно, располагался между Песах-Шени в Ин 6:4 и Суккот в Ин 7:2 одного и того же года[742]. Следовательно, продолжительность служения Иисуса в ранней версии Евангелия от Иоанна сокращается с двух лет до одного – и такой вывод не требует отказываться от упоминания иудейской Пасхи в Ин 6:4[743].
Сопоставив такую реконструкцию с однолетней продолжительностью служения Иисуса, подразумеваемой в синоптических Евангелиях, мы можем подтвердить и подкрепить новыми аргументами схему ван Беббера и фон Бельзера. Иоанн прямо говорит о паломничестве Иисуса, синоптики на это намекают, и это позволяет предположить, что Иисус не раз посещал Иерусалим в дни праздников еще до своего последнего Песаха. Разумеется, по этой проблеме можно сказать еще многое. Как отмечает Йорг Фрей, попытки гармонично сочетать повествования синоптиков и Иоанна о жизни Иисуса неизбежно сталкиваются с «композиционной независимостью» хронологии и топографии в Четвертом Евангелии[744]. Более того: на мой взгляд, упоминание праздников у Иоанна в целом несет не столько историческую, сколько богословскую задачу – подчеркнуть растущую неотвратимость «часа» Иисуса[745]. Однако эта гипотеза может по меньшей мере приоткрыть для нас путь к пересмотру той роли, которую, согласно Евангелиям, играли в религиозно-обрядовой жизни Иисуса храм и храмовый культ.
Первое послание к Коринфянам и Sitz im Leben смерти Иисуса
Вторая новая возможность обратиться к проблеме отношения Иисуса к праздникам – это пересмотреть те сведения о Sitz im Leben смерти Иисуса, которые содержатся в Первом послании к Коринфянам, древнейшем из дошедших до нас источников, связывающих смерть Иисуса с Песахом и праздником Опресноков. Это происходит в главе 5, где Павел увещевает коринфян отлучить от Церкви человека, сошедшегося с женой своего отца, и используя при этом сравнения с ритуальными традициями Песаха и Хаг ха-Маццот. Отлучить этого человека от общения – все равно что вынести из дома закваску[746]; смерть Христа – принесенная в жертву πάσχα[747]; а поклонение Богу в отсутствие грешника – это верное соблюдение праздника, призывающего воздерживаться от квасного[748]:
Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины (1 Кор 5:6–8).
Павел использует сравнения с Песахом и Хаг ха-Маццот объясняют по-разному, причем ни один вариант не исключает других[749]: он мог взять их из более раннего источника[750] или, быть может, из собственного более широкого богословия[751]; мог использовать народную поговорку о закваске, которую уже цитировал в 1 Кор 5:6b[752]; мог подражать библейской заповеди об очищении храма (в данном случае – Коринфской церкви) после празднования Песах-Маццот[753]; или – объяснение, особенно для нас любопытное – мог заимствовать образы из богослужебного сезона, во время которого писал. Павел заканчивает Первое послание к Коринфянам, сказав, что хочет остаться в Эфесе до Пятидесятницы (Шавуот) (1 Кор 16:8). Если Послание дошло до нас в изначальном виде[754] – или же по крайней мере в его первозданной форме стихи 5:6–8 и 16:8 существовали в одном и том же документе[755] —значит, Павел писал в пасхальные дни, между Песахом и Хаг ха-Маццот и предстоящим Праздником седмиц; на этом основании некоторые полагают, что в упоминаниях старой закваски, иудейской Пасхи, пресного хлеба и празднования отражены его размышления о прошедшем празднике.
Эту мысль подтверждают еще три особенности Первого послания к Коринфянам: в то время, когда Павел пишет свое письмо, недавно окончилась зима[756] или прошел Песах[757]; в то время он предполагал скоро увидеться с коринфянами (1 Кор 4:19) – а значит, исходил из того, что близится Шавуот; в других местах того же послания Павел, по-видимому, использует другие пасхальные символы – а именно, образ «первенца»[758] для воскресения Христа в 1 Кор 15:20, 23[759] и сравнения с самыми ранними событиями Исхода для увещания против дурного поведения в 1 Кор 10:1–5. Говоря о первом образе – «первенце», символе воскресения Христова, – стоит вспомнить, что в иудейском богослужебном году период от Песаха и Хаг ха-Маццот до Шавуот был временем, когда созревали и приносились в храм «первенцы» – первые плоды урожая: в «день, следующий за субботой» – ячмень, на Шавуот – пшеница. Что же касается второго – сравнений с Исходом в увещании (гл. 10), – то те события, о которых вспоминает Павел (облако, вслед за которым шли евреи; переход через Красное море; манна с небес и извлечение воды из камня)[760] – происходили от выхода Израиля из Египта до прибытия на Синай, то есть, по календарю, между собственно Песахом (первый месяц) и Шавуот (третий месяц)[761].
Если это последнее объяснение правдоподобно – то в контексте какого же праздника на самом деле умер Иисус? Если древнейшее известное нам упоминание о его смерти в контексте Песаха и Хаг ха-Маццот объясняется (только) тем, что сам Павел писал свое послание в дни иудейской Пасхи и, соответственно, думал о ней, – то насколько вероятно, что эта связь существовала и до Павла? Иначе говоря, если первое отождествление смерти Иисуса с Песахом и Хаг ха-Маццот вызвано лишь размышлениями Павла о богослужебном годе – можно ли полагать, что за этими событиями и прежде была какая-то историческая связь? На первый взгляд такой вопрос может показаться надуманным, однако если мы сопоставим его еще с двумя факторами, окажется, что он достоин размышлений. Первый из этих факторов – нечто подозрительное в праздничном Sitz im Leben Тайной Вечери и смерти Иисуса. Смит, Томас Уолтер Мэнсон, Фрэнсис Кроуфорд Бёркитт, Этьен Нодэ, Джастин Тейлор – все они отмечали в канонических рассказах о Страстях элементы, указывающие на то, что изначальный «фон» Тайной Вечери и распятия не соответствовал Песаху. Смит не высказывал по этому вопросу определенных суждений, оставаясь на позиции агностика; прочие предлагали Суккот, Хануку и Шавуот[762]. Если связь смерти Иисуса с Песахом и Хаг ха-Маццот впервые возникла через двадцать лет после самого события (во время написания Первого послания к Коринфянам) – и далее, если она связана только с тем, что Павел писал в дни иудейской Пасхи и, соответственно, думал о ней, – быть может, исторической связи между этими событиями и праздником Песаха не было вовсе?
Второй фактор – отсутствие всякого пасхального контекста в двух формулировках, которые возникли еще до Павла. Он цитирует их в том же Первом послании к Коринфянам: это слова установления Вечери Господней и символ веры, в котором говорится о распятии, погребении, воскресении и явлениях Иисуса. Ни там, ни там нет никаких указаний на то, что события, о которых идет речь, происходят в дни Песаха и Хаг ха-Маццот. Предание о смерти и воскресении Иисуса, которое Павел «принял» и затем «преподал» коринфянам (15:3–5)[763], гласило лишь, что Христос умер за грехи наши, по Писаниям, был погребен, затем, также по Писаниям, воскрес из мертвых и явился Кифе, а затем двенадцати[764]. Что же касается предания о Вечере Господней, которое Павел «от самого Господа принял» (1 Кор 11:23–26)[765] – то пусть даже в некоторых его подробностях и можно увидеть указания на Песах[766], прямо в нем ничего подобного не сообщается, а говорится лишь, что Иисус установил Вечерю «в ту ночь, в которую предан был» (1 Кор 11:23)[767]. Отсутствие пасхального контекста можно объяснить по-разному: возможно, эти предания – лишь выдержки из пространного рассказа о Страстях, в котором Пасха упоминалась[768]; возможно, Павел опустил этот контекст сознательно, желая выгоднее подчеркнуть свои аргументы[769]; возможно и то, что слова, установившие Тайную Вечерю, были независимы от преданий, впоследствии связавших евангельские рассказы о Страстях с Песахом и Хаг ха-Маццот: так предполагают Нодэ и Тейлор[770]. Однако, учитывая подозрения относительно евангельского пасхального контекста, высказанные выше, можно предположить и то, что отсутствие пасхального «фона» в преданиях, ставших основой Первого послания к Коринфянам, раскрывает перед нами раннее (изначальное?) представление о том, что Страсти Иисуса не имели подобного Sitz im Leben; и этот вопрос требует дальнейшего изучения.
Заключение
Подведем итоги. Специалисты, изучающие Новый Завет, уже исследовали то, как Иисус относился к иудейским праздникам, по меньшей мере в четырех аспектах: датировка и символическое значение Тайной Вечери и распятия; календарь, которому следовал Иисус; праздничный контекст его смерти и вопрос о том, до какой степени его общественная деятельность включала в себя паломничества в Иерусалим. Сведений мало, и это мешает нам узнать что-либо новое, однако мы все же можем надеяться на некоторый прогресс в двух темах: в пересмотре хронологии миссии Иисуса в Евангелии от Иоанна и у синоптиков – и в новом исследовании Первого послания к Коринфянам в свете странностей, связанных с праздниками в нарративе Страстей.
Арамейский язык, Иисус и таргумы
Брюс Чилтон
Вступление: развитие арамейского языка и появление таргумов
Арамейский язык пережил закат Персидской империи как лингва франка Ближнего Востока. Его приняли и евреи, и иные народы, те же набатеи и пальмирцы. Арамейские части Еврейской Библии (фрагменты Книг Даниила и Ездры) – это, помимо прочего, знак серьезных перемен в языке иудейской религии. Авраам был арамеем еще до того, как иврит оформился в отдельный язык, – хотя варианты арамейского, сменявшие друг друга за всю его долгую историю, поразительно различаются. Возможно, отчасти евреи приняли арамейский в период владычества персов именно потому, что отдаленно помнили о его родстве с ивритом – правда, не следует забывать, что от иврита он отличается, и весьма существенно. К эпохе Иисуса арамейский стал общим языком Иудеи, Самарии и Галилеи (хотя диалекты, конечно, разнились); иврит понимали люди образованные и/или ярые националисты; а знакомство с греческим было культурной необходимостью, особенно в деловом общении и взаимоотношениях с государственной бюрократией.
Языковая ситуация в Иудее и Галилее требовала перевода Еврейской Библии на арамейский, чтобы большинство иудеев могли читать ее и молиться по ней в быту. Но пусть даже арамейские фрагменты Книги Левит и Книги Иова, найденные в Кумране, формально представляют собой таргумы, признакам таргума как литературного жанра они не соответствуют. В сущности, это «буквальные» переводы: в них слово в слово прослеживаются соответствия между еврейским оригиналом и арамейским переложением. Таргумы, созданные в эпоху раввинистического иудаизма, носят иной характер, однако прежде чем говорить о нем, мы должны принять во внимание местные диалекты арамейского языка, их связь с таргумами и их влияние на Иисуса. Представление этих диалектов в хронологическом порядке, основанное на датировке источников, ясно показывает, что арамейский, на котором написаны таргумы, в лингвистическом плане отличается от арамейского языка I столетия[771]:
Держава Ахеменидов (500 до н. э. – 200 до н. э.: имперский арамейский [Александрия, Киликия, Эдфу, Элефантина, Бехистунская надпись; части Книг Даниила и Ездры]).
Переходный период (200 до н. э. – 200 н. э.: аршакидский; хасмонейский [Иудея и Галилея], набатейский; негардейский; пальмирский; старосирийский [Эдесса]).
Таргумы из Кумрана
Таргум Онкелоса
Таргум Ионафана
Старосирийские Евангелия
Региональный период (200 н. э. – 700 н. э.: вавилонский; христианский палестинский; иорданский; мандейский; самаритянский; сирийский; тивериадский; талмудический).
Неофитский таргум I
Таргум псевдо-Ионафана
Таргумы к Ктувим
Пешитта
Период возрождения (700 н. э. – 1500 н. э.: ассирийский [нисибинский], деловые бумаги Каирской генизы [вавилонский; тивериадский]; арамейский периода гаонов; яковитский эдесский; современный мандейский).
Фрагменты Каирской генизы
Рейхлиновский кодекс пророков
Документ из Национальной библиотеки Франции, (неверно) помеченный как Hébreu 75
Фрагментарный таргум
Многие уже не раз пытались соотнести развитие богатого языка и его порой непостоянных вариаций с учением Иисуса – и особенно воссоздать на арамейском молитву «Отче наш».
«Отче наш» на арамейском
Как отмечал Морис Кейси, Иоахим Иеремиас улучшил обратный перевод Молитвы Господней, сделанный Чарльзом Фоксом Бёрни, «однако, к сожалению, напечатал его английскими буквами»[772]. Я совершенно согласен с тем, что Иеремиас превзошел методы своего времени, – но совершенно не согласен с критикой примененной им системы транскрипции. И пока мы продолжаем исследовать эту область, я на основе двух соображений предлагаю по-новому взглянуть на этот вопрос.
Безусловно, у нас нет арамейских текстов I столетия с расставленными огласовками, – но сами тексты той эпохи есть, и все, кто в те далекие времена читал их вслух, несомненно, каким-то образом их вокализовали. Некоторые вокализации оставили свой след в виде тех или иных букв, которыми обозначались гласные звуки. Да, их применяли не всегда, и стройная система не сложилась, но они все же позволяют арамеистам понять, как произносились те или иные слова. В наше время, переводя арамейские тексты, арамеисты могут не расставлять огласовки, однако неизбежно их подразумевают, иначе перевод был бы просто невозможен. И пусть огласовки в обратном переводе всегда гипотетичны и остаются предметом дискуссий, думаю, нам следует сделать так, чтобы читатели понимали, какую именно огласовку подразумеваем мы. В дальнейшем я сделаю обратный перевод Молитвы Господней – с вокализацией, которая основана на моей реконструкции грамматики I века и соответствует библейскому арамейскому (до I в. н. э.) и переходному арамейскому, на котором написаны таргум Онкелоса и таргум Ионафана (II–III вв. н. э.) (Сам смысл термина «переходный арамейский» я объясню чуть позже.) Разумеется, огласовка в текстах, написанных на библейском и переходном арамейском, была формализована спустя много столетий после их создания (так произошло и с классическим ивритом), однако ее формализовали на основе изучения общепринятого языка, и это не сбросить со счетов, – так что у нас есть вполне достойный фундамент для рассуждений о том, как надлежит вокализировать арамейские тексты I века.
Второе мое соображение состоит в том, что читатели, которым мы предлагаем обратный перевод, – это либо арамеисты, которые принимают нашу огласовку или, напротив, чувствуют, что ее требуется исправить, либо неарамеисты, которых влечет исторический, богословский или литературный интерес. Первым лучше сообщить напрямую, какую огласовку имел в виду экзегет, чтобы дискуссия могла вестись открыто. Вторая группа, если не дать огласовок, не поймет, как звучали арамейские слова, – а далее я намерен показать, что звучание молитвы имеет значение. В обоих случаях, и для специалистов, и для неспециалистов, расстановку огласовок можно рекомендовать со всей ответственностью, – конечно, при условии соблюдения границ достоверности. И более того, применение латинского алфавита, если оно производится последовательно, ничем не помешает арамеисту. А для читателя, едва знакомого с ивритом или совсем не знающего семитских языков, транслитерация, и особенно с надстрочными огласовками, окажется куда полезнее, чем семитские письмена без огласовок, напечатанные еврейским квадратным письмом (что само по себе – искусственная условность).
И потому Джозеф Фицмайер и я, независимо друг от друга, решили использовать в обратных переводах Молитвы Господней транслитерацию (видимо, тем же руководствовался и Иеремиас)[773]. Это, в свою очередь, позволяет нам открыто говорить о том, в чем мы расходимся с Иеремиасом и о чем спорим друг с другом. Например, я на основе текстов, найденных в Кумране, полагаю, что слово «долг» в арамейском языке I столетия относилось к женскому роду и лишь позднее изменило род на мужской; Фицмайер в частной переписке согласился с этим моим наблюдением[774]. С готовностью признаю, что род слова «долг» во времена Иисуса никак не влияет на смысл фразы. Однако верное представление о роде позволяет сохранить метрическую структуру, которая – как я покажу ниже – становится очевидной, когда молитва в своей арамейской форме произносится вслух.
При обратном переводе, как справедливо подчеркивает в своей работе Морис Кейси, невероятно важен кумранский арамейский. Вот что он пишет: предположение, будто Иисус учил по-гречески, льстит «мечте фундаменталиста – и предпосылки, необходимые для его поддержки, принимаются слепо, без критики»[775]. Можно добавить, что эта гипотеза служит и интересам других «мечтателей» – «Семинара по Иисусу»: его участники, несмотря на яростную критику в адрес фундаменталистов, равно так же обожают эллинизм.
Еще один лингвистический «ложный след» связан с изучением таргумов. Серьезное препятствие для современных исследователей – это стойкое убеждение в том, будто где-то существует некий «Палестинский таргум», подробно излагающий, как понимали Еврейскую Библию во времена Иисуса, – и написанный именно на языке той эпохи. Были времена, когда это мнение имело смысл, поскольку считалось, будто документы, написанные на так называемом «палестинском арамейском», древнее текстов на «вавилонском арамейском». В частности, поэтому имеет смысл говорить не о «палестинском арамейском», а точнее – о «тивериадском», или, скажем, «галилейском» арамейском, поскольку и читатели, и даже исследователи склонны без разбора относить все древнее и «палестинское» к эпохе Иисуса, а в наши дни это мнение уже устарело и противоречит современным представлениям о развитии арамейского языка. Кумранские открытия пролили новый свет на таргумы Онкелоса и Ионафана, и теперь оказывается, что эти тексты древнее, чем предполагали ученые шестьдесят лет тому назад, и язык, на котором они написаны, более схож с тем арамейским, на котором говорили в римской Сирии Палестинской. Таргум Онкелоса и таргум Ионафана, в той мере, в какой они представляют раннюю форму переходного арамейского, содержат в себе более ранний вариант языка, на котором написаны бумаги Каирской генизы, таргум псевдо-Ионафана и Фрагментарный таргум (в устаревших исследованиях последний именуют «Палестинским»). В той степени, в какой последние три таргума являются по языку «тивериадскими», они представляют поздний, региональный диалект арамейского языка. Более того, нынешнее представление о древнем иудаизме гласит, что тот был очень разнороден и в нем едва ли могла возникнуть единая авторитетная традиция перевода, на которую вроде как предполагает само название «Палестинский таргум». И как давно уже показал Фицмайер – и с чем вполне согласны Кейси и я, – все это означает, что после кумранских открытий направление исследований, представителями которого выступали Пауль Кале и Мэтью Блэк, а впоследствии и Геза Вермеш, просто утратило смысл как для исследования таргумов, так и для изучения Евангелий.
Есть и другая, еще менее обоснованная тенденция – смешивать арамейский I столетия с сирийским языком, совершенно иным. Подход Джорджа Ламсы[776], усмотревшего в сирийской Пешитте воспроизведенное на арамейском учение Иисуса, подхватил и сделал популярным Нейл Дуглас-Клотц[777]. Этот подход сознательно закрепляет в своей основе языковую путаницу, поскольку арамейский и сирийский, несмотря на близкое родство и принадлежность к семитской семье, все же относятся к различным векам и разным регионам. И более того, подход этот совершенно некритично воспринимает Пешитту, сирийскую версию Евангелий. В Пешитту вошли так называемые «раздельные Евангелия», написанные на сирийском в попытке противостоять согласованному «Диатессарону», и переводились они максимально близко к оригинальному греческому тексту, отчего Пешитта часто вводит в сирийский язык эллинизмы, – иными словами, сближает культуры, совершенно вопреки тому, чего пытается достичь обратный перевод. Эта тенденция ярко проявлена в пространных и нелепых добавлениях Дуглас-Клотца к Молитве Господней, которые, по его уверениям, представляют собой переводы на тот самый арамейский, на котором говорил Иисус.
Сирийские источники полезны, когда мы пытаемся проследить пути развития арамейского языка и экзегетических традиций; впрочем, в этом лучше помогут старосирийские Евангелия, а не Пешитта[778]. И в любом случае предположение, согласно которому сирийская версия как таковая отражает тот арамейский язык, на котором говорил Иисус, и потому передает его учение точнее греческих Евангелий, в высшей степени предвзято. Воссоздавая текст по сирийским источникам, Кейси следует достойной традиции, хотя и странно, что в целом он предпочитает старосирийским Евангелиям палестино-сирийский лекционарий и сходным образом цитирует талмудические тексты, упорно не желая обращаться к таргумам. Однако основная методика, рекомендованная им, проста и логична: надлежит разыскать свидетельства буквального перевода с арамейского, сравнивая текст с арамейским языком из свитков Мертвого моря и позднейших источников, а затем перевести текст на идиоматический иудейский арамейский I столетия, не забывая о тенденциях, свойственных Евангелиям, и о том, какая обстановка окружала Иисуса. Эти принципы остаются столь же простыми и ясными, какими были тогда, когда их излагал в своем фундаментальном труде Клаус Бейер[779]; в таком же виде их представляли и мы с Фицмайером.
И панэллинизм, характерный для ряда исследователей-фундаменталистов и «Семинара по Иисусу», и неуемная любовь к Пешитте, овладевшая теми, кто вместо обратного перевода на арамейский предпочитает копировать производный сирийский текст, ясно показывают, почему нам, несмотря на всю трудность задачи, столь необходим истинный обратный перевод на арамейский. С какой бы вероятностью, великой или малой, мы ни приписывали то или иное учение Иисусу, учителю-арамею в иудейском мире, – если мы не можем показать, что это учение соответствует его языку и культуре, мы рискуем не только допустить ошибку в установлении подлинности, но и исказить саму суть мира, окружавшего Иисуса – и, следовательно, суть любой исторической работы. Хотя в связи с изучением Иисуса и таргума на Исаию[780] мне пришлось выучить арамейский, поначалу я стремился заниматься именно экзегезой, не углубляясь в обсуждение принципов обратного перевода как таковых. Не сразу, но я осознал, что без критического обсуждения обратного перевода речений Иисуса мы будем лишь слепо обращаться к греческим текстам или Пешитте. По совету коллег, из которых особенно отмечу Кейси, я обратился к этой задаче в ряде публикаций[781], но работе этой не видно конца, – хотя недавно я и закончил, после ряда переработок, обратный перевод арамейских источников Евангелия от Марка. Однако я не считаю нужным предлагать читателям итоги этой работы по частям: мне хотелось бы показать им все сразу. Вот почему вместо этого я обратился к обсуждению методологических проблем и к еще одной, не столь обширной задаче: обратному переводу Молитвы Господней[782].
Итак, направление мы определили, но прежде чем двинуться дальше, сделаем еще одно предостережение: прежде чем приступать к обратному переводу на арамейский, необходимо прояснить все вопросы, связанные с исходным греческим текстом, и убедиться, что он действительно отражает арамейский источник. В Новом Завете Молитва Господня приведена в двух версиях (Мф 6:9–15, Лк 11:2–4). Из этих двух версия Луки повсеместно считается более ранней по форме – и кажется очевидным, что в Евангелии от Матфея, в сущности, дано не что иное, как комментарий, вплетенный в текст молитвы. Относительная краткость молитвы у Луки привела к тому, что исследователи почти единодушно считают именно эту форму ближе всего к той, какую оставил ученикам Иисус. Некоторые уникальные элементы у Матфея воспринимаются как дополнения к изначальному тексту. «Да будет воля Твоя»[783], – это пояснение к словам «да приидет Царствие Твое», по-видимому, глосса для тех, кто не понимал, что значит «Царствие». Отличия Молитвы Господней в текстах Матфея и Луки ясно показывают, что взаимоотношения Евангелий не свести к простому копированию. Здесь проявлялись и устная память, и влияние общественных сил. Так и «Дидахе» заповедует произносить эту молитву трижды в день: столько раз иудеи произносят амиду. Со временем Молитва Господня обретала все больше литургических черт, и ее развитие от Луки к Матфею и «Дидахе» очевидно. В чем-то версия «Дидахе», с ее завершающим славословием, стоит ближе всего к традиции: то же завершение встречается и в позднейших рукописях Евангелия от Матфея.
Хотя исследователи, по-видимому, справедливо предпочитают версию, приведенную в Евангелии от Луки, необходимы два предостережения. Во-первых, эта молитва, несомненно, изначально сложилась как модель, а не как литургическая формула (которой она стала со временем) – а значит, чем короче ее форма, тем ближе она к оригиналу. Во-вторых, в тексте Луки также содержится очевидная глосса: объяснение арамейского слова «долг», без сомнения, столь же явно вторично, как и аналогичное добавление у Матфея.

Если не считать глосс (очевидно, внесенных в греческий текст для объяснения арамейских слов), в обоих вариантах повторяется одна и та же молитва, а различия показывают, что ранние христиане не считали необходимым заучивать молитву слово в слово. Они понимали, что ее не следует повторять буквально, и помнили, что Иисус особо предостерегал их против молитв, совершаемых напоказ (Мф 6:5–8). Матфей предлагает нам ту версию, которую чаще всего повторяли в его общине, а Лука – версию своей общины, хотя, по-видимому, предназначенную скорее для личных целей (Матфей говорит: «Отче наш», а Лука – просто «Отче!», без указания на то, что к Богу обращается группа.)
Разные версии Молитвы Господней представляют смысл, скрытый в учениях Иисуса, в различных словах и стилях. Вот основная модель или образец, по которому строятся обе версии: Бог именуется «отцом», звучит признание того, что имя его будет священно и Царствие его придет, затем следуют просьбы о хлебе, который Бог подаст на каждый день, о прощении и об избавлении от искушений (то есть, как мы увидим далее, о том, чтобы верующих не вынуждали нарушать верность Богу).
Уже эти элементы позволяют охарактеризовать Молитву Господню (даже не касаясь проблемы ее обратного перевода на арамейский) как типичный образец иудейского благочестия того времени. В том, что Бога называли «отцом», не было на самом деле ничего радикального. А о том, что Бог, словно отец, заботится о молящемся Израиле, свидетельствует еще Пс 67:6[784]. Из того же отрывка мы видим, что связь отцовства Бога и его святости также была вполне естественной, а призыв «да святится имя Божье», известный нам уже по древнейшим раввинистическим молитвенным текстам – он встречается в разных формах того же каддиша, причем само это слово означает «Святым [да будет имя Божье]»), – вполне согласуется, например, с Лев 11:44. То, что святость Бога связывается с прощением грехов и принятием грешников – тоже не исключение: вспомним, например, 50-й псалом. Наконец, сама идея, согласно которой царственный статус Бога равносилен идее «Царствия», которое вот-вот явится на земле, также была широко распространена в арамейских парафразах Еврейской Библии – таргумах, и вполне согласуется с Пс 102:19, в то время как Втор 4:34 и другие подобные тексты открывают нам страх верующего подпасть под испытание, в котором откроется его неверность Богу.
Разумеется, в предыдущем абзаце мы указали лишь несколько случаев аналогичного словоупотребления в Еврейской Библии, проясняющих молитву Иисуса; все они согласуются с традиционным иудейским толкованием Писания. На самом деле о каждом выражении молитвы можно написать целую книгу: взять хотя бы связь Втор 4:34 и Пс 25:2, в свете которой смысл последней строки Молитвы Господней предстает совершенно иначе! Отношения Еврейской Библии с греческим текстом молитвы, представленным и у Матфея, и у Луки, столь многообразны, что никакая иная литература их не повторит.
Согласно молитве, к Богу следует обращаться как к отцу, освящать его имя и приветствовать его Царствие. Именно такая молитва – впрочем, с заметными вариациями в разных временах, местах и традициях, – стала отличительным знаком христианства. Обращение к Богу как к отцу и в то же время призыв освящать его имя указывает на возможную неоднозначность в отношении к Богу. Вначале молящийся как будто бы обращается к Богу без всякого стеснения – но Бог остается для него недостижим: ведь он свят, а люди обычны. Радостное приветствие его Царствия, полное принятие его власти над человеческим миром отметает эту естественную неоднозначность в обращении к Богу. Его сокровенная святость должна вторгнуться в обыденный мир, и сила Бога сама по себе одолевает неуверенность. Царство Божье входит в мир – и молящийся приветствует его приход, как бы ни относились к Царствию остальные.
Так три вступительных элемента молитвы открывают то отношение к Богу, тот способ обращения к нему, который молящийся принимает как свой собственный. Отличительная черта этой молитвы вот в чем: в ней предполагается осознание Бога и связи молящегося с ним – и это повторяется при каждом повторении молитвы. Такое знание о Боге и о себе и воспламеняют в собственной душе люди, когда возносят Молитву Господню. Одна из причин ее действенности в том, что она – не просто набор прошений. Прежде чем о чем-то просить, молящийся обращается к Богу как к отцу, освящает его имя и приветствует его Царствие.
Греческий текст у Матфея и у Луки сохраняет это различие между первой и второй половинами молитвы, используя в первой половине императив в третьем лице, а во второй – императив во втором лице. Хотя такое представление структуры молитвы вполне эффективно, в арамейском различие еще ярче, поскольку в третьем лице используется имперфект, а во втором лице – императив (императива третьего лица в арамейском не существует):

И не подвергай меня испытанию[785].
К подробному разбору этого перевода мы перейдем далее, пока же обратим внимание только на более четкое членение молитвы. Отметим также ее немногословность: выбор слов основан здесь на соответствиях арамейским кумранским текстам и другим источникам того же периода. Сам перевод делался по принципам, о которых я говорил прежде. А теперь подробнее рассмотрим проблемы, связанные со стилем и манерой изложения.
В 1926 году Элеазар Сукеник обнаружил неподалеку от Иерусалима оссуарий с надписью ’abba’ в эмфатической форме[786], – так же как у Павла в Гал 4:6 и Рим 8:15 и в словах Иисуса в Мк 14:36. Слово ’abba’ на оссуарии – явно личное обращение; и о человеке (Досифее) также говорится «отец наш». Однако иногда слово «отец» по-арамейски (как и на иврите) употребляется в значении «исток» или «первопричина». Например, в арамейском тексте Книги Иова, найденной в Кумране, мы встречаем риторический вопрос: «Есть ли отец у дождя?» (Иов 38:28; 11QtgJob XXXI, 5). Этот вопрос важен, поскольку слово ’ab может пониматься здесь и в том, и в другом смысле, – и этот фактор прекрасно засвидетельствован в лексикографии, однако Фицмайер и Харрингтон, представляя свою позицию, совершенно его игнорируют[787].
В Апокрифе Книги Бытия Битенош, отрицая, что вступала в интимную связь со Стражами, говорит своему мужу Ламеху: «Поклянусь тебе Великим Святым, Царем небесным, что от тебя семя это» (1Qap Genar II, 14–15 [§ 29B:2.14–15]). На языке Иисуса это сочетание выражений, связанных со «святостью», «именем» и «царем» в отношении к Богу поражает и наводит на мысль, что Молитва Господня обращает себе во благо особенности словоупотреблений в арамейском языке I века. Глагольная основа q-d-sh в кумранских свитках не встречается, однако здесь надо принять во внимание два момента. Во-первых, находки в Кумране фрагментарны, и хотя для реконструкции арамейского языка I века они неоценимы, ни в коей мере не следует видеть в них исчерпывающий свод языка тех времен. Во-вторых, официальные, даже юридические формулировки Битенош встречаются и в других документах Кумранского корпуса (например, в 4QNoaha ar II, 18 [§ 28.2:18], со словом memar, которое появляется и в таргумах и лежит в основе употребления слова логос в Евангелии от Иоанна)[788] и могут отражать особую значимость фразы, а также свидетельствовать о манере выражения. Ждать, что все палестинцы I века, владевшие арамейским, будут использовать в личной переписке всю известную им лексику – а порой кажется, что именно так и полагает Фицмайер, – это просто нереалистично.
Слово «Царствие», безусловно, представлено широко (в том же Завете Левия, 1QTlevi ar I, 2–3 [§ 20:1.2–3]), и то, что в документах оно еще ни разу не встретилось в сочетании с местоименным суффиксом второго лица единственного числа, должен беспокоить нас не больше, чем отсутствие в известных нам текстах сочетания q-d-sh в глагольной форме. К слову, для формы имперфекта ’atah есть хорошая аналогия в письме Бар Косбы (5/6Hev 49 2 [§ 58:2]), хотя и в мужском роде.
Обратный перевод hab lî yoma’ lahma’ d’ateh обречен вызывать споры, прежде всего связанные с разногласиями вокруг значения греческого слова ἐπιούσιος. Однако по крайней мере hab lî yoma’ lahma’ — «дай мне сегодня хлеб» – вопросов не вызывает, благодаря повсеместному распространению слов «давать» (см. реконструкцию формы императива, hab, у Фицмайера и Харрингтона, § 21:1.15) и «хлеб» и частому появлению слова yoma’. Можно возразить, что здесь надлежало бы появиться и указательному местоимению denah или его синонимам[789]; однако, на мой взгляд, это слово имеет формальный и/или экспрессивный оттенок, которого не требует обстановка для Молитвы Господней. В любом случае все это реконструкции, а не оригинальное прочтение.
Слово ἐπιούσιος (в форме ἐπιούσιον в Мф 6:11 и Лк 11:3) вызывает большие споры, поскольку в греческом языке простая смена ударения определяет, переводить ли его в связи с глаголом «существовать» или глаголом «приходить». Большинство древних толкователей предпочитали второй вариант[790], хотя Ориген признавал, что выбор сложен: сама эта форма в греческом настолько редка, что еще неизвестно, возможно ли вообще принять окончательное решение о ее значении в изначальных текстах Матфея и Луки. Однако задача обратного перевода – по сравнению с задачей определить смысл греческого текста – довольно проста. Поскольку значение греческого ἐπιούσιος двусмысленно, в обратном переводе необходимо найти такую форму, которая при переводе на греческий должна была запутать и смутить экзегетов. Причастие d’ateh — «грядущий» или «приходящий» – вполне удовлетворяет этому условию; оно встречается (стоит отметить, что без частицы d, однако в сочетании с глаголом «быть») в Апокрифе Книги Бытия (1QapGen XXI, 17 [§ 29B:21.17]).
Слово «долг» в значении «грех» – хорошо известный арамеизм, засвидетельствованный в Новом Завете, и оно употребляется так не только по традиции, но и как основополагающая метафора (ср.: Мф 18:23–35). В так называемом Мессианском тексте из Кумрана (4QNoaha ar II, 17 [§ 28:2.17]) это слово появляется в паре со словом, призванным обозначить «грех» (англ. «sin»), что указывает на традицию. Впрочем, странно, что Фицмайер и Харрингтон передают его исключительно английским «guilt» («вина»), не обращая внимания на связь с долгом; так же они поступают и при переводе соответствующего глагола в арамейской версии Книги Иова из Кумрана (11QtgJob XXI, 5 (32:13) [§ 5:21.5]; XXXIV, 4 (40:8) [§ 5:34.4]). Однако в базе данных «Полного арамейского словаря» (Comprehensive Aramaic Lexicon, CAL) ясно указан «коммерческий» характер метафоры. Этот проект, в который я добавил переведенный прежде текст таргума на Исаию, содержит лексикон как опубликованных, так и неопубликованных текстов, – и это полезнейший ресурс, доступный в Сети. Тем, кто интересуется вариациями значений арамейских слов, стоит обращаться не только к словарю Фицмайера и Харрингтона, но и к печатным словарям, и к CAL[791]. Впрочем, Фицмайер и Харрингтон справедливо указывают на разнообразие значений корня sh-b-q («бросать, прощать, разводиться») и приводят соответствующие цитаты[792]; изменение значения в рамках этого лексического ряда, позволяющее сделать так, чтобы глагол применялся к существительному «долг» – «отпускать», «избавлять», «освобождать» (англ. «release»).
Последняя строка Молитвы Господней содержит лишь самую обычную лексику, хотя существительное nisyona’ в значении «испытание» (вместе с соответствующим глаголом) известно нам лишь из CAL, а в кумранских текстах не встречается. Однако имея такое свидетельство и помня о том, что в классическом иврите присутствуют аналогичные существительное и глагол, было бы неразумно утверждать, будто в арамейском языке I столетия этого слова не знали.
Значение слова nisyona’ в арамейском уточняет и корректирует греческое πειρασµός, обычно переводимое как «искушение, соблазн», – отчего некоторые всерьез полагают, будто Молитва Господня отвергает человеческие страсти как таковые. В то же время общеупотребимость слова nisyona’ опровергает еще одно мнение, распространенное среди специалистов, согласно которому это прошение относится к последнему, апокалиптическому суду над миром. Такой взгляд в Новом Завете, несомненно, представлен: скажем, Откр 3:10 обещает, что те, кто сохранит слово Иисуса, будут ограждены от «искушения» (греч. πειρασµος, лат. temptatio) – и в данном контексте речь идет, несомненно, об апокалиптическом суде. Однако самому слову nisyona’ вне апокалиптического контекста приписывать апокалиптическое значение невозможно. Глосса «но избавь нас от лукавого» в Евангелии от Матфея, несомненно, предлагает понимать слово «искушение» апокалиптически, – и в то же время без глоссы однозначного понимания текста не добиться. Как и в случае с фразой о «воле Божьей», версия Матфея поясняет идею, которая могла оказаться сложной для понимания.
Nisyona’ по-арамейски, как и ивр., масах, охватывают более широкий спектр значений и в то же время имеют более личный смысл, чем «искушение» или «(апокалиптический) суд». Хотя из Библии нам известна традиция испытания героев веры, скажем, Авраама (см.: Быт 22:1), известно также, что такие испытания могут направляться против их антагонистов – например, египтян (см.: Втор 4:34; 7:19). Суть молитвы в том, что мы, называя Бога отцом или истоком, просим его никогда не подвергать нас таким окончательным испытаниям, которые могли бы обнаружить нашу неверность. Это не призыв, направленный против наших собственных влечений, не мольба о помиловании на апокалиптическом суде, – это просьба любящих и доверчивых детей, которые не хотят, чтобы хоть что-то разлучило их с Отцом.
Помимо того, что при обратном переводе на арамейский проясняется смысл молитвы, структура ее также становится более очевидна. Говоря о структуре, я имею в виду и метрику оригинального текста. Метрикой и ритмом занимался в первую очередь Марсель Жусс[793], однако в свое время он не мог обратиться к арамейским источникам эпохи Иисуса. Такое направление исследований вполне разумно и полезно, однако возможно лишь на основе вокализованного текста. В своей версии арамейского текста молитвы я обозначаю ударение знаком «/» в строке:
’abba’/
yitqadash/ shemak/
te/tah malkutak/
hab/li yo/ma’ lah/ma’ d’a/teh
ushebaq/li yat hoba/ti
we’al/ta‘aley/ni lenisyon/a’.
Метрика молитвы подчеркивает различие между тремя первыми и тремя последними строками, обозначенное переходом от имперфекта к императиву: лишь в третьей строке ударные слоги разделены, будто в размере «четыре четверти». Кроме того, в метрической структуре молитвы проявляется паттерн: вслед за первой строкой с одним ударным слогом следуют две строки с двумя ударными слогами в каждой. На «перепутье» число ударных слогов удваивается до четырех, затем снова снижается до двух, а в последней строке вновь увеличивается до трех. Такое завершение с переходом от строки с двумя ударными слогами к строке с тремя – это инверсия стихотворного размера семитской элегии, кины́: именно с такой структурой я встречаюсь постоянно, когда перевожу на арамейский тексты Марка с изречениями Иисуса, подразумевающими эсхатологическое торжество.
Хотя в этой статье я уделяю внимание проблемам, связанным с обратным переводом на арамейский, было бы упущением не отметить другие связи с традициями, нашедшими свое отражение в евангельских текстах об Иисусе. Об этих связях я говорил подробно, с исторической точки зрения, в других местах; здесь же хотелось бы, не вдаваясь в исторические изыскания, заметить просто, что такие связи существуют.
В Молитве Господней получают развитие уверения, связанные с тем, как можно воспринимать Бога в мире в качестве царя. Аспекты деяний Бога соответствуют тому, что сказано о Царстве Божьем в Псалтири. Древнеизраильская литература, говоря и о переживаниях в настоящем, и о надеждах на будущее, прославляла «Царство Божье» как деяние самого Бога, как присущую ему власть творить, формировать и судить мир. Как и действия людей, деяния Бога можно отобразить через: 1) время и 2) пространство, а также через 3) цель, 4) предпочтительный способ исполнения и 5) предел. Эти пять «координат» деяний Бога как царя, тесно связанные друг с другом, яснее всего отражены в Псалтири, хотя их можно найти и в других произведениях израильской литературы. Из всего множества наблюдений, которые можно сделать о них, я приведу лишь некоторые.
Во-первых, Царство Божье во всякое время находится за пределами всякого творения, даже за гранью понимания любого живого существа. Вот почему псалмы изображают Царство Божье так, словно оно так близко по времени, как будто находится в настоящем, и все же окончательно (формально говоря, эсхатологично) с точки зрения его полного раскрытия (Пс 95:10):
Рано или поздно все народы узнают истину, воспеваемую и прославляемую сейчас в Храме, – пусть даже это исполнится только в будущем. В 95-м псалме мы слышим, что вся земля призвана воспевать новую песнь Господу, прославлять его и восхвалять его чудесные деяния во всех народах (Пс 95:1–3). Высокий статус Господа как творца небес подчеркивается по контрасту с богами народов (ст. 5): слава и величие его пред лицом его (на небесах), сила и великолепие в святилище его (ст. 6). Поэтому «племена народов» должны рано или поздно признать Господа и принести приношения в его Храм: однажды перед ним вострепещет вся земля (ст. 7–9). В основе этих стихов лежит представление о космическом масштабе последнего откровения Царства Божьего.
Во-вторых, Царство Божье не только относится к «последним временам» – оно превосходит все, что есть в пространстве. И пусть сейчас Израиль возносит хвалу только в Храме, рано или поздно вся земля признает то, что сейчас признается там (Пс 144:10–13):
Все, созданное Господом, призвано благодарить его; но в первую очередь благословляют его верующие. «Могущество страшных дел» Бога, о котором вновь и вновь говорится и поется в Храме, рано или поздно будет признано всем человечеством (Пс 144:6). Псалом 144 предсказывает распространение Царства на всю вселенную, поскольку, по выраженным в нем представлениям, власть Бога уже простирается во всякое место и на всякую тварь. Бог поддерживает падающих и низверженных, насыщает все живущее (ст. 14–16); Господь праведен и во всех своих делах благ (ст. 17; ср.: ст. 7, 9); близок ко всем призывающим его и скоро откликается на их мольбы (ст. 18–20). Поэтому власть его суда распространяется на всех – и на любящих его, и на нечестивых (ст. 20). Последний образ псалма – всякая плоть, благословляющая святое имя Господне (Пс 144:21) – это идеал, на данный момент реализованный лишь в святом месте. Однако отсылка к трансцендентному превращает Храм в образец, которому должно последовать все творение. То, что происходит в одном-единственном месте, в Сионе, однажды станет универсальным и распространится на весь тварный мир.
В-третьих, Царство Божье – это власть справедливости, которая, следуя Божьему замыслу, рано или поздно будет господствовать в мире. Царство Божье праведно и безупречно: если сейчас на свете царит несправедливость – то лишь оттого, что оно еще не пришло к своему исполнению (см.: Пс 9:36–37):
Наказание злодеев – обратная сторона помощи бедным и несчастным. Торжество смиренных, сирот и угнетенных (Пс 9:38–39) требует коренной перемены в судьбах тех, кто творит зло.
Образы Пс 9 – жалобы на алчность и насилие нечестивцев (ст. 22–32, 34), злорадное желание не только победить, но и увидеть их страдания, – глубоко личные. Однако язык личных чувств здесь не замыкается в себе, а используется в более широком контексте. В Септуагинте 9-й псалом представлен как единый, а в еврейском тексте он разделен на два тесно связанных, и каждая строка обоих псалмов (9 и 10) начинается с букв еврейского алфавита, следующих друг за другом по порядку. Такая поэтическая форма, акростих, показывает нам, что Пс 10 необходимо читать в свете Пс 9, в свете которого очевидно, что личный плач символизирует всенародное бедствие: здесь речь идет о конечном торжестве Израиля над неиудейскими народами (ст. 9:6–7). Молящиеся просят Бога действовать так, как ему свойственно: побеждать несправедливость и зло и устранять их на всех уровнях бытия. К Богу обращаются как к царю (см.: 9:8–9; 9:37), с полной уверенностью в божественном суверенитете, вследствие которого все, кто пребывает за пределами Израиля, без колебаний отождествляются с «нечестивцами». Лексика, связанная с царской властью, возникает в этом псалме сама собой, и – явившись однажды – ассоциация с полной победой над врагами Израиля становится постоянной чертой общепринятого представления о Царстве Божьем во всей Псалтири.
В-четвертых, вхождение человека в Царство Божье не гарантировано, поскольку Бог в своих действиях учитывает ответные действия человека и ориентируется на них. Псалом 23 ставит вопрос, центральный для религии Израиля, отраженной в библейской традиции, – и сам же на него отвечает (23:3–4):
Таким образом, «чистота» – это не только ритуальные практики очищения (омовение, воздержание от половой жизни), которым по традиции следовали все восходящие на Храмовую гору, но и безупречность поведения.
Если говорить формально, то сколь-либо отчетливое разграничение нравственных и обрядовых рекомендаций здесь не выражено. Хотя в современном богословии такое разделение (наследие Средневековья) встречается повсеместно, Пс 23 настаивает на том, что чистота достигается в равной мере ритуальным очищением и воздержанием от дурных дел. «Координата» суда, как мы уже видели, утверждает важность нравственного поведения для будущего Царствия, настаивая на том, что окончательное разграничение пройдет именно между праведностью и порочностью. «Координата» чистоты, необходимой для того, чтобы испытать на себе действие Бога, отводит этике неимоверно важную роль в настоящем: поступки человека влияют на его непосредственный доступ к божественному присутствию. Неповинные руки и чистое сердце – вот условия, на которых можно получить благословение и оправдание (Пс 23:4–5), поскольку только так можно встретить Господа в пришествии его (23:7–10). Чистота – это условие (не только физическое или социальное, но и моральное), при котором человеку разрешено находиться в святом месте, единственном, которое останется неизменным, когда придет Царство Божье.
В-пятых, в Пс 46 мы видим, что признание Бога будет распространяться от Сиона: «князья народов» в этом псалме отождествляются с «народом Бога Авраамова» (Пс 46:10)[794]:
Израиль – ядро более крупной группы, признающей Бога Иаковлева. Власть Царства Божьего распространяется из центра на периферию, охватывая и тех, кто находится за границами Израиля. Бог приобрел наследие Иакову, отобрав его у покоренных; однако и они должны восхвалять Бога вместе с Израилем, с радостными восклицаниями и звуками труб (Пс 46:4–6).
Те же аспекты Царства Божьего упоминаются и в проповедях, приписанных Иисусу. Он наставлял учеников молиться Богу так: «Да приидет Царствие Твое» (Мф 6; Лк 11), поскольку надеялся на то, что оно в полной мере явится для всех. Царство Божье выходит за грань пространства – и это его динамическое свойство, о котором Иисус явно говорит в знаменитом речении из Q (Мф 12:28, Лк 11:20): «Если же Я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Вход в Царство и его этическая цель – господствующий образ в знаменитых словах Иисуса о богатстве: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф 19:23–24, Мк 10:23–25, Лк 18:24). Иисусу пришлось решать и другой вопрос: как быть с осквернением, возникавшим при встрече израильтян, приверженцев разных ритуалов, – и он одной-единственной репликой совершенно ясно дал понять, каких действий от верующих ожидает Бог: «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что выходит из него, то оскверняет человека» (Мк 7:15). Наконец, у Марка Иисус, изгоняя торговцев из Храма, произносит слова, также имеющие прямое отношение к протяженности Царства Божьего: «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов – а вы сделали его вертепом разбойников» (Мк 11:17).
Характерно, что в Молитве Господней, где Бог назван ’abba’, строка за строкой перечисляются эти пять сторон царства Божьего: святость (yitqadash shemak), окончательность (tetah malkutak), исхождение из единого источника (hab li yoma’ lahma’ d’ateh), запредельное могущество (ushebak li yat hobati) и суд (we’al ta‘aleyni lenisyona’). Строго говоря, Молитву Господню нужно рассматривать именно как описание различных сторон Царства; я уже рекомендовал воспринимать ее именно так[795]. Однако независимо от того, делаем ли мы вывод о такой связи, факт остается фактом: перед нами система свидетельств, которую необходимо объяснить.
Наконец, наряду с системой аналогий между молитвой Иисуса и приписываемыми ему речениями о Царстве Божьем, молитва соотносится и с теми делами, в которые он, как говорят, вовлекался. Об этой связи я говорил подробно[796], связав структуру молитвы с возрастанием Иисуса как раввина, занятого определенной деятельностью. Безусловно, такой нарратив требует отсылок к контекстуальным проблемам, а они могут увести нас очень далеко от предмета беседы; однако стоит отметить, пока что уделив внимание лишь Евангелию от Марка, что те же самые элементы, которые присутствуют в молитве как смысловые аспекты проповеди Иисуса, составляют и лейтмотив деяний, приписываемых ему: это вопросы, связанные с непорочностью (1:40–45; 7:1–37; 14:3–9), это отклик на приход окончательного Царства, требующий немалых сил (1:14–15; 4:1–41; 10:1–52), это забота о пропитании (6:35–44; 8:1–9), это прощение грехов (2:1–12; 3:28–29), и это предотвращение неверности Богу (14:27–42).
Обратный перевод на арамейский – в случае, если это действительно арамейский соответствующего периода и местности и если переводятся отрывки, изначально, по всей видимости, действительно звучавшие по-арамейски – приводит к логичным итогам. Он позволяет прояснять вопросы, связанные с лексикографией и точным смыслом слов, исследовать поэтику устного выражения (особенно при изучении вокализации) и открывать новые проблемы для более строгого исторического исследования.
Таргумы в изучении Иисуса и Евангелий
То, сколь важны таргумы для оценки Иисуса и Евангелий, становится ясным уже тогда, когда мы оцениваем их цель, происхождение и датировку[797]. В первую очередь таргумы свидетельствуют о том, как те религиозные сообщества, для которых они предназначались, понимали Еврейские Писания, – и не только в плане экзегезы раввинов, но и в обычном, «простонародном» понимании. В той мере, в какой таргумы отражают восприятие Писания в I в. н. э., их материал важен для любого, кто исследует Новый Завет. Однако нужно следить за тем, чтобы точки зрения, изложенные в более поздних таргумах, не воспринимались нами слепо как свидетельства более раннего периода, иначе нам не избежать анахронистических прочтений.
Некоторые трактовки в таргумах ясно указывают на события, произошедшие уже после смерти Иисуса. Пример – таргум на Ис 53:3–9. Приводя здесь его перевод, я, как и в своем издании[798], выделяю курсивом очевидные отклонения арамейского текста от еврейского оригинала. И все же только сравнение с английским текстом Книги пророка Исаии (если не полагаться на свою память) покажет, сколь воинственное мессианское учение передает этот таргум, пусть даже он и скорбит о том, что божественная благодать (Шхина) ушла с горы Сион после поджога, устроенного в 70 году римлянами:
Тогда слава всех царств будет покрыта позором и исчезнет; станут они слабыми и исполненными горя, узри – как муж скорбей, предназначенный для болезней; и как когда лицо Шхины было взято от нас, так и им быть презираемыми и обесчещенными. После умолит он за наши грехи, и наши беззакония ради него прощены будут; ибо мы были ценимы ранеными, наказуемы пред Господом и поражаемы. И он выстроит святилище, оскверненное за наши грехи, преданное за наши беззакония; и учением его мир его возрастет на нас, и в чем прилепимся мы к словам его, грехи наши будут прощены нам. Все мы, как овцы, рассеялись, ушли в изгнание, каждый своим путем; и пред Господом было довольством простить грехи всех нас его ради. Он молит – и дан ответ, и прежде, чем отверзнет уста свои, он принят; сильных из народов он предаст, как агнца в жертву, и как овцу, которая пред стригущими ее безгласна, чтобы не было пред ним никого, кто отверзнет уста свои или изречет слово. От уз и возмездия он приблизит изгнанных наших; чудеса, которые свершены будут для нас в дни его, кто будет способен исчислить? Ибо он удалит власть язычников с земли Израиля; грехи, коими народ мой согрешил, он возложит на них. И он предаст нечестивых геенне, а тех, кто богат имуществом, которое награбили они, – предаст смерти тления, чтобы те, кто творит грех, не упрочились и не говорили о том, чем владеют они, устами своими.
Составитель текста явно исходит из того, что читатели знают о разрушении Иерусалима. Однако комментаторы часто делают то же замечание и в отношении того, как изложена у синоптиков притча о злых виноградарях (см.: Мф 21:33–46 и 22:7; Мк 12:1–12, Лк 20:9–19). Особенно интересно здесь то, что образ виноградника у Исаии (Ис 5:1–7) в таргуме явно соотнесен со святилищем и алтарем на горе Сион. Современные исследователи Нового Завета порой настолько увлекаются вопросом о том, предшествовал ли тот или иной таргум эпохе Иисуса, что упускают из виду простое соображение: возможное влияние таргумов на Евангелия никак не зависит от хронологии. И игнорировать таргумы – значит не обращать внимания на источник, свидетельствующий о катастрофе, которой стало разрушение Храма, о глубоком отвращении к римлянам и вообще к «богатым», а также о необычайно ясном выражении мессианских надежд в период после 70 года. Этот отрывок – пример уровня таннаев в таргуме на Исаию, сочиненном в те же годы, что и большая часть Нового Завета.
Трудности с оценкой точной формы таргумической традиции (или традиций) I столетия должны предостеречь нас и от заявлений, будто мы точно знаем, какой диалект (или диалекты) арамейского языка в то время использовался, – если, конечно, мы не создаем критический обратный перевод. Литература на этом языке, дошедшая до нас, немногочисленна и разрозненна, диалектные вариации очень разнообразны, а местами могло наблюдаться значительное различие между языком устным и письменным. Если судить чисто лингвистически, то очевидно, что арамейские тексты Кумрана (при условии, что они созданы в Иудее) служат подспорьем при обратном переводе лучше каких-либо иных таргумов.
Однако составная природа таргумов позволяет время от времени различить в дошедших до нас материалах тексты, имевшие хождение во времена Иисуса и, возможно, повлиявшие на его учение и/или на воспоминания учеников о его учении. Что бы ни сообщал нам Кумран о языке Иисуса – сведения о его мировоззрении и окружавшей его обстановке зачастую лучше искать в таргумах. Пример такого сохранившегося отрывка – Лев 22:28 в таргуме псевдо-Ионафана: «Народ мой, дети Израилевы! Как милосерден отец ваш на небесах, так будьте милосердны и вы на земле». Эта фраза в таргуме, без сомнения, оригинальна – достаточно сравнить ее с Масоретским текстом; вполне возможно, что ее отзвук звучит в Евангелии от Луки, в так называемой «Проповеди на равнине»: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк 6:36). Поскольку сравнение проводится с таргумом, а иных источников пока не обнаружено, логично предположить, что эта таргумическая традиция была распространена в I веке и повлияла на Иисуса. Конечно, теоретически возможно и то, что это речение принадлежит Иисусу, а затем кто-то неизвестный внес его в таргум. Без сомнения, риторически оно уместнее у Луки, чем в таргуме псевдо-Ионафана, где оно кажется вырванным из контекста. Однако мысль о том, будто кто-то добавил речение Иисуса в таргум на Пятикнижие, авторы которого превыше всего тревожились о сохранении и выражении аутентичной иудейской традиции, кажется неправдоподобной. Более вероятно, что и псевдо-Ионафан, и Лука независимо друг от друга использовали распространенное выражение, нечто вроде пословицы, – ведь оба источника обильно черпают из народной культуры. В конце концов, тот же таргум дважды поясняет суть любви к ближнему (израильтянину или иноземцу) известнейшей максимой: «Того, что тебе ненавистно, не делай» (Лев 19:18, 34 в таргуме псевдо-Ионафана; ср.: Лк 6:31, Мф 7:12). Евангелие от Луки показывает нам, что это изречение восходит по меньшей мере к I в., а таргум псевдо-Ионафана – то, что оно сохранилось и в VII в. Да, таргумическое «эхо» едва ли восходит к словам Иисуса, – однако может помочь нам описать суть, общий тип и истоки этого речения.
Пассаж из Лев 22:28 в таргуме псевдо-Ионафана – это явный пример того, что таргумы могут иметь эвристическую ценность, когда мы стремимся выяснить, какой иудаизм Иисус и его последователи принимали как данность. В приведенном примере таргум, по счастливой случайности, помогает нам лучше понять и иудаизм I века, и Иисуса. Итак, в таргумах можно найти материал, полезный при сравнении с Евангелиями и другими книгами Нового Завета. Недавние исследования чрезвычайно увеличили перечень таких примеров.
Однако теперь мы можем выйти за пределы эвристических сравнений и сформулировать четыре способа, которыми таргумические тексты могут оказать нам помощь в понимании Иисуса и Евангелий. В каждой категории мы приведем лишь несколько примеров, – однако они подтвердят продуктивность таких сравнений и проиллюстрируют те проблемы, с которыми сталкиваемся мы в процессе исследования.
Категория 1: Иисус (в Евангелиях) цитирует таргум
Иногда Евангелия (пусть они написаны по-гречески и ссылаются на греческий вариант Еврейской Библии, Септуагинту) вкладывают в уста Иисуса библейские цитаты, более близкие к таргуму, чем к какому-либо из иных источников, дошедших до нас. В таких случаях знание об этом позволит нам рассмотреть его проповедь в намного более специфическом ракурсе, нежели общее сходство Евангелия от Луки и таргума псевдо-Ионафана. Особенно знаменитый пример такого рода – таргум на Исаию (Тг Ис 6:9), и он к тому же помогает раскрыть смысл одного фрагмента из Евангелия от Марка (Мк 4:11, 12). Слова Марка можно понять в том смысле, что Иисус намеренно говорит притчами, имея ясную цель: чтобы (греч. ἵνα) люди смотрели и не видели, слушали и не разумели, и не обратились, и не были помилованы:
И говорил им: вам дано знать тайну Царствия Божия, а к тем внешним все приходит в притчах; с тем, чтобы [ἵνα] они, смотря, смотрели и не видели; слыша, слышали и не разумели, чтобы не раскаялись, и прощено им не было.
Таргум (в отличие от MT и LXX) говорит и о том, что люди не обретают «прощения» (а не «исцеления») – и это подсказывает, что он может дать ключ к пониманию смысла в Евангелии от Марка. Соответствующая фраза в Таргуме говорит о людях, которые ведут себя таким образом, «что» (арам. d) смотрят и не видят, слышат и не разумеют, что, раскаявшись, будут прощены. По-видимому, Иисус говорил о людях в духе таргума – так же, как позже в Евангелии от Марка и с тем же союзом ἵνα скажет о своей судьбе (ср.: Мк 9:12); он вовсе не стремился быть непонятым.
Итак, в этом знаменитом примере из Евангелия от Марка изначальный арамейский текст с союзом d был переведен на греческий с союзом ἵνα, который может означать либо «с тем, чтобы», либо «так, что». Если верно первое прочтение – Иисус говорит так, чтобы его не поняли, и сознательно мешает тем, кто его не понимает, обрести прощение. Если верно второе, значит, Иисус ссылался на таргум на Исаию, говоря о людях определенного рода – тех, кто не отвечает на его призыв, – и о том, что их ждет. Предпочтительнее второе значение: на это указывает и форма выражения, сходная со строем фразы в таргуме, и то, что в другом отрывке из Евангелия от Марка Иисус говорит о своих собственных последователях как о людях с окамененными сердцами, которые, имея очи, не видят, и, имея уши, не слышат (Мк 8:17–18). Отсылка к Ис 6 становится очевидной в конце обличения: «Как же не разумеете?» (Мк 8:21). Цитируя Ис 6 согласно таргуму, Иисус стремится «пробудить» слушателей, заставить их понять, – и вовсе не намерен вводить их в заблуждение.
«Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф 26:52): образ меча, как и меры (см. далее категорию 3), по-видимому, взят из хорошо известной фразы. Таргум на Ис 50:11 красочно изображает эту сцену:
Узрите, все, кто возжигает огонь, кто берется за меч! Идите, падите в огонь, который разожгли, и на меч, который взяли!
В словах Иисуса мы не видим прямой связи с текстом Исаии (равно как и с любым другим библейским текстом), так что, по всей видимости, здесь – как и в речении о мере – мы сталкиваемся с выражением, которое все прекрасно знали. Тем не менее очевидное сходство лексики и образов относит этот пример к первой категории сравнений.
Последняя строка Книги Исаии в таргуме указывает, кто будет страдать в конце времен, и конкретизирует, где они будут страдать: «А нечестивые будут осуждены в геенне, пока праведные не скажут о них: мы видели достаточно!» (Таргум на Ис 66:24) «Геенна» – то самое место, которое у Иисуса связано со словами: «Червь их не умирает и огонь не угасает» (Мк 9:48; см. также ст. 44, 46 во многих вариантах), взятыми из того же стиха Исаии. В таргуме первая часть фразы читается так: «Вздохи их не умрут». Термин геенна в буквальном смысле означает долину Еннома, граничащую с Кедронской долиной и расположенную напротив Иерусалимского Храма. Однако, поскольку в этом месте идолопоклонники когда-то сжигали людей, принося их в жертву (см.: 4 Цар 16:3; 21:6), царь Иосия, проведя в VII в. до н. э. религиозную реформу, намеренно разрушил жертвенник и осквернил его (см.: 4 Цар 23:10), и «геенной» стали называть место решительного наказания нечестивых.
Термин геенна появляется в Новом Завете, не считая Иак 3:6, лишь в изречениях Иисуса; другие примеры этого слова, восходящие примерно к тому же периоду и позволяющие понять, что оно означало, мы встречаем лишь в псевдэпиграфах (особенно в Третьей книге Еноха) и в раввинистической литературе. Геенна – место огненного мучения для нечестивцев. Однако ни LXX, ни Иосиф Флавий, ни даже Филон такого слова не знают: по-видимому, оно имеет чисто арамейские корни. Как считают, рабби Акиба связывал Геенну с окончанием Книги пророка Исаии (см.: м. Эд 2:10): «Наказание грешников в Гехинноме – двенадцать месяцев, ибо сказано [Ис 66:23]: “Тогда из месяца в месяц… будет приходить всякая плоть пред лице Мое”». Итак, Акиба считает, что наказание в геенне ограничится двенадцатью месяцами; для Иисуса, как и для авторов таргума на Исаию, ужас геенны был отчасти связан с невозможностью определить, сколь долго продлится наказание. «Гехинном» таргума и новозаветная геенна в этом вполне совпадают.
Категория 2: Иисус (в Евангелиях) толкует Писание согласно таргуму
Второй тип сходства не подразумевает общей формы выражения, однако предполагает схожее понимание одних и тех же библейских отрывков в таргумах и в Новом Завете. Пример этого – притча Иисуса о злых виноградарях (Мф 21:33–46; Мк 12:1–12; Лк 20:9–19). Иисус рассказывает о том, как нанятые виноградари избивают и убивают слуг хозяина, посланных за плодами, – и все синоптические Евангелия соглашаются в том, что именно после этой притчи отношения Иисуса с иудейскими властями обострились настолько, что его захотели арестовать. Если иметь в виду символическое значение виноградника в таргуме на Исаию 5:1–7, такая резкая реакция со стороны властей легко объяснима. Виноградник – символ Храма, следовательно, нанятые виноградари в притче Иисуса – это храмовые власти. Они поняли, что притча направлена против них. Как в Евангелии от Матфея (Мф 21:33), так и в Евангелии от Марка (Мк 12:1) слова об ограде, которой обнесен виноградник – это отсылка к Книге пророка Исаии (Ис 5:2). Впрочем, здесь она связана со стихом из LXX, и у нас нет права уверять, будто евангелисты хотя бы знали о содержании таргума. Скорее, сохранилось воспоминание об отсылке к пятой главе Книги пророка Исаии; в таргуме, в отличие от других версий, объясняется, почему священников, противостоявших Иисусу, эта притча привела в особую ярость.
Категория 3: Иисус (в Евангелиях) использует фразы, характерные для таргумов
Третий тип сходства касается звучащих в Новом Завете фраз, свойственных таргумам. Лучший пример – центральная категория богословия Иисуса: Царство Божье, о котором в таргумах говорится также как о «Царстве Господнем» (см.: таргум Онкелоса: Исх 15:18; таргум Ионафана: Ис 24:23; 31:4; 40:9; 52:7; Иез 7:7; Авд 21; Зах 14:9). Первое использование этого выражения в таргуме на Исаию (Ис 24:23) связывает теологумен о Царстве Божьем с самооткровением Бога на горе Сион, где его явление должно стать праздником для всех народов (см.: Ис 25:6–8). Связь Царства с образом праздника можно сравнить с Мф 8:11 и Лк 13:28–29, где говорится, что многие придут со всех концов земли и возлягут на пир с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Божьем.
То, как повлияли на Иисуса фразы из таргумов, поможет прояснить вопрос об одной из самых поразительных черт его богословия: он решительно утверждает, что Царство Божье представляет собой активное, даже насильственное вмешательство в человеческие дела. Таргум на Исаию дает нам богословский прецедент для такого понимания, впоследствии развитого Иисусом. Масоретский текст говорит о том, как Бог спускается с горы Сион, подобно льву, не боясь пастухов, которые пытаются уберечь от него желанную добычу. Этот поразительный образ прямо связывается с Царством Божьим в таргуме на Исаию (Тг Ис 31:4):
Как лев, как молодой лев ревет над добычей своей, а когда снаряжают против него пастухов, не взволнован криками их и не сдержан многоголосием их, – так Царство Господа сил явлено будет, чтобы устроиться на горе Сиона и на холме Его.
Этот отрывок попросту опровергает изжившее себя обобщение, согласно которому в иудаизме о Царстве Божьем говорили как о чем-то статичном и неизменном, а его динамический аспект – новаторская идея Иисуса. Иисус не первым начал говорить о динамизме Царства – но его особое достижение состояло в описании того, как именно приходит Царство.
Таргум на Иова гласит, что Бог посадит праведников «на престол царства Своего, с признанными царями» (Тг Иов 36:7); здесь напрашивается сравнение с Лк 22:28–30 и Мф 19:28. Мотив вхождения в царство и совместного правления выражен здесь очень ярко. Для проповеди Иисуса характерен акцент на этических условиях, необходимых для того, чтобы войти в царство (см.: Мф 19:16–30 в целом, вместе с параллельными местами).
«Той мерою, какой мерил ты, отмерят и тебя», – фраза из таргума на Исаию (Тг Ис 27:8); разумеется, сразу заставляет вспомнить удивительно похожее речение Иисуса: «Какой мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф 7:2; ср.: Мк 4:24). Однако в таргуме на Исаию она относится к одному человеку, угнетателю Иакова, а не к обобщенной группе, как у Иисуса. Похожий афоризм, с использованием третьего лица, встречался в раввинистической литературе довольно часто (см., напр.: вав. Сота 8b; Быт 38:25 в таргуме псевдо-Ионафана), так что следует предположить, что перед нами арамейская пословица, которую использовали и Иисус, и метургеман, переводивший Книгу Исаии. Здесь перед нами случай, когда, несмотря на близкое сходство слов, зависимости одного изречения от другого не выявляется.
В категории сравнений третьего типа можно упомянуть и другие случаи обращения к словам из таргума на Исаию. Выражение «мамона обмана» из этого таргума, разумеется, не уникально – параллели ему встречаются и в раввинистической, и в иной иудейской литературе, однако таргум на 1 Цар 8:3; 12:3; таргум на 2 Цар 14:14; таргум на Исаию 5:23; 33:15 предлагают нам аналогию с тем смыслом, в котором употребляется это слово в притче Иисуса о неверном управителе (Лк 16:9), поскольку во всех этих случаях речь идет о подкупе. В любом случае, о «мамоне» говорят и таргумы, и Иисус. «Люди ищут ответа у своих идолов, живые – у мертвых», – в таргуме на Исаию (Тг Ис 8:19) эта фраза звучит как нескрываемый упрек, но, возможно, именно эхо ее заключительных слов звучит в язвительном вопросе, обращенном к женщинам у гробницы Иисуса (Лк 24:5). Безусловно, такие моменты больше связаны с манерой выражения, а не с содержанием – и все же они поразительны.
Кроме того, в Евангелии от Луки Иисус в синагоге словно бы цитирует пассаж из Ис 61 (Лк 4:18–19), но если вглядеться пристальнее, оказывается, что его слова – это сочетание нескольких пассажей и тем из Книги Исаии. Среди них Ис 42, глава, в которой таргум (Тг Ис 42:3, 7) в первую очередь говорит о бедных, слепых, узниках, – и именно их перечисляет в своей «цитате» Иисус. Во время крещения Иисуса с небес доносится глас, сообщающий, что в нем «благоволение» Бога (Мф 3:17, Мк 1:11, Лк 3:22); в таргуме на Исаию о Боге говорится, что он благоволит к Израилю или Иакову (Тг Ис 41:8–9; см. также: Тг Ис 43:20; 44:1), а также к Мессии (Тг Ис 43:10), в то время как Масоретский текст сообщает лишь, что все они избраны Богом. Сходным образом и идиома «воля Божья», гласящая, что Бог к чему-то благоволит (или не благоволит), встречается и в Евангелиях (Мф 18:14), и в таргумах (Тг Соф 1:12).
Евангелие от Иоанна в дискуссиях, посвященных родству Евангелий с таргумами, упоминается нечасто; однако Мартин Макнамара привлек внимание к примечательному сближению[799]. Форма выражения в обещании Иисуса «приготовить место» для своих последователей (Ин 14:2) сходна с лейтмотивом таргумов на Пятикнижие: Бог или его Шхина готовят Израилю место для лагеря или отдыха. Макнамара указывает, что в Масоретском тексте этими словами передаются самые разные выражения иврита, и тем самым их надлежит расценить как свойственные таргумам. Безусловно, употребление этого выражения у Иоанна не столь специфично, чтобы сделать уверенный вывод о связи с таргумами; однако сближение все же примечательно.
Категория 4: Иисус (в Евангелиях) развивает темы таргумов
Тема последствий для тех, кто глух к гласу пророков, звучала как у Иисуса, так и в иудейской традиции, в том числе в таргуме на Исаию; однако Иисус выразил и требование, основанное на уникальном опыте его последователей (Мф 13:17; ср.: Лк 10:24): «Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и желали слышать, что вы слышите, и не слышали». Убеждение в том, что новый опыт переживания Бога требует и нового отклика, отражено и в таргуме на Исаию (Тг Ис 48:6а): «Вы слышали: то, что открыто вам, открывалось ли кому-либо из людей? И вы не возвестите о том?» Скорее всего, зависимости здесь нет, однако тематическая связь тем не менее достойна внимания.
Таргум на Исаию говорит о «праведных, взалкавших учения, как голодный человек алчет хлеба, и слов закона, которых они алчут, как жаждущий человек алчет воды» (Тг Ис 32:6). Это истолкование голода и жажды напоминает нам Иисуса, представленного в Евангелии от Матфея и благословляющего алчущих и жаждущих праведности (см.: Мф 5:6). Однако такое сравнение не распространяется на Иисуса, которого мы видим в Евангелии у Луки (ср.: Лк 6:21), и это заставляет предположить, что форма выражения, представленная в Евангелии от Матфея, возникла постепенно, по мере того, как слова Иисуса передавались из уст в уста под влиянием истолкования, принятого в таргумах. Сходным образом, взглянув на то, как грешники и изгнанники сравниваются в таргуме с хромыми, мы, возможно, яснее представим смысл Мф 21:14–15 (см.: 2 Цар 5:8, Ис 35:6, Соф 3:19, Мих 4:6–8, все – в таргуме Ионафана[800]). Возможно, стоит упомянуть и слова «Блаженны вы, праведные» в таргуме Ионафана на 2 Цар 23:4, вместе с удивительной параллелью из таргума на Иеремию (Тг Иер 23:28b), на которую обратил внимание Роберт Хэйворд: «Узри: как отделяют мякину от зерна, так и нечестивых отделяют от праведных, говорит Господь»[801]. Тот же образ появляется в проповеди Иоанна Крестителя (Мф 3:12) и в притче Иисуса (Мф 13:30). (Связанный с ним мотив обращения с мякиной см.: Мф 3:12; 13:30; Лк 3:17; Тг Ос 13:3; Тг Соф 2:2). Быть может, еще более поразительно выражение «исполнители правды», которое появляется в таргуме на Иеремию (Тг Иер 2:2), в Евангелии от Иоанна (ср. рус.: «…поступающий по правде», Ин 3:21) и в Первом послании Иоанна (ср. рус.: «…поступаем по истине», 1 Ин 1:6). Существует и более пространная, хотя и не столь точная аналогия между сетованиями Иисуса на «род лукавый и прелюбодейный» (см.: Мф 12:39; 16:4, Мк 8:38) и сходной характеристикой в таргуме на Исаию (Тг Ис 57:3). А кроме того, Иисус называет грех «долгом» (см.: Мф 6:12; 18:23–35), и эта манера, по-видимому, свойственна и таргумам.
В отличие от случаев, где таргумы дают примеры традиций, повлиявших на Евангелия, фраза из таргума на Иеремию (Тг Иер 33:25), по мнению Хэйворда, противоречит христианской вере в то, что Богу предстоит стать причиной гибели нынешних неба и земли. Из сходных случаев можно отметить перевод в таргуме на Осию: «…из Египта вызвал сыновей Моих» (Тг Ос 11:1). Здесь отрывок изменен по сравнению с Ос 11:1, где применено единственное число: «…из Египта вызвал сына Моего», – а ведь этот текст долгое время служил для христианства свидетельством истины (см.: Мф 2:15). Разумеется, мы не можем показать, что в данном случае фраза в таргуме – это отклик на использование пассажа как свидетельства истины; однако стоит отметить, что текст таргума устраняет возможность толкования, принятого у христиан. Быть может, из тех же соображений в таргуме на Захарию не упоминается ни о тридцати сребрениках (Зах 11:12), ни о «горшечнике» (Зах 11:13, ср.: Мф 27:3–10), а также слова о «Нем, Которого пронзили» (Зах 12:10; ср.: Ин 19:37, Откр 1:7). С другой стороны, таргум на Захарию (Тг Зах 14:21) говорит о времени, когда в Храме не будет ни одного «торговца» (ср.: Зах 14:21, где сказано: «…ни одного Хананея»); быть может, эта фраза предшествовала недовольству Иисуса в Евангелии от Иоанна (Ин 2:16). Кроме того, предполагали, что неожиданный перевод Книги пророка Малахии: «Если ты ненавидишь ее, отпусти [досл.: разведись. – Прим. ред.]» (Мал 2:16), противоречащий прямому смыслу еврейского текста («Но Он ненавидит развод»), направлен против более строгого христианского учения о браке (см.: Мф 5:31–32; Мк 10:2–12; Лк 16:18; Рим 7:2–3; 1 Кор 7:10–11).
Заключение
Первый наш вывод будет категорическим и негативным. Сравнения второго типа – при котором мы ищем случаи, когда Новый Завет и таргумы одинаково интерпретируют в прямом смысле один и тот же библейский текст, – составляют ничтожнейший процент из всех выделенных нами категорий. Это решительно подтверждает тезис, ставший одной из тем нашего исследования: окончательно, в целостной литературной форме, таргумы сложились позже I в. н. э. В противном случае подобное буквальное сходство между ними и Новым Заветом встречалось бы куда чаще.
Это может показаться парадоксальным, однако сравнение первого типа, связанное с реальной формой выражения (в толковании одного библейского отрывка или в более общем утверждении) – демонстрирует более тесные связи между таргумами и Новым Заветом. Почему? И более того, в каждом случае перед нами предстают речения Иисуса, связанные с ключевыми темами его учения (прощение, насилие, геенна). Очевидно, в таргумах излагаются традиции, оказавшие сильное влияние на евангельскую традицию в период ее формирования. Однако после того, как Евангелия появились в их греческой форме, влияние таргумов практически исчезло (вот почему наш второй, буквальный тип сравнения дал так мало результатов).
Эту сложную связь, в которой таргумы отражают традиции тех времен, когда формировался иудаизм, в текстах, чья литературная форма сложилась относительно поздно, яснее всего подтверждает третий тип сравнения. Здесь мы находим отзвуки многих известнейших изречений Иисуса: о Царстве Божьем и о престолах, уготованных праведникам; о мере, которою отмерено будет и тому, кто ею мерит; о мамоне; именно здесь Иисус цитирует Ис 61; именно здесь звучит выражение «приготовить место». Однако такое сравнение (в отличие от первого типа) не ограничено фразами Иисуса. Мы встречаем и другие характерные обороты – о благоволении Божьем; о тех, кто ищет живых среди мертвых. Это ставит любопытные вопросы о том, каким на самом деле был характер связи таргумов и общин, создавших Евангелия; впрочем, само наличие такой связи можно постулировать уже сейчас.
Наконец, четвертый тип сравнения содержит множество пассажей. Все их здесь перечислить невозможно, но спектр очень поучителен. Это слова Иисуса об откровении, скрытом от пророков, но явленном его ученикам; об алчущих и жаждущих праведности; о божественном суде, подобном отделению мякины от зерна; есть здесь и различные характеристики праведных и грешных; именно здесь род нынешний назван «лукавым и прелюбодейным»; именно здесь грех понимается как некий долг. Хотя необходимо помнить, что эти сравнения не касаются типичных выражений, взятых из таргумов, сам факт частичных совпадений означает, что эти фразы ценны для понимания Нового Завета. Мы видим, что при всем разнообразии датировок, предполагающих разную степень удаленности от I столетия, таргумы содержат материал, созвучный некоторым из самых ранних материалов Нового Завета.
В ходе всех этих исследований необходимо помнить, что письменная раввинистическая литература, как правило, создавалась спустя несколько веков после эпохи Иисуса. Некоторые исследователи Нового Завета на этом основании заявляют, что раввинистические источники вообще бесполезны для экзегезы. Должен сказать, на мой взгляд это странный аргумент. Стремясь лучше понять Новый Завет, экзегеты постоянно обращаются к позднейшим римским историкам – Тациту и Диону Кассию; к позднейшим эллинистическим авторам – Филострату и Афинею; к позднейшим христианским писателям – Иустину Мученику и Евсевию; к позднейшим гностическим источникам – таким как Троевидная Протенойя или Трактат о происхождении мира. (Эти примеры я выбрал, поскольку они широко цитируются – а время, минувшее от эпохи Иисуса до их дней, вполне сравнимо с тем, какое отделяет эту эпоху от создания Мишны, Талмуда и таргумов.) В случаях, не связанных с раввинистическим иудаизмом, техника обратной экстраполяции от литературных свидетельств считается вполне приемлемой. Когда-то иудейские источники по каким-то догматическим соображениям исключались из рассмотрения; а теперь такое чувство, что только к ним применяется своего рода хронологический фундаментализм. Во всяком случае, ни один специалист не станет всерьез утверждать, будто раввинистические источники были попросту придуманы авторами в тот самый период, когда им придавали письменную форму. Их наследие передавалось и устно, и письменно, и оно восходит еще ко временам, предшествующим Новому Завету. Безусловно, как и при изучении любой древней литературы, здесь необходим критический подход, позволяющий отличить более поздние материалы от более ранних, – но это обычное дело, и исследователям к такому не привыкать.
Иисус и политика в Римской Палестине
Ричард Хорсли
Одной из важнейших черт Принстонской конференции стало то, что в ее ходе вступили в диалог сторонники различных взглядов на поиск исторического Иисуса. Из выступлений и обсуждений стало очевидно, что участники ее понимают под «историческим Иисусом» несколько различных, хотя и частично совпадающих тем. Для некоторых ключом к проблеме остается давняя дихотомия: Иисус истории – Христос веры. Для других дискуссия об историческом Иисусе, как кажется, превратилась в способ переформулировать традиционную христологию (учение о личности и делах Христа). Однако, несмотря на различные мнения о том, чего же мы ищем в историческом Иисусе, большинство участников по-прежнему мыслят в терминах стандартного дискурса новозаветных исследований. Быть может, ничего другого не следовало и ожидать. Поиск исторического Иисуса возник как особый подраздел западноевропейских новозаветных исследований – а сами эти исследования, будучи разделом современного западного богословия, унаследовали от него и «парадигму» (или «парадигмы»), и набор исходных аксиом, и понятийный словарь.
При подготовке этой статьи стало очевидно, что исследователи-новозаветники, как правило, стремятся избегать политических вопросов – будь то историческая ситуация в Римской Палестине времен ранней империи или вопрос о том, каким образом политика того времени могла влиять на Иисуса и как мог в нее вовлекаться он сам. Исторически это вполне объяснимо. В XIX веке исследования исторического Иисуса, о которых рассуждал Альберт Швейцер, по большей части представляли собой непрерывную реакцию на политические подтексты «Фрагментов» Реймаруса, опубликованных Лессингом[802]. Однако, прежде чем обращаться к пространному историческому обзору Швейцера, можно вспомнить, что мы читали и над чем размышляли, скажем, в 1960-х – 1970-х годах. Многих исследователей Нового Завета – в том числе и некоторых наших наставников – глубоко взволновала книга «Иисус и зелоты», которую опубликовал Сэмюель Брэндон, историк религии, чужак в мире библейских исследований[803]. Быть может, еще сильнее западных ученых, исследующих Новый Завет, встревожила связь антиколониальных движений и устроенных на Западе студенческих манифестаций с требованиями к ученым и университетам раскрыть свое отношение к антиколониальным программам. Оскар Кульман, признанный авторитет, прежде рассуждавший о Новом Завете и государстве без резкой полемики[804], и Мартин Хенгель, незадолго до того представивший синтетическую реконструкцию движения «зелотов»[805], немедленно выпустили брошюры, решительно заявив, что Новый Завет не дает нам никаких поводов считать Иисуса в каком бы то ни было смысле «революционером»[806]. В их трудах мы видим, как интерпретаторы Нового Завета изо всех сил отрицали какую-либо связь деятельности Иисуса с политикой, – из опасения, что его примут за революционера. Но в этом примере заметно и другое: крайнее противопоставление религии и политики в изучении исторического Иисуса.
Эта область, как часть новозаветных исследований, не одинока в своем стремлении отделить религию и культуру от других сфер жизни. Новозаветная библеистика, как и многие другие гуманитарные науки, следует западным культурным канонам, сложившимся после эпохи Просвещения и Французской революции. Религия и политика в них понимались как «абсолютно разные вещи», не связанные друг с другом даже институционально, – согласно принципу «отделения Церкви от государства», воплощенному в некоторых странах Запада. В то время как индустриальная революция, а затем развитие науки и техники угрожали устранить из жизни все человеческое, придав ей подобие механизма, новые гуманитарные дисциплины – скажем, исследование национальных литератур (английской, французской, немецкой и т. д.) – создавались и развивались отчасти (а может быть, и по большей части) именно как попытка противопоставить этому какое-то гуманизирующее влияние. В конце XX века критически настроенные литературоведы заговорили о том, что, например, классические английские романы XIX века (да, в этом была своя ирония) воспринимались и исследовались прежде всего с эстетической стороны – а того, что семьи главных героев нажили свои состояния за счет эксплуатации предприятий и развивающихся отраслей колоний, никто не замечал[807].
На протяжении последних лет пятидесяти некоторые из тех, кто стремился истолковать Иисуса, уделяли внимание общественной значимости и статусу как самого Иисуса, так и тех, к кому он обращал свою проповедь. С 1960-х и по 1980-е годы повсеместно распространилось убеждение, будто Иисус служил в первую очередь сборщикам податей, блудницам, беднякам, – словом, «маргиналам», занимавшим самый низ социальной лестницы[808]. Однако интерес к маргиналам вдруг резко сходил на нет, когда речь заходила о серьезном историко-социологическом исследовании, которое бы непременно показало, что в традиционном аграрном обществе огромное большинство людей едва сводило концы с концами. В последующие десятилетия, особенно среди либеральных североамериканских интерпретаторов, большую популярность приобрело еще одно мнение, гласившее, что «суровые» речения Иисуса были обращены прежде всего к тем немногим «радикалам», которые ради него покинули семьи и родные дома и отправились странствовать[809]. Обе эти интерпретации удачно сплелись с применением структурно-функциональной социологической модели, размещавшей людей по различным социальным «стратам»[810]. Таким образом, учение и служение Иисуса по-прежнему понималось как аполитичное (религиозное), обращенное к маргиналам и «отбросам общества», с результатами, важными для социальной системы в целом – а именно действующее как своего рода предохранительный клапан, который предотвращал более серьезные общественные проблемы.
Должный подход к исторической личности
Изучение исторического Иисуса, как подраздел новозаветных исследований, входящих, в свою очередь, в христианское богословие, обычно исходит из того, что христианство – это религия, которая родилась в недрах другой религии, иудаизма, и затем отделилась. Считается, что это происходило в определенной последовательности: Иисус провозглашал Царство Божье и творил чудеса, был распят, а затем, после его воскресения, пасхальная вера его последователей привела к возникновению в Иерусалиме нового движения (Церкви), которое распространилось как среди иудеев, так и среди неевреев, и постепенно сделалось новой религией – христианством. Поскольку исследователи Иисуса ведут свой анализ и интерпретацию в рамках этой схемы и общего дискурса новозаветных исследований, вопросы политики (и экономики) в поле их зрения, как правило, не попадают. Однако современные исследования в ряде смежных областей, а также несколько важных теоретических соображений побуждают пересмотреть прежние аксиомы, предположения и подходы – и охватить больше, чем мнимо отделенное религиозное измерение исторической реальности.
Чтобы исторический Иисус не оставался пленником библейских и богословских штудий, необходимо задать о нем те же вопросы и применить к нему тот же подход, какой мы применяем к другим деятелям, получившим известность как вожди движений или участники важных исторических событий. Это означает, прежде всего, критическое использование источников и рассмотрение нашего «героя» в историческом контексте, в том числе и во взаимодействии с другими. Далее: почти любой, кто обретал историческую значимость, был вовлечен в серьезный конфликт с другими историческими деятелями и/или институтами. И еще: вопреки повсеместно распространенному на Западе убеждению в том, что религию следует отделять от политики, – невозможно отделить религию от политики и экономики, рассматривая значимые исторические фигуры в историческом контексте.
Эти вопросы и этот подход можно проиллюстрировать на примере Мартина Лютера, о котором мы, как правило, вспоминаем, когда речь заходит о совмещении «светской» и религиозной истории. Его считают важнейшим из предводителей протестантской Реформации и, следовательно, значимой фигурой в истории христианства. В то же время он – важный деятель общей европейской истории периода Реформации и Ренессанса. Лютер был монахом и библеистом; одно из наиболее известных его деяний – «95 тезисов», вывешенные на дверях церкви в Виттенберге – стало акцией сразу и «религиозной», и «политической». Церковь в конце Средних веков была крупнейшим землевладельцем и политико-экономической силой. Со «светскими» князьями ее связывали сложные отношения, а порой она вступала с ними в конфликты. Лютер заключал союзы с некоторыми из этих князей, что обеспечило его зарождающемуся реформистскому движению (или движениям) политическую власть и позволило изменить ход истории. Однако, столкнувшись на юго-западе Германии с более широким народным движением, требовавшим включить в программу реформ преодоление экономического неравенства, Лютер обратился к князьям с призывом «нещадно истреблять эти мужицкие толпы воров и грабителей». Важно изучать Лютера как богослова и исследовать его вклад в историю христианской мысли. Однако исследование «исторического Мартина Лютера» неминуемо должно включать в себя политику Европы начала XVI столетия и участие Лютера в ней.
По-настоящему полное исследование исторического Иисуса потребовало бы многих томов. Объем статьи позволяет мне лишь высказать кое-какие мысли и дать к ним ряд иллюстраций. Я предлагаю кратко рассмотреть и критически оценить то, что сообщают наши письменные источники об историческом контексте и о свершениях Иисуса в той обстановке, в которой политика и религия были неотделимы друг от друга. На мой взгляд, первейшая наша задача при исследовании исторического Иисуса в контексте – именно историческое исследование. Я принадлежу к тем ученым, которых настораживает заимствование схем и моделей иных дисциплин, – хотя, разумеется, эти дисциплины могут научить нас обращаться к источникам с более точными и глубокими вопросами. И мой анализ основан прежде всего на критическом прочтении источников, в которых я нацелен рассмотреть политико-экономико-религиозные структуры и движущие силы.
Религия, политика, экономика. Источники о реалиях
Основные источники, представляющие исторический контекст жизни и свершений Иисуса, – это исторические труды Иосифа Флавия, богатого иудейского священника, а затем вольноотпущенника при дворе римских императоров из династии Флавиев. Важны и более ранние иудейские тексты: Книга Даниила; Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова; «Псалмы Соломона», а также ключевые тексты Кумранской общины, найденные среди свитков Мертвого моря. Все эти тексты созданы иудейской интеллектуальной элитой и выражают ее точки зрения и ее интересы. Современные исследования показали, что грамотность, а значит, и возможность создавать и использовать свитки, в древней Палестине ограничивались в основном кругом книжников, получавших образование для того, чтобы служить советниками и распорядителями храмовой власти в Иерусалиме (некоторые из них, впрочем, служить не желали и в знак протеста удалялись в пустыню Иудейскую)[811]. Интенсивные исследования найденных в Кумране иудейских текстов, впоследствии вошедших в Еврейскую Библию, показали, что во времена Иисуса много текстуальных традиций (версий), по-прежнему продолжавших развиваться, существовали наравне друг с другом не только в Кумране, но и (возможно) среди иерусалимских книжников[812]. Многочисленные списки других книг, найденные в Кумране, показывают, что такие тексты, как Книга Юбилеев или Книга Еноха, пользовались у книжников не меньшим авторитетом, чем многие сочинения, позднее ставшие частью Еврейской Библии. Свитки были не только громоздки, но и дороги, и простые неграмотные люди в любом случае не смогли бы их читать: грамотой в иудейском обществе владели, за редчайшим исключением, только книжники. И потому неясно, в сколь великой мере простой народ знал содержание «Писаний». Иосиф Флавий, с опорой на источники более ранней элиты, пишет в основном о правителях, как иудейских, так и римских, и о событиях, с ними связанных; простых людей он откровенно презирает и обращает на них внимание лишь тогда, когда они доставляют неприятности властвующей аристократии.
В этих источниках не только нет «христианства», «раннего» или какого-либо иного, – в них трудно различить даже идею «иудаизма» (в его современном понимании). Это искусственное понятие лишь обобщает и затемняет куда более точные указания наших источников на различных людей, группировки и учреждения иудейского и галилейского общества и на их (политико-экономико-религиозное) взаимодействие друг с другом и с римскими властителями. Но мы не станем исходить из такого абстрактного искусственного конструкта, как «иудаизм», пусть даже такое представление все еще имеет влияние в авторитетных библейских исследованиях. Вместо этого мы обратим более пристальное внимание на источники в поисках указаний на исторические реалии и уделим внимание ключевым моментам: нас будут интересовать Храм и властвующая в нем священническая аристократия; празднование иудейской Пасхи; региональные различия; и сельские общины как основная форма социально-экономического бытия большинства иудеев и галилеян.
Иерусалимский Храм и правящая в нем аристократия, высшее священство, фигурируют почти во всех наших источниках как господствующий политико-экономический и религиозный институт иудейского общества. Религиозный – постольку, поскольку священники совершали жертвоприношения Богу на алтаре и распоряжались всем на религиозных праздниках. Однако Храм и высшее священство были и политическим институтом – в той мере, в какой первосвященники управляли иудейским обществом, – и экономическим, в той мере, в какой принесение жертв, а также сбор десятины и иных подношений, поддерживали священников и экономику Храма (см.: Сир 50). После того как римляне поставили Ирода, военачальника и властного лидера, царем над страной, он использовал Храм и священство как орудия своей власти и затеял масштабную реконструкцию храмового комплекса[813]. После смерти Ирода римляне управляли Иудеей уже через Храм и священническую аристократию. Первосвященников (как сообщает при каждом удобном случае Иосиф Флавий) назначал римский наместник, и священническая аристократия собирала с народа подати кесарю (И. В. II, 17.1). Но даже в функционировании Храма как инструмента имперского правления политико-экономические стороны сочетались с религиозными: священники регулярно приносили в Храме жертвы за Рим и кесаря (И. В. II, 10.4; 17.2; Пр. Ап 2.77).
Как и сам Храм, празднование главного торжества – иудейской Пасхи – являет не только неразделимость религии и политики, но и то, как именно приверженность абстрактным искусственным конструктам, объединенным под общим названием «иудаизм», затмевает политику и политические конфликты. В дни Пасхи праздновали освобождение от египетского ига владык-иноземцев, положившее начало Израиля как народа, призванного жить независимо, под прямым правлением Бога. Изначально израильские семьи праздновали Пасху в родном доме. Однако еще за много лет до описываемой нами эпохи в целях централизации политико-религиозной власти празднование Пасхи перенесли в Иерусалим, и теперь паломники, приходя на праздник в Храм, несли туда свои подношения. Так Пасха стала ключевым источником доходов для храмовой власти. Но в то же время это был народный праздник освобождения от владычества чужаков, – и в те годы, когда народ подпал под прямое владычество римлян, он превратился в «праздник со слезами на глазах». Как повествует Иосиф Флавий, празднование Пасхи всегда грозило перерасти в беспорядки, и римские наместники, как правило, в праздничные дни выставляли у входа в Храм когорту вооруженных солдат (И. В. II, 12.1; И. Д. XX, 5.3; ср.: Мф 26:5). Однако солдаты, призванные предотвращать или подавлять «бунт», самим своим видом напоминали празднующим об их унизительной подчиненности Риму, – отчего возможность конфликта только усиливалась.
Мало того что наши источники ничего не сообщают об «иудаизме» в Галилее, – возможно, эта искусственная концепция еще и скрыла то, о чем источники говорят. Прежде всего в трудах Иосифа Флавия – впрочем, не только в них – мы видим, что между историей Иудеи и Галилеи имелись значительные различия. Для исторического Иисуса они могли оказаться важными: как гласят синоптические Евангелия, большую часть своего служения, предшествующего конфликту с первосвященниками и распятию в Иерусалиме, он провел в Галилее. Если Иудеей с конца VI века до н. э. по конец I века н. э. управляла храмовая власть, то Галилея оставалась независимой, пока ее в 104 г. до н. э. не захватил священнический род Хасмонеев (И. Д. XIII, 11.3). Затем, после ста лет иерусалимского владычества, в 4 г. до н. э. Галилея досталась тетрарху Ироду Антипе и, видимо, в дни Иисуса Иерусалиму не подчинялась (И. В. II, 6.3; И. Д. XVII, 11.4). Евангелия – это единственные наши источники, в которых фарисеи и некоторые книжники, служившие советниками и представителями иерусалимской храмовой власти, активно действуют и в Галилее.
Точная природа культурной и групповой идентичности «галилеян» не вполне ясна. В литературных источниках трудно отыскать какие-либо указания на то, что простой народ Галилеи был иудейским. Иосиф Флавий, за редкими исключениями, определяет людей по региону, в котором они живут: в Иудее – иудеи, в Самарии – самаряне, в Галилее – галилеяне. Повествуя о том, как Хасмонеи захватили Галилею, он пишет, что царь-первосвященник Аристобул позволил жителям покоренной области остаться на своей земле с условием, что они согласятся «жить по законам иудейским» (И. Д. XIII, 11.3; видимо, речь идет прежде всего о законах, регулирующих отношения с храмовой властью). Вполне возможно, что многие из чиновников, служивших в Галилее в администрации Хасмонеев, а затем – в администрации Ирода, были иудеями. Археологические свидетельства также говорят о том, что в какой-то момент, еще до рождения Иисуса, иудеи продвинулись на север, в Галилею. Однако в вопросе о том, как трактовать эти свидетельства, археологи расходятся. Скажем, ритуальные бассейны и сосуды вполне могли принадлежать не всем жителям Галилеи, а только иудейским чиновникам, поставленным храмовой властью, или представителям режима Ирода, переселившимся в Галилею «по служебной надобности». Хотя «галилеяне», которых Иосиф отличает от «иудеев» и «самарян», по всей видимости, не относились к недавним иудейским переселенцам, вполне возможно, что с иудеями их роднили общие израильские предки: галилеяне происходили от северных израильтян, подчинившихся иерусалимской власти лишь за сотню лет до Антипы[814]. Среди многих вопросов, на которые у нас до сих пор нет ответа, есть и такой: пыталось ли иерусалимское высшее священство собирать с галилеян десятину и иные приношения после того, как Галилея перешла под власть Антипы?
Из иудейских текстов, позднее включенных в (Еврейскую) Библию, а также из трудов Иосифа Флавия и Евангелий очевидно, что основной формой совместного существования и труда после семьи/домохозяйства была сельская община[815]. Так, Иосиф упоминает о том, что в Галилее было около двухсот сел и деревень (Жизнь 235); эту цифру подтверждают и современные археологические раскопки[816]. В исследованиях исторического Иисуса это учитывают редко – быть может, из-за того, что в современной западной культуре господствует индивидуализм и мысль о том, что Иисус обращался к отдельным людям – к каждому человеку в отдельности – принимается исследователями за некую данность. Однако сельская община в те времена играла в жизни того, кто был ее частью, важнейшую роль, и охватывала почти все аспекты его жизни. Кроме того, это был единственный общественно-политический институт, стоящий между семьей, с одной стороны, и храмовой властью или администрацией Ирода – с другой. Сельские общины были наполовину независимы и находились под «половинчатым» самоуправлением, а потому свои общественные и экономические дела они решали сами, в соответствии с культурными традициями и обычаями, свойственными той или иной общине. Правители почти не обращали на них внимания – лишь бы налоги платили в срок и в полном объеме. Формой самоуправления было сельское собрание, в наших источниках обычно называемое синагогой или кнессетом[817].
Политика, экономика, религия. Источники о разногласиях, различиях и спорах
Почти все наши источники описывают разногласия между правителями и подданными и постоянные конфликты между ними. Сочинения Иосифа Флавия полны рассказов о том, как римляне, с одной стороны, и цари из династии Ирода и иерусалимские первосвященники – с другой, зачастую действуя сообща, разными путями подчиняли народ, держали его в повиновении, контролировали и эксплуатировали. Кроме того, Иосиф указывает на то, что народная оппозиция римлянам, царям-иродианам и первосвященнической власти время от времени прорывалась в открытых протестах и мятежах и часто широко распространялась. Помимо народных протестов, поражает, сколь жесткого порицания, вплоть до прямого противостояния, удостоилась власть от книжников, чья традиционная социальная (политико-экономико-религиозная) роль и задача состояла в том, чтобы помогать священникам-аристократам советами и служить в администрации храмовой власти[818]. Эта критика и это противостояние сложились еще раньше, под имперской властью в эпоху эллинизма, а в ответ на римское господство, по всей видимости, усилились. Что касается Храма и высшего священства, то здесь политическое измерение конфликта невозможно отделить от религиозного. Протесты и движения среди народа и книжников – знак того, что верность традициям Израиля была важным фактором в противостоянии властям, как местным, так и римским.
Римляне и их марионетки: цари-иродиане и первосвященники
Рассказы Иосифа Флавия о римском завоевании Галилеи и Иудеи, в особенности о том, как римляне подавляли местные восстания, – это картина непрестанного и жестокого насилия. Возросшая откровенность, с которой историки нового, более критичного поколения, изучающие эпоху Древнего Рима, описывают завоевательную тактику римских военачальников[819], побуждает нас все сильнее верить словам Иосифа о жестокости римлян, – хотя то огромное число жертв, которые он приводит, по-видимому, преувеличено. Он не раз говорит о том, как римские войска методично уничтожали села и деревни, истребляли посевы, устраивали массовую резню, обращали в рабство жителей, распинали вождей сопротивления, – все для того, чтобы запугать местное население и принудить его повиноваться.
Что касается свершений Иисуса в Галилее и последующего развития его движения, стоит обратить внимание на то, что говорит Иосиф Флавий о насилии, творимом римлянами в тех или иных местах. Например, в 53–52 гг. до н. э. римский полководец Кассий обратил в рабство тысячи людей в Магдале и ее окрестностях (И. В. I, 8.9; Иосиф Флавий называет цифру в 30 000). А в 4 г. до н. э. Вар нанес серьезный ущерб Сепфорису, расположенному в нескольких километрах от Назарета, и окрестным селениям, а крупное селение Эммаус в Иудее попросту стер с лица земли (И. В. II, 5.1; И. Д. XVII, 10.9). Ярче всего Иосиф рассказывает о методичной тактике «выжженной земли», применяемой римлянами при подавлении иудейского восстания 66–70 гг. н. э., когда они уничтожали деревню за деревней, распинали людей сотнями, уводили в рабство десятками тысяч. С 4 г. до н. э. по 66 г. н. э. крупных восстаний, по-видимому, не было. Однако Иосиф Флавий ясно дает понять, что римские наместники, временами принимая жесткие меры против местного бандитизма, отдавали солдатам приказ запугать население деревень – скажем, помимо убийства или пленения самих разбойников можно было кого-нибудь распять (см., напр.: И. В. II, 12.2; 13.2; 14.1). Кроме того, римляне не стеснялись использовать военную силу для «выбивания» податей. Когда Кассий наложил на Иудею и Галилею непомерную дань, молодой полководец Ирод быстро нагнал страху на галилейских крестьян и заставил их выплатить требуемую сумму. Однако жители северо-западной Иудеи замешкались с выплатой подати – и Кассий попросту вырезал население четырех городов этого региона: погибли Гофна, Эммаус, Лидда и Фамна (И. В. I, 11.2; И. Д. XIV, 11.2).
Рим продолжал захват: в 40–37 гг. до н. э. Ирод с помощью римских солдат взял власть в стране, а вслед за этим римский Сенат провозгласил его «царем Иудейским». Галилея сопротивлялась необычайно упорно: Ирод провел там три военные кампании, одну за другой (И. В. I, 16.2–5, 17.2; И. Д. XIV, 15.4–6, 10; см. однако: И. В. II, 6.2; И. Д. XIV, 11.7)[820]. Затем он установил жестокий репрессивный режим, держа народ в жесткой узде, – как в Иерусалиме, так и в сельской местности. Его грандиозные строительные проекты – целые новые города, названные в честь кесаря, римские общественные здания в Иерусалиме (амфитеатр и ипподром), а также масштабная реконструкция храмового комплекса, – давали работу многим[821]. Однако огромные траты на эти проекты, роскошь царского двора и необыкновенная щедрость Ирода, проявляемая по отношению к семье императора и имперским городам, для подданных оборачивалась высокими и неукоснительно собираемыми податями. Так или иначе, всеобщее недовольство властью, накопленное при жизни Ирода, после его смерти (4 г. до н. э.) вылилось в массовые бунты по всей стране, а потом пришел Вар с римской армией и утопил восстание в крови (И. В. II, 4.1–5.1; И. Д. ХVII, 10.4–9).
Антипа, сын Ирода, поставленный с одобрения римлян царем над Галилеей и Переей, продолжил грандиозное строительство, начатое отцом. В первые двадцать пять лет правления он перестроил Сепфорис и возвел Тивериаду Галилейскую (И. Д. XVIII, 2.1, 2.3). Как подчеркивает Иосиф Флавий, говоря о Тивериаде, эти новые города возводились в сельской Галилее, что привело к уходу одних сельских общин в иные места, а другим нанесло немалый вред. Антипа первым из галилейских правителей учредил свою администрацию непосредственно в Галилее: такое расположение позволяло ему эффективно собирать деньги, требуемые для строительства городов, с галилейских селян, чьи скромные поселения, как правило, теперь находились на обозримом расстоянии от столичных городов. Рассказ Иосифа о пророчестве Иоанна Крестителя, направленном против Антипы, по-видимому, отражает народное недовольство его правлением (И. Д. XVIII, 5.2).
Священническая аристократия, управлявшая Храмом, в высшей степени зависела от сотрудничества с римлянами. Четыре богатых семейства, из которых римский наместник по своему выбору назначал первосвященника, были вознесены на вершину власти Иродом и не имели прочных корней в иудейском обществе. Перед римлянами они отвечали не только за поддержание общественного порядка, но и за сбор податей кесарю (И. В. II, 17.1). Рассказывая о многочисленных провокациях со стороны римских наместников и солдат, Иосиф Флавий ни словом не упоминает о том, чтобы первосвященники хоть как-то пытались защитить простых людей[822]. Скорее, они заодно с римлянами угнетали собственный народ. Иосиф рассказывает даже о том, как некоторые первосвященники (а также высокопоставленные чиновники Ирода) отправляли по деревням вооруженных головорезов, чтобы те грабили селян и доставляли аристократам десятину, предназначенную для простых священников (И. Д. XX, 8.8, 9.2, 9.4). Позднейшие раввинистические тексты сохранили, как дополнительное свидетельство, народные воспоминания о подобном хищничестве первосвященников (вав. Псах 57а). По обычаю всех правящих элит, в том числе и богатых иудеев, чьи нравы возмущали еще персидского наместника Неемию несколькими столетиями ранее (Неем 5:1–13), первосвященники и чиновники Ирода загоняли крестьян в долговую кабалу, давая им ссуды под высокий процент (что запрещалось законами завета), а затем отбирали за долги их исконные земли, полученные в наследство[823]. И словно повторив ту отчаянную ярость иудейских крестьян, свидетелем которой в далеком прошлом стал Неемия, летом 66 года в Иерусалиме, накануне великого мятежа, народ, по рассказу Иосифа Флавия, сжег архивы, в которых хранились долговые расписки (И. В. II, 17.6).
Деяния римлян – резня, порабощение землепашцев, опустошение деревень; огромные налоги, массовое переселение людей и репрессивная политика царей из династии Иродов; хищнические действия первосвященников, – все это усиливало экономический упадок и порождало политическую нестабильность. «Барометром» экономического упадка и социально-политического распада иудейской деревни часто считался уровень общественного бандитизма. Как пишет Иосиф Флавий, «разбойники» стали обычным явлением в этих краях уже в первые десятилетия I в. н. э., а в дальнейшем, до великого восстания, их число только возрастало.
Простой народ в Иерусалиме и в селениях
Современные историки, в том числе и те, кто стремится осветить политику Иудеи под властью Римской империи, как правило, уделяют внимание элите; простой народ, как и женщины, остаются «скрытыми от истории». Как Иосиф Флавий и другие историки античного мира, так и их коллеги в наши дни обращают свой взор прежде всего на тех, кто, по их мнению, «творит историю», – иными словами, на власть имущих. Историки древности, сами зачастую «люди не из последних», интересовались простым народом, лишь когда он начинал доставлять элите неприятности. Судя по тому, какое внимание уделяет Иосиф народным протестам, движениям и бунтам, приходится заключить, что этому богатому священнику и военачальнику, впоследствии ставшему историком, простой народ доставлял неприятности постоянно. И действительно, если мы внимательнее взглянем на ту последовательность беспорядков, протестов, движений обновления и сопротивления, о которых рассказывает Иосиф – то с удивлением увидим, что в Древней Иудее историю творил простой народ, а элита лишь реагирует на его действия.
В большинстве эпох и стран у простого народа нет иного выбора, кроме как подчиняться власти и эксплуатации правителей, обладающих политической и военной силой. Однако в древней Римской Палестине, судя по трудам Иосифа, народ сопротивлялся властям заметно и стойко. Служение Иисуса пришлось на эпоху, словно бы «ограниченную» крупными восстаниями: одно случилось за поколение до него, в 4 г. до н. э., а другое – спустя поколение, в 66–70 годах. Можно упомянуть и упорное сопротивление царю Ироду в 40–37 гг. до н. э., особенно в Галилее (И. В. I, 16.2–5, 17.2; И. Д. XIV, 15.4–6, 15.10). Для служения Иисуса, несомненно, наиболее важны события 4 г. до н. э., когда умер Ирод и во всех областях Палестины, в том числе и в Иерусалиме, вспыхнули восстания. Воспоминания о том, как народу удалось на несколько месяцев или даже лет (скрывшись в холмах Иудеи) избавиться от власти правителей, должны были еще оставаться в памяти, а то, сколь жестоко римляне подавили восстание, несомненно, нанесло обществу глубокую рану, – и не миновала она и Назарет, где прошли детские и юношеские годы Иисуса. Учитывая многочисленные беспорядки, протесты, движения обновления и сопротивления, о которых упоминает Иосиф Флавий, описывая время с 4 г. до н. э. по 66 г. н. э., сомнительно, чтобы и до неспокойных лет, приведших к великому восстанию 66–70 гг., Палестине удалось хоть на какое-то время достичь общественного согласия.
Некоторые протесты начинались среди простого народа в Иерусалиме – хотя затем их могли подхватывать селяне, приходившие в город на праздники. Об иерусалимских протестах, последовавших за смертью Ирода в 4 г. до н. э., Иосиф Флавий рассказывает подробно, в связи с их важными политико-экономическими последствиями (И. В. II, 1.2–3; И. Д. XVII, 8.4–9.3). Иерусалимская толпа взывала к Архелаю, сыну и предполагаемому наследнику Ирода, требуя облегчить ежегодную подать, введенную его отцом, отменить налоги на продажи и освободить их родных и любимых, которых бросили в темницы как политических заключенных. Протестующие требовали отставки высших чиновников Ирода, особенно назначенного первосвященника, поскольку «долг и обязанность требуют избрать более благочестивого и непорочного!» Испугавшись огромной толпы восставших, все возраставшей, поскольку к ней присоединялись селяне, пришедшие в город на Пасху, Архелай отправил против нее вооруженный отряд; но это лишь спровоцировало беспорядки, и Архелаю пришлось высылать уже всю свою армию. Даже в Иерусалиме, где многие зависели от Храма экономически, существовали разногласия и серьезные конфликты между простым народом, с одной стороны, и первосвященниками и царской администрацией – с другой. Иосиф Флавий прямо говорит: жители Иерусалима считали, что высшее священство и цари-иродиане правят ими не по законам отцов.
Две акции, в которых, по рассказу Иосифа Флавия, участвовали и жители Иерусалима, и селяне, показывают: народная приверженность важнейшим израильским традициям вела не к тому, что народ, проявив сплоченность, шел на уступки правящей власти, а напротив, становилась важным мотивом для противостояния иудейским правителям. Когда все узнали, что Понтий Пилат внес в Иерусалим армейские штандарты с изображением кесаря, народ как из Иерусалима, так и из окрестных мест устремился в Кесарию: протестовать против нарушения отеческих законов (заповеди «не сотвори себе кумира»). Предприняв своего рода «ненасильственную акцию прямого действия», они обнажили шеи перед вооруженными римскими солдатами, – и Пилат отступил, не желая начинать резню (И. В. II, 9.2–3; И. Д. XVIII, 3.1). Второй протест начался в Иерусалиме на праздновании Пасхи, когда наместник Куман, по обычаю, поставил у входа в Храм вооруженную стражу, которая в случае чего должна была пресечь беспорядки (И. В. II, 11.6–12.1; И. Д. XX, 5.3). Один солдат сделал провокационный непристойный жест – и толпа разъярилась; наместник послал солдат во внутренний двор Храма, давить «мятеж», и это привело к паническому бегству нескольких тысяч празднующих, многие из которых погибли в давке.
Охватившая всю страну борьба против мании величия императора Гая Калигулы – еще одно примечательное событие, показывающее нам то, как давний политико-экономико-религиозный конфликт в Палестине мог оказаться напрямую взаимосвязанным с политико-религиозным конфликтом, захлестнувшим империю; то, сколь эффективно могли мобилизоваться селяне, движимые верностью заповедям завета; и как массовое народное сопротивление могло успешно противостоять имперской власти (Иосиф Флавий: И. В. II, 10.1–5; И. Д. XVIII, 8.2–6; Филон: О посольстве к Гаю 31–33). Все началось с того, что александрийская чернь напала на местных иудеев, обвинив их в нелояльности, – живая иллюстрация к тому, как империя удерживала власть над покоренными народами при помощи принципа «разделяй и властвуй». Разъяренный нежеланием александрийских иудеев воздавать ему божеские почести, император Гай (Калигула) приказал Петронию, легату Сирии, поставить бюст императора в Иерусалимском Храме, если понадобится, то и с помощью военной силы. Но когда римская армия торжественно везла бюст по сельской Палестине, где крестьяне выращивали урожай, из которого впоследствии платились подати кесарю, – в этом ясно увидели требование римской власти нарушить заповедь о неслужении иным богам. Когда Петроний вел легионы в Галилею, в Птолемаиде и близ Тивериады его встретили толпы протестующих – по всей видимости, местные галилейские крестьяне, которые в знак протеста против этой имперской затеи отказывались обрабатывать поля[824]. Как указали высокопоставленные иродиане – и как пришлось признать Петронию – «бунтарям» без урожая, конечно, грозила голодная смерть, но и римляне бы не получили податей. А устраивать массовую резню, подобную той, какую сто лет тому назад устроил Кассий, Петроний, очевидно, не желал. Он угрожал крестьянам – но те стояли на своем, готовые идти на смерть за принципы завета, и рассчитали все верно: Петроний не рискнул бы убивать земледельцев и тем подрывать экономическую базу Рима и его марионеточного правительства в Галилее.
Многие народные движения, «творившие историю» в Римской Палестине времен ранней империи, принимали одну из двух форм, характерных для израильского культурного наследия, обретенного жителями Иудеи, Галилеи и Самарии, – к слову, это еще одна иллюстрация к тому, насколько неразделимы были политика и религия. Среди нескольких отдельных движений, причисленных современными специалистами к «зелотам», можно различить две специфически израильские формы. В рассказах Иосифа Флавия о восстаниях как 4 г. до н. э., так и 66–70 гг. н. э. мы видим, как крестьяне из какой-либо местности собираются и избирают из своей среды «царя». Эти «мессианские» движения вели войну, нападали на крепости, и обычно им удавалось достичь независимости от Иерусалима и римских правителей на месяцы или даже на годы. Далее, в те десятилетия, что последовали за смертью Иисуса, большие группы крестьян из Иудеи или Самарии не раз объединялись вокруг «пророка», который, подражая в своих действиях Моисею и/или Иисусу Навину, вел их к богоданному освобождению. Для подавления этих «пророческих движений» римляне отправляли войска, а для подавления «мессианских движений», бывших частью сопутствующих восстаний, – и целые армии.
У Иосифа Флавия можно отметить три особенности таких движений, особенно важные в палестинской политике. Во-первых, селяне постоянно мобилизуются и образуют значительные движения, выдвигая предводителей из местных. Во-вторых, перед нами одно из немногих свидетельств того, что некоторые израильские традиции не только активно развивались среди иудейских, галилейских и самарянских крестьян, но и были настолько влиятельны, что определяли собой те социально-политические формы, которые принимало народное сопротивление и возрождение. В-третьих, из всех случаев, подтвержденных текстуальными свидетельствами, это едва ли не единственный пример воспитания простого народа в духе израильских традиций, – и знак того, что фигуры Моисея, Иисуса Навина и юного Давида не только оставались живы в народной памяти, но и вдохновляли на борьбу против иерусалимского первосвященства и римских господ. И наконец, необходимо отметить, что из всех народных движений обновления и сопротивления именно эти по своей социальной форме, социокультурным характеристикам и политическим последствиям более всего сравнимы с Движением (или Движениями) Иисуса.
Властные «слуги» Иерусалимского Храма: книжники, фарисеи и прочие диссиденты
Отчасти потому, что в Евангелиях книжники и фарисеи тесно связаны с первосвященниками и преследуют те же интересы, в них, как правило, не видят потенциальных противников иерусалимской власти. Но у Иосифа Флавия, да и не только у него, мы видим, что при определенных обстоятельствах группы книжников могли «уходить в оппозицию». Краткий обзор предшествующих противостояний книжников с высшим священством и имперской властью поможет увидеть их разногласия с Римом и римскими марионеточными правительствами в более широком ракурсе.
Иисус Бен-Сира, ученый книжник из Иерусалима, ясно дает понять, что и он сам, и другие мудрецы-книжники изучали Тору, пророчества и премудрость предков, стремясь давать иерусалимской храмовой власти мудрые советы по управлению государством. Историческая социология именует эту роль (книжным/интеллектуальным) «служением» (Сир 38:24–39:11)[825]. Именно такую роль – роль советников, законодателей, представителей хасмонейского высшего священства, – отводит Иосиф Флавий книжникам и фарисеям во II–I вв. до н. э. (И. Д. XIII, 10.6, 16.1–2). Вопреки утверждениям, согласно которым фарисеи впоследствии отказались от своей политической роли и посвятили жизнь личному благочестию[826], Иосиф Флавий повествует о том, что и при Ироде они играли важную роль в политике храмовой власти, – как «легальная оппозиция» Ироду и союзники священнической аристократии (И. Д. XVII, 2.4; Жизнь 21, 197–203).
Однако обычно мы недооцениваем степень противостояния книжников, фарисеев и других «служителей»-интеллектуалов с той самой священнической аристократией, от которой они зависели как служители храмовой власти. Во многих текстах, созданных книжниками и сейчас называемых «апокалиптическими», звучит резкое неприятие и самой имперской власти, и первосвященников, сотрудничавших с ней. В Видении Зверя (1 Ен 85–90), сочиненном, очевидно, в виде отклика на репрессии Антиоха Эпифана, даже выносится приговор Второму Храму: хлеб в нем осквернен, и в будущем возрожденном Израиле Храма не будет (1 Ен 89:73; 90:29). Современное ему Послание Еноха (1 Ен 94–104) осуждает богатых священников-аристократов за угнетение бедняков[827]. В видениях и истолкованиях Дан 7–12 (особенно 10–12) маскилим активно противостоят как священникам-аристократам, так и Антиоху Эпифану с его репрессиями (Дан 11:20–35).
Оппозиция книжников сохранялась и при первосвященстве Хасмонеев, героев Маккавейского восстания против имперских нападений в эпоху эллинизма. Когда Хасмонеи забрали первосвященство, большая группа книжников и священников в знак протеста удалилась в пустыню и основала в Кумране новую «общину завета». Другие книжники, в особенности фарисеи, вернулись к традиционной роли советников на службе храмовой власти и высшего священства. Однако не прошло и нескольких десятилетий, как сотни фарисеев, при ранних Хасмонеях занимавших выгодные места у трона, выступили с оружием против Александра Янная, наследника Хасмонеев, решившего вести завоевательные войны, – и многих из них он распял (И. В. I, 4.3, 4.6; И. Д. XIII, 13.5–14.2).
Псалмы Соломона показывают, что многие книжники, даже вполне довольные правлением Хасмонеев, резко неприязненно встретили римское завоевание и римскую власть – и ждали освобождения, которое должен был принести помазанник, сын Давидов (Пс. Сол 2; 17). Фарисеи, вопреки велению Ирода, отказывались присягать на верность его власти и Риму. Ближе к эпохе Иисуса Иосиф упоминает три знаменательных акции, устроенных книжниками. Когда Ирод лежал на смертном одре, двое почитаемых учителей вместе с учениками сбросили золотого римского орла, которого царь воздвиг над главными воротами Храма, – и по царскому приказу их сожгли живьем (И. В. I, 33.2–4; И. Д. XVII, 6.2–4). Десять лет спустя, когда римляне уже правили Палестиной напрямую, через наместников, несколько других учителей, в том числе фарисеи, организовали движение против уплаты податей кесарю, утверждая, что израильтяне обязаны хранить верность только Богу, своему единственному господину и царю (И. Д. XVIII, 1.1, 1.6). Здесь мы встречаем у книжников важную параллель с народными движениями, протестовавшими против нарушения заповеди «не сотвори себе кумира», особенно нельзя было чтить иных богов своим трудом и его плодами. Примерно поколение спустя последователи этих радикальных учителей начали убивать видных священников, сотрудничавших с римлянами. При римском правлении книжники и фарисеи, активно выступавшие против высшего священства и римлян, несомненно, составляли меньшинство. Иосиф Флавий ясно дает понять, что «первые из фарисеев» заняли видное положение в первосвященнической «хунте», образовавшей в 66–67 гг. н. э. своего рода временное правительство для удержания власти над мятежным населением и переговоров с римлянами. Однако учителей-книжников, более или менее активно противостоявших первосвященникам и римским правителям, было хоть и меньше, но тоже довольно много.
Иисус в политике Римской Палестины
Оценка источников
Непрестанные критические размышления и дискуссии приводят нас к серьезным вопросам о том, как же надлежит обращаться к Евангелиям, нашим главным источникам по изучению «Иисуса, явленного в контексте», – и сейчас исследователи все чаще принимают во внимание предпосылки и подходы, перечисленные нами выше.
После трактовки Евангелия от Марка, которую дал Вреде около ста лет назад, стало очевидно, что прямая реконструкция исторических событий на основе евангельских текстов невозможна, – поскольку и «Марк», и другие Евангелия обладают своими целями и своей точкой зрения. В результате исследователи Иисуса начали рассматривать Евангелия как простые сборники «преданий» об Иисусе, а затем – в рамках «критики форм» – разработали сложные приемы для воссоздания «истории синоптической традиции». Однако в критике форм, основанной на предпосылках, свойственных пост-гутенберговской культуре печатных текстов, а равно так же во многих ее адаптациях, предпринятых (в основном либеральными) исследователями, изучавшими личность и мир Иисуса, к тому, что признавалось устным преданием, подходили так же, как к фрагментам письменного текста. Современные кросс-культурные исследования устной коммуникации в целом и хранения устных преданий в особенности убедили нас, что критика форм не способна выполнить свое обещание и дать нам доступ к «подлинным» речениям Иисуса. Поиск «изначальной» или «древнейшей» формы речения или иного предания – это поиск призрака, никогда не существовавшего в действительности[828].
Быть может, еще более фатальная ошибка критики форм заключается в предпосылке, согласно которой «в начале было отдельное речение» (или «рассказ о чуде»). В реальной жизни люди не общаются между собой ни отдельными изречениями, ни короткими историями. А для того, чтобы обрести историческую значимость, человеку, несомненно, требуется общаться с окружающими. Более того: общение – это всегда интерактивный социальный (и политический!) процесс, он происходит в определенном контексте, и по многом он – невербальный. Критика форм очень рано сосредоточилась исключительно на формах, забыв о своем изначальном прозрении, – о том, что форма и контекст сопутствуют друг другу. Нынешний поиск надежной основы, которая позволила бы нам обращаться к Евангелиям как к источникам, проявляющим ясный образ Иисуса, – скажем, тот же поиск «очевидцев», – показывает, что мы больше не уверены в правильности прежних подходов, таких как критика форм. Однако иные формы исследования – скажем, применение к Евангелиям анализа социальной памяти, – предполагают, что сохранение преданий об Иисусе было тесно связано с ясно выраженной групповой самоидентификацией, характерной для Движений Иисуса[829]. Но как эти исследователи надеются добраться до «сведений» о личности Иисуса, скрытых за евангельским «Иисусом, явленным нам в общении и как часть движения», – с учетом того, что в материалах, ставших основой Евангелий, он, по всей видимости, представлен так же?
Вероятно, единственный разумный подход в данном случае – обратиться к Евангелиям как к основным источникам, позволяющим увидеть образ «Иисуса, явленного нам в контексте», и использовать их относительно и контекстуально, на двух взаимосвязанных «уровнях», примерно так: 1) одна из основных проблем прежней сосредоточенности на текстовых фрагментах – отдельных речениях или рассказах о чудесах – состоит в том, что фрагменты изымаются из «литературного» контекста, а только он способен открыть нам доступ к контексту историческому. В наше время тщательно разработанные методы литературоведения помогли понять, что каждое Евангелие – это целостное повествование, связанное единым сюжетом, и в нем есть основной конфликт и подчиненные конфликты. Значение каждого эпизода определяется его местом в общем сюжете и основном конфликте или же во второстепенных сюжетах и подчиненных конфликтах. Таким образом, каждое Евангелие дает нам широкую и сложную картину, или, иными словами, репрезентацию «Иисуса, явленного в отношениях и в контексте», которую вполне возможно критически оценить на фоне исторической обстановки, воссоздав последнюю на основе других источников; 2) впрочем, как мы, по всей видимости, все еще полагаем, в роли коммуникативных единиц, из которых возникли Евангелия, – причем и до составления целостных евангельских повествований, и в одно время с их появлением, – выступали разнообразные речи, диалоги и рассказы о том, как действовал в тех или иных эпизодах Иисус (и о том, с кем он взаимодействовал). Обратившись к целостным евангельским сюжетам критически и рассмотрев указания на их значение и роль, мы можем в то же время использовать эти речи, диалоги и короткие истории, возникшие прежде Евангелий, как источники сведений о конкретных словах и деяниях «Иисуса, явленного нам в отношениях в контексте», – и, разумеется, мы не отказываемся критически рассмотреть их в историческом контексте, воссозданном по другим источникам. В дальнейшем, чтобы уложиться в формат, мы поговорим лишь о свершениях Иисуса в Галилее и о том, как он противостоял высшему священству, Ироду и римским правителям; здесь наша цель – просто очертить рамки для размышления об Иисусе и политике Римской Палестины.
Евангелия как целое и «Иисус в контексте»
Как в других документах, повествующих о жизни в Римской Палестине времен ранней империи, так и в Евангелиях, главных источниках наших сведений о миссии Иисуса, не так-то легко найти упоминания об «иудаизме» в современном понимании этого слова. Однако та картина политико-экономико-религиозных институтов и взаимоотношений между правителями и народом, которую рисуют Евангелия, удивительно похожа на ту, которую мы встречаем в трудах Иосифа Флавия.
Священническая аристократия с центром в Храме обладает как политико-экономической, так и религиозной властью, – по крайней мере в Иерусалиме и в Иудее. С помощью вооруженных отрядов первосвященники поддерживают порядок и укрощают бунтовщиков как в городе, так и за его пределами; но сами они подчиняются – и содействуют – римскому наместнику, который командует серьезными вооруженными силами и имеет власть казнить подозреваемых в мятеже. Между жителями Галилеи, Самарии и Иудеи существуют региональные различия. Галилеей правит Антипа, и, судя по пророческим обличениям Иоанна Крестителя, упоминаемым и в Евангелиях, и у Иосифа Флавия, подданные его не любят (Мк 6:17–29; И. Д. XVIII, 5.2). Как Антипа, так и первосвященники наслаждаются роскошью и живут во дворцах, в то время как бедняки, погрязнув в долгах, ведут жалкое, полуголодное существование. Однако только в Евангелиях фарисеи активно действуют не только в Иудее, но и в Галилее – в эпоху, когда Храм и первосвященники не обладают (провозглашенной Римом) властью над последней. Кроме того, у галилеян есть обычаи и традиции, отличающие их и от «иудеев», и от книжников и фарисеев из Иерусалима (Мк 7:3–4). Простые люди живут сельскими общинами и собираются в синагогах (Мк 1:21–29; 3:1–5 и т. д.). Празднование Пасхи в Иерусалиме часто чревато конфликтами. Даже те евангельские эпизоды, которые принято считать легендарными, как, скажем, рассказы о рождестве и детстве Иисуса, демонстрируют определенное «историческое правдоподобие». Как и у Иосифа Флавия, римский император требует уплаты податей, а Ирод действует как жестокий тиран (Лк 2; Мф 2).
Быть может, когда мы читаем Евангелия как целостные повествования, а не просто как сборники изречений и коротких историй, больше всего поражает то, что Иисус в них предстает как вождь движения за возрождение Израиля и как явный противник властей. Скажем, Евангелие от Марка – это если и история о личном ученичестве, то не в первую очередь. Обратив внимание на основной сюжет, на главный конфликт этого Евангелия, мы увидим рассказ о том, как Иисус возглавляет возрождение народа (назначает двенадцать апостолов уполномоченными предводителями, переходит море как посуху, кормит голодных в пустыне, совершает исцеления, как новый Моисей или новый Илия), и все это направлено (с «зеркальным» ответом) против правителей-первосвященников, их представителей в Храме, а также, в конечном счете, против римлян. В первой половине повествования Иисус проповедует Царство Божье, исцеляет и изгоняет бесов в деревнях и сельских собраниях (синагогах) Галилеи и ее окрестностей, а также посылает учеников проповедовать и исцелять в других селах (и, видимо, жить там). Возрождение Израиля принимает у него форму обновления семьи и сельской общины (Мк 10:29–31). Кульминацией истории становится его непрестанное противостояние с властью в Иерусалиме и в Храме на праздновании Пасхи. Матфей и Лука более или менее следуют той же линии развития конфликта, временами его заостряя. Даже Евангелие от Иоанна, при всем его дискурсивном стиле и, по-видимому, мистических штрихах, изображает Иисуса, действующего в Галилее, Самарии и Иудее, в постоянном противостоянии с «иудеями», – так Иоанн именует иерусалимских первосвященников и их сторонников.
Таким образом, Евангелия как целостные повествования изображают Иисуса в обстановке, совпадающей со сведениями из иных источников: на фоне фундаментальных разногласий и конфликтов между, с одной стороны, царями-иродианами, правителями-первосвященниками и их римскими господами, а с другой – подвластным им народом, порождающим протестные движения во имя возрождения и сопротивления. Более того, поскольку в Евангелиях Иисус изображается как новый Моисей и новый Илия, а иногда и как (народный) мессия/царь, нельзя не заметить его сходства с вождями народных движений, в Израиле принимавших специфические формы движений пророческих и мессианских. Таким образом, во всех Евангелиях, причем в каждом по своему, «Иисус, явленный нам как часть движения», пребывает в самом центре политической жизни Палестины времен ранней Римской империи.
«Иисус в контексте». Евангельская традиция
Если мы теперь сравним картину, открытую нам из целостных Евангелий, с образом «Иисуса в контексте», явленным на основе евангельских речей, диалогов, эпизодов, то сможем подправить картину, сделав ее более подробной.
Рассмотрение отдельных пассажей – скажем, таких, как речи Иисуса о своей миссии, – вполне подтверждает общую евангельскую картину, в которой Иисус и его ученики стремятся возродить и обновить сельскую общину. Исцеляя больных, Иисус возвращает их общине и семье. Даже те, кто не согласен с теорией двух источников (не верят в существование «Q»), признают, что «дискурс миссии» присутствует в нескольких линиях передачи преданий и в ряде Движений Иисуса (Мк 6:6–13; QЛк 10:2–16; в Евангелии от Матфея оба источника объединены). Иисус не просто призывает учеников и назначает их двенадцатью представителями Израиля, но и поручает им распространить сферу его влияния на сельские общины. Итак, Иисус, по всей видимости, возрождает Израиль, словно пророк из народных движений, – но, в отличие от (иных) пророков из народа, не уводит людей из сельских общин, а трудится над обновлением последних.
Частью возрождения, видимо, становится обновление завета Моисея, – «правил», по которым исторически жили сельские общины. Самое откровенное утверждение, связанное с обновлением завета, мы встречаем в самой пространной и сложной речи Иисуса, параллели которой приведены в Евангелиях от Луки (Лк 6:20–49) и от Матфея (Мф, гл. 5–7). Если не разбивать ее искусственно на крохотные фрагменты, мы увидим, что эта речь по структуре и внутренней логике соответствует традиционным формальным компонентам завета (провозглашение освобождения, заповеди завета, санкционирующая мотивация), и в ней много аллюзий на традиционные учения завета, прежде всего связанные с совместными действиями и взаимной поддержкой. В более пространной версии, у Матфея, мы видим и то, что параллели с другими речами у Луки (быть может, кто-то скажет «с источником Q» – QЛк 11:2–4; 12:22–31) также были нацелены на возрождение общины в духе завета и касались, помимо прочего, экономической жизнестойкости тех семей, которым оказывали поддержку другие семьи, входящие в общину. В ряде диалогов у Марка (Мк 10), где Иисус требует соблюдать заповеди завета и провозглашает принципы, подобные закону (повторенные у Матфея и у Луки), он настаивает на том, что в основе семьи/домохозяйства лежит брачный союз, а также на эгалитарных экономических отношениях, в которых никто не отбирает чужое имущество и не обогащается за чужой счет. Ключевые пассажи указывают на то, что Иисус стремился обновить сельскую общину, основную социальную (политико-экономико-религиозную) форму жизни израильского (иудейского и галилейского) общества.
В евангельских преданиях удивительно ярко выделяются случаи конфликтов Иисуса с властями. Поскольку и другие источники, повествующие о политике Римской Палестины, изображают римских и иудейских правителей как союзников, можно не удивляться тому, что противостояние Иисуса Ироду и особенно иерусалимским властям тесно связано с противостоянием Риму.
Хотя на первом месте в евангельских материалах, несомненно, находится противостояние Иисуса иерусалимским властям, в нескольких эпизодах очень заметно и его стремление противостоять Ироду Антипе в Галилее. Иоанн Креститель, как сообщает нам рассказ о его казни, а равно так же Иосиф Флавий, пророчески обличал Антипу, – и обличения эти, видимо, встречали широкую народную поддержку. Арест и обезглавливание Иоанна поданы как зловещее предзнаменование казни самого Иисуса (за пророческое обличение правителей?). В ответ на вопрос, заданный учениками Крестителя, Иисус порицает тех, кто живет во дворцах, в отличие от пророка Иоанна (QЛк 7:18–28).
В пророческих речах, притчах и эпизодах Иисус часто выносит приговор Храму, священнической аристократии и/или правящему «дому» Иерусалима. Пророческий плач Иисуса о грядущем разрушении Иерусалима (правящего «дома», QЛк 13:34–35а) не только имеет традиционную форму пророчества, но и в прочих отношениях не вызывает подозрений в том, что это подлинный и исконный евангельский текст. Наиболее широко засвидетельствовано в различных эпизодах синоптических Евангелий (Мк 13:1–2; 14:58; 15:29 и пар.), в Евангелии от Иоанна (Ин 2:19) и в Евангелии Фомы (71) пророчество Иисуса о разрушении Храма/дома (Божьего) и постройке нового (Божьего) «дома» (людей завета, как в Кумране), или же о невозможности перестроить (Божий) дом (Храм) – в зависимости от того, как мы читаем те или иные формулировки и вариации этих евангельских текстов. Однако ни в одном из этих пророчеств не указана причина, по которой Иисус (Бог) выносит Храму приговор.
В самом драматичном из евангельских преданий, когда Иисус выносит Храму приговор, он возглашает пророчество (а не просто призывает к «очищению», о чем прежде говорили исследователи Нового Завета; см.: Мк 11:15–17 и пар.) У Марка упомянутое деяние понимается однозначно: пророк символически предвещает, как именно Бог уничтожит Храм. Из аналогии между правящими священниками и разбойниками – также отсылке к знаменитому пророчеству Иеремии, осудившему первый Храм, – можно понять: Бог выносит приговор правителям Храма за то, что они угнетают народ. К пророческой акции Иисуса против Храма близка его притча о злых виноградарях (Мк 12:1–9 и пар.; ср.: Ев. Фом 65). Первосвященники поняли, что они и подразумеваются под теми нанятыми виноградарями, которых Бог осудит за неправедное обращение с его виноградником (народом Израилевым).
С пророчествами Иисуса, направленными против Храма и священства, тесно связаны те евангельские эпизоды и речи, в которых Иисус осуждает фарисеев и/или книжников за то, что те, манипулируя людьми, заставляют их отдавать Храму то, что необходимо самим общинам. Если внимательно прочесть, какими бедами грозит Иисус книжникам и фарисеям (QЛк 11:39–52 и Мф 23), то станет очевидно: его критическое отношение к фарисейской одержимости ритуальной чистотой, – лишь обертка, за которой скрыто главное, а именно – осуждение за то, что они манипулируют людьми и угнетают их. В двух эпизодах синоптических Евангелий Иисус осуждает фарисеев и/или книжников за то, что они поощряют людей «жертвовать» (корван) Храму произращения земли, необходимые им самим, чтобы кормить своих родителей и семьи (Мк 7:1–13 и пар.), и отдавать в Храм все, что дает им «средства к существованию» (см.: Мк 12:38–40).
Среди эпизодов, связанных с конфронтацией Иисуса с властями, в синоптических Евангелиях можно выделить тот, где фарисеи и иродиане сговариваются «подловить» Иисуса, задав вопрос, верно ли платить подать кесарю (Мк 11:15–17 и пар.). Вопрос о подати звучит и в Ев. Фом 100. Как известно нам из других источников, повествующих о «четвертой философии», то есть о зелотах, устроивших массовый отказ от уплаты податей в 6 г. н. э., и о волнениях крестьян, которые отказались засевать поля в знак протеста против политики Калигулы, уплата подати была в Римской Палестине камнем преткновения. Для людей, воспитанных в израильских традициях, уплата подати нарушала первую и вторую заповеди (нет иных богов; не поклоняйся им и не служи им), то есть была, несомненно, вне закона. Однако римляне неуплату подати приравнивали к мятежу, – а задача сбора подати возлагалась на марионеточное правительство Палестины, то есть на священническую аристократию. Фарисеи и иродиане, видимо, предполагали, что Иисус не захочет пойти против заповедей завета, а значит, выскажется против уплаты податей, и тогда можно будет арестовать его за антиримскую (и антипервосвященническую) пропаганду. Иисус избежал ловушки, дав ответ, на первый взгляд уклончивый и двусмысленный, однако для всех, знакомых с заповедями завета, вполне однозначный. Он не стал говорить прямо: «Это противоречит закону»; однако, согласно принципам завета Моисеева, «Божьим» было все на этом свете, – а «кесарева» попросту не было. Иисус не сказал, что люди не должны платить подать, – однако ясно дал понять, что люди ничего не должны кесарю и взимание подати в самом деле противоречит закону.
Все эти пророчества, притчи и эпизоды составляют значительную часть евангельских материалов, свидетельствующих о том, как Иисус противостоял Храму, первосвященству и римской власти, – и, наравне с другими текстами, подтверждают, что иерусалимским и римским властям противостоял и народ.
Итоги и последствия
Желая понять Иисуса в контексте политики Римской Палестины, мы вовсе не стремимся выяснять, был ли он (в большей степени) политическим или религиозным деятелем. И мы не намерены «добавлять» к религии политику, которую обычно упускают из виду. Политика (как и экономика) неотделима от религии, и прежде всего необходимо понять, что говорят об исторической ситуации наши источники и как вписывается в эту картину Иисус. Нам нужно не просто расширить, но решительно изменить наши предпосылки и наш подход, внести в них политический фон рассматриваемой исторической обстановки – в том виде, как она описана в источниках, – и только тогда мы сможем представить исторического Иисуса совершенно иначе, нежели в том случае, если решим исходить из таких искусственных конструктов, как «иудаизм» или «апокалиптизм».
Доминирующий политико-экономико-религиозный раскол и конфликт той исторической обстановки ясно представлены в источниках: это противостояние между Римом, а также его марионетками, иродианами и первосвященниками, с одной стороны, и народом Иудеи и Галилеи – с другой. Иисус, каким мы видим его в евангельских фрагментах и в Евангелиях в целом, вполне вписывается в эту картину. И он сам, и те, кто действует вместе с ним, наряду с другими предводителями народа и народными движениями противостоят властям и терпят от них преследования. В евангельских материалах и в Евангелиях как целостных повествованиях Иисус не противостоит «Закону/Торе» – напротив, он настаивает на том, что верен заповедям завета Моисеева, в отличие от иродиан и первосвященников, которые их нарушают или компрометируют. В этом движение Иисуса ничем не отличается от других народных движений и протестов, также настаивавших на том, что они верны заповедям.
Иисус, его ученики и другие последователи представлены вовлеченными в возрождение Израиля как народа, живущего под прямым правлением Бога. И здесь «Иисус, явленный как часть движения», близок и к народным движениям, пророческим и мессианским, и к «интеллектуальной» Кумранской общине (еще одному движению нового исхода/завета). Отвергая нынешнее первосвященство и Храм, кумраниты, по всей видимости, надеялись когда-либо получить в свое распоряжение Храм обновленный. Иисус, как и народные пророки и мессии и их последователи, а также как книжники прежних эпох, хотел видеть обновленный Израиль свободным не только от имперской власти, но и от Иерусалима. Как и народные мессианские движения, Иисус уделял внимание обновленным сельским общинам, независимым от правящих институтов; однако, возвещая суд Божий над правителями Иерусалима, он, в отличие от «царей», провозглашаемых народом, не пытался возглавить мятеж. Как и народные пророки, он наравне с последователями расценивал свое движение как новый исход и пророчествовал о разрушении и гибели Храма/Иерусалима. Однако, в отличие от пророков, уводивших своих последователей из сельских общин «в пустыню», к опыту божественного освобождения, Иисус стремился обновить сельские общины, полагая, что совместные действия и сплоченность помогут им противостоять натиску и гонениям, пока в Израиле не установится Царство Божье.
Для Иисуса, как и для иудейских текстов, обычно называемых «апокалиптическими», провозглашение Божьего суда – это не просто «мировоззрение» (иными словами, не просто вера в неминуемую «космическую катастрофу»); это пророчество о том, что Бог осудит власти за угнетение народа, глубоко укорененное в израильской традиции[830]. Пророчества, притчи и действия Иисуса были воззваниями к божественному правосудию от имени безвластного народа, жестоко угнетаемого власть имущими. Однако власти, высылая солдат против народных движений и убивая мессий и пророков, чувствовали угрозу как от пророчеств Иисуса, так и (возможно) от его последователей. Едва ли Иисус мог стать вождем мятежа, – однако римляне распяли его так же, как вождей народных восстаний в прежнем поколении.
Однако движение, начатое Иисусом в Галилее, в отличие от других, оказалось долговечным. Последователи Февды или «Египтянина» уходили в пустыню, где армия рассеивала их или убивала. Мессианские движения падали под ударами грубой военной силы. А последователи Иисуса, как он и заповедал, продолжали обновлять общину завета, а вскоре превзошли изначально заложенную программу и активизировали создание новых общин. В них продолжалось дело Иисуса – звучали его проповеди, в них исцеляли его именем – и в них преображались и возрождались. Иисус был политико-религиозным лидером политико-религиозного движения в контексте политико-религиозного конфликта в Римской Палестине, – и именно поэтому он стал исторически значимой фигурой.
Триумф Павла, крах раввинов. Нелюбовь раввинов к переводу учения на греческий и латынь. Раскол в иудейской диаспоре
Арье Эдрей и Дорон Мендельс
Хорошо известно, что своего рода «якорями» для апостолов, путешествующих по свету с проповедью христианства, служили иудейские общины и их синагоги. Путешествия Павла, описанные в Деяниях и в Посланиях Павла, дают нам ценную информацию об иудейской диаспоре того времени. Мы постараемся показать, что иудейские источники того же и последующего периода рисуют иудейскую диаспору совершенно иначе. Иудейские общины, узловые пункты апостольских странствий, практически отсутствуют в описаниях, связанных с путешествиями раввинов и распространением их учения в те же годы. И новое восприятие периода проливает свет на многие ключевые вопросы методологии новозаветных исследований.
Уделив внимание этому удивительному факту, попробуем разгадать его значение. Мы рассмотрим все возраставшее отчуждение между раввинистическим центром в Земле Израильской и иудейской диаспорой, живущей по всему средиземноморскому бассейну, в особенности к западу от Израиля, на восточном побережье Средиземного моря. Очевидно, этот период был чрезвычайно важен для переосмысления иудейской религии и ритуалов в новых условиях – при отсутствии Храма. «Новое рождение» претерпели не только религия и ритуал: иудейский канон и устное законодательство также оформились в свод, которому предстояло определить облик иудаизма для грядущих поколений.
В сущности, в Святой Земле в эти годы складывались два независимых и совершенно различных корпуса текстов. И тот и другой обращались в первую очередь к иудеям, однако «целевые аудитории» их были различны, что не могло не сказаться на их содержании. Эти два корпуса – Новый Завет и раввинистические тексты – стали отражением двух зарождающихся культур. Оба считали себя истинным и единственно верным продолжением библейского иудаизма. И действительно, нет сомнений в том, что оба они были порождены религиозными, историческими и общественными процессами, которые оказывали свое влияние на иудаизм к концу периода Второго Храма.
Отчуждение, возникшее в этот критический период между Землей Израильской и западной диаспорой, неминуемо должно было привести к расколу иудейского мира на восточный и западный. Сложившиеся на востоке иудейские центры не смогли привлечь к себе значительную часть западных иудеев – те, по всей видимости, влились в христианские общины, которые распространялись в то время по всему Средиземноморью.
И мы хотим описать глубокий раскол, произошедший в иудаизме в этот период, а также выяснить его причины.
Раввинистический корпус текстов
Начнем с краткого описания раввинистического корпуса текстов, который стоит в центре нашего внимания: скорее всего, он знаком читателям не так хорошо, как новозаветные тексты. Этот корпус включает в себя четыре основных компонента. Два из них – Мишна и галахический мидраш – это ранние сборники текстов, сложившиеся в первые два века новой эры. Другие два – Иерусалимский Талмуд и Вавилонский Талмуд – относятся к концу IV и концу V в. н. э. Три источника возникли в Земле Израильской, а четвертый, Вавилонский Талмуд, – по большей части в Вавилонии.
Мишна – собрание законов, относящихся ко всем сферам жизни: она детально описывает образ жизни верующего иудея, определяет, что разрешено, а что запрещено в частном и общественном быту. В ней устанавливаются правила соблюдения шаббата и других праздников, правила молитвы, светские законы, обычаи, регулирующие жизнь семьи, и даже правила, относящиеся к Храму и храмовым богослужениям, несмотря на то что сам Храм еще прежде был разрушен. Мишна содержит и более древние собрания законов, из эпохи Храма, но в первую очередь основывается на сводах, которые начали формироваться по разрушении Храма сперва в академиях в Явне, а затем в Галилее. Окончательная редакция Мишны была создана раввином Иехудой ха-Наси на рубеже II–III вв. Но пусть даже Мишну отредактировали, зафиксировав ее текст в единой форме, в ней сохранились устные тексты, бытовавшие в течение нескольких столетий. Когда и почему эти тексты были записаны, нам неизвестно; однако для наших целей важно, что в период, исследуемый нами в этой статье, Мишна уже существовала как единый корпус, хотя записана еще не была. В сущности, превращение устных преданий постбиблейского периода в письменные совершилось в два этапа: на первой стадии мудрецы собрали и канонизировали устный закон, на второй стадии – через несколько сот лет – его записали.
Галахический мидраш – это также свод устных законов периода таннаев; однако в нем каждый закон привязан к библейскому тексту и представляет собой его истолкование и развитие. Мидраш исходит из того, что Тора Моисеева, как и любой законодательный труд, требует авторитетного истолкования, призванного разрешить двусмысленности, заполнить пробелы, устранить противоречия и найти решения для новых проблем, возникающих в реальной жизни. Многие вопросы, связанные с составлением и развитием этих собраний, остаются открытыми: непонятно, например, мидраш ли предшествовал закону – или наоборот. Впрочем, для наших целей нет необходимости касаться этих спорных тем.
Мишна и мидраш – создания таннаев, или «таннаим», израильских мудрецов периода, завершившегося к концу II в. н. э. Позже появились две редакции Талмуда: Иерусалимский (Палестинский) и Вавилонский. Талмуд, истолкование Мишны, стал краеугольным камнем не только для трудов самих талмудистов, но и для творчества раввинов в грядущие века. Две редакции Талмуда, основанные на работах таннаев, составляют огромный корпус текстов, на протяжении всего Средневековья служивший отправной точкой для иудейской творческой мысли во всех возможных дисциплинах. Огромные кодексы – как, например, Кодекс Маймонида – целиком основывались на Талмуде. На протяжении Средних веков талмудические тексты служили основанием всей иудейской философии, этики и мысли. Неудивительно, что этот корпус текстов был узловой точкой любого традиционного иудейского образования.
Нам важно отметить, что обе редакции Талмуда сохранили для нас обширную сокровищницу источников таннаев, не включенных в Мишну и в различные редакции галахического мидраша. Эти источники, которые сохранились в раввинистической традиции благодаря передаче от учителя к ученику и между учениками в академиях, но, в конечном счете, не вошедшие в свод таннаев, – остались в контексте талмудических рассуждений. И эти источники оказывают нам неоценимую услугу при изучении того, как складывался раввинистический корпус. Все источники таннаев написаны на языке, общепринятом у мудрецов в Земле Израильской – иврите, более развитом, чем библейский иврит. Основной текст Талмуда, напротив, в основном написан на близкородственном ивриту арамейском: западный или иудео-арамейский диалект используется в Иерусалимском Талмуде, восточный или вавилонский диалект – в Вавилонском.
Для нашего исследования важно немалое число фактов, относящихся к раввинистическому корпусу. Прежде всего, необходимо отметить, что раввинистический корпус включает в себя не только законы (галаха), но и предания (агада). Поначалу агадот (легенды) сохранялись в законодательном своде таннаев, Мишне, а затем – в Талмуде амораев. Составление из них отдельных сборников произошло уже позднее. Агада – это продолжение некоторых библейских эпизодов, в том числе Книг Паралипоменон (Летописей). В ней – предписания и моральные увещевания раввинов; объяснение рационального смысла заповедей; религиозные, нравственные, философские, духовные наставления для иудеев. Агада, как и мидраш, строится на фрагментах библейских повествований, данных в виде отдельных рассказов и аллегорий. Хотя закон в раввинистическом каноне занимает центральное место, в конечном счете, как и в самой Библии, он оказывается частью повествования, придающего ему смысл и значение[831].
Стоит отметить еще два любопытных факта, уникальных для раввинистического канона и резко отличающих его от библейского. Первый – феномен противоречивости, характерный для раввинистического корпуса. В отличие от библейского канона, стремящегося согласовать противоречивые взгляды и традиции, раввинистический канон плюралистичен. Он сохраняет множество различных мнений и представляет конфликтующие точки зрения почти по каждому вопросу галахи и агады. В Мишне часто встречаются различные мнения, а Талмуд, как правило, представляет целый спектр мнений по каждой проблеме. В результате мы знакомимся приблизительно с 120 израильскими таннаями периода Мишны и с несколькими сотнями амораев из Израиля и Вавилонии периода Талмудов. Каждое раввинистическое собрание – коллективный труд, созданный многими мудрецами на протяжении поколений. Есть и вторая уникальная характеристика раввинистических текстов, тесно связанная с первой: по неизвестным для нас причинам эти тексты несколько столетий бытовали в устной форме, прежде чем были записаны. Об этом различии между библейским и раввинистическим каноном говорят сами талмудические мудрецы: «То, что записано, можно не передавать устно, а то, что передается устно, можно не записывать» (вав. Гит 60b).
Еще один интереснейший феномен, связанный с раввинистическим каноном и имеющий прямое отношение к нашему исследованию, – то, что этот канон не переводился ни на греческий, ни на латынь, ни на другие языки. В отличие от Пятикнижия, уже в III в. до н. э. переведенного на греческий, а затем и на арамейский, раввинистический канон в течение многих столетий оставался доступен только в оригинале. Далее мы проанализируем причины этого удивительного феномена и его последствия.
География раввинистического корпуса
Каковы же географические «параметры» описанного выше раввинистического корпуса текстов?
Мы уже отметили, что сама суть этого корпуса благодаря своему плюрализму позволяет нам познакомиться с сотнями раввинов, чьи мнения в нем отражены. Поразительно, что почти все мудрецы, цитируемые в Мишне и другой литературе таннаев, жили в Земле Израильской, в то время как Талмуд свидетельствует о распространении диаспоры на восток, к Вавилонии. Но во всех этих сводах мы не встретим ни единого упоминания о мудрецах, которые жили, учились и учили в иудейской диаспоре к западу от Земли Израильской, то есть в северном или южном Средиземноморье. В Иерусалимском Талмуде упоминаются мудрецы из Северной Африки или Каппадокии. Однако во всех этих случаях речь идет об очень малоизвестных ученых, о которых мы ничего не знаем, – в отличие от признанных мудрецов, стоящих в центре повествования, о которых нам сообщается немало биографических сведений. Более того: из контекста следует, что сами эти ученые или их предки, желая изучить Тору, переехали из родных мест в Землю Израильскую[832].
Кроме того, раввинистический корпус создавался во многих хорошо известных израильских общинах, а затем в Вавилонии. Важно отметить, что все академии, занятые собиранием и изучением устного закона, так называемые ешивы, или ешибот, находились в Земле Израильской или к востоку от нее. А в землях к западу от нее мы, напротив, не только не знаем ученых, принимавших участие в составлении раввинистического корпуса, но ничего не слышали и о каких-либо учебных заведениях, где бы он изучался. Доходила ли Мишна до Рима, Византии, Малой Азии? Изучалась ли там? Очевидный ответ: скорее всего, нет.
В Талмуде упоминаются всего двое мудрецов-раввинов с Запада: Тодос «иш-Роми» (из Рима) и Маттия бен Хереш. Последний приехал из Израиля в Рим, чтобы основать там ешиву. Однако, как ни парадоксально, упоминания об этих ученых столь кратки и незначительны, что указывают, в сущности, на почти полное отсутствие раввинистического учения на западе. Во всей раввинистической литературе мы читаем об учении лишь одного западного мудреца: Тодоса. В книге говорится, что он учил брать агнца для жертвоприношения в ночь Пасхи, и другие раввины сказали ему: «…это похоже на то, что он их заставил есть святыни вне Храма» (т. Бейца 2:15)[833]. Аналогично этому, во всей раввинистической литературе мы встречаем лишь одно приписываемое ему гомилетическое учение. Об этом мудреце известно настолько мало, что исследователи не могут прийти к определенному мнению даже о времени его жизни, относя его то к I в. до н. э., то к I в. н. э.[834]. Как объяснить, что мы столь мало знаем о видном мудреце из Рима? Нет ни одного другого значительного танная или амора, о котором мы не знали бы, в каком поколении он жил и учил, чем занимался, кто были его учителя, кто ученики. Более того: возможно ли, чтобы от видного ученого сохранились в Талмуде лишь один закон и одно гомилетическое учение, да и те упомянутые вскользь, как бы между прочим? Логично предположить, что в Риме действительно жил иудейский религиозный лидер по имени Тодос; однако то, что в Талмуде он почти не упоминается, наводит на мысль о недостатке контактов между палестинскими мудрецами и римской иудейской общиной.
Схожим образом обстоит дело и с упоминанием рабби Маттии бен Хереша: хотя мы и читаем, что он переселился из Израиля в Рим, чтобы основать там ешиву (см.: вав. Санх 32b), любопытно отметить, что в конечном счете о его деятельности в Риме мы так ничего и не узнаем. Удалось ли ему основать ешиву? И если да, кто в ней учил и кто учился? Во всей раввинистической литературе мы не встречаем ни единой новой идеи, вышедшей из этой ешивы. Какой контраст со всеми раввинистическими центрами в Израиле, а затем в Вавилонии, о каждом из которых мы получаем из литературы массу сведений!
«Вне поля зрения»
В мидраше Сифрей мудрецы рассказывают такую историю:
Однажды власти подослали к евреям двух своих шпионов: им приказали притвориться евреями и выведать, что же такое Тора. Они пришли к равви Гамлиэлю в Уше, и изучали у него Библию, и Мишну, и Мидраш, и законы, и Агаду (предания). Вернувшись оттуда, они [шпионы] сказали: «Все в Торе прекрасно и достойно похвалы, кроме одного: она разрешает воровать у неевреев, а у евреев воровать не разрешает. Но властям мы об этом не скажем»[835].
Согласно этой раввинистической истории, римское правительство хотело ознакомиться с Торой и для этого отправило двоих своих агентов в Ушу, центр изучения Торы того времени, расположенный в Галилее. Казалось бы, естественнее для правительственных агентов было отправиться в латино– или грекоязычную школу, расположенную поближе. Очевидно, мудрецы дают нам понять, что житель Рима, желающий изучить Тору, должен был для этого приехать в Израиль. Как мы увидим далее, мудрецы поддерживали некоторые контакты с Римом, самым значительным из западных городов, которые им случалось посещать. Итак, если верно, что римлянин, желающий изучить Тору, должен был для этого ехать в Израиль – тем более верно это было и для жителей других западных городов!
Иудейский календарь сложен, он включает в себя и лунный месяц, и солнечный год. Во времена Храма и даже после его разрушения, вплоть до 359 г. н. э., продолжительность каждого лунного месяца определял Синедрион. Начало нового месяца утверждалось Синедрионом на квазисудебном процессе, где заслушивались показания свидетелей, видевших на небе молодую луну. Установив, когда начался новый месяц, важно было оповестить об этом всю иудейскую диаспору, поскольку к началу месяца были привязаны даты праздников и связанных с ними ритуалов. Понятно, что единой общине требуется единый календарь – важнейший элемент ее общинной идентичности. Мишна рассказывает нам, что в определенный момент была выработана система оповещений отдаленных общин о наступлении нового месяца с помощью сигнальных костров:
А откуда воздымали светочи? С горы Масличной к Сартабе, с Сартабы к Гропине, с Гропины к Хаурану, с Хаурана к Бет-Билтин, а с Бет-Билтин не двигались, но он удалял (светоч) и приближал, подымал и опускался, покуда он не видел пред собою всю диаспору точно горящий костер (м. Рош ха-Шана 2:4)[836].
Мы не утверждаем, что этот текст исторически точен в своих сведениях о том, как диаспора получала извещение об установлении нового месяца – однако этот источник, несомненно, дает нам понять, как составители Мишны представляли себе иудейскую диаспору. По их словам, известие об установлении нового месяца передавалось только на восток. Вопрос о том, как и откуда должна была узнавать эту новость западная диаспора, их не беспокоил[837].
То, что западная часть диаспоры оставалась вне поля зрения мудрецов при установлении галахи, подтверждает и Мишна. Трактат «Ядаим» повествует о споре между мудрецами по вопросу о десятине (маасрот) и дарах священникам (трумот) в субботний год, приносимых за пределами Израиля. Мишна рассказывает, что в двух областях за пределами Израиля, в Амоне и Моаве, местные иудейские общины добровольно возложили на себя обязательство платить десятину и посылать дары священникам. Далее Мишна поднимает вопрос о том, какую десятину эти области должны были платить в субботний год, когда в самом Израиле десятина не платилась, поскольку в этом году запрещалось работать на земле. Вот как описывает Мишна спор, возникший об этом в академии:
В тот день сказали: в земле Аммонитской и Моавитской какая пошлина в субботний год? Р. Тарфон решил: десятина бедных, а Элазар сын Азарии: вторая десятина… Ответил р. Тарфон: Египет вне Земли, и Аммон и Моав вне Земли: как в Египте десятина бедных в субботний год, так и в Аммоне и Моаве в субботний год десятина бедных. Ответил рабби Элазар сын Азарии: Вавилон вне Земли, и Аммон и Моав вне Земли: как в Вавилоне в субботний год вторая десятина, так в Аммоне и Моаве в субботний год вторая десятина. Сказал р. Тарфон: оттого что Египет близок, там установили десятину бедных, дабы бедные в Израиле получили помощь оттуда в субботний год; а так как Аммон и Моав тоже близки, то и в них полагается десятина бедных, дабы бедные в Израиле получали помощь оттуда в субботний год… Собрали голоса и решили: Аммон и Моав отделяют в субботний год десятину бедных.
И когда р. Йосе сын Дамаскинки пришел к р. Элиэзеру в Лидду, этот спросил его: что нового было у вас сегодня в школе? Тот сказал: большинством голосов решено: Аммон и Моав отделяют в субботний год десятину бедных. Заплакал р. Элиэзер и сказал [Пс 24:14]: «Тайна Господня – боящимся Его; и завет Свой он открывает им»: пойди и скажи им: не бойтесь за решение вашего большинства: я имею предание от р. Иоанна сына Заккаева, который слышал от своего учителя, а этот от своего учителя, как закон, данный Моисею на Синае, что Амон и Моав отделяют в субботний год десятину бедных (м. Яд 4:3).
Ученые спорят о том, следует ли воспринимать этот рассказ как изображение исторических событий или как «романтическое» описание идеальной ситуации. Некоторые видят в нем историческое свидетельство о том, что у общин диаспоры был обычай отправлять в Израиль десятину и дары священникам. Другие считают этот фрагмент Мишны «романтическим» описанием взаимоотношений между Израилем и диаспорой[838]. Здесь не место обсуждать, кто из них прав. Тем не менее, хотя историчность этой Мишны подкрепила бы наш тезис, мы полагаем, что восприятие ее как романтической идеализации подкрепляет наш тезис еще сильнее. В Мишне упоминаются все диаспоральные центры востока – Египет, Амон, Моав и Вавилония; но западные центры диаспоры, очевидно, находятся вне галахического поля зрения автора Мишны, даже в теории или романтическом представлении. Иными словами, даже в воображении автора Мишны западная диаспора не воспринималась как потенциальный источник десятины или священнических даров для Израиля.
Странствующие мудрецы
У нас есть точная информация о том, что виднейшие раввины Земли Израильской не раз бывали в Риме с политическими целями, например для встреч с императорами. Подробные предания об этих встречах существуют со времен Иуды Маккавея, то есть со II в. до н. э. (1 Мак 8). В раввинистической литературе отмечены и более поздние путешествия мудрецов из Явне в Рим[839].
Логично было бы предположить, что, наряду с этими визитами, мудрецы посещали и иудейскую общину в Риме. Однако, как ни поразительно, хотя обычно такие визиты в раввинистической литературе упоминаются, в наших источниках нет ни одного упоминания о таком визите в иудейскую общину Рима, или о том, что во время путешествия в Рим к иудейским мудрецам поступали бы от местной общины какие-либо вопросы. Напротив, Мишна сохранила для нас вопрос, заданный странствующим иудейским мудрецам неиудейскими римскими учеными: «Спросили старцев в Риме: если Ему [Богу] не угодна авода-зара [идолопоклонство], почему же Он ее не уничтожает?» (м. Ав. Зар 4:7)[840]. Из самого содержания вопроса очевидно, что иудейским мудрецам, отвергающим идолопоклонство, его задают язычники-идолопоклонники[841].
Отправлялись ли виднейшие раввины Земли Израильской в общины диаспоры, дабы духовно поддерживать соплеменников, распространять среди них учение Торы и новый корпус, начавший развиваться? На первый взгляд из раввинистических источников складывается впечатление, что мудрецы много путешествовали и (как и утверждают многие исследователи) весь иудейский мир находился под их религиозным окормлением. Однако более внимательное изучение источников показывает нам, что мудрецы путешествовали в основном по Земле Израильской и сопредельным территориям, таким, как Кфар-Отенай[842], Ахзив[843], Лудакия к югу от Антиохии[844], Зуффрин в Сирии[845] и Габла на восточном берегу Иордана[846]. В других источниках упоминаются вопросы, присылаемые мудрецам из различных общин диаспоры: однако и здесь в подавляющем большинстве случаев речь идет об общинах в Израиле или на границе с Израилем (например Тивон, Гиносар, Сидон, Циппори и Хамат-Гадер). Три источника рассказывают о том, как иудеи из Асии приезжали в Явне, чтобы задать мудрецам вопрос об иудейском законе[847]. В вопросах этих, однако, шла речь о проблемах чистоты и нечистоты, для диаспоры неактуальных. Гдалия Алон предлагает этому правдоподобное объяснение: делегация приехала из Эцион-Гебера, с южных границ Израиля, и мудрецы подвели ее под действие законов о чистоте и нечистоте в том их виде, как те принимались в Израиле[848].
Есть и другие талмудические источники, на первый взгляд, демонстрирующие связь между раввинистическим центром и иудейским миром, находящимся на западе Средиземноморья, однако при ближайшем рассмотрении они оказываются дидактическими или агадическими источниками, а не историческими документами. Например, р. Иехуда, вавилонский амора II в., объясняет установление раббана Гамлиэля (Гамалиила) из Явне, принятое в свете вопросов, пришедших «из-за моря» (мединот хайям) (вав. Гит 34). Сейчас некоторые специалисты полагают, что понятие «мединот хайям» указывает на города на побережье Израиля[849]. Однако даже если считать, как предполагалось в прошлом, что речь идет о каких-то «заморских» городах – нет никаких доказательств, что эти слова относятся к той части иудейской диаспоры, которую мы здесь обсуждаем. Важно отметить, что этот источник представляет собой позднейшее вавилонское предание, отстоящее от раббана Гамлиэля на несколько поколений. Ни в израильской литературе, ни в литературе, современной раббану Гамлиэлю, мы не встречаем ему параллелей. Выглядит очевидным, что этот источник неисторичен, и амора, рассказывающий эту историю, явно даже не ожидает, что кто-либо увидит в ней рассказ о реальных событиях прошлого. Его комментарии представляют собой дидактическое объяснение установления раббана Гамлиэля, процитированного в Мишне под этим рассуждением. Равным образом и талмудические рассказы о средиземноморских путешествиях рабби Акибы – это классические агадические притчи-«сказки», в которых не следует видеть отражения исторических событий. Рассмотрим, например, историю о том, как рабби Акиба стал в море свидетелем кораблекрушения, а затем встретил в Каппадокии человека, который спасся с погибшего корабля, и тот рассказал: «Одна волна перебросила меня на другую, а другая на третью, пока я не достиг суши» (т. Иевам 14:5). Очевидно, эта история приведена для того, чтобы объяснить талмудический закон, о котором здесь идет речь: утопленника не следует объявлять умершим, пока не найдено его тело. Следовательно, этот рассказ – не исторический источник.
Однако, вопреки всему вышесказанному, некоторые раввинистические источники о путешествиях мудрецов кажутся неопровержимыми[850]. Более того: можно предположить, что в некоторых источниках о путешествиях мудрецов, хоть и неисторических, сохранились достоверные предания о поездках, которые предпринимал тот или иной мудрец[851]. Но, на наш взгляд, эти источники – лишь исключения, подтверждающие правило, поскольку они свидетельствуют о скудости контактов между виднейшими раввинами и западной иудейской диаспорой. В них рассказывается об отдельных случаях контактов, не оказавших значительного влияния ни на ту, ни на другую сторону. Очевидно, что скудость этих источников, в сравнении с огромным обилием тех, которые документируют поездки мудрецов в общины диаспоры вблизи границ Израиля, и еще большим числом тех, что повествуют о постоянных путешествиях между Землей Израильской и Вавилонией, – подтверждает мысль о том, что раввинистический центр в Израиле не имел прочных связей с иудейской диаспорой на Западе[852].
Революционные перемены в мире по разрушении Храма
Здесь перед нами встает множество важных вопросов. Прежде всего: каковы были практические следствия отчуждения западных общин (в отличие от общины восточной) от раввинистического центра? Проявлялось ли это отчуждение лишь в недостатке сотрудничества в вопросах религиозной организации жизни и религиозного творчества, или же имело и более далеко идущие последствия? Далее: что стало причиной такого разлада? Эти два вопроса очевидно взаимосвязаны, однако для начала мы рассмотрим их по отдельности, и лишь затем попробуем воссоздать более общую картину, рожденную ответами.
Для начала обсудим практические следствия отчуждения. Несомненно, любое отдаление общины диаспоры от ее духовного центра должно иметь для общины серьезные последствия. Может ли такая община до какой-то степени оставаться частью той, от которой она отдалилась, – или же они пойдут разными путями и со временем утратят между собой даже культурное сходство? Может ли такая община, отделенная от духовного центра, продолжать существование в качестве отдельного и независимого сообщества?
Эти вопросы, в принципе, уместные для любой общины диаспоры и в любую эпоху, особенно важны для той реальности, с которой столкнулось иудейское сообщество после разрушения Храма. Период этот стал для иудейского сообщества трудным и тревожным. В нем не было стабильности, которая позволила бы общине, временно оторванной от центра, быстро и легко восстановить прерванные связи. Напротив: даже последние годы перед разрушением Храма уже характеризуются быстро нарастающим расхождением в религиозной практике и в понимании закона между общиной в Земле Израильской и общинами диаспоры[853]. Однако, несмотря на этот разрыв, Храм оставался признанным духовным и религиозным центром, авторитет которого, благодаря его древности, славе и не в последнюю очередь реальному существованию, признавался повсеместно[854]. Однако после разрушения Храма продолжать централизованное поклонение Богу Израилеву со средоточием в Храме, безусловно, стало невозможно. Вместе с разрушением Храма рухнула и административная структура иудейской жизни. Раввинистическая верхушка, о которой мы ведем речь в этой статье, ответила на гибель Храма беспрецедентным подъемом мужества и творческой энергии. Помимо создания нового корпуса раввинистических текстов, о которых шла речь выше, раввины, по сути, создали новые обряды и виды богослужения. Например, были учреждены новые праздничные ритуалы, уже не связанные с Храмом, и составлены новые молитвы – замена храмовых жертвоприношений. В иудаизме, разработанном раввинами в мире по разрушении Храма, законы о чистоте и нечистоте утратили былую важность, зато упрочилось положение синагоги. Новые тексты, включающие в себя законы, предание и богослужебные документы, заняли центральное место как в ритуалах, так и в структуре общины. Мы полагаем, что эти резкие перемены в самой сущности иудейской общины не были – или практически не были – перенесены в иудейские общины, живущие на западе.
Рассмотрим два примера, демонстрирующие нам глубину и серьезность этого «переворота».
Пасха
В период Второго Храма праздник Пасхи отмечался принесением в Иерусалиме пасхальных жертв. В эпоху Храма центральным событием этого всенародного праздника было массовое паломничество в Иерусалим и публичное жертвоприношение. Разумеется, основным местом празднования Пасхи в этот период был Иерусалим[855]. Кроме того, по всей видимости, соблюдались библейские установления: запрет держать в доме хамец (квасное) и требование есть мацу (хлеб из пресного теста). Жертвенные агнцы закалывались во дворе Храма, но ели их по всему Иерусалиму, как гласят раввинистические источники[856]. Кроме того, по описанию Тайной Вечери в христианских источниках мы видим, что это была пасхальная трапеза:
В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху (Мф 26:17–19).
Этот источник свидетельствует и о том, что на пасхальной трапезе не только ели мясо жертвенного ягненка, но и воспевали галель (хвалебные молитвы): «И, воспев, пошли на гору Елеонскую» (Мф 26:30). В Книге Юбилеев пасхальная трапеза также включает в себя мясо, вино и пение молитв (Юб 49:6); то же и у Филона, который описывает этот праздник так: «Собирались они не для того, чтобы, как на прочих трапезах, наполнить себя пищей и вином, но чтобы исполнить обычай предков молитвой и песнопением» (Особ. зак 2.148). О том, что поедание жертвенного мяса сопровождалось воспеванием хвалы, говорится и в источниках таннаев[857]. Однако ни в одном источнике не говорится о том, какие именно тексты воспевались в пасхальную ночь.
«Пасхальная Агада», из которой берут наставления по празднованию Пасхи современные иудеи, была создана первыми поколениями таннаев после разрушения Храма как замена пасхального жертвоприношения и основанного на нем торжества. Мишна в десятой главе трактата Псахим дает параллель этой агаде: в ней упомянуты все таннаи из поколения учителей Явне (р. Гамлиэль, р. Акиба, р. Тарфон, р. Элазар, р. Цадок)[858]. Во времена Храма не только не существовало организованного и структурированного текста о праздновании иудейской Пасхи: у нас нет и никаких свидетельств того, что заповедь «рассказывать историю исхода из Египта» (сипур йеши’ат мицраим) была частью пасхального ритуала[859]. Эту заповедь сформулировали и ввели таннаи как замену пасхального жертвоприношения, прежде – важнейшего элемента церемонии, но впоследствии, с разрушением Храма, утраченного. Мудрецы создали эту агаду как текст, который должен был стать центральным элементом нового, переосмысленного праздника[860]. Важно отметить, что апокрифы и псевдэпиграфы Израиля и западной диаспоры не упоминают ни об этой агаде, ни о заповеди повторять в пасхальную ночь историю исхода из Египта.
Как праздновали Пасху после разрушения Храма в западной диаспоре? Были ли переданы на запад новые праздничные ритуалы, созданные раввинами – с чтением текстов и рассказыванием преданий вместо жертвоприношения? Был ли принят западными общинами какой-то единый текст? Прежде чем мы начнем отвечать на эти вопросы, позвольте нам заострить проблему, приведя еще один пример раввинистических нововведений – единообразный набор молитв.
«Молитвенное правило»
Практику «молитвенного правила» мы не встречаем ни в библейских источниках, ни в других древних культурах. Обязательное чтение определенных молитв не упоминается и в источниках эпохи Храма: ни в апокрифах и псевдэпиграфах, ни в сочинениях Филона и Иосифа Флавия, ни в Новом Завете[861]. Мы знаем, что во времена Храма жертвоприношения сопровождались молитвами, скомпилированными из библейских стихов, прежде всего из Псалтири. Само представление о молитве как отдельной форме богослужения – новшество, введенное раввинистической верхушкой уже поколения спустя после разрушения Храма. Масштаб этого нововведения – не только в самом признании ценности молитвы, независимой от храмовых ритуалов, но и в том, что молитва стала обязательной и четко структурированной. На место спонтанной молитвы, проистекающей из чувств человека и его внутренней духовной потребности вступить в общение с Богом, пришли обязательные молитвы с единым для всех текстом, произносимые в определенном порядке в определенное время.
Исследования свидетельствуют и о том, что древние синагоги во времена Храма были местами не богослужения, а прежде всего чтения Торы. Эзра Флейшер показал, что в Новом Завете мы встречаем много упоминаний о том, как Иисус читает Тору в синагоге, учит там, отвечает на вопросы, – однако ни разу не видим, чтобы он там молился. То же верно и для визитов Павла и других апостолов в синагоги диаспоры. Молитва в Новом Завете – дело скорее индивидуальное, даже интимное, чем общественное. Постоянно звучит тема синагоги как места для чтения Торы и для проповеди, но не для молитвы[862]. Таким образом, новый формат молитв знаменовал собой значительное изменение религиозной жизни. Упорядочение и введение обязательности молитв стало частью более широкой раввинистической реформы, призванной создать новое богослужение, замену прежних храмовых ритуалов. Порядок требовался и для решения мирских задач. Упорядоченные ритуалы помогают создать вокруг них четко структурированную общину. Богослужение в Храме не было спонтанным – и новому богослужению также предстояло обрести упорядоченный, структурированный формат. У нас есть однозначные сведения, связанные с поколением Явне, первым после разрушения Храма, и гласящие, что мудрецы того времени интенсивно работали над составлением и введением в практику структурированных молитв[863].
Желая придать новой практике респектабельность, раввины утверждали во многих источниках, что практика обязательных молитв – древняя и восходит еще ко временам до Храма[864]. Однако эти источники не доказывают реального существования обязательных молитв в тот период. История молитвы, как и история галахи в храмовый период, скрыта туманом неизвестности. Ясно лишь одно: одной из важнейших своих задач мудрецы поколения Явне считали создание структурированных молитв как часть переосмысления иудейской идентичности и создания новой формы богослужения, которая должна была возместить иудеям утрату Храма[865]. Здесь, как и в других областях религиозной жизни, творческий гений поколения Явне спас иудаизм, придав самому его миру новую форму. Быть может, этот новый мир не был сотворен «из ничего». Исследователи спорят о том, до какой степени молитвы, установленные раввинами, могли быть основаны на текстах и практиках древнего дохрамового периода. Однако нам представляется, что на этот вопрос мудрецы из Явне уже дали ответ. Само изобилие свидетельств о том, что проблема молитвы привлекала неизменное и настоятельное внимание мудрецов, ясно показывает, что молитва рассматривалась как серьезное нововведение, отличное от известной и освященной временем практики. Мы видим это, например, в талмудическом рассказе о молитве «Амида» – сердцевине богослужения:
Р. Гамалиил говорит: человек должен каждый день читать восемнадцать славословий; р. Иисус говорит: извлечение из восемнадцати; р. Акиба говорит: если тефилла идет плавно из уст, то читают восемнадцать славословий, а если нет, читают извлечение из восемнадцати. Р. Элиэзер говорит: тефилла, сделанная правилом (то есть читаемая по установленному тексту или как повинность), не может считаться молением (м. Брах 4:3–4).
По-видимому, раббан Гамлиэль (Гамалиил) из Явне предстает в этом тексте как пламенный сторонник вновь сформулированного набора молитв. Его коллеги р. Йегошуа (Иисус) и р. Акиба занимают более мягкую, компромиссную позицию. С другой стороны, р. Элиэзер бен Гиркан, известный как консервативный «таннай», стремится сохранить древнюю традицию молитвы, ставя под вопрос саму концепцию предписанных молитв. Р. Элиэзер хочет сохранить «молитву-прошение», личную и интимную молитву, известную нам из времен Храма[866]. Поэтому он противостоит таким молитвам, текст которых известен заранее[867]. Р. Йегошуа и р. Акиба более склонны к компромиссу. Однако сам по себе этот факт показывает, что раббан Гамлиэль, один из наси, стремился ввести молитву с фиксированным текстом. Р. Акиба поднимает вопрос о том, хорошо ли молящиеся знают текст молитвы – очевидно, что речь здесь идет о фиксированном тексте, установленном раббаном Гамлиэлем. То, что этот текст был создан во времена раббана Гамлиэля, подтверждает и следующая барайта: «Еще прежде раббана Гамлиэля Шимон ха-Паколи в Явне установил восемнадцать славословий в должном порядке» (вав. Брах 28а)[868].
Даже если мы примем мнение некоторых исследователей о том, что молитва «Амида» восходит к концу храмового периода, барайта недвусмысленно показывает нам, сколь большое значение придавали мудрецы периода Явне обязательным молитвам, произносимым в установленное время, в установленном порядке, с установленным текстом[869].
Язык
Второй вопрос, который мы задали выше, касается того, дошли ли эти нововведения до всей иудейской диаспоры, включая и иудейский мир Запада. Факты, перечисленные нами вначале, – то, что мудрецы не путешествовали в эти края; что западные мудрецы не внесли в новый раввинистический корпус практически никакого вклада; что нам неизвестны никакие иудейские академии в этой части света, – подводят к мысли, что иудаизм нового формата до этой части иудейской диаспоры не дошел. Однако хотелось бы продвинуться на шаг дальше и указать на еще один важный феномен, на наш взгляд, однозначно подтверждающий это заключение. Речь идет о языке.
Известно, что иудеи западной диаспоры говорили по-гречески, в то время как раввины – только на иврите и по-арамейски. Это усиливало отчуждение между двумя сообществами и, в сущности, не позволяло им установить какое-либо прочное общение. Здесь мы исходим из общепринятого положения, которое гласит, что иудеи на западе не знали ни еврейского, ни арамейского и их религиозная жизнь, включая молитвы и чтение Торы, проходила на греческом[870].
Исследование синагогальных надписей как в Израиле, так и на территориях западной диаспоры приводит нас к выводу о резких различиях между этими иудейскими общинами – различиях, связанных в первую очередь с языковым барьером. На территориях западной диаспоры найдено около сотни синагогальных надписей. Это источники чрезвычайно обогатили наши знания о грекоязычных иудеях. Все надписи сделаны на греческом языке – в отличие от находок в синагогах Израиля, где встречаются греческие, еврейские и арамейские. Сейчас нам известно и то, что этой языковой разнице сопутствуют серьезные различия в содержании. Некоторые идеи звучат лишь в греческих надписях, как в диаспоре, так и в Израиле, а в еврейских и арамейских надписях отсутствуют[871].
Более того: мы обнаруживаем греческие понятия, принесенные в Израиль с запада и нашедшие себе отражение в израильских надписях, однако не видим никаких следов параллельного движения в обратную сторону. Греческие надписи в Израиле отражают мотивы из мира раввинов; однако в греческих надписях западной диаспоры мы таких мотивов не найдем. Например, некоторые греческие надписи из Израиля гласят: «Да будет память его на добро и на благословение» – это буквальный перевод еврейской/арамейской фразеологии. В грекоязычной диаспоре, напротив, в надписях встречается слово евлогия («благословение»), но в ином контексте, чем в Израиле. В синагогах Израиля ощущается сильное влияние раввинистического взгляда на мир, в синагогах диаспоры – значительное влияние эллинистической культуры. Далее мы увидим, что на израильскую синагогу оказывали воздействие обе культуры, что она черпала как из еврейской, так и из греческой сокровищницы понятий[872]. Однако западная синагога ничего не брала у еврейской синагоги, существовавшей в Израиле[873].
Учение, молитвы, праздники – не по-гречески, а по-еврейски
Лингвистический разрыв между иудейской общиной в Израиле и Вавилонии и иудейской диаспорой на западе имеет, на наш взгляд, чрезвычайную важность для понимания развития иудаизма в этот период.
Глубочайшее значение раввинистических реформ в Израиле после разрушения Храма, которые мы обсудили выше на примерах молитвенного правила и новых ритуалов празднования Пасхи, состояло в том, что с их помощью раввины создали новую систему символических «привязок» верующих к иудаизму. На место Храма раввины поставили текст как новый «центр» – центр, идеально подходящий для рассеянного по миру сообщества. Мудрецы отредактировали и структурировали этот текст таким образом, чтобы каждый мог ощущать и выражать свою связь с общиной, просто читая его или повторяя наизусть. Если этот текст, помимо прочего, был нацелен на то, чтобы служить средством организации и кристаллизации общины – значит, всякий, кто не мог его прочесть и понять, оказывался от общины отсечен. Иудеи западной диаспоры знали библейский текст по-гречески. Мы уже упоминали, что в своих синагогах они читали Тору в переводе Семидесяти толковников. Однако новые тексты – Мишну, мидраш, молитвенник и агаду – они перевести не могли. Так, по иронии судьбы, сама попытка найти для иудейского сообщества новый связующий «цемент» обернулась отчуждением многолюдной и важной общины, – той, что больше всего нуждалась в связях с исторической родиной[874].
Разумеется, здесь мы должны предположить, что раввинистические тексты не переводились ни на греческий, ни на латынь. Предположение это основывается, в первую и главнейшую очередь, на отсутствии каких-либо упоминаний или даже косвенных намеков на существование в древности таких переводов. Далее, как мы уже упоминали, раввины решительно возражали против фиксации устного закона на письме. Долгое время, по всей видимости, несколько столетий Мишна передавалась исключительно из уст в уста. Можно ли перевести устный текст? Логично предположить, что это очень трудно, даже невозможно. Да и как запомнить устный текст, если не знаешь языка? Можно читать текст на языке, которого не понимаешь или понимаешь плохо; но едва ли возможно запомнить текст на незнакомом языке и надолго сохранить его в памяти. Библия была переведена на греческий и публично читалась по-гречески. Перевели ее и на арамейский – и раввины настаивали на том, чтобы в синагогах ее читали в оригинале и в арамейском переводе. Однако Мишна и другие раввинистические тексты не переводились ни на какой иной язык.
Молитвы, принятые раввинами, представляют собой пример конечного торжества еврейского языка. В раввинистической литературе ощущается заметное эллинистическое влияние, свидетельствующее о том, что мудрецы были не чужды греческому языку, а некоторые, возможно, даже хорошо его знали. Однако это влияние не нашло своего выражения в молитвах: в иудейском молитвеннике мы практически не встречаем греческих слов или выражений[875]. Молитвы были, в сущности, частью устного закона: поэтому они также передавались устно и были записаны не ранее, чем был записан сам устный закон. Первое свидетельство о письменном молитвеннике появляется в трактате Соферим, написанном в VII–VIII вв. Кроме того, у нас есть однозначные доказательства того, что мудрецы противились записыванию молитв – об этом мы читаем в Тосефте:
Книги, писанные красками, «сикрой», гумми и купоросом, подлежат спасению и генизе. Славословия [т. е. молитвенники], хотя заключают в себе имена Бога и многие места из Торы, не спасаются, но оставляются гореть; поэтому и сказали: «Записывающий славословия словно сожигает Тору». Однажды об одном записывающем молитвы донесли р. Измаилу. Р. Измаил пошел к нему сделать обыск. Когда он поднимался по лестнице, тот, узнав его, взял том славословий и бросил его в воду. Р. Измаил обратился к нему с такими словами: «Последний твой грех тяжелее первого» (т. Шаб 14:4) [ET: 13:4].
Раввины настаивали на использовании в молитвах чистого иврита, на том, чтобы молитвы оставались незаписанными и, разумеется, не переводились. Это приводит нас к однозначному выводу: эти молитвы не могли проникнуть в стены синагог грекоязычной диаспоры. Иными словами, решительные изменения в иудейском богослужении, произошедшие в первые несколько поколений после разрушения Храма и ставшие важным компонентом определения иудейской идентичности, как с религиозной, так и с социальной точки зрения, не коснулись иудеев западной диаспоры. По-видимому, западная диаспора осталась без институционализированной молитвы и без четкой структуры богослужения. Разрыв между диаспорами, вызванный непреодолимым языковым барьером, сделал новую структуру молитвы, разработанную раввинами, для западной диаспоры недоступной.
Стоит отметить на полях, что в апокрифической и псевдэпиграфической литературе мы не встречаем упоминаний о молитве «Амида»[876]. Об отсутствии собственной версии «Амида» в грекоязычном иудейском сообществе, по иронии судьбы, свидетельствуют и христианские «Апостольские постановления» IV в. (Ап. пост 7.33–38). В них имеется намек на то, что автор знаком с молитвой «Амида», читаемой в шаббат. Сама книга написана по-гречески: это заставляет специалистов задаваться вопросом, не читалась ли «Амида» в синагогах эллинизированных общин. Однако недавние исследования показали, что эти главы «Апостольских постановлений» происходят из Сирийской церкви, что вначале они были написаны по-сирийски, и лишь затем переведены на греческий. Общеизвестно, что Сирийская церковь поддерживала контакты с иудеями как в Сирии, так и в Израиле. Таким образом, можно предположить, что молитва, известная автору, не практиковалась в грекоязычных общинах – он узнал ее от иудеев Сирии или Израиля. То, что автор «Апостольских постановлений» пишет лишь об «Амиде», читаемой в шаббат, связано с его принадлежностью к христианской общине, собиравшейся для молитв только в субботу[877].
То же верно и относительно праздника Пасхи. Молчание греческих источников о содержании этого праздника и связанных с ним новых ритуалах, а также то, что эти общины не говорили по-еврейски, заставляет предположить, что в праздновании Пасхи они придерживались указаний доступного им текста – Септуагинты. Поскольку у нас нет никаких свидетельств того, что в западной диаспоре празднование Пасхи как-либо изменилось, логично предположить, что после разрушения Храма Пасху отмечали так же, как и до того – по Библии и по Септуагинте. Очевидно, праздник, как и в Иерусалиме, включал в себя трапезу, на которой ели мацу и, по словам Филона, воспевали хвалебные песни. Если на празднике рассказывали историю Исхода, то рассказывали ее по-гречески, на основании библейского повествования в Книге Исход. Филон, описывая празднование Пасхи, использует термин симпосий, который в апокрифической литературе относится к праздничному застолью с вином.
Пасхальная агада, по-видимому, первоначально существовала лишь в устной традиции, как и Мишна. Это предположение влечет за собой противоречивые следствия. С одной стороны, оно может указывать на то, что текст агады в сравнении с Мишной был менее организован и упорядочен. Десятая глава Псахим предлагает общие инструкции по празднованию Пасхи, однако не приводит текст, включающий в себя какие-либо специфические молитвы или благословения. Суть агады, какой мы ее знаем, состоит в пересказе (мидрашей) библейских стихов, относящихся к церемонии сбора первых плодов (Втор 26:5–8). Мишна указывает просто, что необходимо «изучать и толковать [дореш], начиная с «отец мой был странствующий Арамеянин», и что возможно свободное обсуждение текста. Если так, этот ритуал был вполне доступен и грекоязычным иудеям. Более того: мидраши окончательного текста агады состоят по большей части из стихов Книги Исход, рассказывающих историю Исхода из Египта.
С другой стороны, устная передача материала могла создавать для грекоязычной общины дополнительные трудности. Устная передача требует полностью полагаться на людей, знающих язык, способных запомнить материал и передать его другим. Даже если предположить, что на западе были специалисты, знавшие иврит, праздник Пасхи не отмечался в синагоге или на общем собрании, как молитва или чтение Торы – он праздновался дома, в кругу семьи. Можно не сомневаться, что в каждой семье западной диаспоры людей, говорящих по-еврейски, не было. Таким образом, необходимо предположить, что агада и требование рассказывать об исходе из Египта не были центральными элементами празднования Пасхи в западной диаспоре.
Уникальность текста этой агады выходит далеко за пределы ее компенсационного ритуального значения: молитва – вместо жертвоприношения, совершать которое стало невозможно. Кроме того, она компенсировала утраченный центр. До своего разрушения Храм служил центром для всей нации. Даже те, кто не мог добраться до Храма физически, в дни национальных празднеств и других важных событий обращали взор к Иерусалиму. Это место определяло собой и направляло пути всего сообщества. Богослужение, созданное мудрецами, призвано было не только заменить прежние ритуалы, но и создать новый способ определения сообщества. Членом сообщества становился каждый, кто в определенный день садился и читал определенный текст. Этот новый метод определения сообщества и связи с сообществом особенно хорошо подходил для общин, рассеянных в пространстве. Хотя диаспора существовала и во времена Храма, после его гибели ее положение резко изменилось – исчез связующий центр. Заменой этому центру, связующему и определяющему сообщество, стал текст. Таким образом, очевидно: кто не мог прочитать текст – не мог быть и членом общины читателей, для которых текст служил главным связующим звеном.
«Краса Иафета» или «Золотой телец»?
Теперь попробуем перейти к вопросу, вытекающему из уже сказанного: почему раввины даже не пытались перевести свое учение и распространить его среди иудеев западной диаспоры?
Мы полагаем, что последующие рассуждения прольют свет на рассказанную нами историю, дав историческое и богословское объяснение как расколу в иудейском мире, начавшемуся с I в. н. э., так и своеобразному развитию отношений между иудеями и христианами в этот период.
В мидраше Танхума рабби Иехуда бар Шалом, израильский мудрец IV в., объясняет, почему устный закон запрещено было записывать, вследствие чего он сделался недоступным для перевода:
Рабби Иехуда бар Шалом сказал: «Когда Святой, да будет Он благословен, сказал Моисею: «Запиши для меня» – Моисей спросил, будет ли и Мишна [дана] на письме. Однако, поскольку Бог предвидел, что в будущем народы мира переведут Тору и станут читать ее по-гречески, называя себя Израилем — для того, чтобы силы обеих сторон были равны [букв. «чаши уравновешены»], Святой, да будет Он благословен, сказал язычникам: «Говорите, вы Мои дети? Кому ведомы тайны Мои – те Мои дети!» А что это за тайны? Это Мишна, которая передается из уст в уста[878].
Когда мы говорим о писаной Торе, то «чаши уравновешены» – иудеи и народы мира по отношению к ней находятся в равном положении. Устный закон, напротив, для Израиля уникален: это тайна, секрет между Богом и Израилем. Хранить этот секрет значило избегать его перевода на греческий; и, чтобы предотвратить такой перевод, закон сохранялся в устной передаче.
По-видимому, этот мидраш представляет собой реакцию на притязания Церкви, представлявшей себя законной наследницей Израиля. Действительно: Священное Писание, Книга Книг, принадлежала уже не только иудеям. Ее принял христианский мир. Мишна, согласно этому мидрашу – это то, что отличает иудеев от христиан: в ней выражается сущность «бытия Израилем» – в виде секрета, переданного Богом. Следовательно, необходимо всеми силами удерживать эту устную Тору в иудейских руках, дабы с ней не случилось того же, что с Торой письменной: чтобы она не была принята язычниками, которые затем объявят «Израилем» себя.
В то время как христиане старались придать легитимности своим писаниям, присовокупив к ним старые писания и добиваясь того, чтобы они воспринимались и распространялись вместе – иудеи, напротив, стремились повысить легитимность своего канона, сделав его «тайной», секретом, который передан им Богом на сохранение.
Вот что мы читаем в Иерусалимском Талмуде:
Р. Зейра сказал во имя р. Элазара: «Написал Я ему важные законы Мои, но они сочтены им как бы чужие» (Ос 8:12). Но верно ли, что большая часть Торы записана? Из писанного научаемся мы большему, чем из переданного устно – так ли это? Должно быть так, как сказано: то, что передается нам из уст в уста, должно быть дороже тысячи записанных слов… В чем разница между ними и иными народами: ведь у них есть книги, и у тех есть книги, эти распространяют записанное, и те распространяют записанное? Но лишь мы знаем, что Бог любит устное более написанного, ибо сказано: «…ибо в сих словах Я заключаю завет с тобою и Израилем» (Исх 34:27), иначе говоря, дороже Богу то, что передается устно. Р. Йоханан и р. Иудан бен Шимон: один сказал: Если сохранишь то, что передано устно, и то, что написано, то заключу завет с тобой, если не сохранишь – не заключу завет; другой сказал: если сохранишь то, что передано устно, и исполнишь то, что написано, то получишь награду свою, если нет – не получишь награды своей (иер. Пеа 2:6, 17а)[879].
Многочисленные комментаторы не уставали подчеркивать важность устного закона и его превосходство над письменным; и действительно, существование устного закона – это то, что отличает Израиль от всех прочих народов. В свете вражды с христианством, основанном на том же Священном Писании, совершенно понятно, о ком идет речь: «Эти выпускают свои книги, и те выпускают свои книги»[880]. Мидраш Танхума, процитированный выше, делает важный следующий шаг. Согласно этому мидрашу, необходимо воздерживаться от перевода устного закона на греческий, дабы он не «просочился» к иным народам. Перевод на греческий легко может привести к его распространению, а это уничтожит уникальность евреев. Иными словами, раввинистические учения передавались устно именно для того, чтобы избежать их перевода.
Что же касается писаного закона – талмудические источники указывают, что к его переводу мудрецы относились положительно. Мишна говорит об этом:
Разница между книгами [Св. Писания] с одной стороны и тефиллин и мезузами с другой лишь та, что книги пишутся на всех языках, а тефиллин и мезузы пишутся только по-ашурийски [т. е. на иврите «ассирийским» или квадратным шрифтом]. Раббан Симон сын Гамалиила говорит: и книги дозволено писать (из иностранных языков) только по-гречески (м. Мег 1:8).
Вавилонский Талмуд объясняет, что перевод Писания на греческий язык был дозволен «из-за того, что случилось при царе Птолемее» (т. е. перевода LXX; вав. Мег 9b). Иными словами, перевод Септуагинты воспринимался как успех, даже как чудо. В том же разделе Талмуда далее мы читаем:
И р. Йоханан сказал: на чем стоят доводы раббана Симона, сына Гамалиила? Стих гласит: «Да распространит [букв. «украсит». – Прим. пер.] Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых [Быт. 9:27]… краса Иафета будет в шатрах Симовых» (вав. Мег 9b).
То же самое в Иерусалимском Талмуде излагается так:
Раббан Симон сын Гамалиила говорит: даже если говорить о Книгах, их дозволялось переводить только на греческий. Мудрецы проверили, и оказалось, что Тору можно было полностью перевести только на греческий… Рабби Ирмия сказал во имя Хийя бар Аббы: Аквила-прозелит перевел Тору перед р. Элиэзером и р. Йегошуа, и они похвалили его и сказали: «Ты прекраснее сынов человеческих» (Пс 44:3) (иер. Мег 1:8, 71а – b)[881].
Причина такой заботы о переводе – в неизбежном отсутствии буквальной точности. Невозможно перевести текст с одного языка на другой так, чтобы он остался «точь-в-точь таким же». По-видимому, однако, с греческим языком мудрецы такой проблемы не видели – «их дозволялось переводить только на греческий». Это связано с красотой и глубиной греческого языка – «красой Иафета». Особое отношение мудрецов к греческому языку прослеживается здесь совершенно ясно. Хотя они предпочитали перевод Аквилы, Септуагинта в их глазах также имела ценность. «То, что случилось при царе Птолемее» в цитированном нами выше отрывке из Вавилонского Талмуда описывается как чудо; такое же отношение встречаем мы и в античных грекоязычных иудейских источниках – в «Послании Аристея» и у Филона, где перевод Септуагинты также описывается как чудо, событие важное и однозначно позитивное; Филон говорит даже, что в память о нем был установлен особый праздник (Моис 2.25–43).
Однако некоторые источники представляют нам и совершенно иную картину. В Масехет Соферим, сборнике, составленном после Талмуда, примерно в VIII в., то, что случилось при царе Птолемее (перевод LXX), описывается так: «День этот был тяжелым днем для Израиля – как тот день, когда изваяли Золотого тельца, ибо невозможно было перевести Тору во всей ее полноте» (1:7). Подобные же выражения встречаем мы и в пост-талмудическом списке постов, дошедшем до нас во многих источниках. Один из самых известных озаглавлен Мегиллат Таанит Батра; он входит в книгу Халакот Гедолот, составленную р. Шимоном Каярой в Вавилонии IX в. В список входят посты, установленные в память о различных событиях, начиная от библейских времен и до событий вскоре после разрушения Храма. Этот список в дальнейшем воспроизводился во множестве галахических трудов. В нем мы находим такой пункт: «Вот дни, когда мы постимся ради Торы… 8-го тевета, во дни царя Птолемея, Тора была переведена на греческий язык, и тьма сошла на мир на три дня»[882].
В этом источнике не объясняется, почему перевод Торы на греческий язык стал трагедией, достойной оплакивания: по-видимому, авторы считали это самоочевидным. Суламифь Элицур, недавно предпринявшая детальное исследование этих списков, полагает, что в свете принятия Септуагинты христианами перевод Торы на греческий начал восприниматься как преступное действие, нанесшее ущерб евреям[883]. Элицур приводит даже древнюю формулировку, которая звучит так: «Ради блага Израиля не следовало переводить Тору». Это утверждение удивительно сходно со словами мидраша Танхума, который мы обсуждали выше, говоря об устном законе[884].
Из всего этого мы видим: мудрецы понимали, что их учение, переведенное на греческий язык, сделается всеобщим достоянием. Изначально радостное событие – восстановление связи с Торой для иудеев, не знающих иврита – сделалось поводом для скорби несколько столетий спустя, когда Тора перестала быть достоянием одного лишь еврейского народа, и у христиан появились основания говорить: «Израиль – это мы!» Это объясняет, почему раввины так настойчиво возражали против перевода устного закона.
Тора стала всеобщим достоянием – но хотя бы устный закон, наследие предков, иудеи продолжали хранить в секрете. Цена, которую пришлось заплатить за доступ к Торе грекоязычных иудеев, оказалась слишком высока; иудейская община не готова была выплачивать ее дважды. Мидраш Танхума делает и более далеко идущий вывод: устную Тору для того и оставили устной, чтобы избежать ее перевода.
Эпилог
Все вышесказанное приводит нас к заключению, что в иудаизме описываемого периода сложились два различных корпуса текстов: устный раввинистический корпус – и письменный корпус, включающий в себя апокрифы и псевдэпиграфы. Складывание этих двух корпусов отражало в себе развитие различных нормативных систем: западного иудаизма, основанного на записанной Торе, и иудаизма восточного, основанного на устном законе. Иудеи западной диаспоры не приняли новую раввинистическую традицию. Вместо этого они читали Библию (по-гречески и по-латыни) и исполняли ее заповеди так, как их понимали, и согласно имевшимся у них традициям. Как из иудейских, так и из неиудейских источников очевидно, что они соблюдали иудейские пищевые запреты[885], о которых в Библии говорится достаточно подробно[886].
Мы полагаем, что вакуум, возникший в западной диаспоре в результате отчуждения от раввинистических центров, был использован Павлом и первыми апостолами, а затем и отцами Церкви, начавшими распространять в западных иудейских общинах (наряду с языческим населением) свое учение. Остается фактом, что Павел практически не проповедовал на востоке; по всей видимости, он полагал, что его учение может быть принято в первую очередь на западе, в грекоязычной иудейской диаспоре. Иудеи из западных общин, как и те прозелиты, что к ним присоединялись, должны были легко принимать Павла – ученика Гамалиила I, который приходил научить их устному закону (и до некоторой степени научил)[887]. Серьезное преимущество Павла, а также некоторых ранних апостолов, состояло в том, что они учили и писали по-гречески.
Духовное отчуждение, существовавшее между западной диаспорой и раввинистическими центрами Израиля и Вавилонии, а также недостаток коммуникации с этими центрами, общавшимися и учившими на непонятном языке, облегчали Павлу доступ в синагоги и возможность там проповедовать. В западной иудейской диаспоре отсутствовала структурированная сеть связи, которая могла бы позволить ей вступить во взаимодействие с восточным иудаизмом, и это позволило Павлу и первым христианам заполнить вакуум, создав свою организованную и структурированную сеть. Сообщество, связавшее себя этими новыми узами, в значительной степени состояло из иудеев, отчужденных от своих братьев на востоке[888]. В последующие столетия некоторые из них стали христианами или иудео-христианами, другие остались «библейскими иудеями». Христианство воспользовалось отсутствием иудейского религиозного лидерства и заполнило этот вакуум – в собственных религиозных интересах. Еще один урок, вынесенный из состояния иудаизма на Западе, привел к тому, что у самих ранних христиан переход от устной традиции к записи преданий и учения произошел относительно быстро. Его начали Павел и другие апостолы, а продолжили евангелисты. Духовные основатели христианства скоро поняли, что распространению идей препятствует не только языковой барьер, но и сохранение их в устной форме. Возможно, этим и объясняется краткость «устной фазы» раннего христианства – как (в первую очередь) между проповедями Павла и публикацией его посланий, так и между учением и деяниями Иисуса и записью их после 70 г. н. э. Впрочем, эта тема заслуживает более внимательного исследования, поскольку напрямую связана с методологическими подходами к изучению Нового Завета.
Раздел 4
Психобиография. Иисус в своих контекстах
За гранью Швейцера и психиатров: Иисус как фиктивная личность
Дональд Кэппс
В книге «Иисус: Психологическая биография»[889] я сетовал на то, что в исследованиях исторического Иисуса психология занимает куда менее почетное место, чем, скажем, социология и антропология. Такое пренебрежение достойно сожаления: на многие ключевые вопросы об идентичности Иисуса невозможно ответить на уровне чистой социологии или антропологии, поскольку характер этих вопросов, по сути, психологический. Разумеется, если мы хотим выяснить, как себя понимал сам Иисус, нужно знать, какие типы религиозного авторитета были ему доступны, – скажем, пророк, учитель, целитель, мессия, – но его отождествление с какими-то из этих типов имеет психологический аспект.
Я буду говорить о диссертации Альберта Швейцера, получившей название «Психиатрическая оценка личности Иисуса»[890], поскольку именно эти критические замечания, опубликованные в первом десятилетии ХХ века, отбили у других желание исследовать Иисуса в свете психиатрии. Десятки лет эта критика, словно черная тень, затмевала любые психологические теории и концепции, примененные к историческому Иисусу. Я намерен показать, что фундаментальное расхождение между Швейцером и психиатрами касалось вопроса о том, бредил Иисус или нет. Я утверждаю, что ответ зависит от того, могут ли «идеи отношения» считаться бредовыми, коль скоро являются неотъемлемой характеристикой религиозной культуры, в которой жил Иисус. И вот то мнение, которое я намерен отстаивать: психиатры ХХ – ХХI веков не могут ответить на этот вопрос утвердительно – но это могли бы сделать современники Иисуса, опираясь на свои критерии. Конечно, не следует думать, будто их критерии обладали бы научной беспристрастностью, – они неизбежно отражали бы социально-политические предрассудки тех, кто их применял. А в завершение я предлагаю применить к Иисусу психологический конструкт иного рода – фиктивную личность. Мы можем это сделать, даже не будучи современниками Иисуса, ведь при этом нам не нужно утверждать, будто он страдал от бреда. И более того, концепция «фиктивной личности» хорошо выражает и то, как себя понимал сам Иисус, и то, как его понимали ученики и сторонники.
Швейцер критикует Штрауcа
После выхода «Вопроса об историчности Иисуса»[891] Швейцер семь лет изучал медицину, готовясь к врачебной работе в Африке, а потом защитил диссертацию «Психиатрическая оценка личности Иисуса», получив степень доктора медицины в Университете Страсбурга.
Как указывает Уэйн Роллинз, в труде, вышедшем еще раньше, в 1901 году, и названном «Тайна мессианства и страстей. Очерк жизни Иисуса», Швейцер критиковал тех, кто прилагал к Иисусу современные психологические теории, говоря о «мешанине мнений», порожденных «посредственными умами», которые, опираясь на «многие другие явления современности… переносят на Иисуса психологию наших дней, не всегда ясно понимая, что она неприложима к нему и неизбежно умаляет его величие»[892]. Он усилил атаки в 1913 году, с выходом упомянутой диссертации. Как считает Роллинз, Швейцер «не намеревался осудить всю психологию в целом, но только ее “ложные” или “любительские” образцы». Но критика привела к тому, что «библеистам, по сути, запретили обращаться к любым психологическим аспектам на протяжении большей части столетия»[893]. Роллинз приводит свидетельства «перемен в отношении» с конца 1960-х годов, когда психологическое толкование Библии стало более популярным[894]. Но по большей части психологию применяли не к Иисусу, а к апостолу Павлу[895].
И поскольку именно труд Швейцера, посвященный изучению Иисуса в свете психиатрии, привел к тому, что – повторим цитату: «…профессиональным библеистам, по сути, запретили обращаться к любым психологическим аспектам на протяжении большей части столетия», – то есть смысл обратиться к этой книге и попытаться понять, почему она оказала такое влияние, входило ли это в намерения автора или нет и насколько такое воздействие обоснованно.
Но прежде чем мы начнем говорить о сочинении Швейцера, следует напомнить, что в данном случае с критикой психиатрических исследований выступал ученый, применяющий историко-критические методы. И при этом Швейцер очень активно критиковал Давида Фридриха Штрауса, которого, как правило, считают вдохновителем первого длительного и научного поиска исторического Иисуса. Книга Штрауса «Жизнь Иисуса»[896], вышедшая в 1835–1836 годах, вызвала массу бурных протестов, так что в итоге ее автор потерял должность профессора Нового Завета в Цюрихском университете. Швейцер родился через сорок лет после выхода в свет этого труда. К тому времени историко-критический метод уже обрел прочное положение на богословских факультетах в Германии, так что Швейцер ознакомился с ним в начале 1890-х, изучая теологию в Страсбургском университете в Эльзасе, в то время немецком. Лекции о синоптических Евангелиях там читал Генрих Юлиус Гольцман. Он был сторонником теории, согласно которой первым появилось не Евангелие от Матфея, а Евангелие от Марка. В XIX столетии эта теория рождала споры, но сегодня ее принимают почти все библеисты.
Швейцер не отвергал историко-критического метода, но мыслил независимо и ставил под вопрос некоторые из фундаментальных выводов об Иисусе. В 1894 г., служа в немецкой армии, он готовился к экзамену по синоптическим Евангелиям в начале зимнего триместра. И однажды, читая 10 и 11 главы Евангелия от Матфея, Швейцер усомнился в правоте профессора Гольцмана, считавшего, что этот материал не историчен, а создан ранней Церковью. Швейцер полагал, что речь Иисуса, который отсылает учеников проповедовать, предупреждает о грядущих гонениях и говорит: «…не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий» (Мф 10:23) – аутентична. Суждения свои он строил на том, что мессианское Царство не наступило до конца их путешествия и они не испытали никаких гонений. Чарльз Райнд Джой, переводивший «Психиатрическую оценку личности Иисуса» на английский, отмечает: «Швейцер был убежден, что позднейшие поколения не приписали бы Иисусу слов, не подтвержденных событиями»[897]. (Здесь уместен «критерий смущения», свойственный поздней критике форм.)
Кроме того, Швейцер, опираясь на вопрос Иоанна Крестителя к Иисусу: «Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?» – предполагал, что Иисус думал о двух разных мирах: «…во-первых, о том естественном порядке, в котором они все тогда жили и где Иоанн был величайшим; а во-вторых, о грядущем очень скоро мессианском царстве, в котором самые меньшие из его сверхъестественных обитателей будут превыше Иоанна»[898]. Вернувшись с военной службы, Швейцер почувствовал, что перед ним открылись «новые горизонты». Он был убежден в том, «что Иисус не возвещал такого царства, которое он вместе с верующими мог бы найти и осуществить в естественном мире, – наступление царства ожидалось вместе с зарей нового сверхъестественного века, которая уже разгоралась»[899].
По мнению Швейцера, Иисус, когда к нему вернулись ученики, не испытавшие гонений, пересмотрел свои представления и пришел к убеждению, что ему самому надлежит пострадать до прихода царства, тем самым искупив грехи избранных и избавив их от дней бед и страданий. Свое новое убеждение в том, что он должен был претерпеть смерть и стать Мессией, когда придет Царство Божье, Иисус открыл ученикам в Кесарии Филипповой. И после, когда он, выйдя из уединения, присоединился к галилейским паломникам, идущим в Иерусалим, лишь ученики знали, кем он себя считал[900]. Позднее Швейцер развивал эту мысль, опираясь на представление, согласно которому Иисуса крайне волновала эсхатология, носившая глубоко апокалиптический характер, и он ждал конца знакомого мира и начала царствования Бога.
Швейцер понимал, что такие идеи не понравятся ни его преподавателям, ни тогдашним деятелям Церкви, считавшим, что Иисус говорил о таком Царстве Небесном, которое постепенно строится тут, на земле. Но, по словам Джоя, он был не готов столкнуться с «поверхностными мыслителями, надевшими наряды психологии и психиатрии», которые…
…найдут в его эсхатологическом образе Иисуса поддержку для своей уверенности в том, что Назарянин страдал психическим расстройством, возможно, истерией и, несомненно, паранойей. Эта новая психопатологическая школа видела в Иисусе человека, страдавшего галлюцинациями, бредовыми идеями отношения [то есть он претендовал на роль того, кем не был], манией величия[901].
Как отмечает Джой, в первом десятилетии ХХ века «стали выходить книги, которые глубоко расстраивали Швейцера. Там обсуждалось, в какой мере Иисус был склонен к экстатическим переживаниям, или прямо говорилось о его помешательстве, а в Евангелиях авторы этих опусов искали симптомы психопатии»[902]. Но эти авторы не обладали компетенцией для ответа на эти вопросы: «У них не было критического понимания источников. В своих выводах они опирались на исторически ненадежные материалы. И все же друзья говорили Швейцеру, что отчасти вина за это лежит и на его трудах»[903].
По мнению Джоя, для Швейцера написание этой книги:
…было неизбежным долгом. Сам он был убежден в том, что Иисус был совершенно в здравом уме. Тот факт, что Иисус разделял мессианские представления тогдашних иудеев и что он, будучи на самом деле потомком Давида, пришел к выводу, что в грядущем мире ему предстоит стать Мессией, – все это ни с какой разумной точки зрения не свидетельствует о психическом нездоровье[904].
Итак, вот вывод Джоя: «Психиатрическая оценка личности Иисуса» «родилась под влиянием мощной внутренней потребности. Ее просто необходимо было написать»[905].
Однако в своем предисловии к изданию от 1913 года Швейцер указывает, что в первую очередь предметом его критики были вовсе не психиатрические исследования, опубликованные не так давно. Скорее он критикует одну гипотезу Штрауса, высказанную тем в книге «Жизнь Иисуса». Штраус писал: «Иисуса, жившего в мире идей Книги Даниила и поздней еврейской апокалиптической литературы и считавшего себя “Сыном Человеческим” и “Мессией”, которому скоро предстоит явиться в сверхъестественной славе, в какой-то мере можно назвать психопатом»[906]. Однако в своем же тексте Швейцер указывает на то, что в переиздании «Жизни Иисуса», вышедшем в 1864 году с подзаголовком «Пересмотренное издание для немецкого народа», Штраус уже занимает более мягкую позицию. В первом издании, вышедшем в 1835–1836 годах, Штраус заявляет: «Иисус жил с донкихотской идеей о том, что в близком будущем ему предназначено явиться в сиянии сверхъестественной славы, в окружении ангелов, на облаках небесных, чтобы в качестве ожидаемого Мессии устроить суд над миром и установить царство, которому предстояло последовать»[907]. А значит, Иисус был «фанатиком». Штраус все же пытался «объяснить, что Назарянин, даже пребывая в плену фанатической идеи, тем не менее, как следует думать, вполне владел своими умственными способностями, поскольку эти его представления коренились в идеях, присущих позднему иудаизму»[908].
Однако в дни работы над вторым изданием «Жизни Иисуса» Штраус, по словам Швейцера, «так ярко чувствовал фанатизм представлений о Втором Пришествии, что… был склонен считать их чем-то близким к безумию, а потому сомневался в том, действительно ли высказывания, связанные с этим Пришествием, принадлежат Иисусу»[909]. И сомнение в аутентичности этих слов позволяло ему все так же полагать, что Иисус «вполне владел своими умственными способностями». Однако решение Штрауса увести высказывания о Втором Пришествии «на фон образа Иисуса» привело «к упрекам от некоторых критиков, которые сочли, что он отказался от своих более здравых представлений 1835 года»[910]. В сущности, чтобы сохранить свое убеждение в психическом здравии Иисуса, Штраусу пришлось сказать, что Иисус не ожидал своего Второго Пришествия и не отождествлял себя с ожидаемым Мессией.
И здесь Швейцер присоединяется к критикам: «…как мы все яснее постигаем в ходе исторических исследований, Иисус ожидал Второго Пришествия Мессии, думал прежде всего о нем, и эта идея господствовала над его чувствами, волей и поступками намного сильнее, чем мы предполагали ранее»[911]. К слову, Швейцер не упоминает, что сам внес вклад в развитие подобных представлений. Впрочем, в предисловии он отмечает, что в своем «Вопросе об историчности Иисуса» «… ярче, чем кто-либо из прежних исследователей, представил в мире мыслей Назарянина апокалиптику и то, что в свете современных представлений считается видениями и фантазиями»[912]. В диссертации Швейцер признает, что некоторые критики видели в этих новых идеях «воскрешение» ранней версии мыслей Штрауса. Поместив на первый план то, что Штраус называл «донкихотским и фанатичным элементом мира мыслей Иисуса», в новом образе Швейцер якобы «показал личность с яркими проявлениями этих болезненных свойств»[913].
Среди авторов подобных замечаний Швейцер цитирует своего преподавателя, профессора Генриха Юлиуса Гольцмана, а также Адольфа Юлихера и некоторых других людей, которые «постоянно напоминали» ему о том, что он «изобразил Иисуса, у которого реальный мир похож на фантазию». Кроме того, они «предостерегали» Швейцера, указывая на «медицинские книги, доказывающие, что Мессия евреев страдал “паранойей”»[914]. Иными словами, Швейцера обвиняли в содействии тем, кто считал Иисуса психически больным.
У Швейцера эта дискуссия почти все время строится вокруг вопроса о том, в какой мере можно считать аутентичными эти идеи, приписываемые Иисусу.
В самом деле, был предпринят ряд попыток, в которых мессианские притязания Иисуса и его ожидание Второго Пришествия, по сути, отнесены к явлениям неисторическим. Согласно этой гипотезе, Назарянин был простым еврейским учителем, а после его смерти ученики возвели его в ранг Мессии и вложили в его уста соответствующие аллюзии и выражения[915].
Швейцер упоминает книгу Вильяма Вреде «Мессианская тайна в Евангелиях» как «самую искусную попытку такого рода». Признавая ее искусной, он все же отмечает: «Отделить таким образом подлинные слова от неподлинных в источниках невозможно. Потому следует принять, что Иисус считал себя Мессией и ожидал своего величественного возвращения на облаках небесных»[916].
Хотя для Швейцера этот вопрос был решен окончательно, он стал одним из самых трудных и досадных для дальнейших исследователей. О нем спорят и сейчас, спустя сто лет, и ответ вносит раскол в ряды ученых. Но нас сейчас интересует другое. Швейцер был уверен, что Иисус считал себя грядущим Мессией, а это позволяло кому-то утверждать, что Швейцер, пускай и невольно, оказался среди сторонников идеи о том, что Иисус был психически болен. И именно поэтому критика в адрес авторов психиатрических исследований Иисуса была для Швейцера жизненно важной.
Швейцер и «Психиатрическая оценка личности Иисуса»
Продолжая наш разговор о диссертации Швейцера, я прежде всего хочу обратить внимание на то, как Иисус отождествлял себя с грядущим Мессией, и на то, как это его представление содействовало воззрениям психиатров, решивших счесть его страдающим от бреда. А кроме того, мы поговорим о точке зрения Швейцера, который полагал, что Иисус мог отождествлять себя с Мессией и при этом психически был совершенно здоров (иными словами, не бредил).
Швейцер начинает с общих замечаний о применении психопатологических подходов к изучению исторических деятелей. Такой метод, частью которого стало выявление у знаменитых людей психических нарушений, при этом еще и связанных с делом их жизни, стал «в недавнее время пользоваться дурной славой»[917]. Сам метод не порочен, он «может давать и уже давал ценные результаты, если его применяют профессионалы, учитывая его ограниченность», – но «…им злоупотребляли любители. Успех в такой работе достижим в том случае, когда соблюден ряд предварительных условий: точное знание источников, нужный опыт – медицинский, а особенно психиатрический, и более того, и источники, и опыт требуют критического отношения, – но подобное сочетание встречается редко». Большинству приверженцев этого метода недостает каких-то из этих качеств, а порой и всех, и потому мы встречаем в этой сфере «недоразумения грубейшего рода»[918].
Скажем, в психиатрии никто не будет судить о человеке исключительно на основании его поступков, так что «это всегда подозрительно уже само по себе». А если это верно относительно наших современников, «насколько сдержаннее следует быть, имея дело с людьми из далеких эпох, когда мы точно не знаем их традиций – и сомневаемся в том, что знаем»[919]. Сегодня большинство психиатров не склонно пользоваться таким методом, отчасти потому, что «они не считают психиатрию настолько совершенной и устойчивой, чтобы найти в ней нужные критерии для любых поступков людей», а отчасти потому, что, «…как они понимают, любые важнейшие действия человека следует понимать в условиях его эпохи»[920].
По мнению Швейцера, в случае Иисуса эти предосторожности особенно важны. Как он намерен показать, существуют «особые причины» не исследовать Иисуса в свете психопатологий, и эти причины «приобретают чрезвычайную эмоциональную ценность, когда встает вопрос о психопатологическом подходе к жизни Иисуса»[921]. А значит, нам следует особо строго требовать от исследователей соответствия этим предварительным условиям. Итак, труд Швейцера посвящен разбору мнений некоторых авторов с медицинским образованием, решивших исследовать образ Иисуса. И Швейцер намерен опираться как на психиатрию, так и на историко-критический метод.
Швейцер разбирает три текста: труд Георга Ломера «Иисус Христос глазами психиатра» (1905, на немецком, под псевдонимом Жорж де Лоостен); английский текст Уильяма Хирша «Выводы психиатра» (1912; труд переведен на немецкий как «Религия и цивилизация глазами психиатра»), и книгу француза Шарля Бинэ-Сангле «Помешательство Иисуса» (1910–1915, в четырех томах). Кроме того, он ссылается на книгу датчанина Эмиля Расмуссена «Иисус: Сравнительное психопатологическое исследование», немецкий перевод которой вышел в 1905 году. Поскольку Расмуссен был не психиатром, а религиоведом, Швейцер не разбирает его книгу подробно. И все же в диссертации, в одном из примечаний, он говорит о том, что подробно обсуждать эти воззрения нелегко из-за «хаотичного состояния представлений о психиатрии в разуме самого автора»[922]. Поскольку взгляды Расмуссена мало что добавляют ко взглядам трех психиатров, я тоже не стану упоминать о том, как его критиковал Швейцер.
Де Лоостен: психическое вырождение Иисуса
Швейцер начинает с представлений де Лоостена, который считал, что Иисус был:
…несомненно, полукровкой, с грязной наследственностью, и уже в раннем возрасте, как урожденный дегенерат, привлекал внимание крайне преувеличенным самосознанием наряду с высоким интеллектом и крайне слаборазвитым чувством семьи. Его самосознание постепенно развивалось, пока не дошло до жесткой системы ложных убеждений[923].
Странности этой системы «определялись интенсивными религиозными тенденциями эпохи, а также тем, что юный Иисус был страстно одержим книгами Ветхого Завета»[924]. По мнению де Лоостена, психопатология Иисуса созрела к моменту встречи с Иоанном Крестителем. Либо благодаря прямой поддержке Иоанна, либо из-за отношений с ним Иисус «начал открыто выражать свои идеи» и «шаг за шагом… пришел к тому, что стал связывать с собой все обетования Писания, которые из-за бедствий, постигших народ, стали жизненно важными, поскольку все питали надежду на их славное осуществление»[925].
Де Лоостен делает вывод, что «Иисус считал себя совершенно сверхъестественным существом»: лишь так объясняется то, что он самонадеянно присвоил себе божественные права, скажем, право прощать грехи. А евангельские указания на то, что Иисус, «насколько мог, скрывал мессианское достоинство, на которое притязал» (Мф 9:2, Мк 2:5–12, Лк 5:20; 7:48), он объясняет психологически: «В тот момент Иисус полагал, что ему не хватит последователей для воплощения притязаний»[926].
Слова Иисуса, сказанные юноше, желавшему похоронить отца: «Иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф 8:22) – и подобные высказывания позволили де Лоостену заключить: «Иисус нисколько не сомневается в том, что его божественная Утопия начнет сбываться очень скоро», и «…он уже не осознавал своей человеческой природы»[927]. И то и другое проявляется на пути в Иерусалим, к которому Иисуса подвигла «авантюрная идея с помощью насилия осуществить свои долго лелеемые притязания, о которых он тысячу раз говорил»[928]. Изгнание меновщиков из Храма было «поразительным актом насилия», повлекшим за собой арест. Перед арестом Иисус пребывал «в крайне нервном возбуждении. Он понимал, в какую рискованную игру играет, и невероятно страдал от бремени страхов и зловещих предчувствий»[929]. Это настроение отражает эпизод, когда Иисус без всякого смысла проклял смоковницу, излив «свое раздражение на беззащитное дерево», что можно объяснить только «вышедшим из-под контроля сильным волнением духа»[930]. Кроме того, чувство преследования, откровенно иррациональное, заставляет Иисуса бросить собравшимся вокруг обвинение в том, что они ищут убить его, на что те в изумлении отвечают: «Не бес ли в Тебе? кто ищет убить Тебя?» (Ин 7:19–20).
В Гефсимании Иисус пережил момент депрессии, а потом, когда пришла стража, чтобы арестовать его, «психоз» проявился со всей силой. Его «психическое расстройство» отражает допрос перед Синедрионом, где Иисус говорит первосвященнику, что судьи увидят его сидящим по правую руку Бога, как Сына Человеческого, и грядущим на облаках небесных[931].
Итак, Иисус обладал крайне переменчивым темпераментом и был подвержен «странной и на вид беспочвенной депрессии». На это указывают слова: «Душа Моя теперь возмутилась…» (Ин 12:27). Он страдал и от галлюцинаций – таким было, скажем, явленное ему при крещении «видение, несомненно, кардинально повлиявшее на последующие решения Иисуса». В данном случае это была и зрительная, и слуховая галлюцинация, что указывает на «крайне взволнованное состояние ума»[932]. Соглашаясь с тем, что мы не знаем, насколько часты были такие галлюцинации, де Лоостен «считает вероятным, что Иисус полагался на них, принимая решения, и что видения, подобные тем, какие он видел в момент крещения, повторялись и позже»[933]. Весьма вероятным он считал и то, что Иисус страдал, слыша голоса, словно бы исходящие из его собственного тела, как будто в нем обитал дух, решавший, что ему надлежит делать, а чего делать не следует, – и он слушался этих голосов. Кроме того, на основании одного эпизода у Марка (Мк 5:25–34), где говорится, что из Иисуса вышла сила и передалась женщине, страдавшей кровотечением, он предполагает, что Иисус «испытал некие ненормальные периферические ощущения, быть может, кожные, и пытался найти этому объяснение». Швейцер уделяет этой гипотезе особое внимание, сказав, что Иисус просто отметил чье-то прикосновение к своей одежде, и добавляет: «…утверждения о том, будто Иисус произнес эти слова, ощутив изошедшую из него силу, были наивной догадкой евангелиста»[934].
Наконец, де Лоостен считает, что Иисус «утратил сознание своей половой идентичности», что доказывают его слова о евнухах, ставших таковыми ради Царства Небесного (Мф 19:12). Связывая эту утрату сознания своего пола с утратой верности семье, он делает вывод: перед нами явный знак «психического вырождения par excellence»[935].
В отличие от нынешних читателей, современники Швейцера понимали значение слов «психическое вырождение». Теорию вырождения сформулировал в 1850-х годах французский психиатр Бенедикт Морель, объяснявший с ее помощью все хронические психические заболевания. Он считал, что прогрессирующие нарушения психики имели врожденный характер, а характеристики вырождения передавались от поколения к поколению, постепенно уменьшая количество потомков, пока данный род не вымирал. Это означало, что врач должен скорее исследовать патологическую наследственность родителей, а не искать органические причины психических заболеваний. Поскольку эта теория давала всеобъемлющее объяснение любому психическому заболеванию, она стала популярной и господствовала во французской психиатрии в 1880-х годах, а затем вошла в моду в Европе, включая Англию, и в меньшей степени в США.
Предполагаемое психическое вырождение Иисуса де Лоостен приписывал «гибридной» наследственности. Говоря о том, как психиатры пользуются подложными источниками, Швейцер отмечает, что де Лоостен считал отцом Иисуса римского солдата. По мнению де Лоостена, утрата сексуальной идентичности и привязанности к семье у Иисуса, его переменчивое поведение и эмоциональная неустойчивость соответствуют теории вырождения, согласно которой дегенераты чаще подвержены «импульсивности и навязчивым идеям» и испытывают «тревогу и ужас, когда их идеям не подчиняются», поскольку иначе «будет беда»[936]. Как видно, считалось, что вырождение особым образом связано с паранойей.
Уильям Хирш: параноидный психоз Иисуса
Уильям Хирш, по мнению Швейцера, выносит Иисусу максимально явный диагноз: паранойя. Система ложных убеждений, как считал Хирш, развивалась у Иисуса с детства. Иисус, «мальчик с необычайными умственными способностями» и «предрасположенный к психическим расстройствам», ведущим к постепенному формированию бреда, проводил «все свободное время за изучением Священного Писания, чтение которого, несомненно, внесло свой вклад в развитие у него психического заболевания. Когда в тридцать лет он явился народу, его паранойя уже вполне сформировалась»[937]. Это явно был один из тех случаев паранойи, когда присутствуют неожиданные и бесформенные психотические идеи, но нужны внешний шок и сильные эмоции, чтобы сформировалась систематическая структура паранойи. И такой толчок дал другой параноик, Иоанн Креститель, к которому Иисус отправился, желая присоединиться к «предтече Мессии».
После крещения, принятого от Иоанна, «заблуждение, долго питавшее ум Иисуса и гласившее, что он Сын Божий и что Бог уготовил ему роль Спасителя человечества, превратилось в визуальные и слуховые галлюцинации». Кроме галлюцинаций при крещении он, «должно быть, пребывал в состоянии непрерывного галлюцинирования» на протяжении сорока дней, которые потом провел в пустыне. Все его речи, основанные на якобы прямом откровении от Бога, «содержат ссылки на предшествовавшие им слуховые галлюцинации»[938]. Галлюцинаторным переживанием была и история преображения (Мк 9:2–8), поскольку, когда другие слышали гром, Иисус услышал голос с неба, заявивший о его грядущем прославлении (Ин 12:28–30).
Сорокадневное скитание по пустыне закрепило паранойю. Прежде бредовые идеи существовали по отдельности, в несвязанном виде. Но все изменилось:
[Они] слились в огромную системную структуру бреда; несомненно, в этот период Иисус неоднократно имел беседы с Богом Отцом, чье учение он проповедовал, и Бог Отец дал ему важнейшее поручение. Такое развитие заболевания, переход от латентной стадии паранойи к активной, – часто встречающаяся особенность этого психоза[939].
На протяжении трех лет после пребывания Иисуса в пустыне его непрестанная мания величия «стала тем центром, вокруг которого обращалось все остальное», и «ни одно руководство по психическим заболеваниям не может дать более типичного описания постепенно, но неуклонно развивающейся мегаломании, чем та картина, какую мы наблюдаем в жизни Иисуса»[940].
Хирш находит подтверждение своему диагнозу мании величия в некоторых высказываниях из Евангелия от Иоанна, начинающихся с «Я», и в различных проявлениях «идей отношения», то есть в текстах, где Иисус относит к себе предсказания пророков, – в частности, это текст о царе, который будет властителем мира. Тут он «проявляет одну из странных особенностей параноиков, которые относят к себе все что можно из увиденного или прочитанного». Его претензия на принадлежность к роду Давида типична для юных параноиков, которые «забывают про свое подлинное происхождение, обращаясь вместо этого к ярким и причудливым историям о своих предках»[941]; и кроме того, Иисус также ведет себя как типичный параноик, проклиная смоковницу.
Шарль Бинэ-Сангле: религиозная паранойя Иисуса
Если Хирш считал Иисуса типичным параноиком, Бинэ-Сангле предложил свой диагноз «религиозной паранойи», выделив три периода ее формирования: период зарождения и систематизации, галлюцинаторный период и период изменения личности. По возможности он старается отделить бредовые идеи от галлюцинаций и считает, что…
…первичный бред (изначальная навязчивая идея) возникает ex abrupto, без предварительного размышления. Дальнейшее развитие бреда есть явно логически последовательный процесс, и несмотря на ложность исходной гипотезы, в своих выводах этот бред вполне логичен. Он развивается путем постепенного расширения первоначальной идеи, которая не преображается и не теряет своего изначального отпечатка[942].
Как же это случилось?
Под влиянием разных событий и факторов – тут и общение с Иоанном Крестителем, и чудесные исцеления Иисуса, и изумление исцеленных, и восторг учеников. Из-за этого Иисус «начал верить в то, что он Мессия, царь иудейский, Сын Божий, истолкователь воли Божьей, Божий свидетель, а затем начал отождествлять себя с Богом»[943]. Угрозы фанатичных фарисеев и книжников «пробудили в нем и идею о том, что он – жертвенный агнец, смерть которого снимет грех с Израиля», а также о том, что «после его воскресения он взойдет на небеса, где откроется вся полнота его славы»[944].
Подобно де Лоостену и Хиршу, Бинэ-Сангле утверждал, что галлюцинации у Иисуса начались с момента крещения. Уже там заметны характерные черты религиозной паранойи: «…объект зрительной галлюцинации, похоже, почти всегда имеет некий возвышенный характер»[945]. В случае Иисуса галлюцинация исходит с небес и содержит в себе ободрение: «Ты есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк 1:11). Кроме того, удалившись после крещения в пустыню, Иисус и там испытал ряд галлюцинаций: «Там, под влиянием продолжительного воздержания и одиночества, в тишине и монотонности пустыни, где могли разыграться все его навязчивые мысли, а кроме того, быть может, под влиянием усталости и жары, и оформились разнообразные психические нарушения»[946]. Бинэ-Сангле выделяет в рассказе об искушении в пустыне семь галлюцинаций: две чисто зрительных и пять таких, которые он называет одновременно и зрительными, и слухоречевыми. Ни одну из них нельзя отнести к чисто речевым, что соответствует религиозным формам паранойи, где «очень редко встречаются просто речевые галлюцинации, не сопровождающиеся зрительными»[947]. Кроме того, они всегда содержат религиозные объекты, и часто это дьявол. Эти объекты можно разделить на страшные и ободряющие, причем последние носят визуальный характер. Так, при крещении Иисусу явился голубь, а в пустыне – ангел Божий, и в Гефсимании его также укреплял ангел (Лк 22:43).
Бинэ-Сангле предполагает, что Иисус испытывал и другие галлюцинации, не отраженные в евангельских повествованиях, поскольку «психически нездоровые мистики почти всегда страдают от кинестетических галлюцинаций»[948]. Таким образом, позже стали развиваться вторичные психомоторные симптомы, что «формировало своего рода религиозную одержимость». В качестве примера автор ссылается на «сенсорные галлюцинации», которые заставляли Иисуса утверждать, что через него говорит Отец.
Как и де Лоостен, Бинэ-Сангле обращает внимание на желание Иисуса сохранить свои мессианские притязания в тайне, что он трактует как типичную скрытность параноика. Итак, Иисус «был готов открыто признать свою бредовую систему лишь под давлением эмоций, что происходит, например, во время суда над ним»[949].
Возражение Швейцера
Возражая создателям психиатрических портретов Иисуса, Швейцер делает два стратегических шага. Во-первых, он показывает, что авторы, не сумев осмыслить ни методы, ни итоги историко-критического изучения Евангелий, стали утверждать просто неправдоподобные вещи и давать недоказуемые интерпретации. Во-вторых, Швейцер выступает против психиатров на их собственном поле и утверждает, что они, исследуя жизнь Иисуса, злоупотребляют психиатрическими диагнозами, особенно в случае паранойи. Первый ход играет в его полемике куда более важную роль, поскольку он призван показать, что никто не вправе что-либо утверждать об Иисусе, а особенно о его эмоциональном равновесии и психическом здоровье, если не потрудился ознакомиться с работами тех, кто изучал исторического Иисуса. Но важен и второй шаг, поскольку тут Швейцер со всей возможной ясностью предупреждает психиатров, что они рискуют опозорить себя и свою профессию, прилагая свои диагностические категории к историческим личностям. Этот второй шаг имел одно важное последствие, и неизвестно, входило ли это в намерения Швейцера или нет: психиатрическое изучение исторических личностей обрело сомнительную репутацию среди самих психиатров, поскольку фактов никогда не хватает для той уверенности в точности диагноза, какой ожидают в клинической работе с реальными пациентами.
Уже в самом начале возражения Швейцер говорит: фундаментальная проблема с психиатрическими портретами Иисуса в том, что ни один из троих авторов не знаком с тем, что происходило в изучении исторического Иисуса на протяжении нескольких десятилетий. «Де Лоостен, Хирш и Бинэ-Сангле изучают психопатологию Иисуса, не зная об изучении исторического Иисуса. Они совершенно некритично относятся не только к выбору источников, но и к их использованию»[950]. Таким образом, «прежде чем мы сможем приступить к обсуждению психиатрических вопросов, поднятых их исследованиями, нам придется вспомнить о том, что они проигнорировали». Следующие восемь страниц своей 40-страничной диссертации Швейцер посвящает краткому обзору «результатов, достигнутых с помощью критического исследования источников и научного изучения жизни Иисуса»[951].
Он начинает с вопроса об источниках, говоря, что Талмуд и неканонические «Евангелия» не следует принимать во внимание вообще, тогда как де Лоостен, полагая, что Иисус был сыном Марии и римского легионера по имени Пантера, – опирается на талмудическую, а также на языческую традицию, дошедшую до нас через Цельса во II в. На этом основан его вывод о том, что Иисус был «полукровкой» с «унаследованными признаками вырождения». Швейцер продолжает: «Бинэ-Сангле еще менее критичен при выборе источников, чем де Лоостен. Он считает достойными доверия тексты, уже давным-давно причисленные к подделкам, – такие, например, как Суд Пилата»[952].
Кроме того, как отмечает Швейцер, авторы без должной критики обращаются и к каноническим источникам. Например, при попытке воссоздать жизнь исторического Иисуса не следует опираться на Евангелие от Иоанна[953]: в нем «образ Иисуса, как все яснее показывают критические исследования со времен Штрауса, – это по большей части вольно воображенная личность, призванная улучшить и дополнить образ Иисуса из трех других Евангелий»[954]. Эта «воображенная личность» Иисуса проникнута тайной, а потому в ней много «странного, неестественного и умышленно придуманного». И психиатров в основном влек именно этот крайне таинственный образ, поскольку их суждения о психическом нездоровье Иисуса во многом основаны на текстах Иоанна: «Три четверти материалов, изученных де Лоостеном, Бинэ-Сангле и Хиршем, взяты из Четвертого Евангелия»[955].
Евангелие от Луки, продолжает Швейцер, также не слишком ценно: «…в главном оно соответствует Евангелиям от Марка и Матфея», а там, «где Лука выходит за рамки двух других, мы видим сомнительные материалы, не особо важные для критического изучения Иисуса, и их можно не принимать во внимание»[956]. Скажем, рассказ о двенадцатилетнем Иисусе в Храме (Лк 2:41–52) «по ряду причин нельзя считать исторически достоверным». Что же касается «повествований о рождении и детстве Иисуса у Матфея (Мф 1–2) – это равно так же не история, а легенда»[957], и то же самое можно сказать и об описании детства Иисуса у Луки (Лк 1–2).
Остаются такие ценные источники, как Евангелия от Марка и Матфея (если не принимать во внимание Мф 1–2). Два эти Евангелия «согласованы по композиции», хотя у Матфея есть ряд ценных речей, отсутствующих у Марка, и только благодаря Евангелию от Матфея они дошли до потомков. Кроме того, оба этих Евангелия написаны между 70 и 90 г. н. э. Оба основаны на более ранних источниках, так что в целом их материалы достойны доверия, и «пусть даже местами в них присутствуют позднейшие неверные представления и отголоски сомнительных традиций, точное соответствие между ними в некоторых деталях поразительно»[958].
Здесь было бы неуместным разбирать представления Швейцера о канонических Евангелиях, особенно о синоптических. Но стоит заметить: он считает Евангелие от Матфея по меньшей мере столь же ценным, как Евангелие от Марка, в чем расходится во мнениях с профессором Гольцманом, по мнению которого, жизнь и учение Иисуса лучше всего отражает Евангелие от Марка, поскольку оно написано прежде других Евангелий и стало той основой, на которой строили свои версии Матфей и Лука[959]. Швейцер же называет тексты Матфея и Марка «двумя древнейшими Евангелиями»[960], предполагая, что они были созданы одновременно, и ни слова не говорит о зависимости Матфея от Марка. Очевидно, он полагал, что Евангелие от Матфея возникло в одно время с Евангелием от Марка, а потому было независимым источником, поскольку именно чтение Мф 10–11 в дни военной службы привело его к «открытию»: идее, гласившей, что Иисус видел в себе грядущего Мессию.
Затем Швейцер переходит к вопросу о том, что можно сказать об Иисусе на основе «научного изучения его жизни». О ранних годах мы мало что знаем: «Он происходил из семьи плотника в Назарете и сам занимался этим ремеслом»[961]. Похоже, он не готовился стать учителем: когда он вернулся в родной город в роли пророка, местные удивлялись, откуда взялась такая мудрость у человека, который был для них просто плотником (Мк 6:1–5). Однако Иисус мог хорошо знать Писания, поскольку слышал, как их читают по субботам. Также до начала общественного служения он, возможно, провел время еще где-то, и приобрел там те знания, которые проявил в Назарете.
В Евангелиях упоминаются четверо братьев Иисуса и несколько сестер (Мк 3:31; 6:3), но ничего не сказано о том, кто из них был старше и кто – младше. «Можно уверенно сказать», как пишет Швейцер, что по отцу Иисус был потомком Давида. В таком происхождении нет ничего необычного: многие пророческие тексты указывают на то, что среди вернувшихся из Вавилонского плена при Кире было немало членов царской семьи. О происхождении Иисуса от Давида говорится в Мк 10:47–48 и Мф 21:9; подтверждает его и свидетельство апостола Павла в Послании к Римлянам (Рим 1:3). Мы ничего не знаем о его внешности или состоянии здоровья.
Поскольку ни Матфей, ни Марк не говорят о каком-либо ином паломничестве Иисуса на Пасху, кроме одного (приведшего к его смерти), можно предположить, что его служение продолжалось год или менее. Неясно, сколь долго Иисус был среди последователей Иоанна Крестителя – но, когда Иоанна арестовали, Иисус вернулся в Галилею и проповедовал ту же самую весть, какую Иоанн возвещал на Иордане: «Царство Божье приблизилось». Эта весть была главной в его проповеди до самого конца служения, а выражение «Царство Божье» – в данном случае синоним «мессианского Царства». Проповедуя его скорое наступление, Иисус говорил, что близок конец этого мира[962].
Швейцер кратко описывает эту концепцию и образ «Царства Божьего», подчеркивая, что после завершения естественного порядка вещей настанет сверхъестественная эпоха. Он отмечает, что Иисусу не требовалось описывать это будущее подробно: услышав слова «приблизилось Царство Божье», слушатели понимали, о чем речь, поскольку подробности были в книгах пророков и в апокалиптической литературе. В частности, Швейцер ссылается на Первую книгу Еноха (нач. I в. до н. э.) и на Книгу Даниила (165 г. до н. э.), оказавшие влияние «на мир идей, в котором жил Иисус»[963]. Его слушатели, должно быть, понимали, что последние дни естественного мира будут ознаменованы жуткими войнами и небывалыми страданиями. Итак, в благой вести Иисус провозглашал скорое наступление царства, суд, который последует за ним, и то, что самому придется пережить великий позор и гонения. Он призывал последователей не отступать от избранного пути в это время, но хранить верность (Мк 8:34; 9:1).
В сущности, Иисус соединил две традиции: консервативный взгляд пророков и относительно новые апокалиптические представления. Пророки говорили, что Мессия произойдет из царского рода Давида. Согласно новым представлениям, отраженным в Первой книге Еноха и Книге Даниила, отсутствие царствующей семьи не позволяло возвести ни одного правителя в положение Мессии, а потому Бог передавал этот статус в грядущем мире ангелу, который имел человеческий облик и был подобен Сыну Человеческому (Дан 7:13–14). Иисус притязал на то, что в этой жизни он – не Мессия, а обычный человек, но уже предопределено, что он будет удостоен этого звания и явится как Мессия в конце мира, при начале Царствия Божьего. Так Иисус утверждал правоту как старого представления о Мессии из рода Давида, так и нового – о «Сыне Человеческом», ангеле, подобном человеку, который станет величайшей силой в грядущем царстве. Иисус не считал себя Мессией или «Сыном Человеческим» в земной жизни, поскольку был «обычным человеком». Но он верил в то, что ему предназначено стать грядущим Мессией тогда, когда Царство Божье станет реальностью. «В естественную эру мира Мессия может быть явлен не более, нежели само Царство Божье»[964].
По мнению Швейцера, «один из самых определенных результатов современных критических исследований» заключается в следующем: Иисус не позволял убеждению в том, что ему уготовано стать Мессией, влиять на его проповедь. Он избегал подобных заявлений и не раскрывал своих мыслей, предпочитая говорить о Сыне Человеческом в третьем лице. Это точно отражало положение дел: он еще не был Сыном Человеческим. Для широкой публики он был пророком из Назарета и никем больше. И даже его противники не имели представления о его притязаниях. Если бы Иисус говорил об этом публично, первосвященник мог бы найти свидетелей на суде, которые бы об этом заявили, но таких не нашлось.
И даже ученики узнали об этом всего за несколько недель до смерти Иисуса, когда он собрался идти в Иерусалим (Мк 8:27–30). Иуда донес об этом верховному совету (Синедриону), и из-за этого Иисуса арестовали. Иудейский закон требовал двух свидетелей для того, чтобы обвинить человека, но у первосвященника был только Иуда. Потому все зависело от того, признает ли свою вину сам Иисус. Он мог бы молчать и спасти себе жизнь, однако он прибыл в Иерусалим с твердым намерением умереть. Его смерть должна была стать искуплением, избавить человечество от великих бедствий, которые предшествуют наступлению мессианского царства. Затем, как думал Иисус, или в момент смерти, или три дня спустя он войдет в сверхъестественную жизнь, займет почетный пост Мессии и возвестит о конце этого мира[965].
Здесь Швейцер развивает свою гипотезу, согласно которой Иисус переменил взгляды, когда ученики вернулись после успешной миссии из разных частей Израиля, где проповедовали скорое наступление Царства. Поскольку их не преследовали и на людей не обрушились те великие испытания, которые должны были предшествовать приходу Царства, Иисус пересмотрел представления и решил, что он сам, как грядущий Мессия, призван пострадать и умереть за других, – «и это стало бы объяснением того, почему не наступил период испытаний и не пришло Царство Божье»[966]. По мнению Швейцера, на эти мысли Иисуса повлияли два важнейших фактора: смерть Иоанна Крестителя, «постигшая пророка после того, как были посланы на проповедь ученики», и текст Исаии 53, «гласивший о Рабе Господнем, который страдает за вину народа»[967]. От возвращения учеников с проповеди до начала путешествия в Иерусалим – то есть осенью и зимой – Иисус скрывался на «земле язычников, в окрестностях Тира и Сидона и Кесарии Филипповой, никому ничего не проповедуя и беспокоясь лишь о том, чтобы оставаться неизвестным»[968]. Итак, в «Психиатрической оценке личности Иисуса» Швейцер придерживается тех же взглядов, которые он сформулировал во время военных учений за два десятка лет до диссертации.
Критика «триады психиатров»
Далее Швейцер задает вопрос: можно ли на основании представленного им наброска о жизни Иисуса и о том, как он понимал себя сам, а также на основании многих других подробностей, оставленных без рассмотрения, прийти к тем заключениям, которые сделали трое авторов-психиатров? Разумеется, нет! Во вступлении он уже объяснил, почему надо с великой осторожностью прилагать психопатологические методы к изучению исторических деятелей. Показал он и наивность психиатров в обращении с источниками, что уже является достаточным основанием для крайне скептического отношения к их трудам. Но теперь он был готов рассмотреть содержание их исследований, «чтобы прийти к ясному мнению»[969].
Он начинает критику с такого замечания: выводы психиатров о развитии Иисуса и его предрасположенности к заболеваниям, основанные на рассказах о его детстве и юности, вообще не имеют никакой ценности. Для примера он берет повествование Луки о двенадцатилетнем Иисусе в Храме (Лк 2:41–51). Каждый из троих психиатров ссылается на этот эпизод, а Бинэ-Сангле видит тут «рассказ о гебефреническом кризисе»[970]. И кроме того, в данном случае совершенно не следовало бы принимать во внимание Евангелие от Иоанна. Но оно создало у психиатров иллюзию того, будто мы можем следить за психическим развитием Иисуса на протяжении трех лет, тогда как на самом деле его публичное служение длилось не более года. За эти три года перед нами «предстает человек, который непрестанно занят своим Эго, говорит только о нем, претендует на божественное происхождение и требует от своих последователей соответствующей веры»[971]. Сочетая образ Иисуса, созданный Иоанном, с образами, представшими в ранних Евангелиях, где Иисус не говорит ни о себе, ни о своем высоком положении, психиатры делают вывод, что Иисус иногда провозглашал себя Мессией, а иногда – нет, и видят в этом такие явления, которые действительно можно наблюдать при паранойе. Кроме того, хотя де Лоостен и Бинэ-Сангле утверждают, что Иисус страдал от бреда преследования и необъяснимых приступов депрессии, эти выводы основаны только на Евангелии от Иоанна. То же самое касается приведенного Хиршем примера слуховых галлюцинаций (Ин 12:28–30), когда Иисус слышит голос с неба. Та аффектированная и неестественная манера речи, которую упоминает Бинэ-Сангле и которую он часто находит при параноидной шизофрении, также – просто причудливая особенность Евангелия от Иоанна[972].
Что же касается выводов психиатров, основанных на надежных текстах, – на Матфее и Марке, – то и де Лоостен, и Бинэ-Сангле, стремясь доказать сумасшествие Иисуса, обращаются к свидетельствам его современников: приводят рассказ о том, как родственники хотят «взять» Иисуса, «ибо говорили, что Он вышел из себя» (Мк 3:21), и слова иерусалимских книжников, утверждавших, что Иисус одержим бесом (Мк 3:22). Но на основании этих стихов мы можем лишь заключить, что книжники хотели очернить Иисуса в глазах народа и что его родственники «заметили в нем перемены и не могли объяснить иначе, почему он теперь ведет себя как учитель и пророк»[973]. Кроме того, никто не говорил, будто Иисус не в своем уме, поскольку считает себя Мессией. Прежде всего – никто и не знал о таких притязаниях, поскольку Иисус хранил их в тайне и открыл ее ученикам лишь тогда, когда сказал, что идет в Иерусалим.
Все трое психиатров говорили о сорокадневном пребывании Иисуса в пустыне, которое кратко упоминается в Мк 1:12–13 и развернуто в Мф 4:1–11 и Лк 4:1–13. Но «даже если мы сочтем это скитание по пустыне историческим фактом», то сказать, будто Иисус пережил «многочисленные галлюцинации» – это просто «совершенно бесформенная гипотеза», которая «позволила им утверждать наличие галлюцинаторной фазы в развитии его психоза»[974]. Кроме того, называть историчные высказывания Иисуса «галлюцинациями» – это научный произвол. А психологическое объяснение Бинэ-Сангле, которое тот дает происхождению предполагаемых галлюцинаций, звучит совершенно искусственно. Здесь Швейцер имеет в виду слова Бинэ-Сангле о том, что галлюцинации появились из-за волнения Иисуса под влиянием таких усугубляющих факторов, как ночное бодрствование, одиночество и воздержание от еды и питья[975]. «Чтобы уверенно давать такое медицинское объяснение галлюцинациям, даже имея дело с живым пациентом, страдающим психическим расстройством, нужен всесторонний и всеохватный анализ личности»[976]. Вряд ли такой анализ возможен на основании повествования Матфея об искушениях в пустыне. К слову, Швейцер сомневался в самой историчности данного эпизода, и здесь его критика в адрес Бинэ-Сангле и его интерпретации адресована тем, кто верил, что в рассказе о пребывании Иисуса в пустыне здесь описано реальное событие.
Далее Швейцер рассматривает мнения трех психиатров (они выражены сильнее у Хирша и Бинэ-Сангле) о том, что Иисус страдал паранойей. Он отмечает, что паранойя – это одна из труднейших проблем нынешней психиатрии, вопрос о которой пока еще далек от решения, и споры о ней – это «в немалой степени споры о словах». С другой же стороны, «довольно многие типы паранойи достаточно хорошо изучены, так что возможна плодотворная дискуссия о дифференциальном диагнозе среди тех, кого заботят факты, а не слова»[977].
Обращаясь к вопросу о том, насколько это приложимо к Иисусу, Швейцер делает одну оговорку. Цель его исследования – не в «обсуждении вопроса о наличии или отсутствии у Иисуса каких-либо психических заболеваний или клинических диагнозов». Вместо этого он намерен «просто оценить те простейшие симптомы, которые приводят все трое авторов, пытаясь доказать, что их диагнозы исторически верны, и отстоять их клиническую надежность»[978]. К таким симптомам относятся: (1) бред, (2) галлюцинации, (3) эмоциональная установка и (4) некоторые другие характеристики. О каждой такой категории, утверждает он, стоит поговорить отдельно.
Однако прежде этого Швейцер разбирает мнения психиатров о происхождении паранойи Иисуса. Де Лоостен считает, что паранойя Иисуса имеет наследственную основу, но это «очень маловероятно», поскольку, называя Иисуса «полукровкой» (мать-иудейка, отец-римлянин), он опирается на крайне сомнительный документ II века. Хирш считает, что следы паранойи надо искать в детстве Иисуса: якобы необычайная психическая одаренность стала причиной того, что мальчик все свободное время изучал Писания, а это дурно сказалось на его психическом здоровье, – но и это мнение нельзя подтвердить с помощью надежных текстов. Маловероятно, что Иисус в детстве читал Тору, хотя, вероятно, он слышал, как ее читают по субботам. Неуместны и ссылки Бинэ-Сангле на многочисленные клинические случаи религиозной паранойи. Таких пациентов «госпитализируют вскоре после вспышки заболевания», и при этом «подобными формами психических заболеваний как раз не страдают те, кто находит себе сторонников и учеников и основывает секты»[979]. Кроме того, частые галлюцинации, симптомы кататонии и следствия диссоциации делают таких пациентов неспособными к упорядоченной деятельности.
С другой стороны, люди, страдающие бредом преследования, который также приписывают Иисусу, обычно не теряют способности к действиям и крайне редко делают из своих галлюцинаций и бреда преследования практические выводы о необходимости защищать себя от преследователей с помощью закона или нелегальными методами. Если же они и прибегают к самозащите, это объясняется каким-то волнением, – но это не выводится сознательно или логически из самого бреда. Швейцер предлагает читателю помнить об этих доказанных клинических фактах, когда он серьезнее рассмотрит мнение упомянутых психиатров о том, будто Иисус страдал бредовыми мыслями.
Проблема иллюзий
Начиная разговор о предполагаемых ложных представлениях Иисуса, Швейцер разбирает мнения психиатров о том, как развивалась его паранойя после ее возникновения. Де Лоостен считает, что заболевание прогрессировало непрерывно, тогда как Бинэ-Сангле и Хирш полагают, что в течение сорока дней, проведенных Иисусом в пустыне, длился скрытый период, а уже потом началось развитие болезни. Никто из них не говорит о таком периоде, когда бы Иисуса мучили идеи вреда и преследования. Это достойно удивления: как показывает клинический опыт, именно это характерно для первой фазы параноидного психоза. Вместо этого авторы-психиатры показывают нам иную картину: тут паранойя главным образом сводится к мании величия, в центре которой – представление Иисуса о себе как о Мессии. Но такая односторонняя форма паранойи крайне редка, поскольку бред величия, как правило, сопровождается соответствующим ему чувством преследования. Кроме того, представления психиатров о неуклонном прогрессировании (де Лоостен) или о последовательных стадиях (Хирш, Бинэ-Сангле) заболевания не соответствуют клиническим данным. Хотя бред величия может существовать довольно долго, при нем не наблюдается прогрессивного развития как такового. Итак, представление Бинэ-Сангле о том, что бред величия у Иисуса развивался (он считал себя Мессией-Царем, затем Сыном Божьим, затем Посредником Бога и наконец самим Богом), не имеет клинической поддержки[980].
И если мы теперь оставим в стороне вопрос о ходе заболевания, то в самом ли деле слова и действия Иисуса, сочтенные подлинными в исторической критике, указывают на «патологически искаженное содержание сознания»?[981] Швейцер отвечает отрицательно, потому что…
…религиозные идеи, которые Иисус разделяет с современниками и которые он перенял от традиции, не следует считать признаком заболевания, даже если они кажутся крайне странными и непонятными современному уму. Де Лоостен, Хирш и Бинэ-Сангле постоянно нарушают это фундаментальное правило[982].
Поскольку авторы рассматриваемых психиатрических портретов Иисуса полагают центральной частью его бреда то, что он считает себя будущим Мессией, Швейцер подробнее останавливается на этом аспекте иудейской религии, отмечая, что «мессианские ожидания входили в набор догм позднего иудаизма»[983]. Не все иудеи верили в неотвратимость этих событий, но это убеждение было широко распространено среди членов чисто иудейского движения, родоначальником которого был Иоанн Креститель. Во времена Иисуса существовали разные представления о Мессии. Скажем, апокалиптические и раввинистические источники не содержат ясного указания на страдания Мессии. Но такая идея становится правдоподобнее, если, как считали некоторые, Мессия должен какое-то время жить на земле в неизвестности до времени своего прославления. В этом случае он вместе с избранными должен пережить те бедствия, которые предшествуют приходу Мессии.
Кроме того, согласно продолжительной мессианской традиции Мессия должен происходить из царского рода Давида. Поскольку «более старые традиции» утверждают, что Иисус был потомком Давида, вполне можно понять, почему Иисус думал, что ему предстоит стать будущим Мессией, особенно учитывая то, что окружавшие его верили в неизбежное наступление мессианского царства. Более того, когда Мессию называли Сыном Божьим, это не значило, что его считали потомком Бога в каком-то метафизическом смысле: «Сын Божий – это просто титул, указывающий на то, что человека на почетное место поставил Бог. В этом смысле еврейские цари уже были Сынами Божьими»[984].
Таким образом, если мы поместим Иисуса, считавшего себя Мессией, в должный контекст, утверждение о том, что это бредовая идея, лишается всякой основы. Его «бред величия» и «параноидальные идеи преследования» становятся совершенно понятным явлением в контексте идей, с которыми он как член общины Иоанна Крестителя должен был бы согласиться. Разумеется, представление о том, что именно он – из всех потомков Давида – был грядущим Мессией, «достойно удивления». Но удивление тут вызывает вовсе не тот факт, что сын плотника считал себя будущим Мессией, поскольку апокалиптическая литература говорила о том, что грядущий Мессия будет ничтожеством в этой жизни: «Тот, кому предназначено самое почетное место в грядущем мире, тут, в естественном мире, должен принадлежать к презираемым и обычным людям. Поэтому лишь потомок Давида, живущий скромно и бедно, мог быть потенциальным будущим Мессией»[985]. Более того, «поскольку люди думали, что конец этого мира скоро наступит, значит, такой человек, полагали они, уже родился и его надо искать среди представителей того поколения, которое будет жить при конце этого века»[986]. Смиренный плотник из рода Давида, уже живущий среди людей, идеально подходил на роль Мессии. Трудно сказать, сколько еще человек в тот момент соответствовали данным критериям, но их не могло быть слишком много. Так что мысль Иисуса о том, что он и есть грядущий Мессия, не была полным безрассудством.
Несмотря на все сказанное, все равно то, что Иисус прилагал мессианские пророчества к себе, достойно внимания. Почему он так делал? Доступные источники не дают ответа. Швейцер предпочитает отказаться от спекуляций на данную тему. Однако источники помогают понять, что Иисус не страдал параноидальными идеями преследования и не думал, будто ему хотят навредить: он ожидал страданий из-за убеждения в том, что грядущему Мессии предстоит пострадать вместе с его избранными в момент наступления апокалиптической эпохи. Перемена его представлений в этом вопросе «обусловлена внешними обстоятельствами» – возвращением учеников и смертью Иоанна Крестителя, – и представляет собой «совершенно логичный вывод, гармонирующий с цельной картиной»[987]. Эта перемена касается только «идеи о страданиях». Иисус отказался от мысли о том, что ему надлежит испытать «бедствия Мессии» вместе с избранными (его сверхъестественный характер уже очевиден). Вместо этого он пришел к другому убеждению – в том, что «благодаря его страданиям другие будут избавлены от тех мучений, через которые им надлежало пройти». В обоих этих представлениях самих по себе нет никаких признаков паранойи. Кроме того, переход от мысли о том, что избранные будут страдать вместе с ним, к идее о том, что его страдания станут избавлением для других, не указывает на «прогрессивное развитие» предполагаемой паранойи. На самом деле такое «изменение представлений говорит о подверженности влияниям обстоятельств, что нехарактерно для типичного и хорошо изученного течения паранойи»[988]. Иными словами, при обычном течении паранойи внешние обстоятельства не оказывают существенного воздействия на систему ложных убеждений.
Кроме того, мы не видим такой типичной характеристики паранойи, как явно антагонистичное отношение к другим людям. Разумеется, у Иисуса есть враги и противники: он обличал фарисеев в узости мышления и внешнем благочестии. Однако с этими противниками – не воображаемыми, но вполне реальными, – Иисус ведет себя совершенно не так, как то делает больной с манией преследования, но совершенно иначе. В отличие от человека, который воображает, что его преследуют, Иисус не принимает пассивную роль жертвы и не думает лишь о том, как бы себя защитить. Вместо этого он совершает провокационные действия: изгоняет со двора Храма торгующих и меновщиков, произносит речи против фарисеев, стремится обострить конфликт с властями, вынудив их пойти на ответные меры, пока «в итоге не собирается Синедрион, где принимают решение избавиться от него еще до праздника». Швейцер отвергает идею о том, будто такое стремление спровоцировать собственную смерть – это «болезненное самопожертвование», отражающее психическое расстройство, поскольку «такая жертвенная смерть есть важнейшая часть мыслей и действий Мессии в представлении Иисуса»[989].
Проблема галлюцинаций
Далее Швейцер переходит к вопросу о галлюцинациях. Он снова говорит об источниках, отмечая, что психиатры во многом ссылаются на Евангелие от Иоанна, «грубо обращаясь [даже] с этим материалом»[990]. Он оспаривает и мнение Бинэ-Сангле, который подробно говорил об эпизоде в Гефсимании как о признаке слуховых галлюцинаций. Вывод Швейцера здесь таков: «Мы имеем дело с легендой, созданной вокруг сцены перед арестом». Впрочем, в теории галлюцинаций более важную роль играло сорокадневное скитание Иисуса в пустыне. Но и его, как считает Швейцер, следует оставить в стороне, поскольку данное повествование также неисторично: оно «принадлежит к доисторическим легендам», как «уже справедливо отмечал» Штраус[991].
Что же нам в этом смысле дает повествование о крещении Иисуса? Его историческая ценность также сомнительна. Впервые Иисус выходит на свет истории в тот день, когда он начал проповедовать в Галилее, а «все, что этому предшествовало, относится к темным и ненадежным преданиям»[992]. Голос с неба удивительным образом напоминает слова псалма: «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя» (Пс 2:7), – который обычно понимали в мессианском смысле. Однако когда Иисус открывает свое мессианство ученикам (Мк 8:27–30), он не ссылается на свое крещение. Подобным образом рассказ о преображении (Мк 9:2–8) не говорит о наличии галлюцинаций у Иисуса. Самое раннее предание об этой сцене на самом деле указывает на апостола Петра, которому, кстати, «Иисус явился первому по смерти»[993]. Разумеется, смещая фокус с Иисуса на Петра, Швейцер позволяет неявно предположить, что Иисус общался с теми, кто испытывал галлюцинации.
Если же предположить, что галлюцинация в момент крещения исторична, – а по мнению Швейцера, такую возможность нельзя с полной уверенностью отвергать, – то даже Бинэ-Сангле признает, что эмоционально окрашенные галлюцинации «наблюдаются не только при психических заболеваниях». Мы можем их встретить «у людей с повышенной эмоциональной возбудимостью, которые, тем не менее, в полном смысле слова принадлежат к категории психически здоровых»[994]. Нам надо также помнить о «великом волнении, вызванном ожиданием скорого конца мира», которое могло способствовать «появлению галлюцинаций у людей с соответствующей склонностью»[995].
Эмоциональная нестабильность и другие симптомы
Далее Швейцер разбирает представления де Лоостена и Бинэ-Сангле, которые говорили о том, что Иисусу была свойственна эмоциональная нестабильность «патологического рода». Прежде всего встает вопрос о том, есть ли у нас указания на эмоциональную нестабильность вообще. Все признают тот факт, что в Евангелиях от Матфея и от Марка мы не увидим «последовательно упорядоченной деятельности» Иисуса во время его общественного служения. Похоже, он «беспорядочно движется то туда, то сюда, скажем, в один момент он находится на восточном берегу, а затем быстро возвращается на западный, а в итоге удаляется на север, чтобы побыть в уединении»[996]. Эти беспорядочные передвижения и чередование общественной деятельности и периодов уединения сами по себе настолько загадочны, что можно ошибочно подумать о признаках эмоциональной нестабильности. Но есть и достаточно простое объяснение. По причинам, отчасти отраженным в доступных источниках, Иисус старался избегать больших скоплений народа. И одна из важнейших причин тут такова: «Он остерегался людей, потому что они приводили к нему одержимых и больных отовсюду, чтобы он мог исцелить их. Встреча с первыми была особенно неприятна для него, как показывают некоторые значимые детали повествования Марка (Мк 1:34; 3:12)»[997]. Швейцер отказывается строить гипотезы для объяснения, но он, несомненно, решительно бы отверг мысль о том, будто «одержимые» были неприятны Иисусу по той причине, что напоминали ему о его собственной психической болезни.
Кроме этого существует лишь одно дополнительное «свидетельство» об эмоциональном расстройстве, на которое указывают Бинэ-Сангле и де Лоостен: это отношение Иисуса к своей семье и предполагаемая утрата осознания Иисусом своей половой идентичности. Что касается отсутствия лояльности по отношению к семье, это можно объяснить тем, что родные хотели отвести его домой и прекратить его публичную деятельность (Мк 3:21). Кроме того, когда Иисус заявил, что связи между теми, кто единодушно верит в близкое наступление Царства Божьего, более священны, чем кровные связи, это вовсе не указывает на его психическое расстройство. Это просто «особая точка зрения, которая объясняется впечатлениями от тогдашнего мира», связанная с верой в Царство Божье, где исчезают привилегии, основанные на происхождении. Что же касается его странного высказывания о скопцах, оно не имеет никакого отношения к «болезненному переживанию пола», потому что непосредственно перед словами о евнухах (Мф 19:3–9) Иисус «говорил о браке очень естественно и позитивно»[998]. Кроме того, ключ к пониманию этого «весьма спорного и непонятого речения» нам дают некоторые места Ветхого Завета и позднейшие иудейские тексты. Если Второзаконие (Втор 23:1) лишает евнухов права входить в религиозную общину, позднейшие пророческие тексты, написанные после Вавилонского пленения (Ис 56:3–5, Прем 3:14), относятся к евнухам терпимее, так что там звучит обетование о том, что «хотя они лишены потомства, в грядущем они не просто будут уравнены с прочими, но станут выше их»[999].
Иисус полагает примерно так же. Для него евнухи – это «презираемые люди, которые, подобно детям, получат почетное место в Царстве Божьем, потому что сейчас принадлежат к отверженным», и он высказывает «таинственное предположение о том, что есть люди, намеренно примкнувшие к отверженным, чтобы в грядущем обрести эту особую честь». Но это не имеет никакого отношения к самому Иисусу, поскольку он надеялся занять почетный пост в Царстве Божьем в силу того, что был потомком Давида. Он не отождествляет себя с евнухами, вольными или невольными, и его слова о них «не имеют никакого отношения к половому чувству, но становятся понятными в свете представлений, существовавших в мире позднего иудаизма»[1000].
Наконец, Швейцер переходит к на вид бессмысленной истории с проклятой смоковницей. Это отражение апокалиптических ожиданий позднего иудаизма – идеи о том, что даже естественный мир примет участие в преображении и станет приносить плоды в великом изобилии. Так, в Апокалипсисе Варуха есть попытка представить большой урожай, собранный в грядущем с одной виноградной лозы. По мнению Швейцера, историческая суть этого эпизода сводится к следующему: Иисус осудил дерево, богатое листвой, которое обмануло будущего Мессию, испытывавшего голод. Его суд в данном случае есть предвосхищение его будущей власти над естественным порядком, подобным образом он отобрал двенадцать учеников, которые будут править двенадцатью коленами Израиля (Мф 19:28): «И в этих, и в других словах мы имеем дело с обетованиями и приговорами, которые станут реальностью, как только Иисус примет свою мессианскую власть». История с проклятой смоковницей есть просто один из подобных знаков, и «чем больше они цепляют наше внимание, тем понятнее они с точки зрения мира позднего иудаизма, то есть мира Иисуса»[1001].
Швейцер завершает диссертацию кратким обзором итогов своей критики психиатрических исследований Иисуса, и приводит четыре важнейших вывода.
1. [Евангельский] материал, на который опирается аргументация данных работ, по большей части исторически недостоверен.
2. Когда же используется исторически достоверный материал, ряд действий и высказываний Иисуса кажется авторам патологическим по той причине, что они мало знакомы с мышлением той эпохи и не могут верно их оценить. Некоторые ложные выводы объясняются и тем, что авторы не понимают особых проблем, с которыми сталкивался Иисус во время своего общественного служения.
3. На основании таких ложных предпосылок и симптомов, которые представляют собой чистую гипотезу, авторы создают картины заболевания, которые представляют собой вымысел и, более того, не вполне соответствуют типичным клиническим проявлениям тех болезней, которые они находят у Иисуса.
4. Те немногие симптомы, которые можно признать исторически достоверными и обсуждать с точки зрения психиатрии, – то высокое значение, которое Иисус придавал себе, и, быть может, галлюцинации в момент крещения, – не позволяют сделать вывод о наличии у Иисуса психического заболевания.
Эти выводы говорят о том, что Швейцер надежно отделил свой образ Иисуса (такого Иисуса, который считает себя грядущим Мессией) от психопатологических портретов, представленных тремя психиатрами. Первые два вывода касаются их неосведомленности в истории, особенно относительно источников и обстановки в поздней Иудее, в которой формировались представления Иисуса. Третий уже прямо связан с самой психиатрией, в частности там говорится, что они использовали свои диагностические категории без должной четкости и обоснованности. Однако четвертый вывод оставляет дверь для психиатрического изучения Иисуса в будущем, пусть даже она лишь слегка приоткрыта. Там говорится о том, что значение, которое себе придавал Иисус и, возможно, галлюцинации в момент крещения можно обсуждать с психиатрической точки зрения, хотя они и не указывают на наличие у Иисуса психического заболевания.
Религия «бреда отношения»
Из двух потенциальных тем для дискуссии, упомянутых Швейцером, более перспективной, на мой взгляд, является «то высокое значение, которое себе придавал Иисус», поскольку оно прямо связано с вопросом о том, страдал ли он бредовым расстройством (то есть не отражает ли это манию величия и параноидальное мышление). При рассмотрении темы оптимальный вариант – сосредоточиться на том, что психиатры называют идеями отношения или бредом отношения. Как уже отмечалось, Хирш ссылался на те тексты Евангелия от Иоанна, где Иисус относит к себе предсказания пророков – и тем, по мнению Хирша, «проявляет одну из характерных особенностей параноиков, которые относят к себе все что можно из увиденного или прочитанного»[1002].
В современных психиатрических диагностических протоколах параноидный тип шизофрении и бредовое расстройство включают в себя «идеи отношений» или «бред отношений». Как гласит «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам» (DSM), частью таких «идей отношения» могут быть мысли о том, что некоторые жесты людей, отрывки из книг или газет, слова песен или другие элементы обстановки намеренно обращены к субъекту или что случайные события имеют особое значение, причем интерпретация этих событий обычно соответствует бредовым идеям субъекта[1003].
Однако случай Иисуса отличается от тех, при которых сейчас диагностируют параноидную шизофрению или бредовое расстройство: «идеи отношений» в социокультурном окружении Иисуса имели важное значение. Если сама социокультурная среда поддерживает «бред отношений», как относиться к словам психиатров о том, что Иисус страдал бредом, считая себя грядущим Мессией, о котором провозгласили пророки? Фактически, в этом и суть аргументации Швейцера, сказавшего, что авторы-психиатры «слишком плохо знакомы с миром мысли той эпохи, чтобы должным образом принимать его во внимание»[1004]. Достойно внимания то, что о том же говорит «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам». Описание параноидной шизофрении там сопровождается следующим замечанием:
Представления, которые могут показаться бредовыми в одной культуре (скажем, связанные с магией и колдовством), могут иметь широкое распространение в другой. В некоторых культурах зрительные или слуховые галлюцинации религиозного содержания могут быть нормальным элементом религиозного переживания (скажем, если некто видит явления Девы Марии или слышит глас Божий)[1005].
Это позволяет усомниться в утверждении психиатров о том, что идеи отношения Иисуса указывают на бред: лишь современники Иисуса могли бы сказать, в какой мере подобные идеи были бредовыми. В самом деле, если исходить из того, что в ту эпоху все, кого это волновало, единодушно ожидали прихода Мессии – и, в принципе, ничего не мешало кому-нибудь из тех времен поверить, что он и есть Мессия. Если бы Иисус заявил, что он римский император, это было бы нечто совершенно иное. В то же время, учитывая, сколь важным был для тогдашнего общества приход Мессии, можно себе представить, что вопрос о том, не бредит ли Иисус, должен был вызывать жаркие споры и у его современников. Только они бы спорили не о бредовой природе идей отношения, но о том, не обманывает ли Иисус сам себя, относя к себе мессианские пророчества.
Достойно внимания то, что, по мнению Швейцера, вопрос о психическом здоровье Иисуса никак не был связан с этими идеями отношения. Скорее, его родные увидели, что Иисус изменился по необъяснимым причинам, а книжники критиковали его по политическим мотивам. Хотя вопрос о том, кем он себя считает, был поднят на суде, тот факт, что Иисус провозгласил себя грядущим Мессией, не подтолкнул судей к выводу о его психическом расстройстве (о том, что он пребывает в самообмане).
В книге «Исторический образ Иисуса» Эд Пэриш Сандерс ссылается на одно событие, которое произошло через тридцать лет после казни Иисуса. Другой Иисус, сын Анании, пришел в Храм в дни Праздника кущей и во всеуслышание объявил, что Иерусалим и его святилище будут разрушены. Его допросили и подвергли бичеванию, причем сначала им занимались иудейские власти, а потом римляне. Он ничего не отвечал, только оплакивал город, и в итоге его отпустили как помешанного[1006]. И поскольку его отпустили, значит, что у современников Иисуса были свои методы и критерии, позволяющие установить, здоров ли человек психически, и сам тот факт, что Иисуса приговорили к смерти, говорит о том, что его, в отличие от Иисуса, сына Анании, сочли здоровым, – то есть признали, что он не бредит. Напротив, власти решили, что он использует традиционные идеи отношения для укрепления своей политической позиции.
В такой социокультурной среде, где идеи отношения сами по себе не считаются бредовыми, можно судить о них, только рассматривая каждый случай отдельно, и трудно представить, что может существовать единодушие относительно того, насколько прав тот или иной человек со теми или иными идеями отношения (скажем, тот, кто считает, что предсказания пророков относятся к нему). Те, кто не верил в Иисуса как грядущего Мессию, могли говорить, что Иисус пребывает в заблуждении, поскольку, согласно тем или иным фактам, он не может быть будущим Мессией. Другие могли бы возразить, что он, напротив, не заблуждается, а вот вера в то, будто Мессией может быть кто-то еще, сама по себе ошибочна. Можно было бы сказать, что противники веры в мессианство Иисуса опираются на ложные свидетельства, – или же что их свидетельства даже подтверждают его мессианство. Сам тот факт, что об этом можно спорить, показывает, что здесь идеи отношения не обязательно носят характер бреда, в отличие от такого случая, если бы, скажем, наш современник стал утверждать, будто он – Наполеон.
Тем, кто не верит в идею Мессии, эти споры покажутся бессмыслицей. Но те, кто относится к этой идее всерьез, вряд ли расценят их как нелепые или нелогичные. Евангелие указывает именно на такой социокультурный контекст. Когда Иисус, как передают евангелисты, спрашивает учеников, за кого люди почитают Сына Человеческого, – явно указывая на себя, – те отвечают: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков» (Мф 16:14). Никто не говорит, что это – плотник из Назарета. Вопрос стоит о том, с кем из его предшественников отождествляют Иисуса и верны ли эти отождествления.
Таким образом, если, как показывает Швейцер, представления Иисуса были основаны на «мышлении его эпохи», значит, идеи отношения были важной составной частью мировоззрения Иисуса и играли важную роль в том, как он понимал себя сам[1007]. Косвенно, как считал Швейцер, на такие идеи отношения указывает, помимо прочего, и то, что смерть Иоанна Крестителя Иисус расценил как знак близости Царства Божьего, поскольку в Иоанне «Иисус видел Илию, пришествие которого, по обетованиям, было знаком последних дней»[1008]. Вот как об этом говорится в Книге пророка Малахии: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного» (Мал 4:5). Было и представление о том, что сверхъестественное существо может жить под видом обычного человека инкогнито. Это, по мнению Швейцера, отражает представление Иисуса о самом себе: он «считал, что станет сверхъестественным наследником рода Давида»[1009].
Швейцер утверждает, что «психологический анализ этой установки» Иисуса «невозможен по причинам, которые уже обсуждались», а именно – потому, что в основе этого представления Иисуса о себе лежала апокалиптика позднего иудаизма. Самое большее, что тут можно сказать, заключается в том, что «преувеличенное значение этой идеи само по себе не дает нам права видеть в данном случае проявление психоза»[1010]. Если под словом «психологический» Швейцер имеет в виду поиск психопатологии в данной установке Иисуса, то я с ним полностью соглашусь. Однако это не позволяет целиком отбросить «психологический анализ». Иначе достаточно было бы сказать, что любая идея и любой образ мыслей уже присутствует в культуре, а значит, любая попытка психологически понять идею или ее сторонника лишь заводит в тупик. Для такого понимания сначала следует вообразить себя в религиозной и культурной среде, окружавшей Иисуса. Если бы мы сами жили в таком социальном контексте, где все бы верили, что некий наш знакомый может быть воплощением исторического персонажа или сверхъестественного существа инкогнито, возникли бы те же самые двусмысленность и интрига, какие предстают перед нами в Евангелиях. Интрига тут во многом зависит от того, что вещи не такие, какими кажутся. Иоанн Креститель может быть просто пророком – но может быть и Илией, а в таком случае пророчество Малахии 4:5 относится прямо и непосредственно к нему. Равно так же и Иисус может быть просто очередным пророком – но может быть и грядущим Мессией.
Иными словами, некто может быть просто тем человеком, каким его знают, – плотником из Назарета – и ничем большим; или же он может быть таким человеком и кем-то еще. И он сам может размышлять о том, не есть ли он «кто-то еще», и просить Бога как-то на это указать. Или же о том, что он есть «кто-то еще», могут сказать другие, попросив его дать этому подтверждение. Если он скажет, что и сам верит, будто является «кем-то еще», его, вероятно, попросят это доказать, – либо назовут самозванцем, который выдает себя за иного. В любом случае под вопрос ставится не то, «плотник он из Назарета» или нет (подобное могло бы случиться, если бы, скажем, кто-то соврал, будто получил медицинское образование и делал бы операции на основе ложного заявления) – но то, на самом ли деле он является этим «таинственным кем-то еще» или нет.
Вряд ли мы способны в полной мере оценить все психологические последствия того факта, что идеи отношений занимали важнейшее место в той религиозной культуре, в которой жил Иисус. Если в нашей культуре кто-то полагает, будто является «кем-то еще», мы считаем его психически больным. Нам трудно представить такой судебный процесс, на котором бы человека спрашивали, не считал ли он себя кем-то иным. Случись такое, и мы бы решили, что исследуют вменяемость человека, пытаясь понять, можно ли его судить по состоянию психического здоровья. Однако евангелисты рассказывают нам, что именно так все и было с Иисусом – перед тем, как его приговорили к смерти.
Возможно, все знали, что идеи отношений понимались не буквально, а метафорически, и Иоанн Креститель не был в прямом смысле Илией, восставшим из мертвых, – но напоминал Илию, или дух Илии жил в нем. Однако, похоже, в этом религиозном контексте граница между метафорой и идентичностью размывалась, и слова Иисуса к ученикам: «Уподобьте меня, скажите мне, на кого я похож» (Ев. Фом 14) – мало чем отличаются от вопросов, прозвучавших в Кесарии Филипповой: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» и «А вы за кого почитаете Меня?» (Мф 16:13–17).
Следует добавить и элемент скрытности. Отражает ли он реальное поведение Иисуса? Или его внесли евангелисты? Впрочем, идея о том, что обычный человек есть сверхъестественное существо инкогнито, сама по себе достойна внимания. Однако если Иисус знал о такой идентичности и скрывал ее от других, в истории возникает новый уровень двусмысленности и интриги. Так евангелисты создают картину, не только прославляя тех, кто способен «видеть» невидимое другим. Появляются еще и подозрения, недоверие, неверные суждения и даже разочарование. Человек все время рисковал прослыть самозванцем с неоправданными притязаниями, оппортунистом или обманутым простаком.
Что все это значит для нас, когда мы хотим посмотреть на Иисуса с психологической точки зрения? Как убедительно показал Швейцер, мысль о наличии у Иисуса бреда появляется там, где во внимание не принимают социокультурный контекст. Однако в самой религиозной среде, где столь важную роль играют идеи отношения – хотя бы с нашей точки зрения, – есть нечто странное. И вполне закономерен вопрос о том, что это значит – жить в культуре, где идеи отношения принимают как должное и даже вознаграждают за них. Как это влияет на человека, который считает себя «кем-то еще» за пределами идентичности, приписываемой обществом? И если это не бред, то как нам назвать этот психологический процесс? Для ответа важно вспомнить об одном явлении, о котором мы уже говорили, – о неоднозначности разделения на метафорическую презентацию себя и претензию на идентичность, которая не совпадает с приписанной обществом. Концепция фиктивной личности как раз учитывает размытость границы между этими двумя явлениями, чего не удается сделать концепции наличия бреда.
Фиктивная личность: что, если ты не тот, кем тебя считают
Если тот факт, что Иисус считал себя грядущим Мессией, сам по себе не есть знак его психической болезни, – то существует ли еще какая-то психологическая концепция или теория для описания такой идентичности? Слова Швейцера о том, что Иисус думал «о своем высоком положении», важны для нас, особенно если мы сопоставим их с другим его замечанием, согласно которому в Евангелии от Иоанна перед нами предстает «по большей части вольно воображенная личность, призванная улучшить и дополнить образ Иисуса из трех других Евангелий»[1011]. Если переключиться с автора Евангелия от Иоанна на Иисуса, то разве мы можем отрицать то, что Иисус был автором «вольно воображенной личности», соответствующей его представлению о «своем высоком положении»? И в таком случае психоаналитическая концепция «фиктивной личности» имеет прямое отношение к историческому Иисусу и особенно к той роли, какую идеи отношения играли в том, как он понимал себя сам.
Джей Мартин рассматривает феномен фиктивной личности в трудах психоаналитических мыслителей от Альфреда Адлера до Хайнца Кохута, а также на примере нескольких своих пациентов, живших фиктивной жизнью[1012]. Одна из таких пациенток жила на основе следующей теории:
…Мир имел три формы, соответствующие трем ее любимым книгам: «Маленькие женщины», «Унесенные ветром» и «Волшебник страны Оз». Достаточно выбрать правильную книгу и подходящий отрывок, – и можно было интерпретировать любой аспект мира, порождающий любую проблему, так что сразу становилось совершенно понятно, что с этой проблемой делать[1013].
Сложность этой теории заключалась в том, что она редко помогала решать проблемы. Однако женщина настаивала на том, что «“ключ” верен, просто мир порой неправилен»[1014]. Ситуация начала меняться лишь в ходе работы с психоаналитиком. Вначале женщина «относилась к миру так, как если бы тот был реальным; теперь, после обращения к психоанализу, она начала выходить из своего кокона и жить в реальности этого мира». Она нередко жаловалась на то, что психоанализ «похитил у нее способность жить собственной фантастической жизнью». Любопытно, что она при этом не отказалась от вымысла, но просто стала пользоваться им иначе. Она научилась проводить «критически важную границу между фантазиями, заменяющими реальность, и фантазиями силы, которые помогали освобождаться от тревоги»[1015]. К слову, это критически важное отличие человека с бредовыми идеями – у которого бред замещает реальность, – от того, кто сформировал у себя фиктивную личность, в сущности, дающую ему силы для взаимодействия с миром.
В книге «Иисус: Психологическая биография» я утверждал, что исцеления Иисуса были основаны на «отключении» страха, сковавшего больных или увечных[1016]. Подобным образом Мартин полагает, что эти «фантазии силы позволяют успешно преодолевать тревогу»[1017]. При развитии системы ложных убеждений такого освобождения от страха не происходит. По сути, система бредовых идей усиливает чувство тревоги. Если говорить языком психиатрии, это параноидное состояние – но у Иисуса мы такого, похоже, не видим. Будь то «грядущий Мессия», как утверждает Швейцер, или «Сын Аббы», как я говорю в книге «Иисус: Психологическая биография», его фиктивная личность позволяла ему жить «за пределами тревоги»[1018] – и была частью его целительского служения.
Фиктивная личность не только освобождает от тревоги, но и порой заставляет человека бросить вызов его идентичности, которая принята обществом и определяет ход жизни человека[1019]. В книге «Иисус: Психологическая биография» я привожу рассказ Эрика Эриксона из сборника статей «Идентичность и жизненный цикл» (1959). Эриксон повествует об одной уроженке Центральной Европы, которая использовала фиктивную шотландскую личность. На вопрос о том, как она смогла расположить в должном порядке все подробности своей ранней «жизни» в Шотландии, та ответила: «Помилуйте, сэр, мне требовалось прошлое!»[1020]. Она опиралась на выдуманное прошлое, а не на реальное, и фиктивная личность, став рычагом, который был ей необходим для изменения судьбы[1021], – дала ей и иное будущее.
Системы ложных идей обычно парализуют человека или лишают дееспособности. Он начинает жить под контролем бреда. Фиктивная личность, напротив, может стать фантазией силы, которая реально меняет взаимодействие человека с реальным миром. Это соответствует представлению Швейцера об Иисусе как о человеке с активной волей, способном управлять событиями:
Однако с этими противниками – не воображаемыми, но вполне реальными – Иисус ведет себя с ними совершенно не так, как то делает больной с манией преследования, но совершенно иначе. В отличие от человека, который воображает, что его преследуют, Иисус не принимает пассивную роль жертвы и не думает лишь о том, как бы себя защитить. Вместо этого он совершает провокационные действия… стремится обострить конфликт с властями, вынудив их пойти на ответные меры, пока «в итоге не собирается Синедрион, где принимают решение избавиться от него еще до праздника[1022].
При этом современники Иисуса при желании все равно могли думать, что он заблуждается. Мировоззрение, определенное культурой, позволило бы им думать, будто он одержим бесом (религиозная оценка) или будто его претензии лишены оснований (политическая оценка). Но психоаналитик может относиться к такому самопониманию, которое заставляло Иисуса считать себя грядущим Мессией или Сыном Аббы, иначе: как к фиктивной личности, основанной не на фантазиях, заслоняющих реальность, а на фантазиях силы, освобождающих человека от тревоги и помогающих менять предначертанный курс жизни. Такие фантазии силы, особенно когда с их помощью помогают другим, могут быть опасными; равно так же бред человека с манией преследования может быть опасен для окружающих. Однако ответ Иисуса посланцам Иоанна Крестителя, спросившего, он ли есть грядущий или ждать иного, звучал так: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют» (Мф 11:4), – и в данном случае фиктивная личность была в первую очередь опасна для сильных мира сего.
Нужна ли психобиография в исследовании Иисуса?
Джеймс Чарлзворт
Мы еще не прояснили вопроса о тех исторических силах, которые породили христианство и определили его развитие на ранних этапах. Однако за этой внешней историей и внутри нее кроется история внутренняя… Тот, кто думает, что эту религию можно понять на основании истории и фактов без психологического аспекта, допускает ошибку точно так же, как и тот, кто думает, что все в этой религии можно объяснить только лишь психологически.
Герд Тайсен[1023]
Нынешнее состояние исследований исторического Иисуса позволяет обогащать эту сферу знаний любыми доступными данными и методологиями, включая и «психобиографию» (которой и уделено внимание здесь). Этот термин указывает на новую усовершенствованную методологию разностороннего изучения исторических личностей[1024]. Психобиография – это одно из направлений психоистории, в которой при помощи психологических методик воссоздается жизнь исторического персонажа (группы, как правило, в центре ее внимания не находятся). С начала 1970-х годов многие стали относить к сфере психоистории «использование любых направлений психологии. И в принципе, психоаналитическую психобиографию можно дополнить психобиографией феноменологической, бихевиористской или [даже] когнитивной»[1025].
Психобиография стремится отвечать на вопросы, которые ставит биограф, с помощью психологических теорий и методологий[1026]. В подавляющем большинстве психобиографических исследований использована психоаналитическая теория: ее начал применять еще Фрейд, и нельзя не упомянуть о прозрениях Эрнеста Джонса и Карла Абрахама, сделавших психобиографию частью «прикладного психоанализа»[1027].
В моем понимании психобиография – это использование любой методологии, обогащенной психологией, для изучения исторических персонажей с целью лучше их понять и, в итоге, создать их биографию, то есть воссоздать историю их жизни[1028]. И если мы решим применить этот метод в стремлении лучше понять и изобразить исторического Иисуса, тогда нам надлежит учесть то, насколько развились общественные науки с 1913 года, когда Альберт Швейцер безжалостно раскритиковал авторов-психиатров в своей «Психиатрической оценке личности Иисуса»[1029]. В этом нам может помочь «Справочник по психобиографии» Уильяма Шульца[1030]. Шульц, вслед за Аланом Эльмсом, в какой-то мере видит в психобиографии «средство, позволяющее исцелить такие “болезни” психологии, как редукционизм, сциентизм, тривиальность и неадекватность», а также ее «радикализм»[1031]. Психобиография корректирует психологию, возвращая в сферу изучения личности человека. Ее задача – попытаться понять тайну каждого и «сделать цельную картину из бессвязной»[1032].
Теперь, дав определение «психобиографии», мы можем перейти к вопросу о том, чем психобиографическое изучение Иисуса из Назарета отличается от прежних попыток подвергнуть Иисуса психоанализу. Тем, кто применял психологический подход к Иисусу в прежние времена, были неизвестны верные способы интерпретации Нового Завета. Исследователи в то время и не думали разбираться ни в преданиях, дошедших до евангелистов, ни с тем, как те редактировали свои первоисточники; кроме того, психоаналитическое изучение Иисуса тесно ассоциировалось с агностицизмом или атеизмом. Новая методология, психобиография, стремится учитывать «критическое изучение Евангелий» и данные исследований жизни Иисуса и археологии, в то же время она не отрицает богословия[1033].
Я смотрю на психобиографию как специалист по Новому Завету и ревностный исследователь всего, что связано с еврейским миром до 136 г. н. э. И я убежден в том, что психобиографический подход нам необходим, поскольку различные так называемые научные методы не дают целостной картины жизни Иисуса из Назарета, а кроме того, любая попытка описать исторического Иисуса косвенно испытывает на себе влияние психологических факторов или предпосылок, которые часто остаются невидимыми или скрытыми. Миллер и Кэппс, как мы увидим, объясняют при помощи психобиографии ряд очевидных аномалий, возникающих при попытке воссоздать образ исторического Иисуса[1034].
С 1980 года, с появления «Исследования Иисуса», начался новый этап. Слово «исследование» – знак того, что мир Иисуса и источники, упоминающие о нем, изучаются более научно (и менее субъективно), чем прежде. Новая стадия более объективна и индуктивна: исследователи задают вопросы об Иисусе, не предполагая заранее готовых желанных ответов. Как отмечает Шульц, научная ориентация – это необходимое условие для того, чтобы психобиография не превращалась в автобиографию[1035]. В рамках беспристрастного «Исследования Иисуса» «предпочтительных» ответов нет. Вопросы задаются честно, и исследователям-христианам порой не по душе те ответы, которые дает история. Однако, несмотря на свою открытость к новым методологиям, в «Исследовании Иисуса», как правило, избегают психобиографии. Но тот, кто продолжит изучать Иисуса и его время, возможно, оценит вклад метода психобиографии в «Исследование Иисуса».
Психобиография приобрела интернациональный характер. Как отмечает Джеймс Уолтер, можно многому научиться у тех, кто занят психобиографией вне Америки[1036]. Можно вспомнить о впечатляющем сборнике «Биография: отображая жизнь», с важными статьями, посвященными жизнеописаниям и применению психологии для их создания; многие из этих статей написаны признанными учеными, работающими в важнейших высших учебных заведениях Москвы, Оксфорда, Эдинбурга, Дарема, Лондона и Кембриджа[1037]. Сергей Аверинцев справедливо говорит о том, что Бультман и его последователи «основывают свои доводы на абсолютно анахроничном представлении о биографии и не принимают во внимание особенностей биографического жанра в том его виде, в каком он существовал в поздней Античности»[1038]. Специалисты, исследующие жизнь Иисуса, могут получить немало ценного от психобиографического подхода.
Что можно узнать о делах Иисуса?
Многие ведущие исследователи поразительно единодушны в вопросе о делах Иисуса. Вот ряд преданий, которые кажутся исторически правдоподобными:
• Иисус вырос в Назарете.
• Его крестил Иоанн Креститель.
• Он какое-то время возглавлял движение Крестителя вместе с самим Иоанном – и возможно, Иоанн был учителем Иисуса.
• Центром общественного служения Иисуса стала Нижняя Галилея, в частности маленький еврейский рыбацкий поселок Капернаум.
• Он был одержим идеей исполнять Божью волю.
• Он был «опьянен» Богом и считал себя пророком[1039].
• Он близко знал Марию Магдалину (но у нас нет никаких свидетельств, которые во всей полноте раскрывали бы характер их отношений).
• Он совершал чудесные исцеления; его противники говорили, что Иисусу это удается, потому что он одержим злым духом.
• Он учил народ в синагогах Нижней Галилеи.
• Он проповедовал в небольших деревнях и на окраинах селений (не в городах).
• Он резко отличался от многих фарисеев и ессеев тем, что водил компанию с людьми с физическими недостатками (глухими и хромыми) и с отверженными (с проститутками, сборщиками податей и разбойниками).
• Он ходил в Иерусалим праздновать Пасху и участвовал в храмовом богослужении.
• Он часто молился в Храме и учил народ в портиках.
• В Иерусалиме он яростно критиковал порочность храмового культа.
• Трапезы часто были для него религиозными событиями, а его последняя трапеза с учениками происходила в пасхальный период в Иерусалиме.
• Вероятно, Петр от него отрекся.
• Один из Двенадцати, Иуда Искариот, выдал его высокопоставленным священникам.
• Его арестовала некая группа людей, куда входили иудеи, связанные с храмовым культом.
• Он был распят римскими солдатами вне западных стен Иерусалима[1040].
• Он умер до шаббата, в пятницу после полудня.
Я тридцать лет читал лекции об Иисусе и Двенадцати, указывал на то, что в любом перечне Двенадцати Петр занимает первое место, а Иуда – последнее, и старался убедить студентов в том, что представление о Двенадцати было создано последователями Иисуса. Иначе почему Петр всегда «первый», а Иуда – «последний»?
Поскольку Иуда, вне всяких сомнений, включен в этот список и евангелисты нередко называют его одним из Двенадцати, я пришел к выводу о том, что Иисус избрал двенадцать человек, к которым относился особо. Как последователи Иисуса, непрестанно чернившие Иуду, могли включить его в число Двенадцати, – если только его не выбрал в эту группу сам Иисус? Я рад видеть, что Сандерс и Майер – ведущие специалисты в «Исследовании Иисуса», – независимо друг от друга пришли к такому же выводу: Иисус создал особую группу, куда позвал двенадцать мужчин.
Если же Иисус избрал двенадцать человек, чтобы они помогали ему справляться с организационными задачами, значит, у него была какая-то политическая программа. Избирая их, он, быть может, думал о политике: двенадцать – число с политическим подтекстом, напоминающее о двенадцати коленах Израилевых. И оно стало еще популярнее после появления «Заветов двенадцати патриархов» (апокалиптической книги раннего иудаизма), приписываемой одному из двенадцати сыновей Иакова. В библейском повествовании Иаков, как все помнят, получил новое имя – Израиль.
В книге «Кем был Иисус?» Хендрик Бурс указывает на то, что ученики «в Гефсимании были вооружены», а потому «сложно отрицать, что сам Иисус участвовал в вооруженном сопротивлении Риму»[1041]. Вероятнее всего, Иисус и его ученики путешествовали по Палестине, имея при себе мечи. Да, есть искушение сказать, что с помощью оружия группа защищалась от разбойников, но в Евангелии от Матфея Иисус говорит, что принес не мир, но меч (Мф 10:34), а в Евангелии от Луки – заявляет, что имеющегося у них оружия достаточно (Лк 22:38).
Была ли у Иисуса политическая программа? Меня не радует тот факт, что ведущие исследователи, в зависимости от ситуации, подчеркивают две взаимно исключающие идеи. Иногда они решительно утверждают, что Иисус нисколько не интересовался политикой и никак с ней не связан, а порой заявляют, что в иудаизме I века невозможно отделить политику от религии или хоть как-то их разграничить[1042]. К счастью, ведущие исследователи обратили внимание на эту абсурдную непоследовательность и решительно от нее отказались[1043]. Для меня очевидно, что Иисус не собирался устанавливать в Израиле земное царство – но он мог интересоваться политикой, его проповедь имела важные политические последствия, и в первую очередь он говорил о заре «Царства Божьего». Римские властители распяли его, а значит, видели в нем политическую опасность.
Размышляя об отношениях между Иисусом и политикой, не следует забывать о двух надежных исторических фактах. Во-первых, Иаков и Иоанн просили у Иисуса почетных мест для себя, когда он войдет в свое царство: «Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим… дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей» (Мк 10:35–37). Во-вторых, Иисус был распят как политический преступник.
Кроме того, о политической программе Иисуса, возможно, говорят и два других эпизода. Клеопа надеялся, что Иисус есть тот, кто «должен избавить Израиля» (Лк 24:21). После Пасхи последователи Иисуса в Иерусалиме спрашивают: «Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» (Деян 1:6).
Конечно, о многих других действиях, приписываемых Иисусу, по-прежнему идут споры. Некоторые ревностные исследователи заключают, что Иисус был маргинальным иудеем или средиземноморским крестьянином, – либо их привлекают эти мысли. Я не могу причислить Иисуса ни к первым[1044], ни ко вторым[1045]. Иисус был ревностным иудеем, и главным для него всегда оставался Храм. Он был слишком утончен, образован и вовлечен в жизнь города, чтобы счесть его одним из «крестьян». Археологические раскопки в Нижней Галилее вообще указывают на то, что к крестьянам лучше не причислять никого из современников Иисуса[1046]. Евреи переселились из Иудеи в Нижнюю Галилею после победы Хасмонеев и владели землей, на которой работали (пока некоторые не стали наемными работниками или их не заставили перейти на заболоченные участки [ср.: 1 Ен 37–71]).
В прошлом важнейшей темой для исследователей были методы, позволяющие устанавливать подлинность действий, приписываемых Иисусу. К счастью, Брюс Чилтон и Крэйг Эванс издали книгу, которой предстоит играть важнейшую роль при любом исследовании действий Иисуса в будущем. Это сборник под названием «Установление подлинности действий Иисуса», в котором девятнадцать экспертов рассказывают о своих методах и делятся выводами. Сборник призван «прояснить, какие методики позволят отделить предания и смыслы, восходящие к Иисусу, от тех, которые восходят к позднейшим хранителям традиции и к евангелистам»[1047]. Треть книги посвящена описанию соответствующих методик и предпосылок, а остальные две трети – установлению подлинности действий Иисуса. Там есть и статьи Мартина Хенгеля и Крэйга Эванса, в которых авторы утверждают, что миссия Иисуса имела мессианский характер. Лично я убежден в том, что Иисус в каком-то смысле считал себя Мессией, хотя никогда не называл себя Христом[1048].
Уильям Классен вновь ставит трудный вопрос: «Что именно предал Иуда?»[1049] – и не соглашается с теми мнениями, какие высказывали Маркус Борг, Рут Такер, Джон Доминик Кроссан и другие авторы. Классен справедливо отмечает, что использовавшийся в Новом Завете для описания поступка Иуды глагол παραδίδωµι со значением «передать» (в частности как «передают» предание) не означает «предать». В греческом существует слово для предательства, προδίδωµι, – этот глагол не встречается в Новом Завете[1050]. И, по мнению Классена, «Иуда действовал из послушания Христу, так что его поступок – передача Иисуса в руки властей – мог быть исполнен из послушания воле Божьей»[1051].
Классен справедливо указывает на то, что Иуда – персонаж намного более положительный, чем представляют его последующие христианские предания. Он принадлежал к Двенадцати и, возможно, был казначеем группы учеников Иисуса (Ин 12:6; 13:29). Позднейшие пласты Евангелий явно склонны очернять Иуду все сильнее. Истолкование повествований и суть евангельской риторики позволяют понять, что Иуда покинул группу Иисуса, вступил в союз с его врагами и начал тот процесс, который в итоге завершился распятием Иисуса.
Мы не в силах понять ни мотивы Иуды, ни того, что в итоге думал о нем Иисус. Был ли Иуда предателем? А если был, то что он предал? Просто указал врагам на Иисуса, раскрыв его личность? Нет, Иисуса и так все прекрасно знали. Выдал тайное место молитвы Иисуса? И снова нет: Иисус, желая вознести молитву, покидал Иерусалим, и в Гефсиманию, с ее оливковой рощей, доступной для всех, он приходил часто.
Важно попытаться понять, что нам достоверно известно о причинах ужасной смерти Иисуса в 30 г. н. э.?[1052] Иисус пришел в Иерусалим из Галилеи, чтобы праздновать Пасху. Понтий Пилат привел тысячи своих солдат из Кесарии Приморской в Святой Город, чтобы поддерживать порядок во время торжества. Паломники прибывали туда отовсюду, особенно из Парфии, с востока, и с запада из Рима, чтобы отметить ежегодное торжество. Город наполняла мессианская и эсхатологическая горячка, когда иудеи начинали отмечать – точнее, заново переживать – тот момент, когда Бог вступился за них и спас их от власти фараона, выведя их из Египта «рукою крепкою и мышцею простертою». Кроссан описывает политическую и социальную обстановку этого момента так: «Каиафа и Пилат, несомненно, единодушно решили еще до начала праздника, что при любом нарушении порядка нужно действовать незамедлительно и жестко, и, возможно, во имя будущего блага стоит даже в самом начале кого-нибудь распять»[1053]. Каиафа и Пилат, обязанные хранить порядок на фоне потенциальных кризисов и, скорее всего, имевшие поддержку многих священников из саддукеев, неизбежно должны были видеть в Иисусе опасность, ведь он мог взволновать буйные толпы (самый нестабильный из всех социальных институтов), – так что его мгновенно удалили с общественной арены и заключили в тюрьму. Возможно ли, что некоторые иудейские вожди, желавшие его арестовать, надеялись, что это временная мера, которая защитит Иисуса от опасности? Возможно ли, что их благие намерения повлекли за собой дурные последствия?
Как соотносятся две толпы из описания последней недели жизни Иисуса: толпа, приветствовавшая его при входе в Иерусалим, – и толпа, которая кричала: «Распни его!»? Быть может, никак? Но в любом случае, толпа – это сигнал опасности для хранителей общественного порядка.
Что мы можем знать об учении Иисуса?
Рудольф Бультман и его последователи, которые по сути дела задавали тон в сфере исследований Нового Завета с 1940-х по 1970-е годы, старались преуменьшить важность наших знаний об историческом Иисусе. Вот что говорил сам Бультман:
Я действительно думаю, что мы не в состоянии узнать почти ничего о жизни и личности Иисуса [daβ wir vom Leben und von der Persönlichkeit Jesu so gut wie nichts mehr wissen können], поскольку раннехристианские источники не проявляют к ним интереса и более того, носят фрагментарный характер и часто передают легенды, а других источников, повествующих об Иисусе, не существует[1054].
На эти слова часто ссылаются, но их редко цитируют точно. Для нас же достаточно того, что это мнение Бультмана оказало огромное влияние на мысль во всем мире, особенно после Второй мировой войны, и до сих пор воспринимается некоторыми специалистами по Новому Завету как аксиома. И это положение стало эталоном, по которому сверяют все «новые» данные психобиографии. Но у нее совершенно иная парадигма интерпретации доступных источников!
Христиане серьезно относятся к жизни Иисуса, полагая, что вера в него есть вера в конкретного человека, совершившего нечто крайне важное для верующих в него. И они просто обязаны знать что-то об Иисусе как человеке; о том, что он сделал; о том, почему он собирал вокруг себя толпы; о том, кем он себя считал и почему он умер на кресте у западной стены Иерусалима. И хотя Бультман воздерживался от любого изучения деяний Иисуса, Сандерс благоразумно вернул их в наше поле зрения, а те, кто пользуется психобиографическим методом, помогают нам понять (или хотя бы предположить), почему Иисус действовал так, как о нем рассказывают. Ближе к концу данной главы мы познакомимся с этим аспектом «Исследования Иисуса». Психобиография ставит поступки Иисуса в центр внимания, и движет ей явно не христианская догматика (иными словами, она не стремится доказать истинность христианства).
Впрочем, крайне важно помнить: пусть поступки Иисуса значимы и должны быть частью любого критического изучения его жизни или составления краткой биографии, но не меньшее значение, – а для каких-то специалистов даже и большее, как это утверждал Бультман, – имеет то, что мы можем узнать об учении Иисуса. Сторонники психобиографического подхода ставят перед нами такой вопрос: что мы можем знать о мыслях Иисуса?
В этой сфере коренной перелом совершил покойный Давид Флуссер, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, человек творческий и необычайно эрудированный. В исправленном и дополненном издании книги «Иисус» Флуссер заострил внимание на представлении Иисуса о любви. Это особенно достойно внимания: в начале ХХ века еврейские интерпретаторы уничижительно описывали Иисуса как обезумевшего учителя, который призывал своих последователей любить тех, кто мог убить их. Так, в 1910 году Клод Монтефиоре, возглавлявший Либеральную иудейскую синагогу и относившийся к Иисусу с глубоким уважением и старавшийся подходить к нему объективно, уверял, что любить врагов «невозможно», с чем согласятся все евреи[1055].
В отличие от прежних еврейских авторов, отвергавших Иисуса из-за очевидно абсурдной заповеди о любви к врагам (Мф 5:44), Флуссер создал серьезную научную книгу, где он рассказывает о том, как Иисус представлял любовь, и говорит об этом так прекрасно, как никто прежде. Флуссер считал, что у евреев, современников Иисуса, появилась достойная внимания «новая чувствительность». Подобно им, Иисус знал, что любовь должна распространяться на всех и быть подобной милости Божьей (Лк 6:36, Мф 5:4)[1056].
Я много лет общался с Флуссером – и начал яснее понимать учение Иисуса. Иисус учил тому, что ограниченная любовь – это всего лишь своекорыстная привязанность. Взрослея, начиная размышлять о жизни, мы можем вдруг осознать, что не представляем, кто нам друг, а кто – враг, и более того, мы можем увидеть, что такое разделение человечества искажает реальность. И если мы не стремимся любить врагов, как нам достичь мирной жизни, где их нет? И вероятно, призыв любить врагов вовсе не безумен – и может указывать на новый порядок в мире. Он соответствует призыву Иисуса подставить другую щеку; таким образом, Иисус – великий мыслитель, и в его суждениях нет никаких ошибок. Если любовь не требует затрат, можно ли считать, будто силу ей дает любовь Божья?[1057]
Влияние Иисуса на лучших из тех евреев, что последовали за ним, объясняется именно этим: его представлениями о любви. Павел постоянно говорил о том, сколь много значит вера, но, сравнивая веру, надежду и любовь, он подчеркивал, что любовь из них больше (1 Кор 13). И евангелист Иоанн, хотя и делал акцент на важности глагола «верить», также чувствовал силу учения Иисуса о любви и утверждал, что Иисус дал новую заповедь: ученики Иисуса призваны любить друг друга так, как он возлюбил их (Ин 13:34–35; 15:12, 17).
Несомненно, Иисус выделяется среди иудейских мыслителей во всей их истории. Он призывал любить всех, включая врагов, и это было сутью его учения. Появившиеся во второй половине XIX века либеральные биографии Иисуса придавали чрезмерное значение этой стороне жизни и учения Иисуса (особенно это касается Гарнака), не обращая внимания на апокалиптический аспект, но все же очевидно, что Иисус придавал любви большее значение, чем другие иудеи, включая тех, что стоят за возвышенной этикой «Поучений отцов» («Пиркей Авот»). Что, на мой взгляд, заслуживает тут особого внимания, так это мучительный социальный контекст, в котором учил Иисус: иудеи страдали и из-за того, что Палестину оккупировали римские войска, и от гнета книжников и священников, владевших цитаделью учености и традиций в Иерусалиме.
Флуссер повлиял и на других: один из его учеников, Брэд Янг, в своем труде приводит вдумчивый разбор притч Иисуса, пытаясь понять Иисуса в свете наших знаний о его эпохе[1058]. Как справедливо указывает Янг, христианские толкователи, начиная с первых греческих мыслителей, часто плохо понимали проповедь Иисуса, потому что воспринимали его в отрыве от его иудейского окружения. Несомненно, притчи, пусть и отредактированные евангелистами, восходят к самому Иисусу. Многие исследователи, в том числе и Чарльз Хедрик[1059], видят в этих притчах отражение творческого гения Иисуса, и с этим нельзя не согласиться.
В чем суть проповеди Иисуса и его учения? Почти все исследователи согласны с тем, что в первую очередь Иисус возвещал правление Бога, наступление царствования Бога на земле. В Евангелии от Матфея это «Царство Небесное». Вот ряд аспектов учения Иисуса, которые можно считать наиболее достоверными.
• Иисус в первую очередь говорил о заре Божьего владычества. Представление о Боге как о «Царе» и о царствовании Бога он унаследовал по большей части из еврейских Писаний и мысли раннего иудаизма.
• Как и некоторые раввины тех времен, Иисус обычно говорил образно, в притчах.
• Он в какой-то мере знал греческий (если говорил с Пилатом) и иврит (он читал Писание в синагоге), но обычно учил на арамейском.
• Он показал ученикам особую молитву (Отче наш), возможно, узнав ее у Иоанна Крестителя (см.: Лк 11:1) или, косвенно, через Кумранскую общину[1060].
• В согласии с идеями, свойственными и другим мыслителям времен раннего иудаизма, Иисус учил последователей тому, что им надлежит любить своих врагов.
• Иисус часто спорил с фарисеями, поскольку его богословие походило на их богословие.
• Нередко Иисус говорил примерно то же, что и Гиллель, фарисей, умерший еще до того, как Иисус начал свое служение, – но мысль Иисуса, в отличие от мысли Гиллеля, была пронизана апокалиптикой и эсхатологией.
• На него повлияли некоторые представления ессеев, отраженные в свитках Мертвого моря, особенно в «Дамасском документе» (в частности в его фрагментах, найденных в Кумране), но он, должно быть, крайне критически относился к таким чертам ессеев, как ненависть к чужим, вера в предопределение и ощущение своей исключительности[1061].
• Он, по всей видимости, полагал, что его миссия, как и задача его последователей, обращена только к Израилю (см., напр.: «…на путь к язычникам не ходите», Мф 10:5).
• Он критиковал возвышенные представления о ритуальной чистоте, которым следовали в Иерусалиме, и, вероятнее всего, напал на торгующих в Храме, поскольку те оскверняли «дом Отца».
Разумеется, каждый пункт из этого перечня, как и из предыдущего, может вызывать споры и вызывает их. Но он отражает единодушие среди специалистов из высших образовательных учреждений, – тех специалистов, которые независимо друг от друга становились частью «Исследования Иисуса» в Израиле, Германии, Франции, Канаде, Австралии, США и других местах.
Впрочем, один пункт рождает особо жаркие споры. Некоторые исследователи, такие как Маркус Борг[1062], уверены в том, что проповедь Иисуса не содержала эсхатологии. Лично я, как и очень многие в «Исследовании Иисуса», убежден, что учение Иисуса носило эсхатологический и апокалиптический характер. К сожалению, нельзя сказать, что сегодня эту точку зрения разделяет подавляющее большинство, – однако так, несомненно, считают те, кто изучал ранний иудаизм и самые древние предания об Иисусе.
По мнению Классена, участники «Семинара по Иисусу» стремятся «освободить» Иисуса от «уз еврейской апокалиптики», чтобы «создать Иисуса по своему подобию» и «сделать его приятнее»[1063]. Отрицая эсхатологический и апокалиптический характер учения Иисуса (поскольку образ Иисуса, представший в свете такого учения, не привлекает современного человека), исследователи нарушают одно важнейшее методологическое правило: наши желания не должны порождать наши мысли. Иными словами, христиане, вовлеченные в «Исследование Иисуса», должны позволить Иисусу оскорблять их чувства.
И если апокалиптический Иисус оскорбляет чувства многих участников «Семинара по Иисусу», значит, они плохо понимают иудейское апокалиптическое богословие и вряд ли потратили годы на то, чтобы его глубоко изучить. Апокалиптическая эсхатология раннего иудаизма изображает Бога, вовлеченного в земные реалии; он посылает вестников (особенно ангелов), чтобы передать свою волю и свое видение иного мира или зари иного века, когда верные получат награды. И когда кто-то делает вывод о том, что на Иисуса не влияла апокалиптика, стоит спросить, не скрыто ли за этим желание «осовременить» Иисуса[1064].
Но разве образ палестинского еврея, делающего акцент на том, что его миссия не направлена на язычников, не оскорбляет наши чувства еще сильнее? Одно из достоинств психобиографического подхода, несомненно, в том, что он позволяет нам прийти к поразительным ответам, – и ничто не довлеет над нами и не мешает честно спрашивать[1065].
Для меня образ Иисуса неизбежно связан с апокалиптикой и эсхатологией: этого требует беспристрастное изучение преданий об Иисусе в Новом Завете и изучение его роли в палестинском иудаизме до 70 г. н. э.[1066]. И если исследовать этот вопрос, отказавшись от предрассудков, можно найти в этом образе нечто привлекательное, а не смущающее, – и для многих Иисус предстанет как иудей с прекрасной и великой мечтой.
Настоящее тревожило Иисуса столь же сильно, как и будущее – но и будущему он был предан так же ревностно, как и настоящему. Некоторые из тех, кто стремился исследовать образ Иисуса, не сумели изучить иудейскую апокалиптику, – и нередко утверждают, будто она в большей мере связана не с будущим, а с настоящим. Скажем, Енох предвидит грядущие события, обретает мудрость и делится своими прозрениями с теми, кто страдает на этой земле (1 Ен 91–107). Подобные рассуждения – отражение хаоса, царящего сегодня в сфере изучения исторического Иисуса. Споры в издаваемых книгах заставляют задуматься о том, как же нам все-таки понять, о чем говорил Иисус, и пока еще неясно, как в этом нам поможет психобиография.
В частности, спорят вот о чем: действительно ли Иисус призывал к себе грешников, не требуя от них покаяния? Это решительно утверждает Эд Сандерс, с которым я согласен по многим вопросам. Но должен признать, в данном случае мне ближе взгляд Н. Т. Райта, и я полагаю, что Иисус призывал грешников покаяться. Слова Четвертого Евангелия о необходимости покаяться и оставить грех (например, Ин 7:53–8:11) отражают это мнение Иисуса в той же мере, что и любые другие тексты Нового Завета, пусть даже данный отрывок изначально не был частью Евангелия от Иоанна.
Так что же можно сказать о Назарянине?
Я надеюсь, что мой перечень аспектов учения Иисуса наглядно представляет то, что происходит в этой сфере. Подобные списки создавали и другие авторы, скажем, Райт и Сандерс, и сходство между ними порой поражает. Таким образом, от декларативной позиции: «Мы ничего не можем узнать об Иисусе» мы перешли к вопросу: «Сколь многое об историческом Иисусе мы способны узнать?» Впрочем, возможно, что и здесь главная роль остается за методологией. Откуда мы знаем, что слышим голос Иисуса, а не просто искаженное эхо, дошедшее до нас через тех, кто никогда Иисуса не видел?[1067]
Знаменитый труд Бультмана «Теология Нового Завета» начинается с ошеломляющего вывода: «Весть Иисуса – предпосылка теологии Нового Завета, а не часть этой теологии»[1068]. Я не в силах понять, почему Бультман сделал такое заявление. Он написал книгу об Иисусе, в основном – о его учении, и уместно было бы объяснить, как мысли, выраженные там, соотносятся с «Теологией Нового Завета». Я рассматриваю Иисуса в контексте иудаизма эпохи Второго Храма, помню о важности психобиографии в исследовании Иисуса, и я скорее подчеркнул бы тот факт, что творческая мысль раннего иудаизма – это предпосылка для теологии Иисуса, из которой возникла теология Нового Завета.
Иными словами, то, что сам Бультман и особенно его последователи считали творчеством «ранней Церкви», я расцениваю как проявление творческой мысли раннего иудаизма в Палестине до 70 г. н. э. Быть может, психобиография позволит нам хотя бы допустить мысль о том, что самопонимание Иисуса могло сформироваться под влиянием представлений раннего иудаизма о Сыне Человеческом, Мессии и Праведнике. Сегодня почти все исследователи «Притчей Еноха» (1 Ен 37–71) полагают, что этот текст создан иудеями до начала миссии Иисуса в Нижней Галилее[1069]; и если это верно, то связь между Сыном Человеческим, Мессией и Праведником присутствовала не только в этой книге, но в мыслях современников и соотечественников Иисуса. И, наконец, в учении Иисуса мы можем видеть начало новозаветного богословия: это показали Иеремиас, Гоппельт и другие авторы[1070].
В отличие от последователей Бультмана, специалисты наших дней, занятые в «Исследовании Иисуса», охотно обсуждают мессианские представления Иисуса о себе самом. Теперь всем очевидно, что Иисус был иудеем до глубины души и что канонические Евангелия несправедливо пытаются возложить вину за смерть Иисуса на «иудеев». Кроме того, сегодня позитивизм не в почете, и ученые склонны говорить о своих выводах как в той или иной мере «вероятных», подчеркивая, что достичь объективности всегда непросто, но полученные заключения – это не беспочвенные спекуляции.
Исследование Иисуса и возникновение психобиографии
Еще до начала Второй мировой войны Шерли Джексон Кейс предложил исследователям социологический подход к историческому Иисусу, но в 1947 году, не успев завершить свою вторую книгу об Иисусе[1071], Кейс умер. В 1978 году вышла книга Герда Тайсена «Социология раннего христианства в Палестине»[1072], с которой началось социологическое изучение Иисуса[1073]. В 1989 году Ричард Хорсли опубликовал книгу «Социология и движение Иисуса»[1074]; а в 1999 году вышла еще одна большая работа подобного плана: книга «Движение Иисуса», которую издали Эккехард Штегеман и Вольфганг Штегеман[1075]. В ней исследовался социальный мир Иисуса.
Хорсли, Тайсен и братья Штегеманы не были социологами. Они были специалистами по Новому Завету и опирались на социологический анализ. Никто еще не написал социальной биографии Иисуса, и, кажется, не существует метода, который можно было бы назвать социобиографией, – и даже не существует словаря, который бы позволил об этом говорить.
Итак, большие монографии, посвященные социологии и Иисусу, еще не написаны, и я хотел бы предложить четыре темы, заслуживающие глубокого изучения. Во-первых, «Исследование Иисуса» обогатил бы тот, кто посвятил бы свою работу рассмотрению отношений Иисуса и толпы в свете мыслей Гюстава Лебона и Элиаса Канетти о социологии «толпы»[1076]. Это помогло бы нам понять, почему Иисус был так популярен в Галилее; почему при входе в Иерусалим его приветствовала толпа; почему толпа кричала «Распни его!» – и почему римляне хотели остановить его деятельность (стоит познакомиться и с тем, как Иосиф Флавий объясняет причины казни Иоанна Крестителя).
Во-вторых, «Исследование Иисуса» обогатил бы тот, кто занялся бы серьезным изучением социологии паломничества в связи с последним путешествием Иисуса в Иерусалим. Восприятие группы паломников с точки зрения социологии дало бы нам важные новые материалы и новый ракурс для понимания этого паломничества Иисуса[1077]. На таком пути сильный становится зависимым от слабого, а богач – от бедняка: общая история связывает всех паломников, а достигнув цели, они поражаются тому, что люди, живущие в «предначертанном» месте, относятся и к предначертанию, и к месту без подобающего благоговения, возникшего у паломников «в пути». Все эти аспекты отражены в рассказах о пути Иисуса в Иерусалим; говорится и о его гневе при виде «дома», лишенного духовного благоговения и чистоты.
В-третьих, стоит снова обратиться к идее Макса Вебера об Иисусе как харизматике. Она может стать плодотворной, если рассмотреть ее в свете апокалиптики, которой следовали группы Еноха и Кумранская община, а также группы фанатиков вроде зелотов (см. работы М. Хенгеля и Д. Роудса)[1078].
В-четвертых, специалисты, занятые в «Исследовании Иисуса», могут многому научиться у Мэри Дуглас, поведавшей нам о связи ритуальной чистоты с риском[1079]. Ее социологические идеи помогут лучше понять, почему в Палестине столь широко распространились иудейские обряды очищения (каменные сосуды и миквы) и опасение стать нечистым (например, «Храмовый Свиток», столбец 50), которое становилось все сильнее среди иудеев до 70 г. н. э. Этот фон поможет яснее понять те возможные причины, по которым Иисус резко критиковал ряд новых иудейских правил о ритуальной чистоте. Вероятно, отчасти из-за этого Иисуса арестовали на Пасху и затем распяли.
Хотя на протяжении последних двух десятилетий об Иисусе были написаны сотни книг, среди них нет ни одного глубокого социологического исследования, тогда как психологическое изучение Иисуса снова становится в какой-то мере популярным. После полувека молчания оно обогатилось новыми методами, которые превосходят то, что предлагали Фрейд и Юнг. Впрочем, никому не следует проводить для Иисуса сеанс психоанализа, «укладывая» его на кушетку и задавая вопросы[1080]. Вероятно, специалисты согласятся с тем, что мы не вправе выводить психологические факты из несуществующих данных. Если наши сведения сомнительны или отсутствуют и если можно «найти» их лишь с помощью нашего воображения, тогда никто, ни один специалист, занимающийся исследованиями Иисуса, не должен создавать его психобиографию[1081].
Тем не менее какие-то данные, которые можно рассматривать в рамках психобиографического подхода, все же существуют, и это, быть может, касается не только повествований о детстве Иисуса у Матфея и Луки (я разъясню мои слова далее). Так что крайне важно обогатить изучение Иисуса тем, что может заметить психолог или о чем он может задуматься[1082]. Очевидно, что ревностные сторонники «Исследования Иисуса», могут внимательнее отнестись к тем или иным аспектам его жизни, если узнают о психобиографии. «Исследование Иисуса» (или Третий поиск) сближается с психобиографией и психоисторией. Есть три попытки создания психобиографии Иисуса, достойные упоминания, хотя я поговорю о них кратко.
Во-первых, это труд Джона Миллера «Тридцатилетний Иисус: психологический и исторический портрет» (1997)[1083]. Это впечатляющее психобиографическое исследование. Миллер был готов написать такую работу, потому что руководит центрами психиатрической реабилитации и преподавал религию в колледже. Он убежден в том, что надлежащий метод для создания психобиографии можно получить, используя идеи Фрейда, Фромма, Эриксона и Левинсона.
Для Миллера особо важны идеи Фрейда об эдиповом комплексе. Миллер пытается показать, что Иисус, отчужденный от родных, рано потерял отца и заменил другим отца и мужа[1084]. Позднее, приняв крещение у Иоанна, Иисус пережил сильный духовный опыт. В тридцать он покинул мать. Тем не менее Иисус сдерживал соблазн вести себя как Мессия; не вступал в брак, поскольку у него не было отца, который, как принято у евреев, нашел бы ему невесту, и он нашел мир и гармонию в сознании того, что обрел небесного Отца.
Специалисты по Новому Завету критикуют Миллера за то, что он придает слишком много значения исторически недостоверному портрету Иисуса, представленному в Евангелии от Луки. Только третий евангелист сообщает нам, что Иисус начал свое служение в возрасте тридцати лет. Миллер допускает пределы возраста от двадцати восьми до тридцати трех[1085]. Лука пытался представить хронологический порядок жизни Иисуса, но у нас нет основания думать, что его источники, повествующие о начале служения Иисуса, лучше тех, с какими работали Марк и Иоанн.
Вероятнее всего, мы просто имеем дело с клише античной литературы: тридцатилетие – такой возраст, когда за человеком признают зрелость и мудрость. Лука тем самым хотел показать, что Иисус возрос в мудрости (Лк 2:52). И специалистам следовало бы подробнее обсудить слова Луки о том, что Иисус начал свое служение в тридцать лет (Лк 3:23).
Свитки Мертвого моря позволяют нам лучше понять значение тридцатилетнего порога. В Дамасском документе говорится, что священник, который будет главой «Многих», должен быть в возрасте от тридцати до шестидесяти лет (CD 14.6–7). Согласно Храмовому Свитку, возрастом зрелости следует считать двадцать (17.8) или тридцать лет: «…в день, когда поставят его царем сынов Израилевых (те, кому будет) от двадцати до шестидесяти лет» (57.2–3)[1086]. Очевидно, это представление было свойственно не только сектантам Кумрана: Храмовый Свиток, в отличие, скажем, от таких, как Устав Общины или Гимны, изначально создавался не в Кумранской общине. Более того, следует отметить, что в плане экзегезы процитированный отрывок, вероятнее всего, зависит от Книги Левит (Лев 27:3), хотя творчески развивает ее мысли об обязанностях мужчин, уточняя, что им должно быть от двадцати до шестидесяти лет (см. также: вав. Б. Бат 121b).
Многим специалистам по Новому Завету выводы Миллера покажутся неубедительными: он не учитывает замысла евангелистов (Redaktionsgeschichte). Несомненно, каждый из четырех евангелистов не просто ознакомился с преданиями, которые могли содержать исторические сведения, но также менял и редактировал слова и деяния Иисуса. Евангелия нельзя читать как объективные биографии. Предания об Иисусе были основой для евангелистов, и они оказались настолько захватывающими, что авторы прибавили к ним свои интерпретации. В этом смысле нам повезло: до нас дошли повествования об Иисусе, созданные в I веке, ясные, понятные, логически последовательные и, что еще важнее, осмысленно истолкованные. Попытка отделить Иисуса истории от Христа веры – это не только непонимание творческого аспекта всех наших источников, она еще и заслоняет тот факт, что Иисус был важен именно из-за того, кем он себя считал и кем его считали другие. Знаменитый афоризм Бультмана о том, что после Воскресения Провозвестник стал для общины самой вестью, глубоко верен в одном смысле, но обманчив в другом. Иисус был Провозвестником, отождествленным с его вестью, и он был провозглашенным еще до своей смерти на кресте.
Миллер обращает внимание на один аспект учения Иисуса: на отцовство Бога. Эта черта была характерна еще для психологических исследований Иисуса в эпоху Старого поиска, которая завершилась в 1906 году с выходом книги Альберта Швейцера «Вопрос об историчности Иисуса». Однако Миллер оставил без внимания то, как развивались дискуссии об этой теме с момента выхода исследования Иоахима Иеремиаса «Абба»[1087], и некорректно утверждает, что у креста распятого Иисуса стояли только женщины (ср.: Ин 19:26–27).
Книга Миллера может многому научить. Он показывает, что можно кое-что узнать о ранних годах Иисуса из сведений о его жизни после встречи с Иоанном Крестителем. Кроме того, Миллер привлекает наше внимание к поразительному и правдоподобному факту: возможно, Иисус – пусть даже только вначале – был отчужден от матери, братьев и сестер, но не от отца, – и это потрясает.
Вторую попытку создать психобиографию Иисуса предпринял Андрис ван Аарде в книге «Без отца в Галилее»[1088]. Он испытал влияние Миллера, хотя и «глубоко сомневался» в методах и выводах последнего. Ван Аарде критиковал Миллера за то, что тот, не имея представления о новозаветных исследованиях, высказывал предположения, неспособные выдержать критику со стороны историков, изучавшими культуру Палестины до 70 года, и экзегетов Нового Завета. Он отмечает в труде Миллера четыре важнейшие проблемы.
1. Миллер некритично считает историчным возникшее в святоотеческий период уверение в том, что Иосиф умер, когда Иисус еще был ребенком.
2. Миллер допускает, что Иисус был первенцем.
3. Миллер предполагает, что Иисус стал «отцовской фигурой».
4. Миллер утверждает, что у Иисуса было «эмоционально надежное детство».
Все эти замечания ван Аарде по сути корректны. Он показал, что для создания психобиографии необходимо изучить Новый Завет, понять, как он обрел свою форму и как арамейские устные традиции превратились в греческий текст. Евангелисты не были очевидцами описываемых событий (Лк 1:1–4) и, хотя им были доступны рассказы очевидцев о словах и делах Иисуса, это не значит, что они точно передали рассказы свидетелей. Затем евангелисты отредактировали собранный материал, в том числе и слова Иисуса: это видно, скажем, в том, как по-разному Матфей и Лука передали Мк 9:1.
Ван Аарде предполагает, что мы можем начать с повествований о рождении Иисуса у Матфея и Луки: в этих текстах впервые ставится вопрос о его идентичности. Ван Аарде убежден, что евангельский Иисус – это «герой без отца». Он предлагает нам важный вопрос: «Что значило клеймо безотцовщины для уроженца Палестины I века, живущей под властью Иродов, если он верил Богу как Отцу?» Ван Аарде убежден в том, что «Иисус заполнил пустоту, возникшую из-за отсутствия отца, верой в Бога как отца». Эта позиция показывает, что у ван Аарде и Миллера есть немало общего, а также связывает их версии жизни Иисуса с теми, какие были созданы в XIX веке.
Позвольте мне теперь попытаться очертить круг тем, на которые указывает идея об утрате Иисусом отца в детстве. Почему Иисус почти всегда называл Бога Отцом, а не Яхве, или Господом, или Элохимом, как большинство евреев? Может быть, Иисус видел, что не способен доказать свое происхождение перед лицом тех, кто называл его мамзером?
У нас есть дополнительные филологические данные (особенно свитки Мертвого моря), указывающие на то, что мамзером называли не только незаконнорожденного, но и того, кто не мог убедительно доказать властям, что его родители были чистокровными евреями и вступили в брак до его зачатия. История рождения Иисуса не только была нарушением существовавших иудейских обычаев, но и «доказывала» некоторым евреям, обладающим властью, что Иисус был мамзером, – либо потому, что его зачали до законного брака, либо потому, что он родился от девы. Это было верно в любом случае – и если бы его мать была изнасилована римским солдатом (идея, увековеченная в постыдном вымысле о Пантере), и если бы его отец умер до того, как смог бы защитить сына в синагоге или где-либо еще перед властями, ответив на их вопросы о законном статусе Иисуса или о его происхождении. В какой мере такая социальная ситуация могла повлиять на психологическое развитие Иисуса?[1089] Если некие книжники, фарисеи или священники считали Иисуса мамзером, он оказывался изгоем в еврейском обществе, а это могло оказать влияние на психику. И это позволило бы нам понять такую исключительную характеристику Иисуса, как стремление быть с отверженными (что особенно противоречило представлениям Кумрана и распространенным законам о ритуальной чистоте).
Третью попытку создать психобиографию Иисуса предпринял Дэвид Кэппс в труде «Иисус: психологическая биография» (2000). Он много лет был профессором Принстонской богословской семинарии и признанным специалистом по психологии религии, а также мог оценить достижения «Исследования Иисуса». Он поставил в центр Иисуса как целителя, убедительно показал, что специалисты, делая выводы об Иисусе, невольно вторгались в область психологии, а также показал, что психологические теории не просто легитимны, но крайне важны при историческом изучении жизни того человека, которого называли Иисусом из Назарета[1090].
Кэппс намного более, нежели Миллер, внимателен к тому, как евангелисты в своем социальном окружении оформляли и редактировали предания об Иисусе, и справедливо утверждает, что Иисус совершал чудеса исцеления, с чем сегодня согласится большинство исследователей. Исследуя роль Иисуса как экзорциста-целителя, Кэппс выдвигает ряд захватывающих гипотез[1091]. Его идеи часто поражают новизной и побуждают серьезнее исследовать ряд тем.
Книга Кэппса вызывает споры. За ней не стоит желание прийти к выводам, которые соответствуют вероучению ортодоксального христианства или стандартам некоей конфессии. Скажем, Кэппс уверен в том, что Иисус был незаконнорожденным[1092] и что Иосифу не удалось его усыновить, а также в том, что «Иисус был меланхоликом и обратился к альтернативному представлению о религии, основанной на вере в “Аббу” [Бога Отца], которая позволила ему лечить свою меланхолию и преодолевать ее»[1093].
Что важнее всего в работах Миллера и Кэппса? Быть может, то, что эти труды – не отчеты о психологических нарушениях, иными словами – не «патографии», если выразиться на языке Швейцера и психиатров, которых он критиковал. По мнению Шульца, патография – это один из шести признаков неудачной методологии[1094]. Поэтому Кэппс справедливо замечает: «Возражая создателям психиатрических портретов Иисуса… Швейцер со всей возможной ясностью предупреждает… что они [психиатры] рискуют опозорить себя и свою профессию, прилагая свои диагностические категории к историческим личностям»[1095], – и, вслед за Швейцером, указывает на то, что психопатологический подход к Иисусу неправомерно применяли любители[1096].
Миллер и Кэппс – не любители, и они успешно избегают соблазна создать патографию. Миллер считает Иисуса совершенно психически здоровым, а по мнению Кэппса, Иисус «излечил» свою «меланхолию» с помощью катарсиса в момент вспышки гнева в Храме, поистине исцелив себя и вернув себе силы. Можно почти с уверенностью сказать, что именно с этого события началась череда действий, приведших непосредственно к смерти Иисуса. Итак, и у Миллера, и у Кэппса Иисус преодолевает важные психологические проблемы и предстает без психических нарушений.
Три этих современных психобиографии решительно отличаются от тех, какие клеймил Швейцер сто лет тому назад: авторы последних злоупотребляли психологией. Мудрая и в то же время разгромная критика Швейцера, которая обрушилась на эти недобросовестные труды, привела к тому, что библеистам совершенно запретили применять психологию, и этот запрет действовал на протяжении большей части ХХ века[1097]. Но Швейцер справедливо критиковал эту начальную методологию для «психологического разбора» Иисуса; то была просто «патография», попытка проверить Евангелия «на наличие признаков психопатологических симптомов»[1098].
Быть может, сильнее всего старые подходы отличались от современных психологических исследований тем, что у первых была своя откровенная программа: они стремились свести особенности личности Иисуса к тому или иному «заболеванию»[1099]. Кэппс, призывая исследователей относиться к плану работы аккуратно, с большей чуткостью, отмечает, что у нас остается «дверь… для психиатрического изучения Иисуса в будущем», особенно в том, что касается «значения, которое себе придавал Иисус» и момента крещения, когда Иисус, возможно, «столкнулся с галлюцинациями»[1100].
Сторонникам психобиографии, усвоившим предупреждения Швейцера, следует крайне осторожно или даже неохотно выносить суждения о психическом здоровье Иисуса, а кроме того, им надлежит познакомиться с античной историографией и уяснить, сколь сложны наши источники, особенно сочинения Иосифа Флавия и Евангелия. В последних, как правило, конфессиональные толкования сочетаются с преданиями, которые иногда исторически достоверны, а иногда – нет. Когда мы изучаем жизнь таких знаменитых деятелей Античности, как Иисус, не следует думать, будто нынешние психиатры всегда довольны своими клиническими источниками и уверены в поставленных ими диагнозах. Определенно, разные психиатры и психологи могут не прийти к общему мнению относительно клинического суждения; даже Юнг прервал общение с Фрейдом, своим учителем. Поэтому не следует удивляться появлению разных психобиографий Иисуса. В конце концов, любая из них – это, по сути, всегда интерпретация, основанная на сложных и взаимно противоречивых источниках.
Мы вправе отнести к разряду современных жизнеописаний Иисуса лишь такую биографию, в которой внимание уделено духовной жизни этого великого иудейского харизматика (как это показал Вебер). А кроме того, создатели подобных биографий должны понимать, что характер Иисуса, духовная сторона его личности и его самопонимание останутся тайнами, которые мы не сможем объяснить со всей определенностью с помощью любых орудий человеческого разума, включая психобиографическое исследование[1101]. И действительно, психобиографии должны отказаться от претензий на определенность, коль скоро речь об Античности.
Видимо, в Евангелиях нет тех сведений и психологических намеков, которые позволили бы нам создать некое подобие научной психобиографии Иисуса. Может быть, авторам подобных работ достаточно будет сказать о своих работах так (как сказал Фрейд о труде Литтона Стрейчи «Елизавета и Эссекс»): «Очень вероятно, что [нам] удалось верно воссоздать то, что произошло на самом деле»[1102]. Мы, библеисты, привыкли заниматься реконструкцией прошлого; когда мы сталкиваемся с историческими личностями, нам важно понять, как психобиография поможет нам обогатить умозрительные портреты, воображенные нами.
Заключение
В книге «Реальный Иисус» Люк Джонсон верно подчеркивает фундаментальную историчность евангельских повествований[1103]. Истории важны не только для персонажей, которых мы встречаем в Священном Писании[1104], но и для всех людей[1105]. Снова и снова просматривая записанную историю человечества, от пиктограмм до монографий, я убеждаюсь в том, что рассказы занимают важное место среди того, что нам необходимо.
Да, нам нужны истории. Люди все время их рассказывают. Об этом свидетельствует все, каждое выразительное средство, – и изображения, нацарапанные на стене пещеры, и иероглифы в пирамидах. История жизни и ее эфемерность изображены в сложных символах и допускают множество толкований. Нам не обойтись без историй, и об этом свидетельствуют и баллады, из которых родились шедевры Гомера, и те газетные новости, какие нам ежедневно представляют в виде повествований. Прежде всего человеку нужно поддерживать свое существование, но потребность рассказать историю следует сразу после, и может быть, она важнее, чем крыша над головой, безопасность, секс и одежда.
Изучение Евангелий знакомит нас с историей Иисуса – в представлении тех, кому он бросил вызов, и его восторженных сторонников. А риторический анализ Евангелий помогает нам понять силу речей Назарянина, вошедшего в мировую культуру с галилейских холмов.
В преданиях об Иисусе мы со всей ясностью видим, что находим смысл лишь там, где помещаем сведения в осмысленный контекст или повествование. Джонсон судит верно: «Самое важное о человеке, – это именно то, что ускользает от наших методов критической историографии: это смысл героя». И потому я согласен с Джонсоном в том, что «наша проблема – не в недостатке сведений, а в невозможности добраться до смысла» в огромном массиве первичных данных, представляющих историю Иисуса.
Очевидно, как в археологических исследованиях, так и в библейской экзегетике надежный смысл нам дают не сами факты, а скорее их интерпретация. Любая интерпретация есть движение от исторических событий, обманчивых и неуловимых, к захватывающему повествованию о них.
Разве исследователи психологии религии не помогли нам увидеть, сколь важен психобиографический метод при создании любой биографии, а особенно рассказа об Иисусе? Разве авторы, открыто предложившие нам свои психобиографии Иисуса, не бросили вызов тем, кто разочарован в банальном прошлом и пытается начать творческое исследование духовной силы этого человека и его вести, сулящей столь многое?
Нам следует знать, что доступ к истории дают только предания, а понятными они становятся лишь благодаря интерпретации[1106]. И предания, и их истолкования передаются и вновь раскрываются перед нами лишь в повествовании. И мы можем спросить: не потому ли свидетельство Нового Завета столь сильно, что оно не просто имеет значение для истории, – но и, кроме того, исторично и реально? Разве рассказ об Иисусе не основан на реальных событиях, еще не получивших истолкования? Я склонен ответить «да».
И несмотря на огромное значение работы Джонсона, я не могу согласиться с ним по одному ключевому вопросу. Он разбирал проблемы, связанные с «Семинаром по Иисусу», и сделал такое замечание: «В основе христианской веры, и в прошлом, и теперь [в новозаветную эпоху и сегодня], лежат религиозные утверждения, связанные с присутствующей силой Иисуса». Это высказывание можно рассмотреть вне контекста, который сам Джонсон старательно для него создавал – и тогда оно может привести нас к докетизму (неисторической мистике) и идеализму, к идее о божественном или небесном существе, которое только казалось человеком, хотя на самом деле им не было. Я убежден, что к заявлению Джонсона надо кое-что добавить: упоминаемые им «религиозные утверждения» должны опираться не только на предполагаемый образ «реального Иисуса», но и на историю Римской империи и раннего иудаизма. Мы, профессора, особенно преподаватели семинарии, не должны учить студентов тому, что покажется глупостью в залах Еврейского университета в Иерусалиме.
Почему необходимо «Исследование Иисуса»? Оно должно начинаться с чисто исторических и научных методов и с честно поставленных вопросов. А нам, его участникам, надлежит быть «беспристрастными» – в том смысле, что мы не должны добиваться от фактов заранее готовых желанных выводов. Когда наш научный труд завершен, хотя бы временно – это еще не конец. И иудеям, и христианам предстоит еще дать личную оценку ответам. Нам необходимо сохранять бдительность и исследовать то, как последствия научного изучения Античности, особенно жизни и учения Иисуса в первой половине I в. н. э., влияют на священные традиции и веру, и использовать все доступные методологии – от социологии до психобиографии, от археологии до богословия, – которые помогают понять, какими мы были и кто мы сейчас.
А кроме того, христианам следует избегать двух извечных ловушек. С одной стороны, нам не надо искать оснований для христианской веры в некоей иллюзии объективного научного знания. Хороший исследователь никогда не станет лишать христианскую веру ее скандальной и мучительной неопределенности. Личная и полная преданность дает возможность нашей вере в Иисуса быть подлинной и питать наш дух.
С другой стороны, подлинная христианская вера – это нечто большее, чем «прыжок веры» Кьеркегора. Рассказ об Иисусе историчен. Археологические находки дают нам сведения, способные обогатить любую психобиографию.
Мой коллега Якоб Вентцель ван Хёсстин отмечает: «Так называемая постфундаменталистская модель рациональности… позволяет нам выйти за пределы объективизма и релятивизма»[1107]. Ван Хёсстин призывает нас, живущих в эпоху после Просвещения, идти вперед без надежной эпистемологической основы, потому что «у нас по-прежнему есть причины думать, что мы можем доверять нашим ненадежным суждениям, когда совершаем ответственный выбор – и контекстный, и кросс-контекстный[1108]. Поскольку любые методики, применяемые историками, основаны на нечеткой эпистемологии, а наши источники дают лишь туманные ответы на поставленные вопросы, нам не следует требовать от психобиографии чистой «научности».
Если кто-то пытается понять Иисуса, то хоть какие-то надежные и адекватные знания о его жизни и образе мыслей совершенно необходимы[1109]. Некоторые экзистенциалисты считают, что христианам хватило бы и одного неопровержимого факта об историческом Иисусе – знания о чистой данности его смерти на кресте. Но, разумеется, в XXI веке этого не хватает большинству христиан, – и в I веке последователям Иисуса этого тоже не хватало.
Символы веры, по большей части, не передают «благую весть» об историческом Иисусе из Назарета. Кэтрин Келлер из Университета Дрю справедливо замечает: «Все Символы веры подчеркивают сверхъестественное происхождение Иисуса, а потом сразу от его рождения переходят к его смерти и воскресению. Они совершенно не говорят ни о его жизни, ни о его словах, ни о его любви, они молчат о его проповедях, мудрости, исцелениях и пророчествах»[1110]. Хотя повествования о рождении Иисуса знакомят нас с небесным Христом, после креста для нас остается лишь его мертвое тело. В обоих случаях нам не хватает жизни Иисуса между рождением и смертью – и мы не можем создать на этом психобиографию Иисуса.
Для жизни и процветания в мире, все более секулярном, христианству следует лучше понять свое происхождение, понять, как оно родилось в иудейской культуре I века, впитать в себя те истины, которые воплотились в жизни и проповеди Иисуса, найти в них свою опору и обогатиться благодаря им[1111]. Я с 1968 года жил в Иерусалиме и в других местах на Ближнем Востоке и свыкся с мыслью, что не стоит считать главным ключом к пониманию Иисуса его слова. И следует знать, что Иисус обретает смысл, когда мы узнаем и вообразим его окружение и обстоятельства жизни. Свитки Мертвого моря ни разу не упоминают об Иисусе или о его учениках – но, тем не менее, показывают нам интеллектуальное и психологическое окружение той эпохи. Кроме того, духовность Кумранской общины и мира Иисуса в целом сохранена для нас благодаря этим кожаным свиткам – и благодаря тому, что евреи, современники Иисуса, считали их Священным Писанием и бережно хранили их.
Вера в Иисуса Христа укоренена в вере в иудея по имени Иисус. Эта вера требует верного, честного и, прежде всего, научного и беспристрастного исследования вопросов Что (Was) и Как (Wie), благодаря которым обретает смысл жестокость прилюдного распятия. Это мирское событие – лишь часть Того (Das), в чем состоят и история Иисуса, и «благая весть» (Евангелие) о нем. Швейцер, в чьих глазах Иисус был несравненно велик, видел, какие проблемы мешали ученым его эпохи оценить Иисуса. Исследования не шли на пользу верующим, желавшим хранить верность традициям и источникам. Швейцер не мог решить эти проблемы, а потому покинул Европу и стал жить в мире мистики, самоотверженно служа африканцам[1112].
Предвидел ли Швейцер тот хаос в жизнеописаниях Иисуса, который возник после выхода его основного труда? С одной стороны, и он сам, и его современники верно указывали на то, что мы не можем определить или глубоко понять Иисуса с помощью одной лишь психиатрии[1113]. А с другой стороны, неразумно вместе с Бультманом и его школой отказываться от попыток выяснить, что Иисус думал о себе, и оправдывать это тем, что первых последователей Иисуса не интересовали ни личность Иисуса, ни его развитие, и что в ранних источниках об этом ничего не сказано.
В книге «Иисус в иудаизме» я говорил, что каждому свойственно определенное самопонимание, а потому вопрос о том, что думал Иисус о себе, встает не только перед богословом, но и перед историком. Теперь, когда в нашем арсенале есть новые методы, созданные специалистами по психологии религии, мы можем представить себе Иисуса как человека, в его земном окружении.
Быть может, специалист по психобиографии должен искать ответы на следующие вопросы. Что мы можем сказать про характер отношений Иисуса с Иосифом, его отцом, и Марией, его матерью? Про его отношения с Иоанном Крестителем и Марией Магдалиной? Были ли ему свойственны возвышенные представления о себе? Считал ли он себя Сыном Человеческим или тем, кто должен стать Мессией? Как на его самосознание повлияли чудеса? Историческое исследование, несомненно, подводит нас к таким вопросам, которые обычно задают исследователи психологии религии.
Сегодня, в начале XXI века, может показаться, что хаос в сфере изучения Иисуса стал еще сильнее того, какой мог предвидеть Швейцер. Но если мы не станем спешить и внимательно присмотримся, то увидим удивительное единодушие, которое позволит лучше различить очертания в тумане истории.
Исследователи никогда не прекратят спорить о важнейших вопросах, связанных с Иисусом. Кто он был? Кем себя считал? Каковы были его цели? Что он думал о своих отношениях с Богом? Почему он говорил и действовал именно так, как сказано в Евангелиях? И как объяснить, что у Иоанна он совсем не такой, как у синоптиков?
Можем ли мы, пытаясь ответить на любой из подобных вопросов, отказаться от психобиографического подхода? Должен ли тот, кто пытается создать психобиографию Иисуса, знать о работах археологов, способных дать нам сведения о культуре Палестины I века? Я убежден, что большинство специалистов ответят утвердительно на оба вопроса. Как для толкования Нового Завета нужны филология и археология, так и для «Исследования Иисуса» нужна не только социология (это уже поняли много десятилетий назад), но и психобиография – и, похоже, это уже становится для всех очевидным.
Здесь рассмотрен вопрос о том, следует ли, изучая жизнь Иисуса, пользоваться, среди прочих, и психобиографическими методами. Если создатели психобиографий оставят попытки представить Иисуса как запутавшегося или психически больного человека, если они усвоят стандарты и цели «Исследования Иисуса», если познакомятся с проблемами, возникающими при научном изучении жизни и учения Иисуса в среде палестинских евреев, если они признают керигматическую суть Евангелий, – то ответом на этот вопрос будет «да».
Приложение
Когда этот текст был уже написан и отредактирован, Бас ван Ос, профессор Амстердамского свободного университета, прислал мне в электронном виде свою книгу «Психологические анализы и исторический Иисус»[1114]. Этот автор обладает впечатляющими знаниями как в библейской критике, так и в истории изучения исторического Иисуса с XVII века до наших дней, а также прекрасно разбирается в истории психологии начиная с Фрейда. В своей книге он рассматривает жизнь и смерть Иисуса с психобиографической точки зрения и умело ведет диалог с ведущими исследователями Нового Завета, помня о том, сколь рискованно слишком быстро переходить от психобиографии к историческому исследованию (что подчеркивал Дэвид Стэннард)[1115]. Этот труд – важный вклад в «Исследование Иисуса» (где богословие, подчеркиваю – не лейтмотив). Ван Ос согласен со Швейцером, который справедливо критиковал психиатрическое изучение исторического Иисуса – но в то же время он показывает, как теория современной психологии может помочь «Исследованию Иисуса».
Опираясь на психологию, ван Ос демонстрирует, как психологическая точка зрения позволяет сделать вероятным то, что казалось невозможным. Используя данные современных исследований о моделях перехода в новую веру, о новых религиозных движениях и о социальной памяти, он показывает, что палестинское движение Иисуса отражает преемственность между Иисусом и его последователями. Ряд его идей достоин обсуждения. Он говорит: если Иисус, умирая, представлял себя страдающим Рабом Господним из Книги пророка Исаии и Сыном Давидовым из Книги пророка Захарии – и ожидал, что Бог придет в мир судить живых и мертвых, – то его скорбящих учеников, должно быть, сильнее тревожило не личное воскресение Иисуса, а общее воскресение людей вслед за явлением Бога. Данный труд отражает глубокие познания автора, и его можно рекомендовать всем тем, кто понимает, что любые методики могут помочь нам избежать субъективности, если мы сами поможем «Исследованию Иисуса» сделать еще один шаг вперед.
Часть II
Иисус: передача преданий
Передача преданий
Джеймс Чарлзворт
Литературные источники занимают в историческом исследовании центральное место, и хороший историк смотрит на них – и прежде всего на их историческую достоверность – сразу и с доверием, и с сомнением. Исследование источников выходило на первый план в различных «поисках» исторического Иисуса, и в «Исследовании Иисуса» оно равно так же остается важнейшей методологической задачей. Что мы можем узнать об Иисусе от апостола Павла, Иосифа Флавия, евангелистов? Где искать о нем достоверную информацию? Как «просеивать» материал дошедших до нас источников, чтобы найти в преданиях об Иисусе то, что сказано и сделано им самим?
Приверженцы критики форм, на протяжении большей части XX века изучавшие историю литературных форм в четырех Евангелиях, выработали негативизм, бросающий на канонические Евангелия тень скепсиса. Критики говорили, что Евангелия – это богословские сочинения, и искать в них сколь-либо достоверные сведения об Иисусе попросту наивно. Рудольф Бультман дошел даже до такого утверждения: «Мы не в состоянии узнать почти ничего о жизни и личности Иисуса, поскольку раннехристианские источники не проявляют к ним интереса и более того, носят фрагментарный характер и часто передают легенды, а других источников, повествующих об Иисусе, не существует»[1116]. Однако необузданный скептицизм Бультмана, хоть еще и влиятельный в некоторых кругах, в наше время все более становится уделом меньшинства. Где-то с 1980 года исследователи начали разрабатывать новые подходы к изучению Иисуса и его мира. Здесь, во второй части нашей книги, девятнадцать авторов оценят различные источники, посвященные Иисусу и Движению Иисуса в Палестине, и рассмотрят практически все аспекты «Исследования Иисуса»: от критерия свидетельства очевидцев до надежности человеческой памяти, от археологии до психобиографии, от устных преданий до литературных источников, от критики сюжетов до критики Евангелий. Общее убеждение можно выразить так: когда мы внесем в поле рассмотрения все источники, применим все надежные методики и зададим серьезные и продуманные вопросы, мы сможем различить основные деяния и главный смысл проповеди Иисуса, – и они предстанут исполненными смысла в культуре иудаизма периода Второго Храма (до 70 г. н. э.). Кроме того, участники Второго симпозиума Принстон-Прага задают новые вопросы, призванные продвинуть дальше наши исследования.
Эту часть открывают две разные оценки передачи раннехристианских преданий, найденных в Евангелиях. Ричард Бокэм и Вернер Кельбер приходят к различным выводам, однако они оба не приемлют критику форм и ее представления о том, как «работают» устные предания.
Все авторы постулируют или заключают, что Евангелия были сочинены через несколько десятилетий после описанных в них событий. Сторонники критики форм полагали, что устные предания о жизни и служении Иисуса свободно распространялись в раннехристианских общинах. Анонимные проповеди и поучения придали этим преданиям ту форму, в какой их знаем мы, – с ориентацией на Воскресение Христово и на потребности «Церкви». Во все предания об Иисусе проникли керигмы — утверждения о его мессианстве и власти над всей вселенной. Ричард Бокэм пишет, что парадигма критики форм «в наше время доказала свою несостоятельность» и необходимо принять новую парадигму: свидетельство очевидцев. Бокэм указывает, что устная традиция, при ее кросс-культурном изучении, далеко не всегда оказывается анонимной: часто очевидцы, чьи имена известны, действуют как «хранители» предания и гаранты его достоверности. По его мнению, именно такая традиция легла в основу Евангелий и сформировала их. В доказательство он приводит четыре аргумента: 1) появление в предании имен, особенно имен второстепенных персонажей; 2) важность Двенадцати как свидетелей во время служения Иисуса (см. Деян 1:21–23, Ин 15:27); 3) инклюзио — литературный прием, именующий источники; и 4) внешнее свидетельство Папия. Бокэм делает вывод, что Евангелия представляют собой «устную историю»: они содержат свидетельство очевидцев и основаны на нем.
Вернер Кельбер приводит против критики форм еще более убедительные возражения. В основе критики форм лежит предпосылка, согласно которой за изначально стойкой традицией следует период изменений, и подлинные слова Иисуса, ipsissima verba, были изменены или искажены в процессе передачи, – и эта предпосылка неверна по существу. Эта модель основана на культуре печатного текста, в которой слова существуют на бумаге, в отрыве от самого события речи. Однако устное слово никаким самостоятельным бытием, независимым от памяти говорящего и слушающего, не обладает. Устная традиция не делает различия между словами и их произнесением. В ней слово не существует в себе и для себя: слово существует постольку, поскольку его произносят и о нем помнят, – в вечной зависимости от говорящих и слушающих. И действительно, как показывает Альберт Лорд в своем исследовании устных преданий, каждое воспроизведение предания представляет собой аутентичную традицию, несмотря на то что формы воспроизведения могут разниться. Сумев в полной мере осознать, как функционирует устная традиция, мы лучше поймем и то, как предания передаются в текстах. «Варианты» разных папирусов отчетливо говорят о том, что перед нами – не отклонения от некоего постулированного Urtext, а новый рассказ об известных событиях. Кельбер завершает переоценку устно-письменной передачи и воспроизведения преданий, предположив, что традиция сформировала «разрешающий контекст» Евангелий. Движение Иисуса в Палестине появилось в рамках письменной традиции – и его формулировки создавались и передавались в ее свете.
От размышлений о передаче источников и доевангельских преданий и о роли очевидцев мы переходим к исследованию самих источников. Древнейший из дошедших до нас источников сведений об Иисусе – не считая тех, что воссозданы на основе более поздних материалов, – это Павел, фарисей и апостол. Поскольку тексты Павла – это послания, обращенные к конкретным церковным общинам, озабоченным теми или иными богословскими или практическими вопросами, можно предположить, что Павел не сообщал никаких достоверных исторических данных об Иисусе и что его интересовал только возвышенный Христос. Можем ли мы узнать из посланий Павла, рассматриваемых в контексте, что-либо об историческом Иисусе?
Кэти Эренспергер исследует различные мнения о связи Иисуса и Павла – от мнения Бультмана, утверждавшего, что между ними не было решительно ничего общего, и до убеждения Уильяма Дейвиса, согласно которому Павел в точности передавал мысль и учение Иисуса. Эренспергер указывает на то, что наши представления о взаимосвязи Иисуса, Павла и иудаизма зачастую строятся под влиянием «современных» идеологических задач.
Она выделяет четыре области дальнейшего исследования: (1) место Павла и Иисуса в иудаизме периода Второго Храма; (2) корпус текстов Павла как первичное свидетельство о Движении Иисуса в Палестине (а Евангелия – как вторичное), его первостепенное значение для наших представлений о формировании общин и работе коллективной памяти; (3) объединенная природа преданий и памяти – Павел и Иисус как «личности в общине»; и (4) парадигмы исследования взаимоотношений, отличные от анахроничной «линейной прогрессии» или модели развития – скажем, создания и взаимодействия сообществ. Для исследования первого вопроса она выбирает особенную тему – застольное гостеприимство – и читает Послания Павла в свете преданий об Иисусе и наоборот. Важность «совместной братской трапезы» у Павла чаще всего рассматривается лишь в свете проблем «иудеи против язычников» и «кошерная еда против некошерной»; любопытно, однако, что в одной из немногих цитат «слова Господня» у Павла, где речь идет о разделении трапезы и гостеприимство играет главную роль, противоречия между иудеями и язычниками вовсе не упоминаются (1 Кор 11:18–26). Эренспергер подчеркивает близость взглядов Павла и Иисуса на совместную трапезу, и считает их обоих типичными представителями иудаизма периода Второго Храма.
Если корпус посланий Павла содержит древнейшие предания об Иисусе и дает нам самые ранние свидетельства о Движении Иисуса в Палестине, то Евангелия подробно и связно повествуют о служении Иисуса, его учении и смерти. Эти четыре книги всегда стояли в центре исследований исторического Иисуса. Впрочем, их богословское содержание, а также их способ толкования преданий неизменно препятствуют исторической реконструкции. Четверо наших авторов, пишущих о Евангелиях, показывают, что важная методологическая задача исследователя – распознать Tendenzen этих источников и понять, как можно использовать их в исторических целях.
Древнейшим Евангелием обычно считается Евангелие от Марка, к которому позже обращались Матфей и Лука. Именно этот факт, а также свидетельство Папия о том, что источники Марка восходят к апостолам, – вот причины, по которым Даррелл Бок относится к Евангелию от Марка очень серьезно. Иудейские обычаи, подтвержденные археологическими изысканиями и иудейскими источниками, описаны у Марка столь точно, что перед нами явно раннее апостольское свидетельство об Иисусе. Богословие Марка не лишает его Евангелие ценности исторического источника, и мнение, согласно которому традиционные связи Марка и Петра – всего лишь богословская легитимизация постфактум, Бок считает неверным.
Однако, если Евангелие от Марка стало источником для трудов Матфея и Луки – каково значение двух последних Евангелий для изучения исторического Иисуса? Ульрих Луц и Крэйг Кинер, повествуя соответственно и о том, и о другом Евангелии, отвечают на этот вопрос, исследуя саму сущность текстов. Кинер задает ключевой вопрос: что именно писал Лука, каков жанр его сочинения, какие цели он излагает в предисловии? (Лк 1:1–4). И Кинер утверждает, что Лука, согласно его намерениям, стоит в ряду античных историков и биографов. Лука точен там, где мы вправе ждать точности, проблематичен там, где можно ожидать проблем, и верен духу своих источников – что очевидно из того, как он обращается к Евангелию от Марка.
Луц также уделяет внимание отношению Матфея к истории, сравнивая Евангелие от Матфея как с древней, так и с современной историографией. Матфей кажется совершенным противоречием: он так верен традиции, что включает в свое Евангелие почти весь текст Марка (и, по всей видимости, большую часть Q), но в то же время вольно создает вымышленные эпизоды (например, из материалов Марка и Q он творит совершенно новое повествование в Мф 7–8). В конце концов Луц уподобляет Матфея Гомеру и библейским историографам, повествующим о древних временах. Матфей – несомненно, историк. Но хотя такая оценка, быть может, противоречит эталонам исторической работы, принятым после Просвещения – и все еще действующим в «Исследовании Иисуса», – историография Матфея очень напоминает нам современные, постмодернистские[1117] представления об истории. Согласно выводу Луца, текст Матфея, ориентированный на традицию, – это серьезный источник для изучения исторического Иисуса. Более того, продолжает Луц: поскольку Матфей был иудеем и принадлежал к той же культурной парадигме, что и Иисус, его интерпретации, возможно, ближе к историческому Иисусу, чем это готовы признать исследователи-неевреи, наши современники. Он выдвигает новый критерий подлинности: образы Иисуса, соответствующие культуре и традициям иудеев, предпочтительнее тех, которые им противоречат.
Если синоптические Евангелия занимают в исследовании Иисуса почетное место, то Евангелие от Иоанна – в начале XIX века бывшее признанным источником для исторической реконструкции – в последние 150 лет по большей части оставалось в тени. Это «духовное Евангелие»[1118] вызывало особые критические подозрения в богословских Tendenzen. Однако в последнее время мнение специалистов изменилось, и теперь Евангелие от Иоанна признается вполне правомерным источником в «Исследовании Иисуса». Как считает Дуайт Муди Смит, критика редакций, сюжета и жанра указывает на то, что у Иоанна сохранены предания об историческом Иисусе. По-видимому, Иоанн сохранил предания независимо от синоптиков, а может быть, его Евангелие – совершенно независимый труд. И если Иоанн хотел создать жизнеописание Иисуса, ему незачем было обращаться к Евангелию от Марка: материала для биографий религиозных лидеров хватало в изобилии. Повествование Иоанна не вторично по отношению к Марку и, вполне возможно, представляет собой совершенно независимое предание, – быть может, особенно ценное в рассказе о Страстях. Более того, отношение Иисуса к иудаизму, изображенное в Четвертом Евангелии, вполне исторично[1119].
Однако ограничен ли этот иудейский фон четырьмя каноническими Евангелиями? Некоторые исследователи в поисках новых сведений об Иисусе обращаются к так называемым апокрифическим «Евангелиям». Самые известные, Евангелие Фомы и Евангелие Петра, сыграли немалую роль в ряде попыток воссоздания учения и смерти Иисуса. Крэйг Эванс рассматривает использование этих двух трудов, вместе с Тайным Евангелием от Марка и папирусом Эджертона, в современной науке, и приходит к выводу, что ни один из этих источников не имеет особой ценности для «Исследования Иисуса». Тайное Евангелие от Марка – «по всей видимости, современная подделка», что сразу выводит его из игры. Евангелие Фомы и папирус Эджертона, по мнению Эванса, «возникли во второй половине II века», а фрагмент «Ахмимского Евангелия», относимый к Евангелию Петра, о котором упоминал в начале III в. епископ Серапион, вполне возможно, написан еще на несколько столетий позже. Эванс согласен с тем, что неканонические «Евангелия» могут сообщить нам кое-что об Иисусе и что даже в позднейших источниках могут сохраняться ранние предания, однако он не верит, что эти четыре книги – столь важные для некоторых исследователей – по своему историческому значению сравнимы с четырьмя каноническими Евангелиями. Более того, Эванс обеспокоен методологией, которая, наряду со сверхкритичным отношением к древнейшим новозаветным источникам, готова без критики принимать источники поздние и сомнительные.
Аналогичным образом критикует поиск достоверных сведений об историческом Иисусе в гностических источниках и Фема Перкинс. На первом плане для нее – серьезные методологические трудности, ожидающие любого, кто попытается искать в этих поздних писаниях ранний и подлинный материал, ведь сами эти труды сложились в культуре и мировоззрении, отличных от культуры и мировоззрения древнего иудаизма, и, более того, дошли до нас лишь во фрагментах или в переводах. В сущности, как бы ни убеждали нас в обратном сенсационные фантазии, рожденные из одержимости гностической версией Марии Магдалины или рекламой Евангелия Иуды, само религиозное мировоззрение гностицизма «исключает какой бы то ни было “поиск исторического Иисуса” сразу и навсегда». Гностиков не интересовал исторический Иисус – их интересовали тайные учения о спасении. Иные исследователи не покладая рук стремятся доказать, что Евангелие Фомы содержит в себе подлинные речения, а Евангелие Петра – это ранние предания о Страстях; но Перкинс не считает убедительным ни то ни другое. Она подробно рассматривает и эти писания, и Евангелие Спасителя, и недавнюю сенсационную находку – Евангелие Иуды, и заключает, что никаких следов реального Иисуса I столетия в этих позднейших документах обнаружить невозможно.
Совершенно иной путь исследования древних источников об Иисусе – путь, известный с глубокой древности, по меньшей мере с ответа Оригена Цельсу в III в. и с истории Евсевия в начале IV в. – это изучение древних иудейских и римских историков, упоминавших об Иисусе. Кейси Элледж внимательно рассматривает и оценивает то, что говорят об Иисусе и Движении Иисуса в Палестине Иосиф Флавий, Тацит и Светоний. Элледж признает, что так называемое Флавиево свидетельство – слова Иосифа Флавия об Иисусе – в наше время повсеместно считается подлинным, за вычетом нескольких христологических дополнений. Возможно, Иосиф засвидетельствовал независимую от канонических Евангелий палестинскую традицию, признававшую Иисуса учителем и чудотворцем. Тацит – еще один независимый свидетель казни Иисуса при Пилате, а Светоний, помимо прочего, показывает, сколь разнообразные слухи об Иисусе ходили среди язычников начала II века. Упоминания об Иисусе у этих трех историков – сильный довод против теории, согласно которой Иисус – мифический персонаж и никогда не существовал в реальности. Если говорить на языке исторической методологии, то Иосиф Флавий и Тацит предлагают независимое свидетельство о жизни и смерти Иисуса. Более того, Иосиф указывает, что за смерть Иисуса ответственны Пилат и иудейская аристократия – тем самым и подтверждая, и поправляя сведения канонических Евангелий, поскольку его более нейтральный рассказ корректирует их полемическое описание.
Флавиево свидетельство – главная тема исследования Этьена Нодэ, который дает ему совершенно иную оценку. Пусть большинство исследователей и согласно с тем, что Иосиф писал об Иисусе и, по существу, отразил свои взгляды во Флавиевом свидетельстве, – они все же полагают, что впоследствии пассаж был изменен и дополнен христианскими переписчиками. Нодэ настаивает на том, что свидетельство надлежит принимать «как есть». По его мнению, славянский перевод Иудейской войны Иосифа Флавия подтверждает, что изначально автор позитивно относился к Иисусу и его движению, но в позднейших версиях эту оценку устранили, – и Флавиево свидетельство в Иудейских древностях вполне ей соответствует. Более того, Нодэ пишет, что именование Иисуса «Мессией» для древних иудеев не могло означать того же, что и для христиан позднейших поколений. По мнению Нодэ, богословие Евангелия от Иоанна древнее синоптического и ближе к иудейским истокам. Синоптики подчеркивают человеческую природу Иисуса вопреки докетам, утверждавшим, что Иисус лишь казался человеком. Нодэ помогает прояснить те априорные предпосылки и предрассудки, с которыми мы подходим к оценке источников.
Сулейман Мурад исследует то, что говорится об Иисусе в Коране и других ранних исламских текстах, – и знакомит нас с тем, как поздние толкования заслоняют ранние источники, а толкователи часто «приспосабливают» Иисуса к своим взглядам. Мурад считает, что коранический портрет Иисуса необходимо рассматривать в отрыве от образа Иисуса в исламской традиции. Иисус часто изображается как пример аскетизма и мистицизма, а также занимает важное место во внутриисламской полемике: представители разных лагерей обращаются к нему за подтверждением своей точки зрения. Мурад показывает, что распятие Иисуса представляло для движения пророка Мухаммеда особую сложность. Как Бог мог допустить, чтобы его пророка казнили? О Страстях, как пишет Мурад, Коран повествует двусмысленно. Он не отрицает (вопреки частому мнению) распятия и смерти Иисуса как исторического события, – но указывает на то, что смерть эта была «не настоящей» (то есть не вечной) – в свете воскресения. А вот в позднейшей исламской традиции полагали, что Иисус не был распят, и толковали Коран именно так. Современные исследователи часто полагают, что в Коране отражено знакомство с богословием докетов. По мнению Мурада, сам этот тезис лишен смысла, поскольку Коран настаивает на совершенно противоположном, а именно – на том, что Иисус был человеком. Неверное прочтение раннего источника в свете позднейших интерпретаций приводит исследователей к ошибочным воззрениям. Чтобы верно понимать Иисуса из Назарета, нам необходимо найти новую безупречную методологию – и непрестанно критически следить за собой.
Роберт Уэбб исследует связь Иисуса с Иоанном Крестителем. В евангельских повествованиях Иоанн представлен кратко, но для понимания Иисуса, а также основополагающих идей, влияний и событий, придавших облик его миссии, важность Иоанна очень велика. Впрочем, изучать образ Крестителя – задача непростая; найти «исторического Иоанна» столь же сложно, как и «исторического Иисуса». Уэбб разделяет наши источники, повествующие об Иоанне, на литературные и нелитературные; в ряде первых Креститель упоминается прямо (у Иосифа Флавия и в Евангелиях), а другие уместны косвенно, поскольку описывают обстановку, в которой он жил и вершил свои дела. К нелитературным данным относятся материальные остатки, скажем, миквы, а также география. Уэбб встревожен тем, что ученые, задействованные в «Исследовании Иисуса», слишком легко вводят в свои реконструкции образ Крестителя, не уделив внимания тому, чтобы воссоздать исторического Иоанна. В большей части своего очерка Уэбб сравнивает взгляды двух специалистов, рассматривающих связь Иоанна и Иисуса в свете таких проблем, как эсхатология и аскетизм: Джон Доминик Кроссан делает акцент на отсутствии у двоих какой-либо преемственности, а Дейл Эллисон – напротив, на ее наличии. И пусть даже Уэбб разочарован их противоречащими заключениями, он с одобрением относится к тому, что оба исследователя применяют новые методики (из социологии и антропологии), и настаивает н том, что эти методики надлежит применить и к «историческому Иоанну».
Как мы уже не раз упоминали, непрестанно возрастающий фонд новых методик привел к значительным успехам в понимании Иисуса. Даже современная критика нарративов, слишком часто отходившая от исторических проблем, может предложить новые пути для исследований. Джордж Парсениос, в нарративном контексте, привлекает внимание к тому, сколь удивительную способность к «адаптации» проявляет Четвертое Евангелие, рисуя образ Иисуса. В свете того, как трактовал четвертую главу упомянутого Евангелия св. Иоанн Златоуст, Парсениос исследует общение Иисуса с самаритянкой как пример классического мотива συγκαταβαίνειν, снисхождения учителя к способностям ученика. Но в завершение Парсениос задает вопрос: можем ли мы, с учетом недавней переоценки исторической достоверности Четвертого Евангелия, узнать отсюда хоть что-то «о пастырском попечении исторического Иисуса»? Он отмечает, что современные попытки рассмотреть образ Иисуса в свете античной философии (скажем, Иисус как странствующий циник) уделяли внимание прежде всего образу, представленному в синоптических Евангелиях, – но, возможно, более пристальный взгляд на картину, изображенную у Иоанна, предложит нам иные философские контексты, не обязательно связанные со школами, но с акцентом на пастырском снисхождении?
Некоторые прозрения в манере учения Иисуса совершенно естественно согласуются с его содержанием. Такие проблемы, как роль Священного Писания в миссии Иисуса и, конечно же, вечная тема – его представления о себе самом – никогда не перестанут волновать тех, кто вовлечен в «Исследование Иисуса», а значит, нам важно установить, что именно Иисус считал Священным Писанием, что оно для него значило и как на него повлияли библейские тексты. Герберн Угема принимает этот методологический вызов. Сперва он проводит подробный обзор поисков исторического Иисуса, а после предлагает для «Исследования Иисуса» новый критерий, названный «критерием двойного сходства»: согласно ему, подлинным надлежит считать те слова и дела Иисуса, которые можно вывести из иудейского контекста – обстановки, окружавшей Иисуса, и уклада жизни, – а также проследить в раннем палестинском Движении Иисуса. В дальнейшем Угема применяет этот критерий, пытаясь понять, к каким священным текстам обращался Иисус – и что это говорит о его эсхатологии, этике и представлении о себе. В частности, Угема рассуждает о преемственности «заповеди любви» – главном примере влияния библейских текстов – от иудаизма к Иисусу и ранней «Церкви», а также о связанном мотиве подражания любви Божьей, распространяемой на всех.
Тексты Священного Писания, к которым обращался Иисус, исследует и Ли Мартин Макдональд, – и для него равно так же важна преемственность между иудаизмом и палестинским Движением Иисуса, пусть это выражено и не столь явно, а в роли Иисуса как «признанного Господа» ранних «христиан» Макдональд усматривает возможность предположить, что они избирали те же священные тексты, к каким благоволил Иисус. Кроме того, ряд книг, имевших центральное значение для ранних христиан, входили, согласно «каноническим» Евангелиям, в число тех, которые часто читал Иисус: это Второзаконие, Книга пророка Исаии и Псалтирь, а также некоторые писания, позже сочтенные «неканоническими». Я бы добавил, особенно в свете «критерия двойного сходства», предложенного Угемой, что те же самые три книги играли главную роль и для определенных групп приверженцев раннего иудаизма, скажем, для той же Кумранской общины.
Макдональд цитирует множество параллелей между учением Иисуса и некоторыми иудейскими писаниями, впоследствии причисленными к «неканоническим», и ясно демонстрирует, что у Иисуса не было четко определенного, или «закрытого», библейского канона, подобного тем, какие позже возникли и в иудаизме, и в христианстве, – и священные тексты, к которым обращался Иисус, вовсе не обязательно должны были соответствовать этим поздним канонам. В завершение Макдональд говорит: «Тем, кто исследует жизнь и личность Иисуса, следовало бы рассмотреть эту дополнительную литературу как часть религиозного наследия, которое воодушевляло исторического Иисуса».
Петр Покорны, стремясь найти след исторических событий в рассказе о Страстях еще до появления Евангелия от Марка, показывает наличие теологически несообразных элементов, противоречия которых проявляются на фоне богословской направленности более обширного повествования, возникшего после Пасхи. Показательно, что одних только цитат из Священного Писания не хватает для создания полной сцены, на которой предстает рассказ. Они ориентированы на всю обозримую вселенную, не слишком хорошо вписываются в повествование и неизбежно влекут за собой эсхатологическую «развилку». Точно так же Покорны указывает на многие элементы рассказа о Страстях, которые непохожи на более поздние Tendenzen, которые проявились после Пасхи, – и, следовательно, эти элементы указывают на исторические предания. Рассказ о Страстях – это не богословское творение ex nihilo, он основан на фактах и повествованиях, и по крайней мере некоторые из этих событий можно воссоздать.
Евангельский образ Иисуса-чудотворца – это тоже далеко не богословский конструкт. Ян Росковец, предполагая, что в этом вопросе царит единодушие, документально подтверждает перемену в воззрениях, позволяющую «расширить наше представление о реальности», а также свидетельствует о более пристальном внимании к самим источникам, а не к проблемам, воссозданным «за пределами текста». Росковец подчеркивает, что предания о чудесах, найденные в тексте изречений, особенно важны для постижения смысла чудес, совершенных Иисусом. Иисус славился как целитель и экзорцист; однако сами по себе подобные деяния не отражали скрытый за ними смысл – и именно это мы видим, когда Иисуса обвиняют в том, что он исцеляет силой Вельзевула. Впрочем, Иисус настоятельно повторял, что не будет давать знамений превыше тех чудес, какие он творит. Росковец предостерегает против попыток искать за чудесами Иисуса объединяющий «шаблон» и утверждает, что такие «шаблонные» толкования часто применяются уже после того, как чудо свершилось; человеческая жизнь, само собой, более подвержена случайностям. Да, Иисус был и целителем, и экзорцистом, и некоторые, возможно, даже назвали бы его «магом». Ближайшей аналогией к Иисусу станут, скорее всего, библейские пророки. Подробно исследуя те чудеса, которые часто считаются неисторичными, – воскрешение мертвых и так называемые «природные» чудеса, – Росковец говорит о наличии достойных свидетельств, позволяющих сказать, что Иисус в его дни прославился возвращением к жизни нескольких умерших (этот мотив мы находим также в преданиях об Илии и Елисее) и что «природные» чудеса, пусть и истолкованные в свете впечатлений от свершившейся Пасхи, – это не просто проекции фантазий в прошлое, на жизнь Иисуса.
Как утверждает Росковец в плане методологии, нам надлежит по-прежнему разграничивать событие и рассказ о нем. Но суть события можно оценивать с двух ракурсов: с точки зрения общего представления о возможном – и в перспективе «внутренней цельности текста», и именно второй ракурс, по мнению Росковца, способен дать «Исследованию Иисуса» намного больше, пусть даже призрак первого все еще остается с нами. Свои доводы Росковец строит на постулате, согласно которому концепция «удивления» может помочь ученым действительно преодолеть априорную убежденность в правдоподобии тех или иных явлений – и избавиться от ограничений, налагаемых ей на то, как мы воспринимаем древние свидетельства о событиях, которые выходят за грань нашего опыта.
Но никакое событие не выходит за эту грань в мере большей, чем воскресение Иисуса; оно даже за гранью опыта евангелистов. Лидия Новакович исследует вопрос о том, может ли воскресение быть предметом историографии. Что, если его даже возможно подтвердить при помощи исторической методологии? Может ли историк – именно как историк – воссоздать воскресение Иисуса или проверить, произошло ли оно? В стремлении показать, какой методологический хаос царит в дисциплине, связанной с изучением воскресения Иисуса, Лидия проводит обзор главных проблем, о которых сегодня ведутся споры, и предлагает ряд направлений для дальнейших исследований. Разнообразие представлений о воскресении в раннем иудаизме и раннем христианстве, и самые различные явления воскресшего Иисуса, дает нам все основания продолжать изучение. Возможно, кое-что прояснится, если мы пристальнее рассмотрим связь между преданиями о явлениях и о пустой гробнице. Новакович предполагает, что у последних есть историческая основа, но остерегается легко соглашаться с рассказом апостола Павла в Первом послании к Коринфянам (1 Кор 15). Почему же предания о пустой гробнице не оказали созидательного влияния на раннюю керигму? А что, если они просто были слишком двусмысленны – какими и остаются в источниках, дошедших до нас? Или, возможно, о них просто умалчивали – из патриархальных предрассудков, ведь свидетелями выступали женщины? Как полагает Новакович, историографы действительно могут помочь в согласовании ряда аспектов воскресения Иисуса с реальной обстановкой, – но, конечно же, они не в силах доказать христианское утверждение, согласно которому Бог воскресил Иисуса из мертвых.
В трудах Второго симпозиума Принстон-Прага, посвященных историческому Иисусу, не только приведены совместно сделанные выводы, но и обозначены области для дальнейших размышлений. Насколько фундаментальную роль играют в «Исследовании Иисуса» устная традиция и свидетельства очевидцев? И если понять их и рассмотреть по отдельности, окажутся ли они с исторической точки зрения более ценными, чем рассказ, вносящий смысл в непрерывное повествование?
Нам надлежит проявлять осторожность. Да, у нас есть огромная масса археологических сведений о том, как жили до 30 г. н. э. Назарет, Капернаум, Вифсаида и Магдала, и это прекрасно. Но у нас нет никакой ясной связи с Иисусом из Назарета. Свитки Мертвого моря дают нам фон, на котором становятся более понятными некоторые поступки Иисуса и его весть – но в свитках о нем ничего не говорится, равно как и он сам ни словом не упоминает о них. И несмотря на многообещающие новые методики и поразительные успехи, достигнутые благодаря междисциплинарной работе, тому, что могут дать нам историки, к несчастью, всегда есть предел. Мы не должны позволять своим исследованиям превращаться в «поиск» привлекательного и восхитительного Иисуса. И нам всем надлежит с готовностью принять возможность того, что Иисус мог сказать нечто, способное нас обидеть и даже оскорбить.
А для Евангелий необходимы и предания, которые им предшествовали, и толкования, которые появились вслед за ними. Это замысловатое сочетание и препятствует поиску смысла, и побуждает его найти, – и тем самым становится опорой для «Исследования Иисуса».
Раздел 5
Источники
Евангельские предания: сказания анонимной общины или свидетельства очевидцев?
Ричард Бокэм
Как предания о речениях Иисуса и событиях его истории дошли до авторов Евангелий? Почти век среди специалистов, изучающих Евангелия в поисках ответа, доминировал подход, называемый «критикой форм» (нем. Formgeschichte), основоположниками которого стали примерно в 1920 году Рудольф Бультман[1120] и Мартин Дибелиус[1121]. Прежде исследования в основном сводились к поискам документов, на основе которых сочинялись Евангелия. Критика форм приняла гипотезу «двух источников», утверждающую, что в основе синоптических Евангелий лежат два текста, однако стремилась дальше, в более ранний период устных преданий. Ее воззрения на передачу этих преданий легли в основу почти всех дальнейших исследований Евангелий и, более того, изучения исторического Иисуса в целом. Другие подходы, возникшие после – критика редакций и литературная критика – научили нас воспринимать евангелистов как свободных и творческих «авторов» в еще большей мере, чем их считала таковыми критика форм. Несомненно, у евангелистов был и литературный замысел, и богословские задачи. Однако все эти подходы, как правило, строились на одном фундаментальном положении критики форм. Быть может, авторы Евангелий вносили в свой материал даже больше правок, чем это представлялось сторонникам критики форм во время ее зарождения; но полагали, что сам этот материал дошел до них в устной форме – и именно так, как это виделось в рамках критики форм. И даже несмотря на то, что и саму эту критику не раз весьма сурово критиковали[1122], совокупный эффект от этих усилий заметили далеко не все. Мне кажется, что в наше время парадигма критики форм решительно опровергнута, и только приняв другую, мы сможем понять, как хранились евангельские предания еще в период их устной передачи, до того, как Евангелия были записаны.
Парадигма критики форм
По мнению сторонников критики форм, Евангелия были фольклорной литературой, – и сравнивать эти источники следовало с материалом, по которому изучают фольклор наши современники. В критике форм господствовала аксиома, согласно которой устные предания подобного плана создавались и передавались не отдельными людьми, а народом, и сообщества, ценившие подобный фольклор, не интересовались и не могли интересоваться историей. Предания об Иисусе, по аналогии с иным фольклором, считались в критике форм анонимными творениями общины, которые передавались в раннехристианских церквях из уст в уста и связывались не с отдельными людьми – скажем, с теми, кто мог быть очевидцем истории Иисуса, – а только с самой общиной. Они передавались не для того, чтобы сохранить память о прошлом, но лишь в целях, связанных с настоящим, – и их легко можно было менять и даже создавать заново, если этого требовали какие-либо нужды общины.
Исходя из этого предположения, критики форм пытались классифицировать различные формы, в которых представали отдельные элементы преданий об Иисусе, и связать каждую форму с функцией, которую та могла выполнять в раннехристианских общинах. С критикой форм было тесно связано понятие «истории традиции». Используя предполагаемые «законы традиции» – правила, по которым формируются и передаются предания – и предположение, согласно которому любое предание изначально существовало в некоей «чистой» или «оригинальной» форме, теоретически можно проследить историю предания от Евангелия до воссозданного оригинала или по крайней мере до ранней формы, ни в одном из Евангелий не сохранившейся. При этом евангельские тексты ставились довольно далеко от «оригинальных» евангельских преданий – и можно было постулировать, что авторы Евангелий очень творчески подходили к имевшимся у них текстам.
Однако история традиции как таковая едва ли пригодна для поисков исторического Иисуса, поскольку нет никакой гарантии, что даже воссозданная ранняя версия преданий имеет с ним что-то общее. В конце концов, согласно критике форм, христианские общины не интересовались ни историей, ни исторической достоверностью. Таким образом, исследователям, не желающим оставлять поиск исторического Иисуса, пришлось создать знаменитые критерии подлинности. То, что эти критерии, как правило, применяются по отдельности к тем или иным элементам преданий об Иисусе в контексте скептического мнения об исторической ценности евангельских преданий как целого, прямо вытекает из самого взгляда на устную традицию, свойственного критике форм. Поскольку поиск материалов о подлинном историческом Иисусе противоречит самой сути этой традиции, единственный способ что-то обнаружить – установить чрезвычайно жесткие критерии и, просеивая предания сквозь них, как сквозь сито, вылавливать в море выдумок крупицы исторической правды.
Наконец, необходимо добавить, что многие исследователи сочетают общий взгляд на устную традицию, свойственный критике форм, с более сдержанной оценкой ее надежности в хранении достоверных преданий об Иисусе. Но на самом деле это требует несогласия с критикой форм – и в вопросе о том, почему раннехристианские общины интересовались преданиями, и в оценке того, до какой степени общины сохраняли контроль над традицией и препятствовали вольному изменению преданий в процессе их передачи. Иными словами, в глубине души эти исследователи отказываются и от парадигмы критики форм.
Критика парадигмы
Начнем с критики, обращенной к самому пониманию сути устной традиции – в наше время, когда изучение сообществ, лишенных письменности, дало нам куда более богатый и достоверный материал. Возможно, ранние критики форм обращались к самой убедительной из доступных на тот момент моделей устной традиции, – но проблема в том, что время доказало ее ошибочность. Прежде всего очень важно отметить, что в устных или преимущественно устных сообществах мы встречаемся с огромнейшим разнообразием типов, содержания, функций и способов передачи устных преданий[1123]. Обобщения здесь всегда рискованны, и к аргументам вроде «с евангельскими преданиями должно быть то-то и то-то, поскольку это вообще характерно для устной традиции», следует относиться с подозрением. Многие черты устной традиции далеко не универсальны, а принадлежат исключительно той или иной культуре.
Например, неверно, что устная традиция всегда принадлежит общине и не связана с отдельными людьми – творцами и декламаторами преданий. Теперь мы знаем, что во многих устных сообществах конкретные хранители и исполнители преданий играют важную роль. Предания составляются, хранятся и исполняются конкретными людьми, которые, живя и действуя в сообществе, при этом пользуются авторитетом и несут ответственность за известную форму преданий[1124]. Еще одно неоправданное обобщение – то, что все устные сообщества якобы не интересуются прошлым и говорят о нем лишь с целью описать настоящее. Интерес к истории в разных устных обществах различен, и говорить о нем следует применительно к культурной специфике[1125]. Однако все общества, не имеющие письменной традиции, отличают сообщения о реальных событиях от сказок и передают их по-разному, причем в первом случае к верной передаче содержания относятся с большим вниманием[1126]. Ян Вензина пишет, что не может с уверенностью сказать, будто эта градация универсальна, однако уверен в ее широком распространении[1127]. Для наших целей важно отметить, что по крайней мере в африканских бесписьменных обществах о верном воспроизведении предания особенно волнуются в тех случаях, когда предание рассказывает о событиях, происшедших на памяти самих рассказчиков[1128].
Отчасти благодаря известным исследованиям искусства южнославянских народных певцов, предпринятым Милманом Пэрри и Альбертом Лордом[1129], принято считать, что исполнители устных преданий творчески варьируют их от исполнения к исполнению – и что именно этого ожидают от них слушатели. Однако Рут Финнеган оспаривает это обобщение на примере других сообществ, показывая, что «более или менее точное воспроизведение устных текстов по памяти» также распространено повсеместно, хотя, быть может, такие тексты хранятся не столетиями, а «на протяжении более скромных временных промежутков». И вот что интересно для наших целей: Рут отмечает, что один из случаев, когда запоминание текста наизусть может иметь большое значение – это случай, когда «текст имеет явный религиозный смысл или выполняет религиозную функцию»[1130].
Говоря о значительных вариациях там, где они возникают (а они, разумеется, возникают часто), важно отметить, что одно исполнение отличается от другого, но при этом изменения не нарастают так, что каждая новая «ступень» традиции строится на предыдущей, подобно первой, второй и последующим редакциям письменного текста. Это не означает, будто со временем предание не может серьезно измениться – но это означает, что невозможно проследить историю предания от конца к началу, к гипотетической «чистой форме»[1131].
Быть может, общий вывод, наиболее важный для наших целей, заключается в том, что общества, не имеющие письменной традиции, обращаются с разными преданиями по-разному: в одних случаях допускают творческие вариации, в других – требуют буквального воспроизведения[1132] и там, где оно требуется, находят множество способов его обеспечить. Быть может, абсолютно точного воспроизведения достичь невозможно, – хотя важно отметить, что иногда стремятся и к этому[1133]. Впрочем, воспроизведения, верного по существу, вполне возможно и желать, и достичь: можно, скажем, возложить ответственность за хранение традиции на специально уполномоченных или даже специально обученных хранителей, и проверять точность запоминания традиции на основе коллективной памяти, когда предание воспроизводится[1134].
Таким образом, оказывается, что изучение устной традиции в современных бесписьменных обществах по всему миру задает некие параметры, соответствия которым мы вправе ожидать от конкретного случая (например, от преданий об Иисусе), однако дает крайне мало конкретных указаний на то, каким образом могла происходить передача этих преданий. Чтобы понять это, мы должны рассмотреть специфический культурный контекст Евангелий и те свидетельства, что содержатся в них самих.
Но прежде выскажем в адрес того понимания устной традиции, которое предлагает нам критика форм, еще одно, куда более резкое и решительное возражение. Критики форм прилагают модель, верную в лучшем случае для передачи предания от поколения к поколению, к процессу, который длился не дольше одной относительно долгой человеческой жизни! Идея нерушимых «законов традиции», управляющих ее изменениями в ходе времени, в любом случае сомнительна[1135]; и во всяком случае, совершенно неочевидно, что те процессы изменения, которым подвергается фольклор, передаваемый из уст в уста на протяжении столетий, должны действовать и на протяжении куда более краткого временного периода. Мы уже отмечали, что в некоторых обществах, не имеющих письменной традиции, к преданиям о событиях, произошедших на памяти ныне живущих, относятся совершенно иначе; и важно отметить, что Евангелия писались именно о событиях, случившихся на памяти современников, – пусть даже старейших из них. А значит, авторы Евангелий относились к преданиям не как собиратели (и обработчики) фольклора, а как авторы устной истории.
Современные авторы (скажем, Ян Вензина), изучающие вопрос о том, как можно писать историю на основе устных источников, проводят между устной традицией и устной историей четкое различие[1136]. Предания, сформулированные и повторяемые живыми очевидцами событий, принадлежат еще личной памяти, а не коллективной. В значительной мере само написание Евангелий превратило личные воспоминания очевидцев в предмет коллективной памяти общины. В устный период – период живой памяти – мы неизбежно должны совершить шаг, которого критики форм тщательно избегают: принять в расчет очевидцев. А поскольку критики форм пренебрегают живой памятью и воспринимают передачу евангельских преданий по аналогии с передачей фольклора, длящейся на протяжении столетий, у читателя, изучающего современные работы по Новому Завету, часто возникает впечатление, будто между евангельскими событиями и самими Евангелиями прошло куда больше времени, чем на самом деле. Но когда составлялись Евангелия, очевидцы событий были еще живы – и вполне могли рассказывать свои истории[1137]. К этим очевидцам мы вернемся чуть позже.
Аспекты свидетельств
Мы уже видели, что степень интереса того или иного бесписьменного общества к истории и его готовности воспроизводить исторические предания в близком соответствии с реальными событиями зависит от конкретной культурной специфики: ответ на этот вопрос нельзя предсказать априорно. Если говорить о раннем христианстве, то исследования неоднократно и четко показали, что первые христиане ясно сознавали значение слова «архаичность». Не только сами Евангелия, но и предания, связанные с ними, свидетельствуют о четком понимании разницы между временем служения Иисуса и периодом после его воскресения. Разумеется, изучение прошлого для христиан (как и для большинства людей в Древнем мире) не было самоцелью; их интересовали минувшие события, важные для их религии. Однако их интерес или, скорее, обеспокоенность, несомненно восходившие к очень характерному для иудаизма пониманию истории и эсхатологии спасения, принятому у ранних христиан, были направлены именно на события религиозно значимого прошлого. Христиане не пытались разрушить историю Иисуса, оставив лишь настоящее – его вознесение на небеса, владычество над миром и незримое присутствие в общине[1138].
И это прямое указание: раннехристианское движение стремилось сохранять предания об Иисусе, не искажая их. Нет, они необязательно сохранялись verbatim, слово в слово. Вполне возможно, что при каждом исполнении предание слегка менялось. Здесь мы снова не можем ничего предсказать наперед, исходя из неких «законов традиции», – мы можем лишь делать выводы на основе дошедших до нас свидетельств. Лучшее наше свидетельство – параллельные варианты одних и тех же преданий в самих Евангелиях, особенно если принять то, что источники евангелистов варьировались примерно так же, как одно исполнение устного предания отличается от другого. Часто отмечают, что в речениях Иисуса в разных Евангелиях наблюдается, как правило, больше лексических совпадений, чем в повествовательных эпизодах. Это вполне соответствует всему, что нам известно об устных преданиях: повторяя изречения, исполнитель стремится воспроизводить их более или менее точно; что же касается «историй», в них остаются неизменными лишь основное содержание, структура и ключевые элементы, а детали могут варьироваться, в том числе возможно возникновение сокращенных и расширенных вариантов.
Если мы не признаём странных идей критики форм о том, как должны развиваться предания, то у нас, по-видимому, нет причин считать, что различия в преданиях об Иисусе когда-либо были серьезнее тех, какие мы видим в дошедших до нас Евангелиях и в других, столь же ранних версиях евангельской традиции (например, в цитате Павла из предания о Тайной Вечере в Первом послании Коринфянам, а также, возможно, в некоторых материалах из апокрифических Евангелий). Нам нет необходимости постулировать какие-то иные версии преданий, сильно отличающиеся от тех, что нам известны. И, наконец, поскольку известные нам данные свидетельствуют о весьма консервативном отношении ранних христиан к своей традиции – не стоит, подобно критикам форм, верить в то, что христиане то и дело попросту выдумывали новые речения Иисуса и рассказы о нем. Пророчество от имени возвеличенного Господа и предания о его земных речениях никогда не воспринимались как явления одного порядка.
Все эти выводы не означают, будто предание сохранялось непогрешимо и абсолютно неизменно. Наши свидетельства ясно говорят о том, что в целях толкования предание меняли и дополняли; по-видимому, этим занимались авторитетные хранители – в том числе сами евангелисты[1139]. Однако убежденность критиков форм в том, что целые категории преданий возникали исключительно благодаря своей значимости в Sitz im Leben Древней Церкви, не подтверждается ни тем, что мы знаем об устной традиции в целом[1140], ни тем, что нам известно о евангельской традиции. Так, например, рассказы о чудесах, по всей видимости, выполняли несколько функций: служили примерами веры, поясняли суть Царства Божьего, указывали на религиозный авторитет Иисуса. Базовая форма рассказа о чудесах служила всем этим задачам. Небольшие вариации могли подчеркнуть тот или иной аспект истории – однако от функции рассказа здесь явно не зависели ни его форма, ни тем более происхождение.
Подводя итоги, можно сказать, что, по всей видимости, раннехристианские общины, как и многие другие бесписьменные сообщества, хорошо умели отличать исторические сообщения от вымысла. Одно исполнение предания могло отличаться от другого, причем это более характерно для сюжетных рассказов об Иисусе, чем для его речений. Однако варьировались лишь исполнения; не возникало никакого однолинейного развития, которое позволило бы нам воссоздать историю традиции так, как это делают критики форм. Порой текст меняли – в целях толкования, – однако ни эти дополнения, ни более распространенные вариации при исполнении не должны были создавать более значительных изменений, чем те, что мы встречаем в параллельных вариантах Евангелий. Если все это справедливо, значит, перед нами встает главный вопрос: как же осуществляли контроль над традицией? Критики форм утверждают, что предания свободно циркулировали в общине и за верностью их никто не следил. И для создания альтернативной парадигмы нам необходимо понять, каким же образом достигалась верная передача текста преданий.
Альтернативная парадигма: свидетельства очевидцев
Винсент Тейлор, видный британский ученый середины XX века, специалист по Новому Завету и приверженец умеренной версии критики форм, однажды заметил: если бы критики форм были правы, это означало бы, что все очевидцы истории Иисуса вознеслись на небеса сразу после его воскресения. Далее он указал, что многие участники и очевидцы событий, описанных в Евангелиях, «не удалились на покой: по меньшей мере в течение жизни одного поколения они странствовали по недавно возникшим палестинским общинам, проповедовали и делились воспоминаниями со всеми, кто хотел их слушать»[1141]. Суть в том, что, хотя критики форм признают происхождение подлинных преданий об Иисусе от очевидцев, последним не достается никакой дальнейшей роли в воссозданной истории традиции. Не уделяя очевидцам дальнейшего внимания, критики форм постулируют, что от жизни очевидцев до написания Евангелий прошло несколько десятков лет устной передачи преданий – и выходит, что евангельские рассказы имеют уже весьма отдаленное отношение к тем же историям, рассказанным впервые, или к речениям Иисуса, о которых сообщили сами его ученики.
В книге «Иисус глазами очевидцев. Первые дни христианства: живые голоса свидетелей»[1142] я попытался понять последствия того, что очевидцы не исчезли из раннехристианского движения, успев выразить в той или иной форме свои предания. Они не просто оставались живы – они поддерживали связь с раннехристианскими общинами. Важнейшие очевидцы – как двенадцать апостолов – были хорошо известны. На протяжении всей жизни им предстояло оставаться доступными источниками и авторитетными гарантами преданий, ими же и сформулированных. Более того, помимо основных свидетелей, в большинстве своем хорошо известных учеников Иисуса, было и множество свидетелей, так сказать, второго ряда – те, кто рассказывал, например, о том, как Иисус чудесно их исцелил, или о том, как встреча с Иисусом изменила их жизнь.
Около 53 г. н. э., примерно через двадцать лет после воскресения Христова, апостол Павел привел хорошо известный перечень тех, кому являлся воскресший Иисус. Среди них он упоминает явление в одно время пяти сотням верующих, «из которых большая часть, – добавляет он, – доныне в живых» (1 Кор 15:6). Это замечание не имело бы смысла, если бы не означало: «Если вы мне не верите, пойдите и спросите кого-нибудь из них»[1143]. Если это он говорит о пятистах верующих, большинство из которых, по всей видимости, относятся к свидетелям «второго ряда», – насколько же более это верно для основных свидетелей: двенадцати апостолов или Иакова, брата Иисуса, которых Павел также вносит в свой перечень? Ему незачем говорить, что они живы и здоровы, – по всей видимости, его читатели и так прекрасно это знают. То, что многие очевидцы не только еще живы, но и вполне доступны, – это само собой разумеется, как для апостола Павла, так и для тех, кому предназначались его послания.
Мы уже видели, что в обществах, не имеющих письменной традиции, предания вовсе не обязаны анонимно циркулировать в общине так, как это описывают критики форм, – порой они связаны с теми или иными людьми, и вполне возможно, что и предания об Иисусе во многих случаях были связаны с конкретными, известными по именам людьми или группами (например, Двенадцатью), от которых и пошли. Рассмотрим вкратце основания для такого мнения. Если в раннехристианском движении очевидцев хорошо знали, вполне естественно, что в них видели авторитетных хранителей. В конечном счете, именно они и гарантировали, что предания остаются неизменными по сути.
Разумеется, не стоит думать, будто любая христианская община имела постоянный доступ к очевидцам. Нам известно, что предводители ранних христиан много путешествовали[1144], – а значит, многие общины могли время от времени встречаться с очевидцами, а еще, что более вероятно, постоянно общались с людьми, получившими евангельские предания непосредственно от очевидцев. Маловероятно, что традицию хранили только очевидцы. Без сомнения, в церквях были учителя, которым поручалась эта задача. Однако несомненно и то, что при любой возможности христиане стремились сверить известные им предания с преданиями очевидцев или узнать от очевидцев больше. Для нас особенно важно вот что: если эта картина верна, значит, сами авторы Евангелий также старались – вопреки частому мнению – при любой возможности прикоснуться к источникам преданий, а не просто полагаться на устную традицию той или иной христианской общины.
Мы уже отмечали, что евангелистов, писавших при жизни очевидцев событий, надлежит воспринимать нами не столько как собирателей устных преданий, сколько как составителей устной истории[1145]. Опрос очевидцев играет ключевую роль в современной устной истории – и такую же роль он играл и в греко-римской историографии, в контексте которой создавались Евангелия. Древние историографы полагали, что настоящее историческое сочинение можно написать лишь при жизни очевидцев, которых историк должен расспросить лично. На практике этот критерий, конечно, соблюдался не всегда, – однако беседа с очевидцами, по меньшей мере, повсеместно считалась наилучшим историографическим методом[1146].
Критики форм справедливо отмечали значительное сходство евангельских текстов с устными преданиями, возникшими прежде Евангелий, однако были неправы, связывая это сходство с особенностями фольклорной литературы. Евангелия, как убедительно показали исследователи в последние два десятилетия[1147], в целом относятся к жанру греко-римских жизнеописаний (βίοι). Как и современные биографии, которые обычно пишутся по живым воспоминаниям, жизнеописания такого рода стремились соблюсти эталоны историографии своего времени. Следовательно, как показал Самуэль Бирског[1148], связь между устными преданиями об Иисусе и их воспроизведением в Евангелиях – это не что иное, как связь между свидетельствами очевидцев и их включением в исторические труды. Важно отметить вот что: если первые читатели или слушатели Евангелий видели в них преимущественно историческое жизнеописание[1149], значит, они ожидали, что оно будет основано на свидетельствах очевидцев, и искали в тексте указания на эти свидетельства.
Евангелия ближе к устным рассказам, чем большинство дошедших до нас образцов греко-римских биографий. Это, несомненно, связано с тем, что до наших дней сохранилась в первую очередь античная литература высокого художественного уровня – более высокого, чем Евангелия, в этом отношении, по всей видимости, более сходная с многочисленными «популярными» жизнеописаниями своей эпохи, до нас не дошедшими. Однако включение устных источников в повествование характерно далеко не только для Евангелий. Напротив: как я уже упоминал, это отличительный признак качественной греко-римской историографии. Разница скорее в том, что более утонченные авторы изобретали более сложные и изощренные способы вплетения «показаний» очевидцев в художественное целое. Евангелисты же, особенно, как кажется, Марк, и в письменной форме применяли приемы, более характерные для устных рассказчиков[1150].
Эта тесная связь между устным и письменным текстом неудивительна. Современные исследования устной традиции склонны все более размывать жесткую границу между устными и литературными текстами, установленную теоретиками былых времен[1151]. В случае Евангелий мы, разумеется, имеем дело с обществом, в котором почти не было письменной традиции (в том смысле, что большинство людей были неграмотны) – но в котором, тем не менее, письменность играла важную роль. Неграмотные люди диктовали и отправляли письма, получали письма и читали их с помощью грамотных чтецов. Владели юридическими документами, которые не могли прочесть. В городах их повсюду окружали надписи. Они даже слушали чтение литературных произведений – и нам следует помнить, что Евангелия писались в первую очередь в устном контексте, для чтения вслух слушателям, уже знакомым с этими же преданиями в устной форме. Помимо того, что в евангельских текстах множество преданий сплавлялись в единое повествовательное целое, у Евангелий есть еще одна важнейшая характеристика: они позволяли сохранить свидетельства очевидцев неизменными и после их смерти. Эта естественная функция письма, характерная и для греко-римской историографии, свойственна любому обществу, которое ценит точные сведения о прошлом и не доверяет устным преданиям, «отстоящим» слишком далеко от живых свидетелей.
Теперь назовем несколько причин, по которым мы считаем, что Евангелия на самом деле близки к устным свидетельствам очевидцев и что читатели или слушатели того времени могли определить хотя бы важнейших очевидцев, благодаря которым возникли евангельские тексты.
Имена в Евангелиях
Отправная точка для выяснения того, действительно ли в Евангелиях имеются указания на очевидцев событий – это анализ имен, встречающихся в евангельских рассказах[1152], в том числе и одного феномена, которому до сих пор нет адекватного объяснения. Нет ничего удивительного в том, что в Евангелиях по именам названы и известные государственные деятели – римский префект Понтий Пилат или первосвященник Каиафа, и ученики Иисуса, играющие важную роль в повествовании: Петр, Мария Магдалина, Фома и другие. Тому, что большинство второстепенных персонажей не названы, тоже удивляться не стоит: в Евангелиях очень много безымянных персонажей, которые встречаются с Иисусом только один раз. Трудно объяснить другое: почему у некоторых из последних имена все-таки есть. Почему в Евангелии от Марка названы по именам Иаир и Вартимей (Мк 5:22; 10:46), в то время как все остальные исцеленные остаются безымянными? Почему у Луки в рассказе о двух учениках, встретивших Иисуса на пути в Эммаус, назван по имени только один? (Клеопа, Лк 24:18). Почему Марк называет по имени не только Симона Киринеянина, несшего на Голгофу крест Иисуса, но и двоих его сыновей, Александра и Руфа? (Мк 15:21). Почему Лука называет имена мытаря Закхея и фарисея Симона? (Лк 19:2; 7:40). Если учесть, что подавляющее большинство второстепенных персонажей в Евангелиях анонимны, – зачем евангелисты называют имена этих людей?
Единственная известная мне гипотеза, не противоречащая никаким свидетельствам, гласит, что эти люди почти всегда входили в раннехристианские общины и сами рассказывали те истории, которые потом вошли в Евангелия. Эти предания передавались под их именами. История об исцелении Вартимея была известна от самого Вартимея, а о встрече с Иисусом по дороге в Эммаус рассказывал Клеопа, а не другой ученик, оставшийся неизвестным.
Принцип очевидцев «от начала»
Итак, есть основания предполагать, что Евангелия включают в себя истории, рассказанные самими их «героями»[1153]. Однако если евангельские тексты основаны на свидетельствах очевидцев не только в частностях, но и в целом, следует ожидать, что были и очевидцы, чье свидетельство охватывало все служение Иисуса или большую его часть. Именно таких очевидцев, выделенных в специальную категорию, мы встречаем у Луки и у Иоанна. В первой главе Деяний Лука рассказывает о том, как ученики, стремясь сохранить группу из двенадцати апостолов, выбрали Матфия на место Иуды Искариота. Чтобы стать одним из Двенадцати, ученик должен был (говорит Петр) «находиться с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, когда Он вознесся от нас» (Деян 1:21–22). По всей видимости, двенадцать апостолов составляли своего рода официальный корпус очевидцев служения Иисуса; однако из рассказа Луки видно, что были и другие, отвечавшие этому условию (Деян 1:23). К этому же принципу Лука обращается в предисловии к своему Евангелию, сказав, что записывал предания так, как их излагали те, кто «был с самого начала очевидцами и служителями Слова», и еще он говорит, что писал «по тщательном исследовании всего сначала» (Лк 1:2–3) – а значит, он общался с очевидцами, которые могли рассказать о служении Иисуса с самых первых дней.
Тот же принцип встречаем мы в Евангелии от Иоанна, где Иисус объясняет ученикам, как они должны свидетельствовать о нем в будущем: «А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною» (Ин 15:27). Этот принцип доверия к показаниям очевидцев «сначала», по всей видимости, был принят всеми церквями. Именно он использовался в античной историографии, основанной на рассказах очевидцев; он показывает, что евангелисты о нем знали и стремились отвечать ожиданиям читателей, которые видели в их книгах историческую биографию и, соответственно, ждали от нее указаний на источники – свидетельства очевидцев.
Если читатели или слушатели Евангелий задумывались о том, кто же мог быть очевидцем описанных событий – пусть не каждого события или речений, но хотя бы основных, – от начала и до конца, несомненно, первым делом они вспоминали о Двенадцати апостолах: учениках, которым сам Иисус предназначил особую роль – группе лидеров и авторитетов раннехристианского движения в его первые дни в Иерусалиме. Во всех трех синоптических Евангелиях приводится полный перечень тех, кто входил в эту группу[1154]. Наши знания об именах палестинских иудеев, в последнее время весьма возросшие, позволяют судить о том, что список сохранен аккуратно и точно: приведены не только личные имена Двенадцати (Симон, Иуда, Иаков…), но и патронимы («сыновья Зеведеевы» или Варфоломей), прозвища (Петр) и другие эпитеты («Кананит»). В списках эти люди перечислены так, как знали и звали их окружающие во времена служения Иисуса. Тщательность, с которой составлены и сохранены списки, позволяет предположить, что это своего рода официальные перечни достойных свидетелей, способных гарантировать достоверность основных евангельских материалов.
Если двенадцать апостолов – основные свидетели той массы преданий, что составляет общий материал для Марка, Матфея и Луки, приходится отметить и то, что в каждом из этих Евангелий есть ключевые эпизоды, при которых Двенадцать отсутствовали и, следовательно, не могли служить свидетелями. Эта часть повествования – а именно рассказ о распятии Иисуса, его погребении и обретении пустой гробницы – настолько важна для всего Евангелия в целом, что очевидцы здесь необходимы более, чем где бы то ни было. Если это не Двенадцать, то кто же? Первые читатели или слушатели, несомненно, знали ответ. Именно здесь появляется Симон Киринеянин вместе со своими сыновьями, от которых, по всей видимости, узнал эту историю Марк[1155]. Но еще важнее – ученицы-женщины, которые у Марка появляются только здесь. Три из них названы по именам (Мария Магдалина, Мария, мать Иакова и Иосии, Саломия). Обо всех трех говорится, что они стояли у креста, две из них присутствовали на погребении, и все три видели пустую гробницу[1156]. Стоит отметить и то, что с ними постоянно связаны глаголы видения: они «смотрели», когда Иисус был распят и умер; «видели», как его положили во гроб; «видели» откатившийся камень; «видели» юношу, сидящего по правую руку; и он пригласил их «увидеть» пустую гробницу, куда было положено тело Иисуса[1157]. Едва ли можно яснее выразить мысль, что здесь перед нами свидетельство очевидиц.
Инклюзио в свидетельствах очевидцев
В своей книге я утверждаю, что в Евангелиях от Марка и от Луки ссылки на очевидцев обозначены при помощи литературного приема, который я назвал «инклюзио свидетельских показаний». (Инклюзио — обычное явление в античной литературе: это своего рода обрамление, при котором в начале и конце пассажа, как пространного, так и краткого, располагается соответствующий материал.) Если внимательно взглянуть на то, как в Евангелии от Марка используются имена, то мы увидим, что первым и последним из учеников Иисуса назван по имени один и тот же человек: Симон Петр[1158]. Кроме того, во всем Евангелии имя Петра звучит намного чаще, чем имена всех остальных учеников. Более того, первое упоминание Петра отмечено повторением, для повествования вовсе не нужным («Симон и Андрей, брат Симона»)[1159]. Таким образом, Евангелие от Марка подчеркивает, что Петр отвечает критерию очевидца событий от начала и до конца. Инклюзио, при помощи которого делается акцент на образе Петра в Евангелии от Марка, показывает, что Петр для этого Евангелия – главный источник-очевидец. (Это не противоречит тому, что я говорил ранее о роли Двенадцати. По всей видимости, предания, которые рассказывал об Иисусе Петр, были его версией традиции, общей для Двенадцати.)
То, что Марк обратился к этому литературному приему, подтверждает и Евангелие от Луки, в котором принцип показаний «очевидцев от начала» открыто провозглашен в предисловии. Лука располагает имя Петра так же, как и Марк: в его Евангелии Петр – и первый (Лк 4:38; и снова с эмфатическим повторением имени: «дом Симона… теща же Симонова»), и последний (Лк 24:34) названный по имени ученик. Однако Лука не просто повторяет инклюзио Марка. (Тогда в этом можно было бы увидеть случайность, связанную с механическим перенесением в текст Луки повествований Марка.) Лука создает инклюзио, особо размещая ссылки на Петра. Его упоминания – иные, не такие, как у Марка. Это убедительное свидетельство того, что Лука заметил литературный прием в тексте Марка, скопировал этот прием и тем самым засвидетельствовал, чем он обязан Евангелию от Марка, понимаемому как письменное воплощение свидетельства Петра. (Инклюзио можно найти и в Евангелии от Иоанна[1160], но пока что мы ограничимся синоптическими Евангелиями.)
Евангелие от Марка как «Евангелие от Петра»
Есть ли у нас другие причины, кроме инклюзио свидетельских показаний, полагать, что в основе Евангелия от Марка лежит свидетельство Петра?[1161] Почти все авторы комментариев на Марка упоминают во введении – хотя бы с тем, чтобы тут же отвергнуть, – хорошо известный отрывок из труда Папия Иерапольского, касающийся происхождения Евангелия от Марка[1162]. Сообщение Папия, повторенное многими позднейшими писателями Древней Церкви, гласит, что Марк был переводчиком Петра и записал евангельские предания, которые рассказывал Петр. Некогда большинство исследователей доверяли этому утверждению, но в последнее время оно почти ни у кого не встречает поддержки – прежде всего потому, что такая версия происхождения Евангелия решительно противоречит подходу критики форм[1163]. Но теперь, когда мы убедились, что парадигма критики форм ошибочна в самых своих основах, настало время пересмотреть наше отношение и к утверждению Папия.
Папий собирал предания об Иисусе, исходившие от названных по именам учеников Иисуса, причем некоторые из них были еще живы и обосновались недалеко от родного города Папия в конце I в., примерно в те же годы, когда были написаны Евангелия от Матфея, Луки и Иоанна. Папий написал (или по крайней мере закончил) свою книгу несколько лет спустя, однако собирал материал как раз в то время[1164], – и вполне мог знать что-то об истоках Евангелий, так что его свидетельство о Евангелии от Марка заслуживает более серьезного отношения, чем то, какое принято сейчас в науке. Однако вероятность достоверности слов Папия возрастет многократно, если сопоставить его свидетельство с указаниями, приведенными в самом Евангелии от Марка, – согласно которым главным источником преданий там назван Петр. Мы уже отмечали, что Марк выделяет имя Петра при помощи инклюзио, указывая на свидетельство очевидца, и на то, сколь часто он упоминает имя Петра. А кроме того, в другом своем сочинении я показывал, что Евангелие от Марка призвано показать читателям или слушателям описываемые события в основном с точки зрения Петра[1165].
В заключение повторю еще раз: если мы хотим понять, как связаны Евангелия с устной передачей евангельских преданий, то нам уже нельзя полагаться на парадигму критики форм. Теперь, особенно в свете нового понимания сущности устной традиции, эту парадигму невозможно даже «исправить», – ее следует попросту отвергнуть[1166]. На мой взгляд, куда более плодотворный подход к нашей теме предлагает парадигма свидетельства очевидцев, согласно которой не следует считать, будто Евангелия были отделены от очевидцев событий долгой традицией анонимной передачи преданий в общине – напротив, они основаны именно на рассказах очевидцев: часто напрямую, реже – в передаче через вторые или третьи (но обычно не более) руки. Евангелия – это устная история, основанная на свидетельствах очевидцев событий, и во многих случаях эти свидетельства представляют собой ее неотъемлемую часть.
Устно-письменная передача и исполнение преданий об Иисусе. Новый взгляд
Вернер Кельбер
Важнейшая черта историко-критической теории библейской литературы – в том, что она сконструирована по эволюционной модели.
Норман Петерсен
В целом смысл связан с идеями, верованиями и ценностями; однако если этот смысл воспроизводится в устной речи, то его следует толковать в терминах взаимоотношений.
Дэвид Роудс
Много вопросов рождает и само понятие «традиции»… иными словами, перед нами концепция куда более сложная, чем кажется обычно… В прошлом, употребляя термин «традиция», исследователи далеко не всегда соблюдали необходимую в этом случае… осторожность.
Рут Финнеган
И в древности, и в Средние века в христианстве не возникало стремлений обратиться к историческому Иисусу, и это не вызывало никаких неудобств и тревог – но во второй половине XVIII столетия в западном сознании пробудился научный и богословский интерес, выходящий за рамки евангельских повествований. С тех пор библейские исследования и богословская мысль погружены в «поиск исторического Иисуса» – точнее, во множество поисков различной направленности и разной степени настойчивости. Первая фаза этого современного поиска, которую блестяще представил Альберт Швейцер[1167], выросла из осознания несоответствий между евангельскими образами и фактической реальностью, открывшейся нам благодаря углублению исторических познаний. Так называемый Новый поиск[1168], разочарованный «новой ортодоксией» с ее пренебрежением к религиозному значению Иисуса истории и в то же время отрезвленный растущим пониманием керигматической сущности Евангелий, стремился понять смысл человеческой жизни – и найти преемственность между учением Иисуса и Евангелиями. Наконец, так называемый Третий поиск[1169], международный и межконфессиональный, обратившийся к новым источникам и проявивший особое внимание к социальному положению и национальной принадлежности Иисуса, с новым рвением и энтузиазмом применил к Евангелиям историческую методологию.
В основе всех этих разнообразных «поисков» и бесчисленных сочинений на их тему лежит конфликт между богословием и историей, – современная версия средневекового спора между верой и разумом. Исторический метод и историческое сознание часто прославляются как «выражение новой этики критического суждения, завладевшей воображением западного ученого»[1170], – однако все мы ощущаем глубокую несовместимость этой «новой этики» с этосом веры. Я не предлагаю обращаться напрямую к какой-либо из чрезвычайно сложных историко-богословских проблем – моя задача куда скромнее. Говоря в самых общих словах, я хочу рассмотреть логику историографии, проявленную в главной стадии «поисков». Насколько правомерны и исторически корректны те историографические рассуждения, к которым мы широко обращаемся в поиске исторического Иисуса? Еще раз повторю: я не собираюсь подвергать сомнению исторические методы с точки зрения веры и ее притязаний на истинность. Я спрашиваю лишь вот о чем: верно ли, что исторические методы, используемые многими искателями, основаны на предпосылках, несовместимых со словесными искусствами Древнего мира и принятыми в нем способами общения?
Начиная с Нового поиска, а затем и в Третьем поиске исследователи, желая воссоздать учение Иисуса, вдохновлялись подходом критики форм: желанием выделить и реконструировать ipsissima verba, подлинные слова Иисуса. В наше время разработан чрезвычайно сложный и тонкий набор методик, позволяющих извлекать речения и притчи Иисуса из их повествовательного контекста, сравнивать различные варианты, устранять дополнения, которые кажутся вторичными, и прослеживать их историю через различные предполагаемые стадии вплоть до некоей «оригинальной», первоначальной формы[1171]. Искатели не питают иллюзий и не думают, будто поиск подлинных речений и подлинной вести Иисуса пройдет без существенных трудностей. Пытаясь найти и восстановить «оригинальные» речения Иисуса, они тратят массу сил и создают сложнейшие методики, однако само существование «оригинальных речений», как правило, сомнению не подвергается. Ipsissimum verbum — подлинное речение – обычно считается неопровержимым лингвистическим фактом и (с определенными оговорками) вполне достижимой целью научного поиска.
Если говорить конкретнее, то я намерен рассмотреть методы и предпосылки критики форм. Я по-новому оцениваю ранние устные и письменные предания об Иисусе и спрашиваю: соответствуют ли методы критики форм, применяемые для выделения «оригинальных речений», динамике «античных медиа»? Более того, я спрашиваю: действительно ли сама концепция ipsissimum verbum представляет собой неопровержимый исторический и лингвистический факт? Методики, принятые в критике форм, возможны и даже мыслимы лишь в культуре, где общение идет на основе печатного текста: лишь визуальное воплощение слов дает нам возможность анализировать текст, разделять его на части, делать в него вставки, отличать современный текстуальный вариант от более ранних, выделять отдельные речения и воображать себе некую единую «изначальную версию». Исторические, логические и методологические предпосылки, вдохновившие критику форм, представляют собой – в медиа-перспективе – плод долгой и непрестанной работы с авторитетным текстом печатной Библии, первой из важных механически составленных книг, открывшей человечеству путь в современность.
Оригинальное речение, предание и Евангелие в представлениях критики форм
В 1921 году, опубликовав «Историю синоптической традиции»[1172], Рудольф Бультман определил путь развития критики форм вплоть до конца ХХ столетия. Как известно любому истолкователю Евангелий, мало кто прочел «Историю синоптической традиции» от корки до корки: мириады приведенных в ней филологических наблюдений и исторических суждений этому не особо этому способствуют. Большинство лишь сверяется с ней в том или ином экзегетическом вопросе. Однако классический труд Бультмана – это не просто разрозненное собрание случайных данных, а огромный массив, в который вплетены стройные представления о критике форм и ее применимости к синоптическим Евангелиям, о сути устного предания и о возможности отыскать «подлинные речения».
Ученые единодушно полагают, что критика форм, как видел ее Бультман, предназначалась для изучения «истории отдельных элементов традиции»[1173], которые требовалось извлечь из текстов синоптических Евангелий. Но мало кто знает, что анализ и категоризация этих элементов не были для Бультмана самоцелью, – позднейшая практика «похоронила» этот факт. Проект критики форм не сводился «ни к эстетическим размышлениям, ни к процедурам, связанным с описанием и классификацией»[1174]. Бультман настаивал на том, что выделение отдельных элементов традиции из их повествовательного контекста и восстановление их первоначальной формы должно «прояснить историю дописьменной традиции»[1175]. В то время, когда писалась «История синоптической традиции», такой подход был вполне уместен. Возражения возникли в дальнейшем, с развитием изучения устной традиции, когда внимание обратили на составление, исполнение и эстетику существующих устных традиций и связанных с ними текстов. В принципе, изучение истории устной традиции, ее движущих сил и стоящих за ней мотивов, – предприятие вполне разумное и законное. Разумеется, необходимо понимать, что реализация такого проекта необычайно сложна, а восстановление изначального устного предания (точнее, изначальной его модели) связано с огромными трудностями. Однако я не намерен разбирать технические подробности: моя задача – ответить на фундаментальный вопрос о том, удалось ли критике форм разработать понятийный аппарат, соответствующий миру устного, звучащего слова.
Одна из важнейших проблем критики форм заключается в том, что уже на очень ранней стадии она видоизменилась, превратившись в метод поиска подлинных речений Иисуса, и тем самым отвлеклась на проект, лежащий вне ее компетенции и не соответствующий ее изначальной задаче. И это случилось несмотря на то, что «История синоптической традиции» была посвящена именно традиции, а не историческому Иисусу. Бультман стремился прояснить ранние, дописьменные предания об Иисусе, но в дальнейшем критика форм сузила эту задачу и быстро сделала новую дисциплину набором подручных инструментов на службе Исторического поиска. Критика форм порождала все более сложные методики, призванные уже не выяснить, как работает традиция, а установить, что говорил Иисус на самом деле, и получить не модель устного предания, а ipsissima verba.
Но почему искатели поверили, что критика форм дает им идеальное орудие для получения надежных, исторически достоверных сведений об Иисусе? Сам Бультман понимал задачу критики форм иначе, но в «Истории синоптической традиции» уже заложены предпосылки резкого поворота новой дисциплины от традиции к историческому Иисусу. Скажем, такое утверждение, довольно прямо описывающее задачи критики форм, словно бы приглашало читателей использовать ее для Исторического поиска:
Цель критики форм – найти изначальную форму фрагмента повествования, речения Господа или притчи. По мере поиска мы учимся отличать вторичные добавления и формы, а это, в свою очередь, ведет к важным итогам для истории традиции[1176].
Итак, критика форм имеет дело с некоей «оригинальной формой», которую можно найти, убрав «вторичные добавления». Понятно, что в обещании найти «оригинальную форму» речения или притчи искатели исторического Иисуса услышали благую весть. Далее мы попытаемся определить, что же в данном случае понимается под словом «оригинальный», и увидим, что само это понятие весьма проблематично. Но пока поговорим о «форме». Том Тэтчер уже отмечал, что «Истории синоптической традиции» явно недостает четкой и связной теории «формы», с понятием которой, по Бультману, связаны проблемы «стиля, содержания, литературных/риторических мотивов и приемов, идеологических особенностей, а также любых сочетаний всего перечисленного»[1177]. Но, возможно, для начала стоит поставить под вопрос сам выбор термина «форма». Это понятие, которому суждено было стать названием новой дисциплины, хорошо подходит текстуальным, литературным реалиям, однако не соответствует сущности и функционированию устной речи. В системе человеческих чувств «форма» – так же как и «образ», «схема», «мировоззрение», «точка зрения» и многие другие термины – явно соответствует зрению. «Услышать форму» нельзя – ее можно только увидеть. Выбор ключевого понятия из визуального ряда определил собою весь подход критики форм, ее стиль познания и изложения. Сделав «форму» терминологическим ключом к новой дисциплине, критики форм породили иллюзию доступности «оригинальной вести» как какого-то объекта, существующего во времени и пространстве, – объекта, который можно увидеть и в истинности которого можно удостовериться.
Эту проблему заметил и сформулировал Тэтчер. Он пишет, что в «Истории синоптической традиции» «…Бультман мыслит об устных высказываниях как о физических объектах и приписывает им качества, свойственные физическим объектам»[1178]. Иными словами, за понятием «формы» стоит представление о группах реальных текстов – об изолированных объектах, устных или текстуальных, иными словами, о неких внеконтекстных атомах с конечным смыслом, которые действуют сами по себе и дают возможность их четко зафиксировать. Осознав эту главную проблему, связанную с понятием «формы», мы поймем, что с самого своего рождения критика форм подвергалась искушению представлять устную традицию как письменную, – например, как цепь последовательных «редактур» текста. И несмотря на то, что с самого начала критика форм считала себя «историей дописьменной традиции», оказалось, что она не способна рассматривать и изучать устное предание именно как устное.
Бультман и ранние критики форм, по-видимому, вполне спокойно обращались к представлению о «форме» и к связанной с ним терминологии, поскольку не видели необходимости проводить между устной и письменной деятельностью четкую границу, – и они одинаково легко применяли понятие формы к устным и письменным реалиям, ведь на их взгляд между этими двумя средствами «принципиальной разницы не существовало»[1179]. В этой связи интересно отметить, до какой степени сам Бультман воздерживался от описания устной традиции именно как устной. Он предпочитал называть ее «долитературной» (vorliterarisch)[1180] или «нелитературной» (unliterarisch)[1181], очевидно, воспринимая ее как нечто вторичное – и более того, служебное – по отношению к литературе. Парадигма Literatur — пусть даже Kleinliteratur, «малой литературы», – была «нормой», в сопоставлении с которой оценивалась и судилась устная традиция. Хорошо известно, что именно такое невнимание к различиям между устной и письменной коммуникацией позволило Бультману вывести так называемые «закономерности» (Gesetzmäßigkeit), по которым шло развитие устной традиции, из того, как Матфей и Лука использовали Евангелие от Марка и источник Q. Но приняв как аксиому то, что устные предания передаются по тем же законам, что и тексты, критика форм не достигла своей цели: ей не удалось познать и изучить устную традицию как отдельный и независимый феномен. Ранние критики форм, отмечает Тэтчер, не могли «разработать внятную теорию устного дискурса»[1182]. И еще раз отметим предпосылку, свойственную критике форм и гласящую, что во всех своих устных проявлениях текст остается по существу одним и тем же и в нем всегда можно выделить «оригинальные» и «вторичные» элементы. Приходится повторить: с самого своего зарождения критика форм была отягощена концептуальными ошибками, которые не позволяли ей правильно понять и оценить сущность устной традиции, – самого предмета ее исследования.
Какая же модель вырисовывается из массы данных, собранных в «Истории синоптической традиции»? Здесь снова придется начать с понятия «оригинальной формы»: в нем заключено определенное понимание того, как работает традиция. У истоков предания стоит некое «оригинальное речение»: со временем его дополняют, обогащают, меняют, а также сочетают с другими такими же элементами традиции, порождая тяготение ко все более сложным устным или текстуальным конструкциям. Сходным образом развиваются и истории о чудесах, и так называемые исторические повествования, и рассказ о Страстях. По мнению Бультмана, одна из самых плодотворных сторон критики форм – это «способность различать стадии развития традиции»[1183]. Это весьма примечательное утверждение. Было бы ошибкой, продолжает Бультман, «полагать, что этот закон не имеет исключений – я далек от мысли, будто речения не могли время от времени сокращаться»[1184]. Однако исключения лишь подтверждают фундаментальную закономерность: формы развиваются от краткого к пространному, от простого к сложному. Об этой модели снова очень верно замечает Тэтчер: «Бультман видит в истории синоптической традиции ряд изменений и расширений оригинальных устных форм»[1185].
На мой взгляд, мы и сейчас не вполне осознаем, до какой степени критика форм была (и остается) привязана к линейному, эволюционному представлению о традиции. Открыто или скрыто, она рассматривает трансформацию устного/письменного текста именно как цепь «редактур» – и исходит из представления, согласно которому устный текст изменяется шаг за шагом, линейно, в процессе своего рода эволюции. Эти постепенность и эволюционность – аксиома критики форм, не подвергаемая сомнению и критике. Действительно, это один из самых простых и эффективных способов представить себе развитие традиции. В нем есть красота и убедительность, свойственная понятным и визуально представимым схемам. Есть искушение порассуждать о том, насколько модель эволюционной последовательности, присущая критике форм, зависит от более глубоких исторических тенденций, образцов и общих метафор биологического, культурного, политического эволюционизма, господствовавшего в интеллектуальном мире Европы XIX – начала XX веков. Однако отвлеченным культурологическим рассуждениям в этой статье не место. Если же говорить о библеистике, то Норман Петерсен около тридцати лет назад в полной мере осмыслил и верно сформулировал последствия этого линейного эволюционного мышления, свойственного критике форм и всей историко-критической парадигме в целом:
…исторический анализ движется от имеющегося у нас письменного текста к гипотетическим ранним стадиям, а эволюционная теория постулирует развитие от ранних стадий к нынешнему письменному тексту. Таким образом, теория обращает процесс анализа вспять, переопределяет его как процесс эволюции и превращает пласты свидетельств в стадии эволюционного развития[1186].
Наблюдение довольно проницательное. Аналитический поиск отталкивается от имеющегося текста и словно «прощупывает» более ранние стадии, а эволюционная модель движется от промежуточных стадий к тексту, который находится у нас в руках. Выходит, что исторический анализ и эволюционная теория действуют «в сговоре»: анализ попросту переворачивает эволюционный замысел, а теория эволюции дает анализу необходимый понятийный аппарат, снабжая его понятиями «пластов» и «стадий». Петерсен полагает, что нам лишь стоит «отделить выводы историко-критического анализа от эволюционной модели» – и мы сможем «сохранить выводы, отвергнув [эволюционную] теорию»[1187]. Однако не совсем понятно, выживут ли без теории хоть какие-то данные. Насколько глубока их связь с теорией? Это сложный вопрос, требующий глубоких размышлений. Без сомнения, эволюционная подоплека историко-критической парадигмы – это проблема, заслуживающая того, чтобы отнестись к ней серьезно.
В любом случае сам Петерсен подчеркивает значение эволюционного мышления, замечая, что мы не вполне представляем, насколько простирается его влияние. Он напоминает, что эта модель – «не из тех, которые осознаны нами в полной мере»[1188]. По-моему, мы вообще хуже всего осознаем то, что более всего на нас влияет. Однако эволюционный градуализм – не просто ключевая теория критики форм, призванная объяснить, как работает традиция; это «сущность всей историко-критической теории библейской литературы»[1189] (см. эпиграф) и «становой хребет» историко-критической парадигмы[1190]. Это радикальное утверждение требует над ним задуматься. Историко-критическая парадигма – вовсе не какой-либо непогрешимый закон разума и науки. Она зиждется на эволюционной теории, и именно эта теория – «самая уязвимая ее сторона»[1191]. Влияние эволюционной модели на историческую парадигму Петерсен иллюстрирует на примере «подхода траекторий», который предложили Хельмут Кёстер и Джеймс Робинсон[1192]. Прослеживая так называемые «траектории» в истории раннехристианских преданий, авторы рассуждают о том, как отдельные речения складываются в сборники вроде Q или Евангелия Фомы; рассказы о чудесах – в аретологии; откровения вроде Мк 13 – в апокалиптические Евангелия; правила общин – в сборники руководств и наставлений. Такой подход, отмечает Петерсен, по сути своей построен именно на модели эволюционного прогресса[1193].
Петерсен пишет как литературный критик: его прежде всего интересует не устное общение и исполнение преданий, а восстановление сюжетной целостности евангельских повествований, – к слову, этот интерес объединяет нас. Он вполне справедливо отмечает, что именно критика редакций (и литературная критика) «перекрыла кислород»[1194] эволюционной теории. Однако, на мой взгляд, сама устная традиция, понимаемая как нечто независимое и не связанное с традицией письменной, представляет для эволюционной теории еще большую угрозу.
Критика форм уделила внимание социологическому аспекту: традицию она понимала как нечто, прочно привязанное к общине и укорененное в ней. Те или иные жанры в ее представлении связаны с определенным жизненным укладом, а традиция в целом несет на себе следы влияний, под которыми пребывает сообщество. Одним из основных положений критики форм стала вера в то, что традиция формируется и передается коллективно, сообща, без чьего-либо заметного индивидуального вмешательства. Однако, учитывая тот вызов, с которым мы сталкиваемся, когда приходится исследовать роль общественных условий и мотиваций в устной традиции, можно сказать, что в парадигме критики форм изображение роли общественных и политических сил в формировании традиции по-прежнему теоретически неразвито и неубедительно.
В том виде, в каком предания об Иисусе предстают перед нами в «Истории синоптической традиции», они кажутся практически лишенными социального контекста и оторванными от истории. В конечном счете устная традиция развивается не благодаря каким-либо общественным силам, не в русле коллективной памяти (память – сторона традиции, практически не исследованная критиками форм), а скорее благодаря какой-то собственной внутренней энергии. Говоря словами самого Бультмана, «взаимное притяжение имеющихся преданий облегчает их слияние», так что «в какой-то момент разрозненные предания и небольшие собрания преданий должны были сойтись в единый связный рассказ о жизни Иисуса», тем более что устное распространение преданий к тому времени уже умирало[1195].
Из этого следует, что в традиции содержится ключ к возникновению Евангелий. Однако в вопросе соотношения Евангелия и традиции основная «заслуга» отдается последней, а на долю составителей Евангелий остаются лишь жалкие крохи. Композиция Евангелий, по словам Бультмана, выросла из того же «имманентного эволюционного импульса»[1196], какой стоял и за преданием, и за культом Христа, и за мифом о Христе, сложившемся в эллинистическом христианстве. Иными словами, Евангелие – это естественный результат, к которому только и могла привести практически предопределенная траектория устного предания. Критика форм так и не смогла признать в сочинении Евангелий ни составительской, ни редакторской, ни авторской работы. По ее мнению, письменное Евангелие «лишь завершает то, что начато устной традицией»[1197], – то есть является в значительной степени ее итогом. В наше время этот акцент на роли устной традиции в составлении Евангелий и, соответственно, замалчивание их индивидуального авторства поражает совпадением с теориями устной народной словесности, которые имеют дело лишь с текстами, тесно связанными с устной традицией. Впрочем, мы еще увидим, что в нашем случае ситуация несколько иная.
Исполнение и устный динамизм
Быть может, величайшая трудность для понимания устной традиции состоит в том, что устное слово неуловимо и неизмеримо. С этой предпосылки должно начинаться всякое наше размышление об устной традиции. Сказанное слово не отделить, не представить, ни с чем не сравнить, никак не оценить: вот оно есть – а вот его уже и нет, оно перестает быть, едва отзвучав. Если говорить точнее, сказанные слова, отзвучав, продолжают существовать в человеческом сознании и памяти – но не в каких-либо визуально опознаваемых формах. Когда мы воображаем Иисуса, произносившего фразы, необходимо понимать, что его слова звучали один только миг, – и тут же уходили в прошлое, подхваченные ветром времени. Звучащее слово неизбежно привязано ко времени – и вместе с ним уходит в небытие. Оно не имеет пространственного бытия и, в отличие от наших текстуальных свидетельств, не привязано ни к каким материальным носителям. С этой точки зрения можно сказать, что работа писца – это попытка, быть может, подсознательная, остановить бег времени и придать летучему слову вечность; хотя дальше мы увидим, что сами древние могли смотреть на это иначе. Повторим еще раз: устное слово – это событие, происшествие, оно не занимает никакого места в пространстве и потому не должно восприниматься как «форма». Исполнение, а не форма – вот суть устной традиции; и критике форм следовало бы сделать «единицей отсчета» и ведущим теоретическим принципом не форму, а именно исполнение.
Когда мы сумеем осмыслить понятие устного исполнения, нам придется расстаться с идеей о том, что главным компонентом и важной стороной устного предания является некая «оригинальная форма». Как хорошо известно, одним из первых исследователей, критиковавших идею «оригинальной формы» на эмпирических основаниях, был Альберт Лорд. Его открытия, связанные с устным исполнением и составлением устных текстов, имели большое влияние, а ряд его критериев стали общепринятыми в гуманитарных исследованиях[1198]. Прекрасно зная славянские языки, сравнительное литературоведение, классику, фольклор и мифологию, он предпринял полевые исследования живой сербо-хорватской эпической традиции, стремясь прояснить ряд вопросов, связанных со стилем и структурами устных текстов, типичных для гомеровского эпоса. Его выводы широко известны, но, как кажется, еще не вполне оценены современной библеистикой. Милман Пэрри, предшественник Лорда, уже признавал, что южнославянские сказители не «повторяют» при каждом исполнении один и тот же текст. Однако именно Лорд пришел к выводу сути работы Пэрри: «…правда в том, что наши представления об “оригинале” “песни” в мире устной традиции не имеют никакого смысла… Нет никакого одного-единственного “оригинала”: можно сказать, что “оригиналом” является каждое исполнение»[1199]. Это связано с тем, что при устном исполнении каждое воспроизведение текста становится оригинальным коммуникативным событием. Неважно, сколько раз исполнитель передавал свое послание, насколько различались эти исполнения, были ли они схожи или даже идентичны, – каждое из них представляет собой отдельное «составление при исполнении». Этот тезис Пэрри-Лорда, если принять его всерьез, требует отвергнуть теорию «оригинальной формы», провозглашенную критикой форм, и двинуться к верному пониманию сути устного исполнения.
Отказ от понятия «оригинала», доведенный до своего логического конца, требует отказа и от сопутствующего ему понятия «вариантов». Лорд понимает это очень четко: «Выходит, мы не можем говорить и о “вариантах” – ведь нет никакого “оригинала”, который можно было бы варьировать!»[1200]. Действительно, если в устной коммуникации нет «оригинальной формы», поскольку оригинально каждое исполнение, то и никаких «вариантов», отклоняющихся от «оригинала», быть не может. Понятия «оригинала» и «вариантов» совершенно не соответствуют сути устной герменевтики. Ни сам говорящий, ни его слушатели вообще не задумываются о том, чем второе исполнение отличается от первого, а третье от второго. Вместо того чтобы говорить об «оригинале» и «вариантах», нам нужно свыкнуться с идеей множества «оригиналов». Множественный оригинал – вот в чем суть и своеобразие устной традиции. При устном исполнении говорящий не воспроизводит «оригинальные формы», а озвучивает разнообразные оригиналы. Таким образом, уже изначально предания об Иисусе представляли собой не изначально неповторимый первоисточник, а множество оригиналов.
Теоретические определения исполнительской импровизации (англ. composition-in-performance, досл. «составление текста при исполнении») и множественного оригинала требуют дальнейшей разработки. Их невозможно правильно понять, не введя третье понятие, – понятие контекстуальности. Этот аспект прекрасно прояснила Рут Финнеган:
Легко сосредоточиться на анализе вербальных элементов… на стиле и содержании, образности или, быть может, на способах передачи… Но крайне важно помнить и о том, в какой обстановке исполняется произведение. Вопрос этот ни в коем случае не второстепенен, не случаен – он прямо связан с реально воспринимаемым своеобразием поэмы[1201].
В библеистике важный труд, посвященный исполнению и контекстуальности, совершил Дэвид Роудс[1202]. В одной из двух своих основополагающих статей о критике исполнения он проницательно выделил ключевые компоненты самого события: «…само исполнение; “исполнительская импровизация”; исполнитель; слушатели; социальное положение исполнителя и слушателей; реальная обстановка; культурные/исторические обстоятельства; риторическое воздействие на слушателей»[1203]. Даже если не разбирать все эти элементы подробно, легко заметить, что исполнение и передача устной традиции – это событие, которое происходит во времени и каждый раз случается в конкретных и уникальных обстоятельствах. Строго говоря, тексты по большей части вырастают из социальных условий и отвечают им. В Евангелии можно увидеть идеальный пример письменного отклика на обстановку в обществе. Однако если слова письменного текста можно извлечь из социального контекста, оставив их в «безвоздушном пространстве» вместе с другими словами, – то устное слово может пребывать и действовать только в социальном контексте. Прямо в цель бьет замечание Роудса: «…исполнение текста – как событие – имеет не только “устный” аспект»[1204]. Свой вклад в композицию устного текста и в то, как этот текст воспринимает аудитория, вносят не только тон исполнителя, его интонации, продуманные паузы, подчеркивания голосом, жесты, выражения лица и многое-многое другое, пусть даже текстуальная модель, доминирующая в нашем обществе, все это закрывает. Роудс думает и о характерных для Древнего мира «сценах» для исполнения текстов – таких как синагога, преддверие Храма, дом, открытое пространство, деревня, рыночная площадь, театр. Эти «места действия», наряду со слушателями, становились сотворцами текста и его смысла, поскольку определение значения текста в устной коммуникации – это, как подчеркивает Роудс (см. второй эпиграф), работа не только идеологическая, но во многом и социальная.
Более того, социальный и исторический опыт, в сущности, определяет контекст устного исполнения. «Евангелие от Луки для богача звучит совсем не так, как для бедняка»[1205]. Евангелие от Марка звучит совершенно по-разному, если слушать его в страхе перед римской армией, идущей на штурм Иерусалима, – или уже после бедствий 70 г. н. э. То, что устное общение невозможно свести к одним только словам, проницательно замечает Уолтер Онг: «Устное слово – это всегда некое вербальное отражение общей ситуации, несводимой только к вербальному компоненту, и оно никогда не существует само по себе, просто в словесном контексте»[1206]. И отделяя речь от ситуации, в которой она звучит (иными словами, от арены исполнения), мы буквально вырываем ее из контекста, определяющего все ее бытие, и разрушаем социальную ткань, поддерживающую ее жизнь. Более того, стоит вспомнить, что критика форм действует на уровне, дважды отделенном от устного исполнения. Она не вмешивается в исполнение как таковое. Она берет слова, уже отделенные от их устного бытия и помещенные в письменный контекст, а затем определяет, какие из них достойны отнесения к устной традиции, – несмотря на их изоляцию и, в сущности, как раз на ее основе. Предпосылка ее состоит в том, что «оригинальные» слова Иисуса, отделенные от контекста, должны сохранить в себе смысл его послания. Многие «искатели исторического Иисуса» упорно не желают признавать, что «речи вообще», свободной от контекста, не существует. Сама возможность вычленить из текста отдельные слова или эпизоды – не что иное, как плод письменной культуры, точнее, культуры печатных машин. В исследованиях устной и письменной речи повсеместно признается, что, вычленяя слова – устные или письменные – из контекста, мы перестаем воспринимать силу устного сообщения и понимать его смысл. «Мы платим за это непомерную цену», – так резко говорит о вырывании речи из контекста Джон Фоули[1207].
Объединенная динамика исполнительской импровизации и контекстуальности проясняет для нас и концепцию «множественной оригинальности», которой так и не дал определения Лорд. Как правило, сообщение, рассказ или изречение с «одним и тем же» содержанием не будут одинаковыми при всех исполнениях, – особенно если различаются их «сотворцы», обстоятельства и социальные контексты. Мы помним: народные сказители, которых слушали Пэрри и Лорд, исполняли «одни и те же» песни всякий раз с немного иными словами. Исполняя «один и тот же» текст в различных обстоятельствах, выступающий не может избежать давления ожиданий аудитории.
Однако – немедленно добавим мы – быть может, это слишком негативная оценка. Сообразнее с этосом устного исполнения будет сказать, что в различных обстоятельствах выступающий стремится сохранить неизменным смысл своего сообщения. Наилучший способ этого достичь – мнемоническое структурирование. Как правило, мы склонны полагать, что жесткая формальная структура, свойственная многим речениям и притчам Иисуса, призвана сохранять неизменность предания. С точки зрения риторики вернее предположить, что выступающий – скорее всего, религиозный проповедник, – стремится изложить свое послание так, чтобы поразить и даже преобразить слушателей. Мнемоническое структурирование этому способствует. Впрочем, я не уверен, что важнейшая забота устного исполнителя – стабильность ради стабильности. Скажем, когда Иисус повторял какую-нибудь из своих притч (что понимать здесь под словом «повторял» – вопрос отдельный), – он делал это в разной обстановке и при этом, вполне возможно, менял и структуру истории, и даже ее содержание. Итак, пусть даже все исполнения устного текста – это «оригиналы», но не все оригинальные исполнения «одного и того же» текста идентичны. На практике древние сказители и их публика едва ли имели понятие о «видоизменении», о различиях, о вариантах текста: как мы уже отметили, «оригинала» и его «вариаций» в их картине мира не существовало. Более того, как правило, ни у говорящего, ни у слушателей не было возможности сравнивать. Однако хотя у участников речевого события нет под рукой записей с различными исполнениями текста и они не сознают того, что мы называем историей традиции и превратностями ее судьбы, – «множественные оригиналы» в устной речи неизбежны, и само это понятие неразрывно связано с разнообразием, даже с многозначностью. Стоит об этом подумать, и мы яснее, чем когда-либо, осознаем неадекватность концепции «оригинальной формы».
В свете этих размышлений о критериях множественной оригинальности, исполнительской импровизации, контекстуальности, разнообразия и многозначности можно заключить, что проповедь Иисуса – оратора и рассказчика – состояла из множества речевых актов, заключающих в себе как различные материалы, так и сходные или разные исполнения «одних и тех же» материалов, причем каждое их устное исполнение было новым и отдельным событием. Представляя Иисуса у истоков того, что позднее стало христианской традицией, мы не должны мыслить в терминах ipsissima verba; скорее, нам следует представить множество речевых событий, каждое из которых воспринималось говорящим и его слушателями как «оригинальное исполнение». Следовательно, связь Иисуса и традиции нельзя – вопреки негласной, но нерушимой аксиоме «поиска» – представлять как некое изначально стабильное состояние, видоизмененное впоследствии; мы должны представлять себе и речь Иисуса, и последующее действие традиции как множественные исполнения и со схожими, и с различными смыслами.
Если говорить о противопоставлении традиции и Евангелий, то исследования устной словесности также не подтверждают модель критики форм, согласно которой Евангелие представляет собой итог линейного развития. Как уже отмечалось, устное слово – это всегда событие, происходящее во времени; и я добавлю, что именно поэтому модели, основанные на пространственных метафорах, к нему неприменимы. Устное слово, мыслимое в своем естественном контексте исполнения и слушания, не движется по линейной или тем более по эволюционной траектории. Пока мы, как критики форм, считаем традицию чисто устной, мы не можем думать о ней в терминах направлений, тенденций, роста или даже «траектории»[1208]. С этой точки зрения сложно воспринимать действие устной традиции и как «передачу», поскольку «передача» подразумевает модель общения, в которой слова «переносятся» с места на место, от человека к человеку. Однако в устной традиции они не переносятся с места на место – они исполняются во времени. И если мы хотим сохранить понятие «передачи», имея в виду непрерывность традиции, то, возможно, лучше говорить о «передаче-импровизации» (англ. transmission-in-composition, досл. «передача при составлении текста»), – иначе нам, вслед за Лордом, придется признать, что «устная передача», «устное составление», «устное творчество» и «устное исполнение» означают одно и то же[1209]. Строго говоря, устная традиция – это феномен, состоящий из все новых и новых исполнений или импровизаций, в котором каждое исполнение «не воспроизводит, а заново творит»[1210].
Наконец, если устное предание не развивается под влиянием некоей неодолимой эволюционной силы, призванной рано или поздно привести его к рукописному воплощению, то и Евангелие невозможно объяснить как плод действия неких внутренних «законов устного творчества». Такое представление о Евангелии порождено пониманием традиции в терминах «эволюции» и «передачи», – и это понимание неадекватно, причем оно не только искажает наши представления о самой традиции, но и не дает верно понять евангельское повествование. Если применение нарративной критики к Евангелию (или Евангелиям) в последние полвека и дало какие-то результаты, то лишь потому, что Евангелия – это в какой-то мере сюжетные повествования и в них присутствуют разные точки зрения. Однако стоит лишь допустить в этих повествованиях наличие причинно-следственных связей, и тезис о том, что Евангелие – плод исключительно работы внутренних законов традиции, утратит большую часть своей правдоподобности. Нет ни смысла, ни необходимости отрицать, что Евангелие глубоко и разнообразно укоренено в диахронических глубинах традиции. Об этом мы подробно поговорим далее. Однако в создании Евангелия, наряду с влиянием преданий, огромную роль играли нарративные связи причины и следствия.
В этом свете не справедливо ли будет сказать, что критика форм сосредоточилась на устной традиции, не сумев понять ни сущности речи, ни сущности исполнения, – и занялась изолированными речевыми формами из евангельских текстов, не разобравшись сперва в евангельском повествовании как целом? Если это хоть отчасти близко к истине – последствия будут очень серьезны. С учетом того, что на протяжении большей части ХХ века тезисы критики форм о речевых актах – крайне проблематичные – лежали в основе господствующей парадигмы евангельских исследований, вполне возможно, что нам придется пересмотреть очень и очень многое в развитии этой дисциплины. Однако сколь-либо методичных размышлений над расцветом и упадком критики форм в библеистике до сих пор нет. Исследователи вложили в развитие этой критики много сил и труда, и расставание с ней будет болезненным. Однако стоит спросить: если бы евангельская наука ХХ столетия обращала больше внимания на внутренний «нарративный ландшафт» Евангелия – быть может, она развивалась бы иначе (то есть более продуктивно) и сумела бы создать методику, действительно подходящую для мира устной речи и устного исполнения?
Критика форм под прицелом
В 1970 году, где-то спустя полвека после появления критики форм в ее классическом виде, Эрхард Гютгеманс опубликовал свою книгу «Открытые вопросы о критике форм», где поставил под вопрос как саму критику форм, так и ее применение в евангельских исследованиях[1211]. К сожалению, англо-американская библеистика эту книгу почти не восприняла. Исследователи, продвигавшие критику форм как главное средство в создании модели не только до-Марковой традиции, но и истории раннехристианских преданий в целом, единодушно игнорировали критические замечания Гютгеманса. Более того, его тезисы не играли почти никакой роли и в последующие сорок лет, когда все большее влияние в евангельских исследованиях приобретали критика редакций и литературная критика. И это поражает – но, насколько мне известно, к труду Гютгеманса не обращалась ни одна из сторон даже в недавних спорах о так называемом «Великом разделении», которые начались сразу же после исследований устной словесности и письменности. Полное отсутствие внимания к тезисам Гютгеманса тем удивительнее, что книгу его перевел на английский истинный профессионал, Уильям Доти – с великим трудом[1212]. Несомненно, многие тезисы Гютгеманса, как мы увидим далее, сомнительны или уже устарели, и едва ли кто-нибудь готов согласиться с его аргументацией во всей ее полноте. Однако то гробовое молчание, которым были встречены его основательные возражения, поистине загадочно. Следует ли видеть в нем еще одно свидетельство того, что специалисты, серьезно «вложившись» в критику форм, не желают с ней расставаться и предпочитают закрывать глаза на концептуальные пороки этой дисциплины?
Гютгеманс нападает на основные слабые места критики форм: во-первых и прежде всего, это тривиализация устного слова, чья природа резко отличается от природы слова письменного; во-вторых, это эволюционная модель устной традиции; в-третьих, это тезис о том, что традиция породила Евангелие. Во всех трех областях, отмечает он, критика форм создала модели не только недоказуемые, но еще и неспособные работать.
Его собственный подход – яркий пример «лингвистического поворота» в гуманитарных науках[1213]: Гютгеманс стремится понять человека в первую очередь через язык, его логику и структуру. Девиз его проще всего выразить так: мы не можем игнорировать языковые факты, поскольку язык – это реальность, в которой мы живем. Начав с глубоких размышлений о языке, Гютгеманс переходит к тому, чтобы в свете критической рациональности языка рассмотреть историческую парадигму:
«Исключительно историческое» всегда передается при помощи языка и понимается только благодаря лингвистическим процессам. Следовательно, оно [ «исключительно историческое»] зависит от лингвистической критики «исторического разума», подкрепляющей и в определенной степени корректирующей традиционную гуманистическую герменевтику лингвистическими данными[1214].
Результатом такого подхода становятся серьезнейшие возражения против критики форм, основанные на столь глубоких познаниях, что остается жалеть лишь об одном: о том, что такую работу никто не предпринял несколькими десятилетиями раньше. Обладая уникальным (для библеиста) знанием теорий языка, Гютгеманс раскрывает перед нами настоящий архив. Он свободно ориентируется в трудах таких мыслителей, как Иоганн Готфрид Гердер, Вильгельм фон Гумбольдт, Петр Богатырев, Роман Якобсон, Герман Баузингер, Луи Лавель, Генри Алан Глисон-мл., Фердинанд де Соссюр, Роберт Генри Робинс, Андре Мартине, Карл Бюлер, Карл Аммер, – и многие-многие другие, Гютгеманс формулирует сущностное и функциональное различие между языком устным и письменным. «Современная лингвистика обнаруживает между ними различие на всех структурных уровнях, то есть на уровнях фонологии, морфологии, синтаксиса, лексики и стилистики»[1215]. Эта важнейшая мысль, пишет Гютгеманс, «должна привести всякого серьезного критика форм к вопросу: какие эмпирические свидетельства может он привести в подтверждение своей предпосылки или гипотезы, согласно которой традиционные исторические законы, по которым развивается устная словесность, схожи или даже одинаковы с законами, управляющими языком письменным? [Schriftlichkeit]»[1216]. Впрочем, справедливо будет отметить, что именно Гютгеманс ввел в библеистику – причем с желанием отомстить – то явление, которое в наши дни именуется «Великим разделением».
Прежде чем немедленно отвергать этот тезис, стоит вспомнить, в какой момент истории библейской науки Гютгеманс провозгласил «Великий раскол». Он выступил прямо против критики форм, стремясь опровергнуть ее постулат о незначительности разницы между устными и письменными текстами, – постулат, который, как верно понял Гютгеманс, привел к серьезному непониманию как устной традиции, так и композиционной, нарративной природы Евангелия (или Евангелий). Иначе говоря, он совершенно верно понял, что нам необходим новый взгляд на проблему преданий и Евангелия, и потому добавил в привычную модель их нерасторжимого единства и преемственности элемент разрыва. Библейским критикам, которые в наше время – вполне справедливо – возражают против концепции «Великого разделения», стоит вспомнить историю евангельской науки, хотя бы для того, чтобы их возражения не слились с обычными предрассудками критики форм о преданиях и Евангелии и не ударили по ним же самим.
Насколько мне известно, Гютгеманс первым из библеистов ввел в библейскую науку работу Лорда[1217]. Именно от Лорда он узнал о том, сколь важно «составление текста при его исполнении», – особый механизм устной вербализации, не знающей ни «автора», ни «первоначального текста». Полевые исследования Лорда, основанные на опытном знании, подкрепили его «скепсис относительно факта, казалось бы, очевидного и всеми признанного – якобы неразрывности евангельской традиции вплоть до создания самих Евангелий»[1218]. Более того, Гютгеманс обратил внимание на «эволюционные последствия метода [критики форм]»[1219] и усомнился в том, «что Евангелие – последнее звено в эволюционной цепи, неизбежный финал истории коллективной традиции»[1220]. И еще он пишет вот что: как бы мы ни оценивали композицию Евангелия, «естественное зарождение его… в недрах коллективной истории материала»[1221] крайне маловероятно.
Впрочем, всецело сосредоточившись на устной традиции и на свойственных критике форм представлениях о ней, Гютгеманс не отвергает в полной мере «возможность изложения преданий в письменном виде [Verschriftlichung] еще прежде появления Евангелия от Марка»[1222], и признает, что «представление о народной поэзии как полностью и всецело устной»[1223] следует принимать с большими оговорками. Более того, он предостерегает читателей от обращения к понятийной модели, искажающей представление о реальной обстановке. «Историческое развитие, быть может, протекало куда более сложно и многообразно, чем рассказывает об этом привычная нам модель замещения устного слова письменным»[1224]. И все же категорическая поддержка модели «Великого разделения» лишила Гютгеманса возможности отвергнуть модель, согласно которой устная традиция считалась господствующей; в этом он, подобно многим, остался приверженцем критики форм.
Интересно наблюдать за тем, как далеко готов зайти Гютгеманс, отстаивая модель разрыва между устной и письменной речью. Если письменные тексты существуют в рамках «правил», психологических законов и лингвистических условностей, совершенно отличных от тех, какие управляют устной речью, – тогда сомнительно не только то, что нам удастся найти причины появления Евангелий в предшествующей устной традиции; сомнительно и то, что мы сможем узнать отдельные элементы устных преданий в письменном повествовании. И если нам доступны только евангельские тексты, выходит, доевангельские предания таятся во тьме, по большей части ускользающей от нашего лингвистического и исторического понимания. Быть может, предлагает Гютгеманс, разумнее было бы довольствоваться библейскими книгами в известной нам форме, ибо «эволюционный метод», предлагаемый критикой форм, ведет лишь к созданию наукообразных фантомов (wissenschaftliche Phantasmagorien vorgaukelt), а в «доисторической» тьме не разглядеть ровным счетом ничего, – разве только то, что мы, в силу собственных предрассудков, готовы там увидеть[1225]. Таким образом, бремя свидетельства переносится на евангельский текст – по всей видимости, теряющий свою ценность в качестве источника для поиска устных преданий. В качестве примера Гютгеманс говорит, что пророчества Марка (Мк 8:31; 9:31; 10:33–34) – планомерные заявления Иисуса о своей грядущей смерти и воскресении, – нельзя вывести из повествовательного контекста и опознать как элементы устной традиции, возникшей прежде Евангелия от Марка[1226]. Рассмотрев разнообразные попытки критики форм найти «оригинальную» форму этих чеканных формул-пророчеств, Гютгеманс заключает: мы можем сказать о них только одно – «в целом перед нами истолкование, созданное Марком, а его предполагаемые прошлые стадии теряются в “доисторической” тьме»[1227]. Да и во всем Евангелии от Марка, продолжает Гютгеманс, повествовательная структура настолько плотна, что мы не можем выйти за пределы текста и опознать «оригинальные» формы или отдельные элементы, способные послужить строительными блоками в создании устного предания, – даже если такие устные формы вообще существовали[1228]. Далее мы увидим, как несогласие с тем представлением об устной традиции, какое было свойственно критике форм, склонило Гютгеманса к мнению о текстуальности Евангелия, и как прозрения, связанные с относительным отсутствием в евангельском повествовании логических противоречий, заставили ученого отказаться от попыток выделить в Евангелии предполагаемые устные формы.
В конечном счете вызов, который Гютгеманс бросает критике форм, оставляет нас наедине с загадкой: два важнейших вопроса – об устной традиции и о Евангелии – так и остаются без ответа. Если устное исполнение преданий для нас недосягаемо и навеки сокрыто в «доисторической тьме» – не лучше ли вовсе отказаться от понятия устной традиции? А если с точки зрения Евангелия как целостного текста устная традиция все более кажется не только недостижимой, но и невозможной, – не лучше ли обсуждать только Евангелие, не обращаясь к устным преданиям вовсе? Попробуем поставить эти вопросы еще более остро: устная традиция недоступна для нас – или ее попросту не существует? Гютгеманс, кажется, склоняется к последнему. Определяя форму Евангелия как «автосемантическую языковую форму»[1229], он воображает некую композиционную самодостаточность и авторскую автономию, которые действуют на основе собственных ресурсов, без обращения к традиции. Здесь модель критики форм – Евангелие как плод традиции – сменяется модернистской, крайне индивидуалистической моделью авторства Евангелия. От одной крайности – возложения всей «ответственности» на традицию, – мы переходим к другой и располагаем все композиционные усилия в самом Евангелии. Но пусть даже критика форм неверно представляет себе устную традицию – разве из-за этого нам необходимо отвергнуть последнюю? И позволено ли нам это сделать?
Живая традиция как взаимодействие устных и письменных текстов
В наше время соотношение устной и письменной культуры видится в несколько ином свете, чем во времена Гютгеманса. Если говорить насчет образовательных, религиозных и культурных данных из Древнего Ближнего Востока и Средиземноморья, то чисто устная традиция, не затронутая письменностью, была там возможна не более, чем традиция чисто письменная, не затронутая никакой устной динамикой. Хотя о взаимодействии устных и письменных текстов немало говорилось и ранее, исключительно подробно и всесторонне эту проблему прояснил Дэвид Карр[1230]. Его труд охватывает огромный временной период и множество цивилизаций: в работе представлены шумеро-аккадские культуры Месопотамии, Элам (нынешний Иран), Сирия, Хеттское царство в Анатолии (нынешняя Турция), Ханаан и финикийский город Угарит, египетские царства и династии, Древний Израиль, Древняя Греция и эллинизированное Средиземноморье. Итогом стал масштабный сравнительный обзор Древнего мира, в котором охвачены и письменность, и писцы, и литература, и способы устно-письменного сохранения и исполнения культурно значимых текстов, и мы получили представление о мире, общение в котором весьма отличалось от нашего общения, – а также, надо сказать, от того представления о священных текстах, которое все еще царит в библеистике.
Для понимания культуры общения на Древнем Ближнем Востоке и в Средиземноморье важно указать, что письменность не была самоцелью: она служила для интериоризации мудрости и сведений в сознании человека. Очень часто слова, написанные на глиняных табличках, пергаменте или папирусе – основной предмет интереса для археологии, филологии и герменевтики – были всего лишь подспорьем для памяти, материалом для повторения и заучивания наизусть. В центре стояли не папирусы или рукописи как таковые, а человеческий ум – прежде всего ум писца; или, как говорит об этом Карр, тексты, несущие культурно значимую информацию, «оставались лишь верхушкой устного айсберга»[1231]. Если вкратце, то многие культурно значимые тексты древности следует рассматривать как потенциальную реальность, достигавшую своего полного воплощения в устном воспроизведении и запоминании. Нам, склонным видеть в тексте нечто конечное и неизменное, требуется серьезное критическое размышление и переоценка ориентиров, чтобы свыкнуться с этой мыслью: тексты, заключающие в себе людские ценности, предания, историю, изначально не были призваны положить конец изменчивому движению устного слова, но лишь поддерживали культурную память. Однако придется приложить немало трудов и усилий, прежде чем понимание античных текстов как подспорья для устного обучения войдет в наш научный обиход.
Тем не менее тезис о том, что тексты на Древнем Ближнем Востоке и в Средиземноморье очень часто функционировали как Rezitationstexte и прежде всего служили для сохранения культурной памяти должен как минимум вселить в нас настороженность по отношению к распространенной привычке считать священные тексты неизменными и непогрешимыми. Безусловно, имели место и стандартизация текстов, и их безошибочное копирование. Однако в рукописной культуре Древнего Ближнего Востока и Средиземноморья и то и другое встречалось далеко не так часто, как мы привыкли думать. Куда чаще составление текстов вообще не сопровождалось редактурой, как мы ее себе представляем, – скорее, происходил процесс, который правильнее назвать импровизацией. Ученый писец не работал с текстом, не сверялся с многочисленными рукописями, – вместо этого, имея доступ к культурной памяти своего народа, он оперировал «ментальным прототипом»[1232], пересматривая и адаптируя, расширяя и сокращая его в процессе создания нового текста. Подобно тому, как в устной речи совершалась устная импровизация, рукописная импровизация совершалась в процессе письма (или говорения и письма, если текст записывался под диктовку). Множество древних ближневосточных и средиземноморских текстов представляют собой итог взаимодействия устной речи, письменности и памяти – как в плане назначения, поскольку они служили подспорьями для повторения и заучивания наизусть, так и в плане создания, поскольку они сформировались в письменном виде благодаря припоминанию и импровизации. И наша задача – научиться воспринимать закономерности этих устно-письменных текстов на их собственных условиях, отказавшись от предпосылок, связанных с современным «документальным» восприятием письменности.
Впервые с записью преданий об Иисусе мы встречаемся в посланиях Павла. В Первом послании к Фессалоникийцам (1 Фес 4:15) апостол цитирует речение Господне о судьбе мертвых и живых в связи со Вторым Пришествием Господа. Все остальные речения Господни, приводимые у Павла, находятся в Первом послании к Коринфянам. Стихи 1 Кор 7:10–11 посвящены проблеме развода, 1 Кор 9:14 – указаниям по обеспечению жизни апостолов, 1 Кор 11:23–25 – преданию о Тайной Вечере. Более того, в 1 Кор 7:25 Павел упоминает, что о девственности он не имеет Господнего повеления. Научное обсуждение этих речений обычно сосредоточено на скудости сведений об Иисусе в Павловых посланиях, на причинах, по которым большинство речений Иисуса находится в Первом послании к Коринфянам, и на попытках проследить совпадения с материалами речений в синоптических преданиях, особенно в Q. Все это важные вопросы, однако они не помогают нам понять контекст, в котором появляются эти речения у апостола.
Часто отмечают, что Павел постоянно вводит сведения, связанные с Иисусом – в том числе и когда утверждает, что никаких Господних повелений на этот счет у него нет, – с отсылкой на авторитет «Господа» (Κύριοσ). Это привлекает внимание, тем более что в другом месте апостол находит уместным сослаться на земного Иисуса (2 Кор 4:7–15). Связывание преданий об Иисусе с «Господом» – не случайность. По большей части интерпретаторы склонны видеть в «Господе» Христа Воскресшего и Вознесшегося. В принципе это совершенно верно, хотя и сомнительно, что апостол Павел мыслил столь развитыми категориями христологии. Ключ к пониманию авторитета Господа следует искать в тех словах, которыми Павел обрамляет рассказ об установлении Вечери Господней (1 Кор 11:23–25). Здесь он проводит тонкое, но многозначительное различие между «Господом Иисусом» и просто «Господом». Тот, кто первым преломил хлеб и выпил чашу вина «в ту ночь, в которую предан был», именуется «Господом Иисусом». Это – земной Иисус, который действовал в прошлом и продолжает проявлять свою власть в торжестве евхаристической трапезы. В этом ритуале он действует как живой Господь, воплощение и прошлого, и настоящего авторитета. И в той мере, в какой Иисус ответственен за установление этой традиции – а здесь, как хорошо известно, Павел пользуется формальными терминами, связанными с принятием и передачей традиции, – он Господь. Очевидно, что предания, восходящие к Иисусу, в Павловых посланиях представлены под эгидой Господа. Традиция вовсе не привязана к земному Иисусу, не говоря уж об Иисусе историческом: ее осеняет авторитет того, кого правильнее всего назвать живым Господом. Совершенно верно замечает по этому поводу Йенс Шрётер: «Он [Павел] намерен не передать слово в слово то, что говорил земной Иисус, а указать на традицию, укорененную в авторитете Господа, как на основу раннехристианского учения»[1233]. Здесь мы встречаемся с очень ранним действием механизма преданий об Иисусе. Для Павла, как и для большинства ранних христиан, предания об Иисусе были живой традицией. Если мы спросим, как именно она проявлялась и какое оказывала воздействие, – то при посредничестве апостола Павла, передавшего нам речения Иисуса, получим подсказку.
Связь авторитета Господа с авторитетом самого апостола тоже носила изменчивый характер. Апостол мог заявлять, что его писания обладают авторитетом Господа (1 Кор 14:37), но равно так же мог и основывать утверждение на собственном авторитете, противопоставляя ему авторитет Господа (1 Кор 7:10–12). Иными словами, говоря от имени Господа, он не был жестко связан Господним словом. В Первом послании к Фессалоникийцам (1 Фес 4:15) он объясняет слово Господа (ἐν λόγῳ κυρίου) о мертвых и живых, раскрывая детальный апокалиптический сценарий Второго Пришествия (1 Фес 4:16–18). В 1 Кор 7:10–11, цитируя заповедь, данную не им, а Господом (ст. 10: οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ κύριος), он затем предлагает дополнение к ней, исходящее уже не от Господа, а от него самого (ст. 12: λέγω ἐγώ οὐχ ὁ κύριος), в котором дозволяет развод, если этого хочет неверующий супруг. В 1 Кор 9:14, изложив принцип материального обеспечения апостолов, он специально выделяет себя, говоря о собственном образе жизни (1 Кор 9:15–18). Более того, по-видимому, он не видит никакой проблемы в том, чтобы в том же послании изложить собственную версию Тайной Вечери (1 Кор 10:16), которая отличается от той, что была получена от Господа (1 Кор 11:23–25). Поясняя и дополняя речения Иисуса, сопровождая речения Господни своим мнением и замечаниями, приводя различные «варианты», Павел действует в духе и контексте живой традиции. Он запоминает речения Иисуса не ради них самих, но для того, чтобы применять их к той или иной конкретной ситуации. Несомненно, на этой ранней стадии предания об Иисусе не были канонически зафиксированы: какого-либо «канона» в то время вообще не существовало. Была лишь живая традиция.
На первый взгляд обращение Павла с традицией выглядит как импровизация. Владея текстами, восходящими к Иисусу, он, работая над посланием, пересматривал их, менял формулировки, пояснял. И все же, вспомнив, что апостол диктовал свои послания, мы поймем, что термин «сочинение при написании» не позволит нам проникнуть в суть его композиционной креативности. Но если мы примем элемент диктовки в полной мере, то оценим послания Павла, в том числе его изложение преданий об Иисусе, как «импровизацию по памяти». Как ни трудно представить это нам, современным людям, с молоком матери впитавшим определенные представления о текстах и создании текстов, – но апостол Павел, передавая предания об Иисусе, опирался на ресурсы собственной памяти: припоминал, формулировал, облекал в слова, – и диктовал писцу. Опираясь на эту модель, мы можем сказать, что до определенной степени в этом были задействованы все три композиционных метода. Письменный текст, дошедший до нас, Павел начинал создавать как импровизацию по памяти, потом, диктуя, превращал его в речевую импровизацию; а если писец (как многие писцы того времени) обладал некоторой свободой в композиции, то мы не можем исключать и импровизацию при написании. И, как мы уже отмечали, «конечный продукт» – письменный текст – был лишь ориентиром для того, что действительно имело значение: повторного чтения текста вслух перед всей общиной. В соответствии с тенденцией, обычной в общении Древнего Ближнего Востока и Средиземноморья, послания Павла рождены из памяти, устной речи и записанного слова.
Предания об Иисусе на папирусах
Исследуя историю речений Иисуса, мы, как правило, полагаемся на евангельские материалы, труды апостольских отцов, а в последнее время и на тексты из Наг-Хаммади. Все эти источники полны ранних преданий об Иисусе. Но поражает то, сколь редко обращаются (если вообще обращаются) библеисты, изучающие предания и Евангелие, к свидетельствам папирусов, тщательно собранным критиками текстов на протяжении столетий. По всей видимости, предполагается, что исследовать папирусы – удел тех профессионалов, чья задача – представить нам авторитетный первоначальный текст. Как и во многих других случаях, отсутствие контакта между различными дисциплинами здесь немало вредит развитию науки. Обращаясь к папирусам, мы видим, что именно они дают нам самые явные и недвусмысленные свидетельства, связанные с преданиями о речениях Иисуса.
Элдон Эпп[1234] и Дэвид Паркер[1235] совершили настоящую «коперникову революцию» в мире текстуальной критики, решив отказаться – по крайней мере отчасти – от обычной для этой дисциплины сосредоточенности на «оригинальном тексте» и попытках найти и сконструировать этот предполагаемый текст. Скажем словами Паркера: «Если мы считаем, что оригинальный текст существует, задача текстуальной критики очень проста: восстановить его»[1236]. Однако поиск оригинального текста – не обязательно единственная задача и единственная возможность текстуальной критики. Что, если, перебирая варианты письменного текста, не сравнивать их с неким умозрительным стандартом, а принимать каждый из них как есть, на его собственных условиях, и терпеливо выслушивать его рассказ о ранней письменной традиции? Что, если признать все эти клочки папируса с нацарапанными на них речениями Иисуса – ныне даже не допущенные в аппарат авторизованной печатной версии, – равноправными участниками традиции об Иисусе, а не какими-то «бедными родственниками», недостойными сидеть с авторизованным текстом за одним столом? Быть может, стоит даже поменять их местами? Что, если стандартный текст – это фикция, эклектичный конструкт, нигде не засвидетельствованный и не сохраненный, а настоящая реальность – именно на этих папирусных обрывках?
Такое смещение точки зрения в текстуальной критике позволяет чуткому наблюдателю увидеть новое, поразительное богатство ранних преданий об Иисусе, прежде ускользавшее от его внимания. «Текстуальная критика вдруг оживает и открывает в себе такое богатство значений, какого мы прежде и вообразить не могли! – в восторге восклицает Эпп. – Почему же прежде мы этого не замечали, и как мы могли упускать это из виду?»[1237]. Масштабное исследование Паркера, несомненно, сосредоточено на истории речений Иисуса в первые четыре века нашей эры (хотя он обращается также к источникам Средневековья и даже раннего Нового времени), однако собранные им данные важны и для наших целей, – для понимания начальной фазы развития традиции.
Основной вывод Паркера состоит в том, что ранняя письменная традиция, связанная с речениями Иисуса, примечательно вариативна. По его оценке, в динамике известных нам переписанных источников обращает на себя внимание как обилие вариантов отдельных речений, так и степень их различий – от небольшой до значительной, а также то, что эти различия последовательно накапливаются. А кроме того, наибольшую вариативность традиция демонстрирует в ранний период: «…она наиболее нестабильна в первый век своего существования»[1238]. Вместо модели изначальной стабильности, вслед за которой приходят различные варианты, нам стоит подумать об «изначально плавном развитии, за которым следует стабильность»[1239]. А значит, наши представления об Иисусе и традиции нуждаются в новом пересмотре.
Для примера: известное речение (или речения) Иисуса о браке и разводе[1240] дошло до нас в разных версиях – не только в соответствующих эпизодах синоптических Евангелий (Мк 10, Мф 19 и Лк 16), но и буквально во всех существующих письменных источниках, где оно приводится. «Основной вывод из этого обзора, – подводит итоги Паркер, – заключается в том, что восстановить одно-единственное “оригинальное” речение Иисуса [о браке и разводе] попросту невозможно»[1241]. Причина такого разнообразия форм речений – явно не в том, будто их считали несущественными. Напротив, вопросы брака, развода и повторного брака в Древней Церкви были не менее важны и актуальны, чем в современной. Именно из-за важности этой темы речения о браке цитировались часто – и при этом не повторялись слово в слово, а применялись к контексту и обстоятельствам.
Учитывая наблюдаемую изменчивость ранних папирусных свидетельств, не только технически сложно, но и исторически проблематично исследовать наши данные в попытках вычленить из них единственный «оригинальный» вариант того или иного речения Иисуса. Паркер отлично это понимает. Отказ признавать текучесть письменных источников и зачастую намеренное разнообразие версий, замечает он, «содействовал тому, что ко всей рукописной традиции начали относиться, совершенно не понимая ее природы»[1242]. Фиксация на «единственном оригинале» за счет причисления большей части данных к критическому аппарату, или же полное игнорирование папирусных свидетельств, противоречит самым сокровенным побуждениям письменной традиции. Ранние предания об Иисусе, запечатленные на папирусах, по самой своей сути не могли (пока что) претендовать на неизменное содержание и четкие границы. И пусть даже сам облик текста в манускрипте создавался рукой писца, рукописная традиция была примечательно схожа с устными исполнениями: она стремилась «идти в ногу со временем» и приспосабливаться к изменениям в обществе. Это наводит на мысль, что рукописная традиция действовала в соприкосновении с развитием устной и рассматривалась – подобно речениям Иисуса в посланиях Павла – как живая традиция. Писец, записывавший речение Иисуса без обращения к предыдущим рукописным версиям, пользовался импровизацией вспоминающего (англ. composition-in-memory, досл. «сочинение по памяти»). Писец, работавший с уже существующей рукописью, так сказать, реактивировал ее путем импровизации пишущего (англ. composition-in-writing, досл. «сочинение при написании»). Если же повторное формирование изречения происходило в процессе диктовки, тогда нам, возможно, следует говорить об импровизации исполнителя.
Значит ли это, что критики форм в конечном счете были правы, говоря, что устная традиция подчиняется тем же законам передачи, что и тексты? Для ответа необходимо оценить в полной мере тот сдвиг в восприятии, который мы совершили, отойдя от критики форм к совершенно иному понятийному миру. Во-первых, в отличие от критики форм, мы создали четкое представление об устном дискурсе. Во-вторых, заменили априорное мнение критики форм об исключительно устном характере до-Марковой традиции моделью устно-письменного взаимодействия. В-третьих, мы более или менее подробно проработали механизм взаимодействия устного слова, письма и памяти – то, чего критика форм сделать не могла, поскольку, опять-таки, не владела моделью устного (или устно-письменного) дискурса и практически ничего не могла сказать о памяти. В-четвертых, мы ввели понятие живой традиции – определяющую категорию для традиции, источником которой становятся движущие силы, связанные с устной словесностью, письменностью и памятью.
Однако, могут возразить нам, разве механизм устно-письменной традиции не схож с традицией устных исполнений в том, что обе стремятся стать живой традицией? Не совсем. Как только слова были записаны, в живой традиции проявилась форма их бытия – и создалось отличие, поначалу едва заметное, но с течением времени все более и более глубокое. Рукописная материальность, обретая пространственный облик, делала первый, пусть и неуверенный шаг к отделению (или освобождению?) слов из мира устного дискурса и устного исполнения. Записанные речения Иисуса оказались заперты в прошлом или, можно сказать, получили «вторую жизнь» отдельно от их устного воплощения, и in statu scripto – в своей письменной форме — запустили те изменения в восприятии традиции, что постепенно заставили нас видеть в ней «предмет», а не событие, и результат исполнения, а не его процесс. Разумеется, само по себе это не прерывало живую традицию. Однако материальность записанных речений создала некий жесткий словесный каркас – и пусть он по-прежнему служил подспорьем для повторного устного исполнения, но чем дальше, тем больше этот каркас оказывал разрушающее воздействие на творческий гений живой традиции.
Всякая работа с речениями Иисуса в ранний период требует особого внимания к источнику Q – речениям и высказываниям, которые приведены и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Луки и, как считается, восходят к некоему тексту, который существовал еще прежде Евангелий. Полностью текстуально идентифицируемый статус Q недавно был подтвержден международной группой экспертов, опубликовавших текст, который, без сомнения, может рассматриваться как textus receptus, общепринятый текст источника Q[1243]. «Загадка Q»[1244] – это одна из сложнейших проблем в евангельских исследованиях, которая, к тому же, еще и тесно связана с одной из наиболее запутанных проблем библейского литературоведения, а именно гипотезой двух источников, – и потому мы воздержимся от продолжительных рассуждений на эту тему и тем более от каких-либо выводов. В соответствии с представленной здесь точкой зрения мы коснемся лишь устно-письменного статуса Q и прежде всего задумаемся над вопросом, справедливо ли представлять материал Q в виде фиксированной, пусть и несомненно оригинальной, письменной версии, – так, как представляют его эксперты.
Верно ли, что мы, воссоздавая Q на основе евангельских текстов, стоим, как это обычно полагают, на твердой почве? А что, если печатный греческий текст – это эклектичный конструкт, плод просеивания вариантов, сопоставления рукописей, новых и новых пересмотров, исправлений и не в последнюю очередь согласований – словом, всех тех шагов, что предпринимаются обычно в попытках создать «лучший текст»? С течением времени печатная версия греческого Нового Завета обрела такую власть над умами, что теперь внушает нам чувство некоей непоколебимой объективности, – чувство, которое скрывает ее искусственность и заставляет нас забыть, что текстуально-критических свидетельств ей недостает. Но возможно ли, спросим мы, воссоздать общепринятый текст, в полноте своей гипотетический, на основе текстов, которые в своем нынешнем виде в какой-то мере оказываются отредактированными конструктами?
Впрочем, ключевой вопрос здесь относится не столько к стандартизированному греческому тексту, сколько к природе и динамике традиции. Соотносится ли концепция общепринятого текста Q, представленного нами как некий реально существовавший фиксированный документ, с движущими силами, реально управлявшими развитием ранних преданий о речениях Иисуса? Разумеется, видя в существующих текстах серьезное лексическое сходство, даже лексическую идентичность, историческая критика, так сказать, инстинктивно постулирует за ними некий первоначальный текст. «Чем же еще объяснить такие тесные связи? Разумеется, это отражение единого первоначального текста!» – не без иронии замечает Фоули[1245]. Если мы предполагаем по умолчанию, что ранняя традиция в первую очередь стремилась точно сохранить драгоценные слова Иисуса, для нас естественно представлять себе ее развитие в терминах печатной литературы, для которой характерны стабильность и постоянство текста. В самом деле, так разумно предположить, что первой заботой традиции на начальной ее стадии было желание зафиксировать и сохранить бесценные слова Иисуса на надежных (предположительно) рукописных носителях. Однако судя по всему, что мы знаем теперь об устно-письменном взаимодействии на Древнем Ближнем Востоке и в Средиземноморье в целом, а также об этосе живой традиции в раннем христианстве в частности, вполне резонно предположить, что основным мотивом для собирания речений была потребность в их дальнейшем устном использовании. Речения, записанные на папирусах, помогали запоминать их и вновь повторять. Повторение опиралось на запись – а та, в свою очередь, содействовала повторению. Это устно-письменное взаимодействие создавало своего рода заколдованный круг, который делал попытки зафиксировать «общепризнанный» стандартный текст и невозможными, и бессмысленными. С этой точки зрения попытка сконструировать независимый печатный текст Q уводит нас от верного понимания традиции.
Традиция как дозволяющий контекст
Представляя себе традицию как живое взаимодействие памяти, устной речи и речи письменной, мы, однако, все еще не отвечаем на вопрос о соотношении Евангелия и традиции. Мы видели, что тезис Гютгеманса об автосемантическом статусе Евангелия не подтверждается. Говорить о том, что Евангелие представляет собой относительное нарративное единство – одно дело, полностью отрицать влияние традиции – совсем другое. До сих пор, говоря о взаимодействии устной речи, письменной речи и памяти, мы пользовались понятием «традиции» в исключительно практическом смысле. Эволюционная модель по отношению к такой традиции работает не в большей степени, чем работала бы для чисто устной традиции, если бы такая существовала. Приняв в расчет исполнение, как делает операционная модель, мы не можем более представлять себе традицию как механическое движение слов по различным «траекториям» и «путям передачи». Как же нам представлять себе взаимоотношения между Евангелием и традицией?
Рут Финнеган напоминает нам о сложности самого понятия традиции – концепции, играющей ключевую роль в гуманитарных и общественных науках. В третьем эпиграфе к этой главе, как и в статье, из которой взята эта цитата[1246], она говорит о необходимости задать вопрос о самой сути традиции, еще раз предупреждая нас о том, как важно различать многочисленные и разнообразные черты и движущие силы, скрытые под этим общим термином. Развивая далее теорию традиции применительно к Евангелию, я хочу воспользоваться понятием дозволяющего контекста[1247]. Несомненно, многие предания об Иисусе не переносились по «траекториям», а существовали как реалии, воспроизводимые устно в том социальном окружении и в той культурной памяти, которое нашли свое отражение в Евангелиях. Однако объяснить понятие традиции как разрешающего контекста проще всего на примере таких материалов, которые, будучи неотъемлемым элементом Движения Иисуса, при этом существовали и прежде него. Поразительно, как часто при обсуждении проблемы Евангелия и традиции слишком узко смотрят на материалы, дающие нам сведения об Иисусе, как будто представление этих материалов в виде маленького ручейка, со временем ставшего широкой рекой – и снова критика форм! – способно обладать какой-либо объяснительной силой в отношении истоков евангельских повествований. Для примера: мы можем говорить о том, что циклы переходов по воде как посуху, кормлений народа в пустыне, исцелений и изгнаний бесов в Мк 4:35–8:26 выглядят как отзвук воспоминаний о Моисее и Илии; о том, что в серии диалогов в Мк 10 звучит тема обновления завета; о многочисленных отзвуках Книги Даниила, звучащих, кажется, во всех частях повествования; об отсылках к воспоминаниям о еврейских Писаниях в евангельском рассказе о Страстях; и так далее, и тому подобное[1248]. Мы видим культурный контекст, оказавший огромное влияние на создание Евангелия, – контекст отчасти письменный, но по большей части хранящийся в памяти, огромный и существовавший задолго до того, как возникло Движение Иисуса. Традиция предстает перед нами не как процесс, не как функция, – а как дозволяющий контекст. Как же нам описать взаимоотношения между Евангелием и традицией? Согласно модели дозволяющего контекста, Евангелие и традиция взаимно дополняют и обогащают друг друга: традиция питает Евангелие, – а Евангелие, в свою очередь, соответствует требованиям тех, кто живет в традиции и согласно с ней.
Святая трапеза: общий мотив апостола Павла и исторического Иисуса
Кэти Эренспергер
Открытые цитаты или завуалированные ссылки на Иисуса или на предания об Иисусе в Павловых посланиях, мягко говоря, немногочисленны, а биографическая информация об Иисусе практически отсутствует. Следует ли думать, что Павел ничего не знал о земном Иисусе и о преданиях, связанных с его земной жизнью, – а может, считал такие предания незначимыми для проповеди благой вести или даже не имеющими отношения к его миссии, – это вопрос, о котором спорят исследователи с тех самых пор, как поиск исторического Иисуса впервые занял свое место среди научных задач[1249]. Ответы на этот вопрос располагаются на шкале, крайние точки которой образуют два противоположных мнения классиков: убеждение Рудольфа Бультмана, согласно которому «учение исторического Иисуса не играет для апостола Павла никакой или практически никакой роли»[1250], и мнение Уильяма Дейвиса, гласящее, что «учение Павла и по букве, и по духу соответствовало учению Господа»[1251]. Из этих несопоставимых представлений о том, знал ли апостол Павел земного Иисуса, возникают ключевые вопросы, и один из них связан с теми герменевтическими предпосылками, на основе которых мы трактуем имеющиеся данные и выбираем методики для их изучения.
Иисус и Павел: аспекты прежних изучений
Я не могу привести здесь подробный герменевтический и методологический анализ предшествующих исследований; однако замечу, что их много и они, занимая свое место на шкале между двумя вышеупомянутыми взглядами, определяют близость – или же отдаленность – Иисуса и апостола Павла на основе либо парадигмы сходства и несходства, либо парадигмы непрерывности и ее отсутствия, либо некоего сочетания обеих парадигм[1252]. В данном случае мы уделим внимание парадигме сходства и несходства, основной вопрос которой звучит так: был ли апостол Павел знаком с земным аспектом жизни и служения Иисуса, и был ли ему интересен этот аспект? Вопрос непрерывности и ее отсутствия связан с интересом к земному Иисусу, но не обязательно – со знанием о нем. Неразрывную связь между учением и миссией земного Иисуса, с одной стороны, и Павловыми посланиями – с другой защищают даже те, кто считает, что Павел не знал учения земного Иисуса или не проявлял к нему интереса. Некоторые утверждают, что у нас нет никаких свидетельств знаний апостола Павла об Иисусе, и еще говорят, что Павел развил свое специфическое богословие, ни разу не цитируя слов Господа, и все же при этом наблюдается «отсутствие традиционно-исторической преемственности, но великое согласие по сути между проповедью Иисуса и теологией апостола Павла»[1253]. Те, кто постулирует разрыв традиции при непрерывности ее сути, не задаются вопросом, как могло быть достигнуто это «великое согласие». Разумеется, между вестью и служением Иисуса и богословием Павла должен был быть какой-то «мост», – пусть даже мы полагаем, что апостол в своей теологии полностью преобразил и весть, и служение, перенеся их в контекст, далекий от Иудеи и Галилеи I столетия.
Евангелия и послания Павла: вопрос исторического приоритета
Подходы, подчеркивающие сходство между историческим Иисусом и проповедью Павла, для подкрепления своей позиции ищут в Евангелиях и в посланиях параллельные места. В тех подходах, где подчеркнуто несходство или утверждается, что Павел не интересовался земным Иисусом и его вестью, к Евангелиям обращаются точно так же: очевидная малочисленность прямых ссылок на Иисуса или его слова в посланиях Павла – по сравнению с Евангелиями – выступает как знак того, что Павел либо не знал проповеди Иисуса, либо не проявлял к ней интереса. В первом случае параллели между евангельскими преданиями, воспринятые как цитаты изречений Иисуса или отсылки к ним, или богословское сходство между провозглашением Царства Божьего у Иисуса и проповедью благой вести язычникам у Павла, воспринимаются как «доказательства», подтверждающие прямую передачу традиции. Во втором случае немногочисленность таких параллелей трактуется как «доказательство» незнания или отсутствия интереса со стороны Павла. Методологическая проблема в обоих случаях – не в том, что специалисты сравнивают отрывки из Евангелий и Павловы тексты: такие сравнения при исследовании Иисуса и Павла неизбежны, поскольку речь идет о наших ключевых источниках.
Проблема – в восприятии историчности Евангелий. Разумеется, эта проблема касается не только исследований Иисуса и апостола Павла – она лежит в сердце всего изучения исторического Иисуса. В определенном смысле изучение исторического Иисуса с тем же успехом можно назвать изучением «исторического Евангелия»[1254]. Однако независимо от позиции по вопросу о Евангелиях как источниках реальных исторических сведений, все исследователи согласны с тем, что Евангелия в их литературной форме возникли после посланий, неоспоримо принадлежащих Павлу. Иными словами, к Евангелиям, исторически более поздним литературным источникам, обращаются для того, чтобы подтвердить, опровергнуть или оценить более раннюю литературную традицию (послания Павла) – и возникают серьезные проблемы. Подтверждать более ранний источник более поздним? На первый взгляд это кажется как минимум анахроничным. Между социально-политическими контекстами Евангелий – как литературных выражений традиции – и посланий Павла существуют значительные различия. Мало того что христианское движение после 70 г. н. э. заведомо не могло находиться на той же стадии, что и в 50–60-х гг.; но и более широкий исторический и политический контекст за эти годы также радикально изменился. Мы можем лишь пытаться вообразить, что означало исчезновение Храма, центра иудейского мира, и для иудаизма (как в Палестине, так и в Диаспоре), и для христианского движения. И пусть даже предания, дошедшие до нас в Евангелиях, повествуют о том времени, когда апостол Павел еще не присоединился к христианскому движению, а послания Павла свидетельствуют о широком географическом и культурном распространении этого движения в языческом мире, – но все же Павел, в сущности, был современником Иисуса и его первых последователей. И оказывается, что литературные свидетельства о хронологически более поздних событиях предоставляют нам хронологически более ранние сведения, свидетельствующие о земном Иисусе и преданиях о нем! Конечно, слова «более ранний» не означают здесь «прямо и непосредственно связанный», – мы знаем, что Павел вовлекся в движение уже после смерти Иисуса; однако если говорить в исторических терминах, то это событие настолько близко к Иисусу и его галилейским и иудейским последователям, как только возможно[1255].
Сходства и различия Иисуса и Павла: в этом ли вопрос?
Те подходы, что отстаивают сходство между Иисусом и Павлом, можно разделить на три категории, согласно предпосылкам, связанным с контекстами: 1) и Павел, и Иисус действуют на периферии иудаизма (Джон Доминик Кроссан[1256]); 2) и Павел, и Иисус вышли за пределы иудаизма (Эрнст Кеземан, Рудольф Бультман, Фрэнсис Бруннер, Эберхард Юнгель[1257], Александр Веддербёрн[1258], Дэвид Уэнем[1259], Герд Тайсен[1260]); 3) и Павел, и Иисус проявляют себя в рамках многообразной иудейской мысли периода Второго Храма. Такая широкая категоризация, разумеется, требует дальнейших уточнений. Однако для наших целей достаточно вести анализ на основе этих трех категорий.
Научная литература, описывающая расхождения между Иисусом и Павлом, неисчислима[1261]. Некоторые характеристики этого дискурса можно описать так.
Во-первых, Иисус и его первые ученики воспринимаются как глубоко укорененные в палестинском иудаизме, а проповедь о грядущем Царстве Божьем, провозглашенная Иисусом, – как разновидность популярного в те времена апокалиптического дискурса. Напротив, Павел, получивший греческое/эллинистическое образование, рассматривается как человек, развернувший движение от этноцентрической/националистической узости иудаизма к его истинному самопониманию как новой религии, то есть христианства. Именно Павел преодолел ограничения иудаизма, вырвался из его оков на простор эллинистического мышления[1262]. Идея воспринятого несходства между Иисусом и Павлом дополнена идеей воспринятого разрыва христианства с иудаизмом, который, как принято считать, произошел при самом зарождении того, что впоследствии сделалось новой религией. Это связано с интерпретацией истории в ретроспективе, когда «то, что случилось», воспринимается как «то, что должно было случиться»[1263]. Таким образом, Павел изображается «вторым основателем христианства»[1264].
Есть и другой вариант того же сценария: согласно ему, Иисус был прочно укоренен в иудаизме и проповедовал, четко и ясно, именно иудейскую религию. Такой образ предложен в самых современных исследованиях, посвященных историческому Иисусу, однако он подвергается суровой критике. Споры начинаются «лишь тогда», когда возникает вопрос, «как именно» соотносились друг с другом иудей Иисус и раннехристианское движение, и был ли Иисус иудеем-маргиналом или «просто» представителем одного из множества разнообразных течений иудаизма[1265].
В случае с Павлом ситуация заметно меняется. Мы подробно рассмотрим это чуть позже, но позиция Павла в контексте иудаизма I века очень противоречива. В тех исследованиях, где Иисус пребывает в иудаизме, апостол Павел чаще всего предстает как тот, кто либо отделился от иудаизма, «открыв» христианство, либо настолько отдалил христианскую проповедь от иудейского мейнстрима, что «расставание» стало неизбежным. С этим мнением часто сочетается восприятие Павла как римского гражданина, подпавшего под очень сильное влияние эллинизма. Деяния Павла получают разную оценку: либо в них, вслед за Бауром, видят благой и освобождающий (или по крайней мере неизбежный) шаг, либо – в некоторых феминистических подходах – искажение изначальной вести[1266].
Во-вторых, вышеописанные сценарии несходства противоречат давней и почтенной традиции, согласно которой именно Павел остается связан с иудаизмом, прежде всего – с его раввинистической формой. Защитники этого взгляда утверждают, что Павел, иудейский богослов, преобразил или, скорее, исказил простую и ясную весть Иисуса, превратив ее в нечто запутанное и внутренне противоречивое. В данном случае именно Павел уходит от «чистых» начал Движения Иисуса и снова внедряет в них (иудейские) взгляды и ценности, причем в форме путаного и полного противоречий (раввинистического) образа мысли, уже преодоленного в раннехристианском движении. Хотя и не всегда такой сценарий воспринимается как чисто негативный, исследователь (скажем, Ханс Хайнрих Вендт) чувствует себя вправе сказать: «Если воспринять и проповедать учение Иисуса в его изначальной полноте, оно может – и непременно сможет – оживотворить и облагородить христианский мир гораздо сильнее, чем смогло учение Павла за всю прошедшую историю»[1267]. Этим словам уже больше ста лет, но отголоски такого восприятия можно встретить и сейчас – у некоторых феминистических исследователей, приписывающих высказывания Павла о женщинах его «иудейскому прошлому»[1268], или у Додда, который объясняет заботу Павла о своем народе в Рим 9–11 эмоциональной привязанностью, которую тот, несмотря на все усилия, так и не смог преодолеть[1269].
Интересно, что именно такое представление о Павле стало основой позиции богословов, примкнувших к «Немецким христианам» в Третьем рейхе. Движение стремилось устранить из христианства все связи с иудаизмом, придать Иисусу арийский облик и отождествить христианский мир с миром арийцев – а Павел под критерии «арийца» не подходил. И им пренебрегли – как безнадежным иудеем![1270]
Обе разновидности дискурса «несходства» проявляются в рамках контрастных парадигм: Иисус, будь он иудей или нет, оказывается «истинным» провозглашением и воплощением изначальной евангельской вести, хотя, по мнению некоторых, облик этой вести все же связан с интересами одной группы; Павел же либо освобождает и развивает, либо искажает эту изначальную весть. Важно отметить, что в любых подходах прежних лет, где апостола Павла представляли как иудея, эта черта воспринималась негативно. В Павле видели «слишком много иудейских черт», и его проповедь расценивалась как искажение благой вести, преодолевшей ограничения иудаизма[1271]. И пусть даже такие специалисты, как Уильям Дэвис, предлагали совершенно иной анализ иудейской идентичности апостола Павла[1272], до последнего времени их взгляды почти не влияли на исследования Иисуса и Павла.
Перспективы дальнейших исследований
Итак, наш краткий обзор исследований, связанных с Иисусом и апостолом Павлом, дал нам множество тем, которые еще предстоит изучить.
1. Недавние исследования подтвердили значение иудаизма периода Второго Храма как традиции, с которой были неотъемлемо связаны и «исторический Иисус», и раннее христианство; другие современные исследования, не менее важные, выдвинули достойные аргументы и привели свидетельства в пользу того, что о такой же связи можно говорить и в случае апостола Павла[1273]. Этот новый фактор в дискуссии необходимо рассмотреть очень серьезно. Рассмотреть итоги исследований, показывающих вовлеченность Павла в иудаизм, и оценить, сколь много они значат для ответа на вопрос о том, что связывало Иисуса и апостола Павла, – или, иными словами, о том, как связаны предания об Иисусе, представшие в Евангелиях, и образ Иисуса в посланиях Павла и тех, кто ему содействовал, – эта задача представляется мне необходимой и плодотворной[1274].
2. Анализ этих отношений, на мой взгляд, необходимо начинать с посланий апостола Павла – как с исторически древнейших литературных свидетельств об Иисусе[1275]. Не отрицаю, что в евангельских рассказах могла сохраниться память о более ранних преданиях; однако это утверждение более гипотетично, чем ранние литературные свидетельства Павла[1276]. Вот почему в поисках Иисуса и преданий о нем в памяти первых последователей Христа я предлагаю читать апостольские послания Павла как главный источник, а евангельские повествования – как источники второстепенные. Мы не ищем новых «подтверждений» тем или иным догадкам об Иисусе и Павле, а стремимся найти новые тексты, упоминающие о преданиях, важных для движения: так они станут свидетельством общих воспоминаний и значимости этого процесса в формировании общин.
3. По сути, исследование «Иисуса» и «Павла» представляет собой изучение жизни не двух личностей, но двух групп людей в определенном политическом, культурном и географическом контексте – и это важный аспект споров об Иисусе и Павле, требующий пристального внимания[1277]. Это важно не только в связи со значением групповой динамики в социологическом смысле, но и в связи с общим аспектом «памяти». Несмотря на все споры об индивидуальном и коллективном аспектах памяти, даже в том случае, когда именно первостепенно важным считается первый, исследователи по меньшей мере признают, что в христианском движении совместно разделенные воспоминания имели и важный объединяющий аспект[1278]. С учетом этого такие заявления, как ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου ὃ καὶ παρέδωκα ὑµῖν («Ибо я получил от Господа то, что передал вам», – 1 Кор 11:23), могут прояснить взаимодействие между памятью личности и коллектива. Отдельный человек связан с группой, которая хранит и передает определенные сведения в определенном контексте, – иначе говоря, они предстают как часть зарождающейся коллективной памяти. Здесь Павел как участник группы (отправителей послания) напоминает другой группе (адресатам) о тех сведениях (иными словами, о тех элементах традиции), которые они должны помнить, ибо она составляет часть их групповой идентичности. И сам процесс, и цель этих воспоминаний – не в сохранении прошлого, но в создании общины в настоящем и в ее жизни в будущем.
4. В основе парадигмы, на которой строятся подходы, делающие акцент на сходстве или же несходстве между учениями Иисуса и Павла, лежит представление о развитии, разделившем оба учения. В рамках этой парадигмы история видится как процесс, который развивается из состояния А в состояние Б – либо вверх, либо вниз. Не будем объяснять, сколь анахронично такое понимание истории[1279]; во всяком случае, в изучении связи между Иисусом и апостолом Павлом стоило бы обратиться к иным герменевтическим предпосылкам, не связанным с представлением об истории как о линейном развитии христианского движения. Надлежит принять во внимание и другую сторону: аспекты взаимного общения самых разных групп и сообществ, связанные с ассимиляцией раннехристианского движения и его адаптации к культурным нормам – наряду с параллельными процессами в иудаизме, а кроме того, следует учесть исследования, привлекшие внимание к многогранному взаимовлиянию различных событий, к обмену сведениями и к рассуждениям на богословские темы в I столетии нашей эры, а равно так же и в последующие века[1280].
В рамках этой статьи я могу лишь предварительно коснуться одного из аспектов проблемы, который считаю заслуживающим дальнейшего исследования.
Павел – первый личный свидетель Иисуса (в контексте)
В прошлом в изучении взаимоотношений Иисуса и Павла были выделены три основные темы: 1) предания об Иисусе в апостольских посланиях Павла (слова Господни); 2) богословские вопросы, в первую очередь богословское единство Иисуса и Павла; и 3) Христос как образец для подражания[1281]. Эти три аспекта можно найти в подходах, основанных на предпосылках сходства и несходства или же непрерывности и ее отсутствия в учениях Иисуса и Павла, – и они не указывают на разные оценки связи обоих. Эти области исследования выделены специалистами самых разных взглядов – и в научном мире сейчас царит согласие по поводу уместных аспектов спора об Иисусе и Павле. Я уделю внимание третьей теме, хотя все три тесно переплетены и четко отделить их друг от друга невозможно, а кроме того, есть и дополнительные аспекты спора, не охваченные упомянутыми темами.
Мой подход основан на герменевтической предпосылке, которая гласит, что Павел и до, и после своего обращения оставался глубоко вовлеченным в контекст иудаизма I века и что его послания необходимо рассматривать именно в этом ключе, – не предполагая мнимого или «уже свершенного» отделения христианства от иудаизма. Содержательные исследования в этой области дают нам веские аргументы в пользу именно такого представления об апостоле Павле. Еще больший объем сведений, полученных по итогам исследований, решительно подтвердил такую же вовлеченность Иисуса[1282]. В сравнительном исследовании, связанном с Иисусом и Павлом, это понятие «двойного сходства» может прояснить многое в том, как формируется личная и коллективная память и какую она играет роль, в передаче древнейших рассказов и описаний исторических событий, сохранившихся в воспоминаниях, а также в том, как именно эти «предания, хранимые в памяти», придавали характерный единый облик собраниям ранних христиан.
Говоря, что Павел – первый личный свидетель Иисуса, известный нам с исторической достоверностью, мы не имеем в виду, будто он – самый правдивый, самый ближайший и, следовательно, исторически надежный свидетель земного Иисуса. С уверенностью мы можем говорить лишь о том, что он – свидетель косвенный, поскольку он присоединился к христианскому движению после смерти и воскресения Христа. Знал ли он об Иисусе и его последователях до этих событий, и если да, то что именно он знал, – это предмет исторических фантазий, а может, и спекуляций. Есть указания на то, что в дни земной жизни Иисуса будущий апостол Павел, возможно, жил в Иерусалиме[1283]. Однако даже если это можно будет подтвердить, все равно вопрос о том, что знал Павел и чего он не знал, останется открытым. Несомненно можно заявить лишь о том, что сам Павел получил свое знание лишь из вторых рук. С другой стороны, можно уверенно утверждать, что иерусалимляне входили в круг его знакомых и что он говорил с «очевидцами», помнившими земного Иисуса (Гал 1:18–19)[1284]. Знал ли он других учеников, кроме Петра и Иакова, встречался ли с ними, – это также вопрос для размышлений и догадок. Таким образом, мы можем утверждать, что Павел, будучи свидетелем «из вторых рук», знал свидетелей «из первых рук» и общался с ними.
Предполагая, что Иисус и Павел, будучи участниками движения в древнейшие его времена, оставались глубоко вовлеченными в иудаизм, я принимаю как данность, что Священное Писание, в какой бы то ни было форме и на каком бы то ни было языке[1285], составляло основу, контекст и авторитет, представлявшие для этого движения его символическую и социальную, культурную, религиозную вселенную. Таким образом, Павел и окружавшая его группа помнили и исповедовали Иисуса как Мессию/Христа (свидетельство Павла об Иисусе), и это – свидетельство в контексте иудейского символического и социального мира. Есть и другой аспект, общий для Иисуса, Павла и их самых первых последователей: для них жизнь в иудейском мире означала жизнь в субкультуре, которая подчинялась условиям, заданным политическим и культурным господством Римской империи.
«Подражайте мне, как я Христу» и «Приветствуйте друг друга, как приветствует вас Христос»
Призыв Павла к подражанию – это призыв воплотить в жизни Евангелие, благую весть. Воплотить что-либо можно лишь после того, как стало ясно, что именно надлежит воплощать. Важно отметить, что вместо объяснений какой-либо идеи или концепции Павел указывает на «Христа» как на образец для подражания. Что здесь имеется в виду? Споры специалистов показывают, что ответ не так очевиден, как кажется. На мой взгляд, едва ли речь здесь идет только о керигме Христа, о простом факте смерти Христа и его воскресения, – иными словами, о том аспекте, которым, по знаменитому утверждению Бультмана, исчерпывался интерес апостола Павла[1286]. Ни смерти Христа от рук римлян, ни воскрешению Христа Богом невозможно подражать. Хотя Павел и пишет о смерти и умирании вместе с Христом (Рим 6:5–11) – во время написания посланий он, несомненно, жив и общается с последователями. Более того, уверение в том, что он сам испытал воскресение, могло бы в немалой степени походить на такое понимание вести, которое пытается исправить Первое послание к Коринфянам (ср.: 1 Кор 4:8). Воскресение – это надежда (Рим 8:24–25; 1 Кор 15), и оно касается людей как единой общины, а не отдельных личностей как таковых[1287].
Внимание к кресту, к смерти и умиранию считается одной из ключевых сторон богословия Павла, ориентированного на этот центральный аспект земного бытия Иисуса[1288]. Но сейчас, не отрицая значения креста в апостольских посланиях Павла, мы сосредоточимся на иной стороне, связанной с представлением о подражании, – и, возможно, она прояснит важность Иисуса в посланиях Павла.
Значительные части посланий касаются вопросов гостеприимства, то есть доброжелательного приветствия других (Рим 14:1; 15:7) и способностью подстроиться под их нужды (Рим 14:15–21; 1 Кор 9:20–22). Конечно, уже давно говорится о том, что акцент на этих проблемах, связанных с общей трапезой, очень важен для апостола Павла. Ярче всего видна их связь с тем, как Павел делает относительными законы кашрута, и это обычно приводят в пример того, что и сама Тора для движения христиан тоже стала относительной. Если случай в Антиохии (Гал 2:11–18) «ускорил понимание несовместимости веры в Христа с иудейским образом жизни»[1289] и отделил христианское движение от иудаизма[1290], тогда выходит, что вопрос совместной трапезы разделил Павла и Иисуса. Почти все исследователи согласны с тем, что сам Иисус не пересекал пределов Израиля и не начинал проповеди среди людей других народов. Более того, некоторые предания приписывают Иисусу явную приверженность Торе, пусть даже и в какой-то собственной интерпретации (Мф 5:17–19; 12:1–8; и др.) Если Павел действительно считал, что Тора в целом и кашрут в частности во Христе не нужны или, по крайней мере, неважны, а следование им стоит терпеть лишь постольку, поскольку оно облегчает христианам из иудеев путь к полному пониманию новой веры, – тогда между Иисусом и Павлом мы видим разительное противоречие. Однако на мой взгляд, в теме совместной трапезы есть аспект, ясно указывающий на совершенно противоположное – на то, что Павел прекрасно знал и понимал миссию и весть земного Иисуса.
Святая трапеза: вместе или по отдельности? Слово Господне
Многие отрывки, в которых Павел говорит об общей трапезе, нельзя свести к дихотомии «иудеи/язычники», восходящей к проблемам с кашрутом. На мой взгляд, чрезвычайно важно, что в одном из нескольких случаев, когда апостол Павел открыто ссылается на слово Господне (1 Кор 11:18–26) и тем самым стремится оставаться верным преданию, контекст спора по поводу общей трапезы никак не связан с «проблемой» иудеев и язычников. Кошерная и некошерная пища здесь не упоминается вовсе.
Павел говорит о проблемах, возникающих при общей трапезе, но связаны они с темами, затронутыми в этом же послании ранее (1 Кор 1:10–17). Нестроения и деление на «фракции» в коринфской общине, по-видимому, влияло и на общие трапезы[1291]. По мнению Павла, коринфяне, собираясь за одним столом, не вкушают Вечерю Господню (οὐκ ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν, 11:20), поскольку на самом деле не «трапезничают вместе». Павел сокрушается о том, что они не разделяют трапезу: каждый ест и пьет то, что принес с собой. Это доказывает, что Вечеря Господня задумывалась именно как общая трапеза: предполагалось, что участники ее не только сидят за одним столом, но и едят все, что на нем выставлено![1292] Коринфская манера организации застолья, по-видимому, воспроизводила образцы и ценности общественной иерархии, характерные для застолий греко-римской элиты. Распределение пищи, правила поведения за столом и прочее явно служили для отражения и утверждения существующей иерархической социальной системы[1293]. В результате в Коринфской общине образовалась пропасть между имущими (например, теми, кто мог вволю пить вино) и неимущими (скажем, теми, кто оставался голодным). Некоторые коринфские последователи Христа поняли «личную свободу» как дозволение для богатых и сильных самоутверждаться – в том числе за общим столом – за счет бедных и слабых!
Некоторые понимают преходящий аспект проблемы, выраженный глаголом προλαµβάνειν, как указание на то, что в сути проблемы – встреча представителей различных социальных классов на христианском собрании. То, что одни ели, пока не пришли другие, можно понимать так, что вторым приходилось работать допоздна, в то время как первые находились в более привилегированном положении: либо вообще не работали своими руками, либо по крайней мере раньше заканчивали работу. Вопрос Павла в стихе 22: «Разве у вас нет домов…» (µὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε) и именование тех, кто чувствует себя униженным, придя позже и обнаружив, что остальные уже сыты и пьяны, «неимущими» (τοὺς µὴ ἔχοντας), вполне могут указывать на социальный статус. Хотя невозможно сказать, в чем именно состояла разница между двумя группами, очевидно, что имело место неравновесие сил и унижение более слабых членов общины.
Итак, «застольная проблема» – не в пище. Она связана с тем, что «другие» христиане, с низким положением в обществе, не могут присоединиться к «совместной трапезе» с остальными, видимо, более влиятельными членами общины, которым не приходится «работать руками»[1294]. По всей видимости, в первую очередь Павла заботят последствия такого злоупотребления влиянием. «Опоздавших» унижают: это полностью противоречит духу христианского движения – по сути, это презрение не только к более слабым братьям и сестрам, но и ко всему собранию в целом, это отвержение его ключевых ценностей![1295] Стоит отметить, что унижение других осуждается безоговорочно: Павел не призывает униженных смиренно терпеть, храня чувство собственного достоинства, не говорит, будто это уподобляет их Христу[1296]. Злоупотребление властью – не адиафора, с которой должны мириться христиане. Апостол Павел решительно и резко протестует против негостеприимства, – то есть против отказа брату или сестре в уважении, выраженному в отказе разделить с ними пищу за столом. Такой отказ он считает унижением брата или сестры.
Асимметрия власти за столом
Хотя в этом пассаже Павел не говорит о «сильных и бессильных», сам текст, безусловно, имеет параллели со спором о «сильных и бессильных», связанном с общей трапезой в Послании к Римлянам (Рим 14:1 – 15:13). Если, садясь за общий стол, христиане по каким бы то ни было причинам создают соблазн для братьев и сестер (Рим 14:15) или унижают их (1 Кор 11:22) – они поступают так, как не подобает христианину. За общим столом необходимо подражать гостеприимству самого Христа (Рим 15:7).
Ссылка на слово Господне в контексте, связанном не с едой, а с социальными последствиями общей трапезы, на мой взгляд, ясно указывает на то, что важнейшей заботой Павла в данном случае (в полном соответствии с преданиями, запечатленными в Евангелиях) были проблемы властных и иерархических структур общества[1297]. И в этом пассаже, и в других Павел настаивает на том, что в собраниях (ἐκκλησίαι) Божьих нет места социальному неравенству, характерному как для греко-римской элиты, так и для общества в целом[1298].
Как и в других аспектах жизни во Христе, о которых идет речь в Первом послании к Коринфянам, здесь христианам, как кажется, непросто «претворять в жизнь» учение благой вести и вносить его в свою повседневность. Скотт Барчи и другие привлекают внимание к трудностям процесса этой «трансляции» или адаптации к культурным нормам[1299]. Реальная общая трапеза, разделение хлеба и вина в воспоминание о Господе, – это ключевой момент жизни во Христе не только на символическом уровне, но и прежде всего на уровне социальном. И в послании мы не видим разделения на символический и социальный аспекты общей трапезы: для Павла они нераздельны[1300].
Важность вопросов, связанных с общей трапезой, в апостольских посланиях Павла явно указывает на то, что и сам он, и его общины устраивали такие трапезы в воспоминание о совместных трапезах Иисуса и его первых учеников в его земной жизни. Акцент на этой теме вполне согласуется с ее подчеркиванием в Евангелиях и говорит о том, что перед нами – отголоски предания об историческом Иисусе. По-видимому, как христианские общины Павла, так и те, что связывали себя с евангельскими преданиями, хранили традицию, которая сложилась еще при жизни Иисуса. За столом вспоминали Иисуса – точнее, воспоминания о нем воплощала в себе сама трапеза, как ясно видно из 1 Кор 11:23–25. Предания о важности этого аспекта жизни и служения Иисуса последовательны и непротиворечивы.
И у синоптиков, так и в Евангелии от Иоанна повествования и речения неизменно, в самых разных контекстах, придают особое значение совместным трапезам, и это подтверждает, что совместные трапезы были отличительной характеристикой движения по крайней мере во время появления письменных Евангелий. Так, мы читаем, как фарисеи приглашают Иисуса поужинать с ними у них дома (Лк 14:1), и в одном случае слышим имя хозяина: Симон фарисей приглашает Иисуса на ужин, тем самым получая возможность поговорить с ним о том, что волнует обоих (Лк 7:36–50). Обычай совместных трапез, принятых у Иисуса и его последователей, безусловно, привлекал внимание тех, кто не присоединялся к движению, и вызывал вопросы о смысле и значении этой характерной особенности (Лк 7:34; Мф 11:19). Более того, отмечали, что порой Иисус разделял трапезу с такими людьми, с которыми, по мнению как минимум части иудейского общества, садиться за один стол не стоило (Мф 9:10–11; Мк 2:15–16; Лк 5:27–30). Иоанн упоминает о совместных трапезах в нескольких случаях, например, когда Иисуса принимают в доме Марфы, Марии и Лазаря (Ин 12:2). Центральная роль гостеприимства очевидна в рассказах о насыщении множества народа (Мф 14:13–21; Лк 9:11–17; Мк 6:33–44; Ин 6:2–14), а также в притчах, не в последнюю очередь – в притче о брачном пире (Лк 14:16–23) и в притче о блудном сыне, которая, заметим, заканчивается пиром (Лк 15:11–32). Еще одна важная тема – порядок, в котором должны сидеть/возлежать за столом гости и хозяева (см. Лк 14:7–11 и пар.)
Эти предания явно были важны для христианских общин конца I в. И более того, апостольские послания Павла не раз упоминают о совместных трапезах и связанных с ними проблемах, и мы узнаем, какие традиции, обычаи и заботы были характерны для раннехристианского движения[1301]. Внимание к теме общих трапез и связанным с ними обычаям, засвидетельствованное в посланиях Павла, а также то, что апостол требует от участников трапезы, особенно от тех, кто социально выше, «подобающего» поведения, и ссылается на слово Господне, – это если и не решающий, то, по меньшей мере, очень сильный аргумент в пользу того, что перед нами традиция, восходящая к древнейшим преданиям об Иисусе, а может быть, и к самому земному Иисусу.
Совместные трапезы и «абсолюты» во Христе
С «совместными трапезами» связаны многие аспекты, которые Павел считает неоспоримыми для «жизни во Христе». Еще один пример той важности, какую он придает общим трапезам, мы находим в Послании к Римлянам (Рим 14:1 – 15:13). Здесь, как и в Первом послании к Коринфянам (1 Кор 11:17–26 [34]), апостола прежде всего тревожит то, что совместные трапезы, как и членство в одной общине, может смутить кого-то из участников, а может и погубить. Пассаж из Послания к Римлянам заканчивается увещанием к членам общины приветствовать друг друга, как приветствует их всех Христос (Рим 15:7) – эти слова, почти несомненно, относятся к общим трапезам[1302]. Гостеприимство имеет абсолютное значение, а совместные трапезы – ключевая практика жизни во Христе[1303]. Это не означает, что за столом все одинаковы, все должны стать неотличимыми друг от друга и есть одно и то же. Царство Божье – не еда и питье, а «праведность, мир и радость в Духе Святом» (Рим 14:17). Общее застолье, то есть гостеприимство, неосуществимо без еды и питья, однако и то и другое служит здесь делу общности; или, иными словами, делу завета, обновленного во Христе и воскрешаемого в памяти на этих совместных трапезах. Еда не должна заслонять эту общность. Некоторые делают из этого вывод, что любую заботу о кошерности пищи апостол Павел считал помехой для общей трапезы. Доказывают даже, что Павел прежде всего тревожился о том, чтобы так называемые «межевые знаки» не стали серьезнейшим препятствием на пути к истинному братству между христианами из иудеев и из язычников[1304].
Некоторые аспекты здесь заслуживают дальнейшего и более внимательного рассмотрения. Павел ссылается на слово Господне, пытаясь решить проблемы в Коринфской общине, и говорит не о кашруте, а о жестоком и позорном отношении одних христиан к другим христианам, и очевидно, что главная забота за столом Господним – это внимание к нуждам других, а значит, христианин, находящийся в более «сильной», более влиятельной позиции, обязан прислушиваться к «другому». Эта обязанность находит отклик и в других аспектах жизни во Христе, о которых Павел говорит в других посланиях (например, 2 Кор 10:1 и далее; см. также 1:24). Такой же акцент звучит и в Рим 14:1 – 15:3, отрывке, в котором многие интерпретаторы видят первое указание на то, что вопрос кошерности пищи начал разделять христиан. Мы уже показали, что и здесь Павел заботится о слабейшей стороне конфликта, – и увещевает приспосабливаться не слабых, но сильных[1305].
Вопрос не в том, что стоит на столе, а в чувстве общности за столом. Для того чтобы такая общность стала возможна, сильные должны приспосабливаться к слабым. И это не просто «благое пожелание»: жизнь во Христе не предполагает, что слабые должны отдаваться на милость сильных и зависеть от их доброй воли. Это непременное условие жизни во Христе: необходимо преодолеть или счесть устаревшей иерархию почета и унижения, характерную для господствующего греко-римского общества (а вовсе не национальную идентичность иудеев). Препятствием для общей трапезы становится не иудейская идентичность, а иерархии, властные структуры и унижение братьев/сестер во Христе. На мой взгляд, те, кто видит основную проблему, связанную с общей трапезой, в характере пищи, выставленной на стол, меняют местами приоритеты. Основная забота – не в том, что за общим столом едят и пьют; это второстепенный вопрос, призванный служить первичной цели: достижению истинного гостеприимства, принятия друг друга во Христе. В случае с иудейскими традициями это легко достижимо: достаточно приспособиться к нуждам тех, в чью идентичность входят определенные пищевые предписания и запреты. Но основной вопрос, заботящий Павла и в Первом послании к Коринфянам (1 Кор 11:17–25), и в Послании к Римлянам (Рим 14:1 – 15:13) – это социальные иерархии и связанные с ними вопросы доминирования «высших» и презрения к «низшим». Дух и характерная этика христианского движения выражаются в таких наставлениях: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия» (Рим 12:2). Этому духу угрожают не христиане из иудеев, по-прежнему осознающие себя иудеями, но те, кто превозносится, гордится и пытается «властвовать» над другими[1306]. И когда Павел настаивает, что Царство Божье – это не еда и питье (Рим 14:17), это не значит, будто общая трапеза не важна, – это значит, что христианин призван не угнетать других и не превозноситься над ними[1307].
Гостеприимство во Христе связано со славой Божьей, «дабы могли вы единодушно, едиными устами славить Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа» (Рим 15:6). Эту похвалу единому Богу Израиля и народов земли, исходящая от иудеев и язычников, подрывает не иудейская идентичность (напротив, иудеям необходимо хвалить Бога, и это ясно без слов), а непреодоленная приверженность к поклонению иным богам (этот вопрос подробнее всего обсуждается в 1 Кор, гл. 8–10), а также обычай превозноситься над другими, угнетать их и презирать. В контексте возрастающего напряжения между иудеями и язычниками в середине I в. как в Палестине, так и в некоторых городах греко-римского мира, нельзя недооценивать возможных последствий того, что иудеи и представители нееврейских народов собирались за одним столом: могли возникнуть трудности, риск взаимного непонимания и вражды – но могла появиться и надежда на иные, более гармоничные отношения. Здесь мы не можем исследовать подробно эти контекстуальные факторы, однако они очень важны, если мы пытаемся понять проблематику «гостеприимства» в застольном общении иудеев и язычников. И сведение этой проблемы к «межевым знакам», на мой взгляд, преуменьшает ее смысл как практики примирения и предвосхищения грядущего Царства Божьего.
Заключение
Мы выяснили, что непрестанное внимание апостола Павла к общим трапезам вполне соответствует тому особому месту, которое они занимали в жизни Иисуса, запечатленной в Евангелиях. Мы не видим никаких указаний на то, что Павел отклонялся от традиций, сохраненных в евангельских преданиях об Иисусе. Совместная трапеза иудеев и язычников не делает иудейскую идентичность ненужной, и апостол Павел не утверждает, будто ради общих трапез иудеи должны перенимать образ жизни язычников – напротив, распространение христианского движения в языческий мир инклюзивно, а не эксклюзивно: вхождение в него язычников (таких, какие они есть) вовсе не означает исключения иудеев (таких, какие они есть). Проблемы, связанные с общими трапезами иудеев и язычников, следует рассматривать как вторичные для Павла, как то, что делается «к миру и ко взаимному назиданию» (Рим 14:19), чтобы язычники могли радоваться вместе с народом его (Рим 15:10). Если проблемы с общей трапезой возникали из-за соседства иудеев и язычников, как, видимо, произошло в Антиохии, – это был не повод расходиться разными дорогами, а проблема, требующая решения. Поскольку прежде, когда христианское движение было чисто иудейским и существовало лишь в пределах Палестины, этой проблемы не возникало, – очевидно, решение предстояло придумать. Однако необходимость придумывать новые решения для новых проблем в новых обстоятельствах не следует путать с отходом от традиции – и тем более не стоит видеть в ней отказ от «изначальной» традиции Иисуса или ее нарушение. И апостол Павел, и те, кто проповедовал благую весть среди язычников, оставались верны традиции, – они лишь искали путь к жизни во Христе в новых обстоятельствах.
Чтение посланий Павла в свете преданий об Иисусе – равно как и чтение преданий в свете посланий – с учетом предположения о двойном сходстве (то есть о том, что и Иисус, и Павел были иудеями) помогло нам увидеть во внимании Павла к миру за столом продолжение традиции совместных трапез, которую, согласно Евангелиям, установил сам Иисус. И то и другое укоренено в иудейских преданиях, связывающих пришествие Царства Божьего с небесным пиршеством, где всего будет вдоволь и за столом будут царить мир и любовь.
Евангелие от Марка и исторический Иисус
Даррелл Бок
На протяжении столетий Евангелие от Марка оставалось среди других Евангелий «бедным сиротой». Обращались к нему редко – и, как, правило, считали частью куда более распространенного Евангелия от Матфея. Все изменилось в XIX веке, когда изучение Иисуса «легло на новый курс», – и открылась новая роль Марка в формировании преданий об Иисусе. В наше время Евангелие от Марка – «самая переводимая книга в мире»[1308]. К 1980-м годам ее переложили на более чем восемьсот языков и диалектов; а три десятилетия спустя это число, несомненно, возросло – особенно если учесть, что именно с этого Евангелия начинают работу, едва кодифицировав новый язык, многие библейские переводчики. Для сравнения: ни у одного известного отца Церкви, вплоть до V столетия, мы не найдем комментариев на Евангелие от Марка[1309].
В современных исследованиях Иисуса Евангелие от Марка – отправная точка или ключевой источник большинства серьезных исторических трудов по Иисусу. Приведем лишь несколько примеров.
Эд Сандерс начинает свой труд «Иисус и иудаизм» не с сомнений в каком-либо конкретном евангельском источнике. Он беспристрастно рассматривает один евангельский эпизод за другим, изучая значение не только речений, но и событий. Однако он спрашивает, какие критерии аутентичности и в каких случаях работают. Ключевой элемент этого уравнения – верный контекст[1310]. Сандерс предпочитает считать таковым служение Иисуса – и смотрит, какие тексты без натяжек ему соответствуют. Его главный исходный пункт формулируется так: изучение «должно правдоподобно изображать Иисуса в рамках иудаизма и при этом объяснять, почему же созданное им движение в конце концов с иудаизмом разошлось»[1311]. Список важных эпизодов Писания, составленный Сандерсом, выглядит несколько искусственно, – однако, взглянув на него, мы сразу замечаем, что подавляющую роль в исследовании играют Евангелия от Матфея и от Марка. Матфей занимает семь с половиной колонок, а Марк – пять с половиной; и это при том, что его объем составляет лишь 60 % в сравнении с Евангелием от Матфея! Напротив, Евангелие от Луки, самое пространное, занимает в списке лишь две колонки, а Евангелие от Иоанна – меньше одной.
В наших попытках понять, кем же был Иисус, – заметил однажды Джон Мейер, – канонические Евангелия становятся для нас «большой проблемой»[1312]. Основной трудностью считается то, что эти книги вдохновлены верою их создателей, а также то, что авторы их явно не ставили себе целью создать полный рассказ о жизни Иисуса. Свой труд, следуя традициям критики форм 1920-х годов, Мейер начинает с того, как Марк сплетает воедино обрывки устных и письменных преданий, связывая их общими словами, темами, формами. Он приводит в пример рассказы о спорах в Галилее (Мк 2:1–3:6), рассказы о спорах в Иерусалиме (Мк 11:27–12:34), рассказы о чудесах, связанные словом хлеб (Мк 6:6b–8:21), собрание притч (Мк 4:1–34). Мейер отмечает, что эти тексты вовсе не обязательно расположены в хронологическом порядке. Однако у нас есть несомненные свидетельства присутствия в этих текстах «зерен» древнейших преданий. Их истоки восходят к устной фазе развития традиции. Евангелие от Марка, вместе с Q и Евангелием от Иоанна, Мейер причисляет к важнейшим источникам, дающим нам сведения о жизни Иисуса, а Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки – лишь к потенциально значимым[1313].
Джеймс Данн вновь поднял вопрос о роли устной традиции, усомнившись в правомерности составления портрета Иисуса по одним лишь литературным источникам[1314]. Сделав обзор внешних источников и древнейших упоминаний Иисуса у Павла (1 Кор 15:3, Гал 1:18–20, 1 Кор 9:5), он начинает свое исследование основных источников с Марка, характеризуя его как «первичный источник, из которого черпали и Матфей, и Лука»[1315]. Ключевым аргументом становится для него совпадение материалов у Марка и Матфея: он отмечает, что 95 % материала Марка можно найти либо у Матфея, либо у Луки, а 90 % сюжетных элементов Марка повторяются у Матфея. Сопоставив это с тем, что в случаях совпадения текстов пассажи у Марка оказываются пространнее, Данн делает вывод, что Евангелие от Марка было создано раньше[1316]. Некоторые спрашивают, точно ли это было Евангелие от Марка, или, может быть, правомернее говорить о какой-то более ранней версии, некоем «до-Марке». Но во всяком случае, большинство исследователей согласны с тем, что этот материал был очень схож с известным нам каноническим Марком. Возможные вариации в текстах Марка и предыстория этих текстов в период устной традиции привели Данна к предположению, что, возможно, речь идет не о простой литературной зависимости – соотношение между двумя Евангелиями более сложное. Тем не менее Данн отводит Евангелию от Марка ключевую роль – как одному из основных дошедших до нас источников. В сущности, несмотря на различные подходы Сандерса, Мейера и Данна, все названные специалисты считают Евангелие от Марка ключевым источником для исследований исторического Иисуса.
Цель нашей статьи – проследить причины такой важной, даже центральной роли Евангелия от Марка в большинстве исследований Иисуса. Обозрев корни его переоценки в прошлом, затем мы поговорим о том, почему Евангелие от Марка сохраняет свое ключевое значение и по сей день.
О первенстве Марка
Что привело к такому восстановлению позиций второго евангелиста в исследовании Иисуса? Вкратце можно ответить, что причиной такой переоценки стало внимание к синоптической проблеме, свойственное XIX веку. Перелом начался с Генриха Юлиуса Гольцмана, в 1863 году высказавшего мнение, согласно которому среди канонических источников Евангелие от Марка было первым[1317]. Дискуссия об этом продолжалась и в XX веке: итоги ей подвел Бёрнетт Хиллман Стритер в 1924 году, – однако поворот стал очевиден уже к концу XIX столетия[1318].
В пользу первенства Марка среди четырех Евангелий были выдвинуты восемь аргументов[1319]. Не все они одинаково убедительны, но вкупе они привели исследователей к некоему подобию согласия в том, что Марк – древнейший дошедший до нас письменный источник о жизни Иисуса[1320].
1. Первый аргумент связан с длиной текста. В Евангелии от Марка 661 стих (у Матфея 1068, у Луки 1149). (Приблизительный подсчет слов, основанный на различных текстуальных вариантах, дает 11 025 у Марка, 18 293 у Матфея и 19 376 у Луки[1321].) Цифры эти как только не спрягали, однако ясно, что: а) почти все, что есть у Марка, мы находим также у Матфея или у Луки (порядка 93 % текста); б) там, где у Марка встречаются параллели с другими Евангелиями, его сообщения зачастую более подробны – и это делает маловероятным предположение о том, будто Марк переписывал у других евангелистов[1322]. Последнее наблюдение направлено против так называемой гипотезы Грисбаха (она же гипотеза двух источников, или гипотеза двух Евангелий), расставляющей синоптические Евангелия в таком порядке: Матфей, Лука, Марк.
Исследование лексических особенностей Матфея и Луки также показывает, что Марк, скорее всего, не использовал ни то, ни другое Евангелие. В Евангелии от Марка 11 025 слов: Матфей использует из них 10 072, Лука – 9 743. Таким образом, у Матфея присутствует 97,2 %, а у Луки – 88,4 % лексики Марка. Однако из 18 239 слов Матфея у Марка отсутствуют 7 392, а из 19 376 слов Луки – 10 259; 40,4 % и 52,9 % соответственно. Если Марк основан на каком-либо из этих Евангелий, почему же у него отсутствует такая значительная часть их словаря? Эти подсчеты делают предположение о вторичности Марка по отношению к тому или иному синоптическому Евангелию крайне маловероятным.
2. Второй аргумент в пользу первенства Марка – простота выражений, которые в других Евангелиях часто редактируются в сторону утонченности. В редактуре привлекает внимание снижение многословия (ср.: Мф 9:14 = Мк 2:18 = Лк 5:33; Мф 12:3–4 = Мк 2:25–26 = Лк 6:3–4), а также правка грамматики. Как пример можно привести Мк 10:20, где богач говорит о том, что соблюдал закон от юности своей, в аористе среднего залога; Мф 19:20 и Лк 18:21 используют здесь более правильный грамматически активный аорист. Просторечное слово «лежанка» (κράββατον) в Мк 2:4 у Матфея и Луки заменено на «постель», с различными вариациями этой лексемы (κλίνης у Матфея, κλινιδίῳ у Луки).
3. Следующий аргумент связан с «трудными местами» у Марка, в других Евангелиях отсутствующими. Например, в Мк 6:5–6 говорится, что Иисус не мог исцелить больных, которые не верили в него; в параллельных местах это смягчено. Убрана критика учеников: например, в 6:52 Марк говорит о том, что они не понимали Иисуса – Матфей и Лука это опускают. У Марка первосвященником, в доме у которого Давид ел освященный хлеб, назван Авиафар, а не отец его Ахимелех (Мк 2:25, 1 Цар 21:1–9; 22:20–23); Матфей и Лука вообще опускают эту деталь (Мф 12:3–4, Лк 6:3–4). В Мк 13:32 говорится, что Сын не знает времени Второго Пришествия Сына Человеческого (ср.: Мф 24:36, Деян 1:7–8)[1323].
4. Четвертый аргумент связан с числом словосочетаний, в которых Марк совпадает с другими Евангелиями, и тех, в которых совпадают Матфей и Лука, но не Марк. Этот аргумент оспаривается чаще предыдущих. Смысл его в том, что совпадения Матфея и Луки, но не Марка встречаются намного реже, чем совпадения Марка с другими Евангелиями. Это верно. Однако у нас имеется не менее пятисот совпадений Матфея и Луки – и такое огромное их число делает этот аргумент проблематичным.
5. «Аргумент последовательности событий», выдвинутый Гольцманом, не был опровергнут и стал важным доводом в пользу первенства Марка. Матфей и Лука зачастую излагают события в одном и том же порядке, если их текст параллелен тексту Марка (и, по-видимому, заимствован у него). Но в тех случаях, когда материал становится общим для Матфея и Луки, но не для Марка, порядок изложения у них нередко расходится. К тому же, добавляет Гольцман, в порядке изложения Лука порой расходится с Матфеем и Марком, и Матфей порой расходится с Марком и Лукой, но нет ни одного случая, когда Матфей и Лука «объединились» бы против Марка. Большинство исследователей считает это свидетельством в пользу того, что Марк был в цепочке Евангелий либо первым, либо последним. Однако против того, что Марк был последним, говорит краткость его Евангелия, а также то, что его параллельные места с другими Евангелиями вовсе не похожи на пересказ[1324]. Это ставит Марка на первое место.
Оставшиеся аргументы гласят, что если речь заходит о литературном сравнении (аргумент 6), о сравнении редакций (аргумент 7) или о более примитивном богословии Марка (аргумент 8) – во всех случаях Второе Евангелие чаще всего выглядит древнейшим. Ключевой пример для аргумента 8 – слово κύριος, которое у Матфея и Луки встречается намного чаще, в том числе и там, где появление его у Матфея необъяснимо параллельными текстами Марка и Луки (Мф 17:4 = Мк 9:5–6 = Лк 9:33). Такие аргументы оценить сложнее – здесь необходимо тщательное сличение текстов: однако вместе они если и не столь убедительны, как остальные, то, по крайней мере, имеют для большинства специалистов некоторый вес.
Подводя итоги, можно сказать, что внимательное сравнение Евангелий в последние два столетия привело многих исследователей Иисуса к мысли о том, что среди записанных Евангелий Марк должен стоять на первом месте. По большей части этот подробный внутренний анализ Евангелий провели в XIX веке, и отношение к Марку серьезно переменилось, его Евангелие стали считать первым по времени письменным свидетельстве среди наших канонических источников – и естественно, что оно заняло ключевое положение во всех исследованиях, связанных с Иисусом.
Источники Марка и его интерес к жизни и учению Иисуса: мнения древних
Древнейшие свидетельства о Марке любопытным образом связывают его с Петром, но в то же время указывают, что сам Марк очевидцем Иисуса не был. И Ириней Лионский, и Папий Иерапольский, свидетельство которого известно нам через Евсевия, указывают на связь автора Второго Евангелия с Петром[1325].
Вот слова Иринея:
Так, Матфей издал у евреев на их собственном языке писание Евангелия в то время, как Петр и Павел в Риме благовествовали и основали Церковь. После их отшествия Марк, ученик и истолкователь Петра, предал нам письменно то, что было проповедано Петром (Против ересей 3.1.1).
Свидетельство Папия дошло до нас через Евсевия. Его замечания особенно интересны, поскольку Папий писал около 130 года и общался с некоторыми из тех, кто контактировал с апостольскими кругами. Вот о каких его словах сообщает Евсевий:
Вот что говорил пресвитер [Иоанн]: «Марк был переводчиком Петра; он точно записал все, что запомнил из сказанного и содеянного Господом, но не по порядку, ибо сам не слышал Господа и не ходил с Ним. Позднее он сопровождал Петра, который учил, как того требовали обстоятельства, и не собирался слова Христа располагать в порядке. Марк ничуть не погрешил, записывая все так, как он запомнил; заботился он только о том, чтобы ничего не пропустить и не передать неверно». Так говорит Папий о Марке (Церк. ист 3.39.15–16)[1326].
Отсылая читателей к старцу Иоанну, Папий давал понять, что его сведения восходят к кругу апостолов. Согласно преданию, Папий писал около 130 г. н. э., однако свои изыскания проводил раньше – да и сама традиционная датировка его книги 130 годом, возможно, слишком поздняя. Это подробно аргументирует Ричард Бокэм[1327]. Более того, проведя литературный анализ, Бокэм показывает, что Марк действительно изображает события с точки зрения Петра[1328]. Стоит вспомнить и то, что Иустин Мученик говорит о Евангелии от Марка как о воспоминаниях Петра (Разг 106.3). Наконец, очень сложно понять, с какой стати это Евангелие упорно называли бы именем Марка, если бы не очевидная причина – то, что его написал некий Марк. Об этом хорошо говорит Джоэл Маркус:
Одна из причин полагать, что Евангелие действительно написано Марком – относительная незначительность этой личности; если бы писец, не имеющий четких преданий об авторстве, вздумал бы приписать анонимное Евангелие какому-либо церковному герою – несомненно, он выбрал бы более знаменитое имя, например, кого-либо из двенадцати апостолов[1329].
Если это святоотеческое мнение об источниках Марка верно, значит, одним из важных его источников был апостол Петр. Едва ли возможно подойти еще ближе к кругу апостолов. Более того, в последние несколько десятилетий мнение о Марке как ключевом источнике не включало в себя этот аргумент, поскольку многие исследователи не доверяют утверждению Папия. Если его утверждение верно, значит, и без того надежные и всеми признанные позиции Марка укрепляются еще более. Вопрос об авторстве Марка и о возможных связях его с апостолом Петром стоит того, чтобы рассмотреть эту проблему чуть подробнее.
Мнение об авторстве Марка и об участии Петра прямо оспаривалось на основе внутренних свидетельств[1330]. Назовем основания для этого: 1) обращение Марка с топографией в Мк 7:31; 2) замечания Марка об иудейских обычаях, в частности о праве женщины потребовать развода (Мк 10:11–12); 3) утверждение о том, что все иудеи соблюдали обычай омовения рук; 4) странное со стороны человека с иудейскими корнями заявление о том, будто Иисус устранил различие между запретной пищей и кошерной (Мк 7:19b); 5) отсутствие указаний на связь Петра с Марком как в Новом Завете, так и в других имеющихся свидетельствах (отчасти аргумент базируется на взглядах на авторство Первого послания Петра); и 6) мнение о том, что очень немногое у Марка выглядит как исходящее от Петра. Эти возражения вместе составляют то, что Карл Клифтон Блэк назвал «минималистическим» взглядом на Евангелие от Марка[1331].
Мы не сможем детально разобрать здесь эти аргументы, поскольку не ставим себе задачу подробно исследовать Евангелие от Марка в одной небольшой статье. Однако имеет смысл задать несколько вопросов к минималистическому подходу, особенно к заявлению, что все наши свидетельства будто бы объясняются апологетическим желанием «легализовать» богословие Марка. Зачем было так трудиться над «оправданием» Марка, если в то время были более известны и имели более широкое хождение два других Евангелия, возводимые к самим апостолам – от Матфея и от Иоанна?[1332] Много ли могла дать такая легитимизация, возводящая Евангелие не к апостолу, а к некоему малоизвестному человеку, получившему предание из вторых рук? И почему «вымышленное» имя Марка так упорно и последовательно сохранялось за этим Евангелием на протяжении трех веков, наряду с куда более известными именами? Гипотеза легитимизации не учитывает, что наряду с Марком в Церкви использовались схожие тексты, куда более прямо и непосредственно связанные с апостолами, – однако оставался и Марк. Свидетельство гласит, что Петр участвовал в создании Евангелия, однако его автором не был. Почему же Церковь не назвала его просто «Евангелием от Петра», если единственной ее заботой была его легитимизация через связь с апостолом? Сложная непрямая связь с Петром и подробный рассказ о ней говорят против гипотезы легитимизации – и за то, что перед нами реальное предание. И второй вопрос: можно ли и нужно различать богословскую легитимизацию и заботу о достоверности так, как это делает Мейнард Юджин Боринг? Разве ссылка на апостола Петра – это не утверждение о достоверности Евангелия? Как можно говорить о том, что один мотив здесь выходит на первый план за счет другого? Логика требует здесь конструкции «и-и», а не «или-или».
Эти вопросы убеждают нас, что простая отсылка к «богословской легитимизации» не может убедительно опровергнуть гипотезу о связи Марка с Петром. Предание слишком упорно, а в логике «теории легитимизации» слишком много дыр, чтобы принимать ее в качестве единственного и достаточного объяснения.
А что сказать о пяти аргументах, перечисленных выше?
О первом: поверхностное чтение Мк 7:31 действительно вызывает удивление, ибо ясно, что на пути из Тира в Декаполис на западе совершенно незачем заходить в Сидон на севере. Но что, если речь идет не о прямом пути из Тира в Декаполис, а о миссионерском путешествии проповедника, поставившего себе целью обойти все крупные населенные пункты?[1333] Фридрих Густав Ланг приводит аргументы в пользу того, что до событий, описанных у Марка, Иисус направился на северо-восток, в земли, населенные язычниками. Роберт Гулих, собрав воедино разрозненные упоминания об общении Иисуса с язычниками (Мк 7:24–30; 7:32–37) и сопоставив их с Морем Галилейским (Мк 8:1–10), доказывает, что Иисус совершил путешествие на север через языческие регионы Тира, Сидона и Декаполиса, а затем вышел к морю.
О втором: и в Мк 7:3, и в упоминании об омовении рук мы, вполне возможно, имеем дело просто с гиперболой, говорящей о том, что этой практики придерживались очень многие иудеи. В конце концов, именно по этому признаку слушатели Марка отличали благочестивого иудея от язычника. Таким же образом Марк использует слово πάντες (все) и в других контекстах (Мк 1:5, 32–33; 6:33; 11:11)[1334].
О третьем: Мк 10:12 выглядит более сложным, но на деле никаких сложностей здесь нет. Как правило, иудеи не разрешали женщинам разводиться с мужьями (Иосиф, И. Д. XV, 7.10; XVIII, 5.4; м. Иевам 14:1), хотя были и исключения (Сир 23:31–32)[1335]. Кроме того, хорошо известна исключительная история Иродиады, которая развелась со своим мужем и вышла замуж за Ирода Антипу[1336]. Далее, когда Саломея посылает своему мужу Костобару письмо о расторжении брака, Иосиф делает примечание, что это противно иудейским обычаям (И. Д. XV, 7.10; κατὰ τοὺς Ἰουδαίων νόµους)[1337]. Помимо этого, нам известно, что в трудах Иисуса прямо участвовали женщины (Лк 8:1–3; 10:38–42). Поэтому не так уж невероятно, что Иисус в своем высказывании ставит оба пола в равные условия в этом отношении[1338]. Таким образом, утверждение, что Второе Евангелие демонстрирует языческую точку зрения и слабое знание иудейских обычаев, далеко не так убедительно, как кажется на первый взгляд. Далее, в подразделе, посвященном археологии и свидетельствам культурной восприимчивости к иудейским обычаям, мы покажем, что оно совершенно неверно.
О четвертом: Мк 7:19, где мы читаем, что Иисус не делал различий между чистой и нечистой пищей, – это обобщающее утверждение, которое вполне мог сделать любой последователь Иисуса, проповедовавший язычникам. Так мог сказать, например, любой из учеников Павла, о чем свидетельствует случай за общей трапезой, описанный в Послании к Галатам (Гал 2). О Марке существует предание, что он работал с Павлом, – следовательно, такой взгляд на учение Иисуса был вполне возможен и для него. Сам этот стих – позднейшее, вставное замечание, размышление над тем, о чем повествует Мк 7:15b. Как таковое, оно вполне укладывается в известную нам картину времени и обстоятельств написания этого Евангелия: перед нами вывод из учения Иисуса, сделанный не сразу, а впоследствии.
О пятом и шестом: эти два возражения во многом схожи. Можем ли мы быть уверены, что между Марком и Петром существовала какая-то связь? Каковы свидетельства в пользу этого? Здесь, очевидно, важны наши взгляды на авторство Первого послания Петра, поскольку в 1 Пет 5:13 его автор называет Марка «сыном», посылая приветствие из «Вавилона» – это кодовое название мировой державы (иными словами, Рима)[1339]. В новозаветных материалах неоднократно упоминается Иоанн Марк – по всей видимости, тот же человек (Деян 12:12–17, 25; 13:5, 13; 15:36–41, Кол 4:10, Флм 24). Хотя убеждение, что Первое послание Петра не принадлежит апостолу Петру, достаточно распространено, Карен Джобс убедительно доказывает, что это не так[1340]. Она отмечает, что огромная территория, охваченная перечнем адресатов послания, возможно, отражает недавнее присоединение этих земель к Риму при Клавдии (1 Пет 1:1: Понт, Каппадокия, Галатия, Асия, Вифиния – регион по размеру чуть меньше штата Калифорния). Она полагает, что слова о странниках и пришельцах в чужой земле отражают мироощущение колонистов – людей, массово переселявшихся в чужие страны. Далее, нам неизвестно, чтобы в этом регионе проповедовал кто-либо из евангелистов, – так что вполне возможно, что христианство принесли туда колонисты, возможно, в результате того, что Клавдий издал эдикт об изгнании иудеев из Рима (Светоний, Клавдий 25.4). Послание она датирует либо временем, когда Силуан, Марк и Петр работали вместе – в начале 50-х годов в Иерусалиме и Антиохии (Деян 15:22, 36–40), либо встречей их в середине 60-х годов в Риме. Последнее, на мой взгляд, более вероятно. Беспокойство о том, как жить в условиях потенциальных преследований, заметное и в Евангелиях, и в Первом послании Петра, указывает на время растущей угрозы для христиан от государственной власти, то есть на 60-е годы.
Возражение Боринга на это состоит в том, что у нас нет «непосредственных свидетельств» о том, что Марк, соработник Павла, «был христианином из Иудеи или из Иерусалима»[1341]. Чтобы сделать такое заявление, Борингу приходится объявить Деяния совершенно бесполезными в плане фактической биографической информации, поскольку в Деян 12 ясно сказано, что в 40-х годах Марк жил в Иерусалиме. Роль Марка в Деяниях едва ли носит какой-либо полемический или апологетический характер. Он определенно второстепенный персонаж; его трудно назвать даже «хорошим учеником». Постоянный и тотальный отказ Боринга принимать во внимание предания раннего христианства обличает его чрезмерный скептицизм в отношении наших древнейших источников. Вместо этого Боринг строит собственную гипотезу о том, как и почему имена Силуана и Марка к концу I века оказались связаны с именами Петра и Павла, апостолов, умерших мученической смертью. Однако его сценарий не может ответить на вопрос: зачем христианам понадобилось выдумывать такую связь, если для этого не было никаких оснований? Более того, Марк – фигура, чья репутация во II в., когда якобы была измышлена эта связь, оказалась серьезно подмоченной. В конце концов, сам Лука пишет о том, что Марк был далеко не идеальным учеником. Согласно Деяниям, в первом миссионерском путешествии он проявил себя не лучшим образом и стал причиной раздора между Павлом и Варнавой. Такой «послужной список» едва ли дает основания выбрать этого человека из множества других и приписать ему авторство анонимного Евангелия, дабы превознести это Евангелие в глазах публики. Наконец, если для того, чтобы улучшить репутацию Евангелия в глазах новых христианских общин, достаточно было придумать ему автора, – почему его не назвали просто «Евангелием от Петра», тем более, что, согласно преданию, этот апостол общался с «вымышленным» автором Второго Евангелия? То, что этого не произошло, указывает на некие ограничения, действовавшие в формировании предания об авторстве Евангелия.
Вот почему меня больше привлекает доверие к традиционному мнению о связи этого Евангелия с Марком и Петром. О том, что такая связь существовала, говорит и множество упоминаний о ней в древних источниках, и отсутствие каких-либо красочных легенд, связанных с Марком, которые указывали бы на вымысел. А если эта связь достоверна, значит, Евангелие от Марка является для исследователей Иисуса ценным источником – и не только в силу своей относительно ранней датировки. Это Евангелие вышло из круга, близкого к апостолам.
Итак, источниками Марка, по-видимому, были как воспоминания Петра, так и другие, по большей части устные, предания, имевшие хождение среди первых христиан. На такие предания ссылается Лука в Лк 1:2. Рассказ о Страстях у Марка часто считается одним из древнейших материалов такого рода. Однако что могло побудить Марка написать труд нового типа – книгу о жизни Иисуса?
Необходимость в Евангелиях в 65–80 гг. н. э
В 60-е годы I в. н. э. христианское движение встретилось с двумя новыми факторами: 1) росло напряжение между иудейскими и христианскими общинами; и 2) первое поколение последователей Христа старело. Оба фактора привели к тому, что рассказы о жизни и учении Иисуса начали не только передавать из уст в уста, но и записывать.
Деяния рассказывают, что напряженность между иудеями и новым движением стала ощутимой уже в первое десятилетие его существования, и дальше только нарастала. Однако к этому времени она возросла настолько, что ее отзвуки проявились даже во внешних источниках о новом движении. Например, в Риме напряжение, по-видимому, именно между этими двумя группами, заставило Клавдия издать эдикт об изгнании иудеев, с которым, по всей видимости, совпали путешествия Акилы и Прискиллы (Светоний, Клавдий, 25.4). Любопытно, что членам нового движения также пришлось покинуть Рим – их тоже считали иудеями (Деян 18:2). В начале 60-х годов в Иерусалиме Анна II казнит Иакова, брата Иисуса: к этому времени семейная вражда клана Анны I – Каиафы – Анны II и семьи Иисуса длится уже четыре десятилетия (И. Д. XVIII, 6.7). К середине 60-х годов возрастает напряжение между иудеями и римлянами, в конце десятилетия приведшее к неудавшемуся мятежу. Таким образом, перед нами период общественной и политической нестабильности, в котором перед новым движением должен был регулярно вставать вопрос: «С кем вы?» То, что Марк много говорит о страдании и изображает Иисуса как пример праведного страдания, приводит нас к мысли, что его книга была написана в обстановке неустойчивости и постоянной угрозы – обстановке, сформировавшейся в 60-х и продолжавшейся и в 70-х годах.
Помимо политического напряжения, возникла и еще одна проблема: первые последователи Иисуса состарились. Устная традиция, по-видимому, сосредоточенная в таких ключевых центрах, как Иерусалим, Антиохия, Рим и район Эфеса, была основана на воспоминаниях поколения, видевшего Иисуса своими глазами и способного рассказать о нем «живым голосом», столь ценимым историками древности. Однако шли годы, десятилетия – и «живых голосов» оставалось все меньше. Как сохранить их воспоминания? Цитата из Папия, среди прочего, указывает на то, что создание «письменных мемуаров», как именует эти труды Иустин Мученик, ставило себе задачу сохранить этот изначальный голос новой общины и передать его грядущим поколениям. Вот как пишет об этом Иустин в своей Первой Апологии:
Ибо апостолы в написанных ими сказаниях, которые называются Евангелиями, предали, что им было так заповедано… В так называемый день солнца бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам или селам; и читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам (1 Апол 1:66–67).
Термин «воспоминания» применительно к Евангелиям Иустин использует в своих писаниях пятнадцать раз. Важно отметить: это происходит раньше, чем то более формальное обращение к учительскому авторитету Евангелий и указание на их точное количество (только четыре), которое мы встречаем у Иринея (Против ересей 3.1.1; 3.11.8). Этим термином Иустин подчеркивает, что перед нами воспоминания первого поколения последователей, переданные следующим поколениям[1342]. В другом месте Иустин говорит о трудах, составленных апостолами Иисуса и теми, кто их сопровождал (Разг 103). Это звучит как параллель утверждению Папия[1343]. Желание сохранить память о возникновении христианства усиливалось все возрастающим давлением на новое сообщество и необходимостью найти собственную идентичность в иудейском и римском мире. Эти два фактора привели к появлению Евангелий, первым из которых – как мы полагаем по перечисленным выше причинам – стало Евангелие от Марка.
Достоверность Марка и иудейские реалии
Один из способов определить достоверность преданий Евангелия от Марка – рассмотреть их в свете того иудейского контекста, в котором жил и действовал Иисус. Многочисленные точки соприкосновения здесь показывают, что тот материал, из которого черпал Марк, соответствует иудейскому миру.
Апокалиптическое мировоззрение
Читаем ли мы об Иоанне Крестителе, о «двух возрастах» Иисуса, об иерусалимской смоковнице или о надежде на оправдание, – везде в изображении Иисуса у Марка мы встречаем отражение апокалиптических надежд, свойственных периоду Второго Храма.
Новый ритуал «крещения», введенный Иоанном и поддержанный Иисусом, связан с мировоззрением, гласящим, что однажды Бог оправдает и защитит свой народ и восстановит его праведность[1344]. Та же надежда ярко проявляется и во всем образе жизни кумранских сектантов. Когда Иисус ушел в пустыню и принял крещение Иоанна – тем самым он подтвердил его проповедь и отождествил свое учение с нею. Те же общие надежды отражают и отсылки к Ис 40, которые мы встречаем и у Иоанна Крестителя, и в Кумране (Мк 1:3; 1QS VIII, 13–14). Однако от ессеев Иисус отличался тем, что не желал жить вдали от людей, которых надеялся убедить своей проповедью[1345].
С иудейской апокалиптикой связана и надежда, выраженная в проповеди Иисуса о грядущем Царствии. В его словах о Сыне Человеческом и о Царствии Божьем звучат отсылки к апокалиптическим образам[1346]. Сын Человеческий будет судить мир, и Царство Божье распространится и охватит всю землю; значит, надежда в том, что в мире воцарятся справедливость и праведность. «Сын Человеческий» – ключевое самоопределение Иисуса на протяжении всего Евангелия. Это именование явно апокалиптично, связано с Книгой Даниила и Первой книгой Еноха[1347]. Мк 13 показывает, что крайне важна для Евангелия и тема божественного замысла и его постепенного исполнения. Стоит отметить и то, как Бог в этом Евангелии «врывается» в свое творение: небеса разверзаются, и на Иисуса изливается Дух Святой, или является облако (Мк 1:10; 9:7). В этом также отражается иудейская апокалиптика.
Наконец, на эсхатологическую надежду указывает и заключение Евангелия. В Мк 16:1–8 вера порождается рассказом о пустой гробнице и провозглашением надежды на оправдание и воскресение. Это оправдание служит здесь синонимом пришествия Царства, о котором говорил Иисус. Эти темы также указывают на иудейскую апокалиптическую надежду, включавшую в себя телесное воскресение и ожидание будущей жизни. «Открытому финалу» Евангелия (Мк 16:1–8) недостает той полемичности, что звучит в других Евангелиях. Это просто призыв к вере в то, что Бог оправдал Иисуса. В результате этих событий те, кто был с ним связан, призваны верить – и отринуть страх, первоначально охвативший женщин[1348].
В этих преданиях отражается апокалиптическое мировоззрение, лежащее в основе тем, проходящих через все Евангелие от Марка. Это мировоззрение вполне укладывается в контекст иудаизма периода Второго Храма[1349].
Писания, образы и притчи
Иудейский дух ощущается и в том, как Марк рассказывает истории. В отличие от других трех евангелистов, Марк сосредотачивается не на долгих рассуждениях, как Матфей или Иоанн, и не на кратких поучениях, как Лука: он предпочитает действие. Сюжетные истории и притчи он использует так же, как мы видим это в иудейской литературе периода Второго Храма, где действие и притчи также превалируют – как в Первой книге Маккавейской, где рассказывается история возвышения семьи Маккавеев, или в Первой книге Еноха, где в виде притч излагается план Бога[1350]. Взглянем, как сочетаются сюжет и поучение в притче на примере Нафана, противостоявшего Давиду (2 Цар 12:1–14), или в притче о винограднике (Ис 5:1–7). Притча как вызов и повод к размышлению – очень иудейский, если не сказать, исключительно иудейский риторический прием[1351]. Еврейское слово машал относится к целому спектру жанров: от пророчеств Валаама (Чис 23:7) до пространных рассуждений Книги Иова (Иов 27:1; 29:1) или загадок (Иез 17:2), и указывает на богатую традицию изображения реальности через образы. Когда Иисус сравнивает свое присутствие с брачным пиром и женихом (Мк 2:19–20), в этом отражается традиция описывать присутствие Бога как праздник – сравнение, более подробно и эмоционально представленное в истории Осии (Ос 1–3)[1352].
Еще один типично иудейский прием – обращение к Писанию, особенно в сомнительных случаях. Здесь перед нами многочисленные примеры отсылок к иудейской истории и священным книгам: образцом для подражания неожиданно становится Давид (Мк 2:25–26), сотворение субботы для человека отсылает к Книге Бытия (Мк 2:27–28, Быт 2:1–3), рассказ об усмирении моря (Мк 4:35–41) созвучен Пс 106:25–32 (ср.: Пс 88:25). В Евангелии множество галахических споров: Мк 7 о чистоте, Мк 10:2–9 о разводе, Мк 12:18–27 о воскресении, или Мк 12:35–37 о Пс 110:1. Встречаются отсылки ко второй части Десятисловия (Мк 10:19) или к Великой Заповеди (Мк 12:24–27), напоминающие подобные отсылки у пророков. В Евангелии от Марка (Мк 11:17) для описания состояния Храма используются пророческие обличения из Ис 56:7 и Иер 7:11. Мы видим яркие образы засохшей смоковницы (Мк 11:20–25, также Мк 13:28–29), виноградника (Мк 12:1–11), образ опустевшего святилища (Мк 13:14), воспоминание о Пасхе (Мк 14:12–25), отсылку к Пс 109:1 и Дан 7:13–14 (Мк 14:62), или вопль из Пс 21:2 (Мк 15:34). Перед нами автор, избирающий предания, пронизанные духом иудаизма. Он изображает Иисуса наследником великой и древней традиции иудейских пророков. В его изображении мы видим фигуру, по-иудейски думающую, по-иудейски действующую: в ее кругозоре встречаются традиции иудейской премудрости, безжалостные обличения пророков и апокалиптическая надежда на божественный замысел, который рано или поздно принесет праведникам оправдание и блаженство.
Спор о чистоте
Быть может, ни в одном разделе Евангелия от Марка его иудейские корни – и сложное отношение к ним – не проявляются так ясно, как в споре с Иисусом, описанном в Мк 7:1–23. Спор начинается из-за того, что Иисус не выполнил предписания ритуальной чистоты – не вымыл рук перед едой. Когда-то исследователи видели в этом тексте неуклюжую выдумку евангелиста, желавшего изобрести какой-нибудь повод для полемики с иудейской приверженностью букве закона[1353], – но теперь, больше зная об иудейских обычаях, мы видим, что рассказ этот вполне правдоподобен и указывает на давнюю, хорошо известную традицию. То, что такая сцена, вместе с объяснением ее, вообще появилась в Евангелии, ясно говорит о том, что Марк считал необходимым рассказать своей аудитории и о таких действиях Иисуса, которые уже не имели к ней прямого отношения[1354]. Детали, потребовавшие объяснения, также показывают, что читатели Марка были уже в основном язычниками.
Джонатан Клоуэнс в своем важном сводном обзоре подробно описал различия и границы между моральной и ритуальной чистотой, существовавшие в иудаизме периода Второго Храма[1355]. Он отмечает три ошибки, обычно совершаемые в дискуссиях об иудейском понятии чистоты: 1) нечистота отождествляется с грехом; 2) нечистота понимается как «ярлык» и приписывается определенным социальным группам (женщины, язычники); и 3) считается, что при помощи понятия чистоты фарисеи пытались навязать свою власть другим группам. На самом деле чистота была связана с понятиями религиозной лояльности и идентичности и в исследуемый период служила предметом горячих и искренних споров о том, что же означает «ходить в Боге». Споры эти начинались с серьезных размышлений над такими текстами, как Лев 11–15 или Чис 19. Ритуальная чистота не включала в себя грех: она рассматривалась как неизбежное и естественное следствие пребывания в гуще жизни. Это было временное состояние – однако потенциально «заразное», отчего оно и становилось проблемой. Самым простым и распространенным способом пресечь опасность распространения нечистоты считалось омовение. Особенную заботу о ритуальной чистоте набожные иудеи проявляли при приближении к Богу. Все это не имело никакого отношения к моральной нечистоте, отождествляемой с грехом.
Таков «фон» дискуссии, разгоревшейся в Мк 7. Иисус не вымыл рук перед трапезой. Это упущение обратило на себя внимание фарисеев, тщательно соблюдавших правила ритуальной чистоты. Ключевые слова в этом отрывке: «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека» (Мк 7:15)[1356]. Осквернение не «заразно» в том смысле, о котором говорят фарисеи. Как пишет Клоуэнс: «Мы не можем сказать, будто это заявление звучит слишком антииудейски и потому неисторично; признавая его двусмысленность, мы должны признать и его историческую вероятность»[1357]. В словах Иисуса звучит убежденность в приоритете моральных забот над заботами о ритуальной чистоте, имеющая параллели в пророческой традиции (см., напр.: Ос 6:6). Важно отметить также: позднейшая авторская ремарка о том, что Иисус всякую еду объявил чистой – это комментарий евангелиста (Мк 7:19с), редакторская правка, видимо, логический вывод из самого предания, и эта ремарка не влияет на нашу оценку. А предание указывает на то, что Иисус не разделял вопросы, связанные с грехом и чистотой, в той степени, в какой это делали раввины; скорее он отдавал этим проблемам приоритет, что прекрасно понятно в контексте споров иудаизма I века. Фарисеи считали, что эти проблемы требуется обсуждать отдельно и что каждый из них требует особого внимания, а Иисус расценивал их как связанные более тесно. Этот спектр взглядов охватывает тревоги и заботы иудеев. Если внимательно вчитаться, то мы увидим, что Марк, передавая это предание, повествует о событии, не имевшем прямого влияния на тех, перед кем читали его Евангелие. Это исключительно галахический спор[1358]. Проблема, связанная с тем, как именно надлежит приступать к трапезе, могла возникать (и возникала) при размышлении над текстами Книги Левит (Лев 11:40; Лев 17:15). Эти же тексты лежали в основе споров о производной степени нечистоты [когда вещь, к которой прикасался страдающий, соприкасалась с другими вещами. – Прим. ред.] (м. Завим 5:1; т. Завим 4:3)[1359].
Однако есть у этого отрывка и еще одна важная черта. Археологические свидетельства о широком распространении микв или каменных сосудов для омовения указывают на то, насколько распространена была забота о ритуальной чистоте в иудейской культуре в целом[1360]. Более трехсот бассейнов со ступенями найдены в столь далеко отстоящих друг от друга местах, как Иерихон, Сепфорис, Гамла (Гамала) и Кумран. Погружение в бассейн позволяло иудею совершить очищение перед закатом, тевул-йом (4QMMT B15). На основе этих находок Томас Казен говорит об «экспансионистской практике ритуальной чистоты» в иудаизме Второго Храма[1361]. Таким образом, в этот период внимание смещается с чистоты в Храме на чистоту в повседневной жизни. Хороший пример – забота о чистоте покойника, которая не обязательно связана с пребыванием в Храме (Иосиф Флавий, Против Апиона 2.205; Филон, Особ. зак 3.205–206)[1362]. Поэтому, когда Марк говорит, возможно, несколько преувеличивая: «Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук» (Мк 7:3) – он объясняет обычай, возникший за несколько десятилетий до эпохи Иисуса, но во время Иисуса повсеместно распространенный и набиравший все большую популярность.
В этом эпизоде мы видим не только работу Марка над текстом (например, авторское примечание Мк 7:19с), но и то, что сам текст восходит к старинному преданию: и сам эпизод, и его подробности уже не имеют прямого отношения к аудитории Марка и даже ей непонятны. То, что Марк имел доступ к столь древним преданиям, говорит о том, сколь необходимо его Евангелие для «Исследования Иисуса», а равно так же о том, как важно всем его участникам – да и тем, кто просто изучает Новый Завет, – следить за изучением иудаизма Второго Храма и археологическими изысканиями в этой области.
Календарь
И эта, и следующая темы – примеры не столько того, о чем повествует Марк, сколько того, как он обращается со сведениями, известными и из других преданий об Иисусе. Марк предлагает нам одну из двух хронологий, призванных описать события последней недели служения Иисуса. Его Евангелие (Мк 14:12, 16–18) оставляет четкое впечатление того, что Иисус был арестован в Гефсимании сразу после того, как праздновал с учениками Пасху[1363]. Евангелие от Иоанна (Ин 18:28 и 19:14), напротив, относит эту же трапезу на день позже. Происхождение этих двух хронологий и их взаимное соотношение – давняя и в целом нерешенная проблема новозаветной науки.
С этим спором связано множество разнообразных и сложных вопросов. Считают ли евангелисты (и их предания) дневные часы начиная с полуночи или с шести часов утра? Большинство исследователей высказывается за шесть утра. Начинается ли день на закате, как было принято у иудеев, в полночь или на рассвете? На этот вопрос, кажется, тоже есть ответ: поспешное погребение Иисуса говорит о желании сделать все до конца дня, который завершался на закате – и о беспокойстве о том, что успеть не получится. Что понимать под Пасхой? Идет ли речь о самом празднике Пасхи – или о каком-то из восьми дней праздника Опресноков, начатого с Пасхи? Иосиф Флавий также соединяет все эти праздники в один (И. Д. IX, 13.3; И. В. V, 3.1)? Нельзя отвергать возможность, согласно которой речь идет не о Пасхе как таковой, а о «пасхальном сезоне», что еще более затрудняет точную датировку. Относится ли слово «Пасха» (евр., Песах, греч. πάσχα) к дню, трапезе или приготовлению трапезы? И отвечать на этот вопрос требуется каждый раз, когда мы встречаем в тексте это слово.
Еще один важный вопрос состоит в том, насколько допустима была в эти святые дни работа или иная житейская активность. У иных историков в этот «день покоя» кипит столь активная жизнь, что в их реконструкциях позволительно усомниться. К сторонникам такого взгляда, к слову, относится Иоахим Иеремиас – он говорит о каждом отдельном событии, доказывая, что оно могло произойти в праздник[1364]. Однако вопрос еще и в том, могло ли в один день произойти столь много событий. На это часто отвечают, что власти спешили со всем разобраться, пока Пилат был в городе и мог вынести решение: исключительные обстоятельства привели к исключительным действиям.
Обо всем этом мы упоминаем не с тем, чтобы попытаться разрешить здесь вопросы, быть может, вовсе неразрешимые. Мы просто хотим отметить, что Евангелие от Марка – это источник, давший нам одну из двух хронологий последних дней жизни Иисуса, и она чрезвычайно важна для наших исследований. Впрочем, вопрос о том, как связать ее с хронологией Иоанна, остается открытым.
Паломничество
При сравнении Марка с Иоанном возникает еще одна похожая дискуссия. Новый вопрос связан с тем, сколько путешествий в Иерусалим совершил Иисус. Иоанн упоминает как минимум три Пасхи, а возможно, и четыре (Ин 2:13; 6:4; 11:55–12:1; 13:1; 18:28; 18:39; 19:14; возможно, также Ин 5:1)[1365]. Напротив, для Марка события последней недели жизни Иисуса происходят в его первом и последнем путешествии в Иерусалим. Многие полагают, что для Марка все служение Иисуса занимает лишь один год. Быть может, это слишком смелое предположение. Когда Иисус посылает учеников приготовить Тайную Вечерю, складывается впечатление, что он уже заранее все устроил, чтобы прийти в то место в последний раз (Мк 14:12–16). Всегда ли он останавливался там – или выбрал и подготовил место лишь за несколько дней до того? Возможно и то и другое, однако вся сцена явно предполагает какой-то предварительный контакт с хозяином и владельцем дома. Из этого можно сделать вывод, что путешествие в Иерусалим у Марка – явно не первое. Во всяком случае очевидно, что Марк, рассказывая историю Иисуса, не особенно утруждает себя подробной хронологией (что, собственно, заметил еще Папий много сотен лет тому назад).
Археология
Как правило, археология не в силах подтвердить достоверность того или иного пассажа, однако в силах прояснить обстановку, в которой создавался текст, и помочь понять, насколько он соответствует предлагаемому контексту[1366]. Несколько археологических вопросов, связанных с Евангелием от Марка, позволяют оценить качество преданий, которыми пользовался Марк.
1. Роль синагог, в том числе присутствие старой синагоги в Капернауме, указывает на этот город как «штаб-квартиру» Иисуса[1367]. Да, некоторые возражают против того, что эти синагоги находились там в I веке, – но синагога в Гамле, несомненно, относится к I столетию, и большинство исследователей относят к тому же времени и остатки синагоги в Капернауме.
2. Сюда же добавим находку в Капернауме, неподалеку от синагоги, дома Петра. Византийцы с давних времен совершали к этому месту паломничества, а в VI в. над древним зданием возвели базилику, и это говорит в пользу такого отождествления[1368].
3. Вероятное место распятия – голая скала, на что указывает имя «Голгофа», – тоже вполне соответствует культурному контексту. Связь этой детали с местонахождением Гроба Господня также возможна, если учесть, сколь давно почитают гробницу как святыню[1369]. Это тем более вероятно, учитывая недавнее открытие, что третью Иродову стену возвели уже после смерти Иисуса; значит, во время его смерти гробница находилась за чертой города[1370].
4. Роль микв и каменных бассейнов, связанных с проблемами ритуальной чистоты, мы уже отмечали.
Эти связи также указывают на то, что предания, запечатленные в Евангелии от Марка, по всей видимости, имеют древние и достоверные корни.
Мессианская неоднозначность
Быть может, одна из самых спорных и широко обсуждаемых черт Евангелия от Марка – рассказ об отношении Иисуса к титулу «Христос». Здесь сочетаются две проблемы. Первая – неопределенность значения самого титула в иудаизме во времена Иисуса[1371]. Для этого периода характерно множество разнообразных мессианских представлений, хотя самое распространенное, по-видимому, гласило, что Мессия будет политическим вождем и избавит Израиль от власти Рима. Общая черта всех этих мессианских портретов – освобождение Израиля и установление шалома, обещанного Богом мира, с очищением от зла, воцарением справедливости и оправданием праведников. Смотрим ли мы на Мессию – политического лидера из Пс. Сол 17–18, или на трансцендентного Сына Человеческого из 1 Ен 37–71, или на двух мессий из Кумрана – везде звучит тема надежды на политическую победу и последующее установление справедливого и праведного царства. Неудивительно, что любой намек на мессианские надежды должен был привлекать внимание римлян, как отмечает и Иосиф Флавий (И. Д. XVIII). Вторая проблема – в том, сколь ясно и откровенно самые ранние последователи Иисуса исповедовали его Мессией после воскресения. Здесь нам достаточно задуматься о том, насколько тесно оказался связан с именем Иисуса титул «Христос» – настолько, что стал звучать почти как фамилия[1372]. Свидетельства того, как рано появился и как быстро распространился этот титул в общине ранних христиан, говорят о том, что в новом движении его начали связывать с Иисусом едва ли не сразу после распятия.
Это – именно то время, когда написано Евангелие от Марка. Со времен Вильяма Вреде обычным объяснением этого феномена, а также отсутствия открытого мессианского исповедания в синоптических Евангелиях стало то, что Марк спроецировал на Иисуса позднейшие богословские представления о его мессианстве и изобразил их как «мессианскую тайну»[1373]. Аргумент продолжается так: в Евангелии от Марка Иисус призывает хранить молчание о мессианской тайне, поскольку евангелист пытается замаскировать тот факт, что сам Иисус во время своего служения не называл себя Мессией – никогда и ни в каком смысле. Все «мессианские» аллюзии в Евангелиях, по мнению Вреде, отражают не богословие Иисуса, а лишь богословие Древней Церкви.
Однако такому мнению противоречат два феномена, известные нам из истории: 1) древность и распространенность убеждения в мессианстве Иисуса в историческом материале (о которой мы только что упомянули), и 2) то, что titulus на кресте Иисуса представляет его царем и в культурном контексте соответствует тому преступлению, за которое в Риме карали распятием – а именно подстрекательству к мятежу. Сам Вреде со временем, очевидно, это осознал. Широкой публике, как правило, неизвестно о том, что незадолго до смерти в частном письме к Адольфу Гарнаку он отказался от своей теории о «мессианской тайне»[1374].
Признавая сложный характер мессианских ожиданий у иудеев I века, мы лучше понимаем двусмысленность называния кого-либо Мессией во времена Иисуса и проблемы, которые могло навлечь на Иисуса такое именование. Сама неоднозначность сцены в Кесарии Филипповой в Мк 8:27–30 имеет ярко выраженный культурный смысл. Она дает еще одно указание на серьезность предания, которым пользовался Марк. Перед нами – не открытое утверждение, как в исповедании Петра в Мф 16, а наоборот, призыв никому об этом не говорить. Такое нагнетание неопределенности вокруг титула говорит не о том, будто перед нами выдумка Древней Церкви – где этот титул признавался открыто, – а скорее о верном понимании того, что провозглашение Иисуса Мессией без дополнительных объяснений могло не только навлечь на него беду, но и ввести в заблуждение его аудиторию, учитывая, как понимал свои задачи в замысле Божьем сам Иисус. В следующей сцене у Марка Иисус говорит о том, что ему придется страдать, а Петр отрицает такую возможность. Спор с Петром вызывает у Иисуса слова упрека: он называет Петра сатаной. Эта вторая сцена стоит в контрасте с первым исповеданием – и очень вероятно, что не Древняя Церковь, а реальные воспоминания запечатлели такую последовательность преданий. Здесь вполне применим «критерий смущения». Стала бы Древняя Церковь сочинять такое христологическое предание, в котором один из ведущих предводителей Церкви назван сатаной за то, что отверг слова Господа и Спасителя?[1375] Куда вероятнее, что неоднозначность термина «Мессия» у Марка связана с тем, с какой осторожностью относился к нему сам Иисус, хорошо понимая, что это опасный титул, который нельзя просто принять, – его необходимо преобразить. Эта осторожность отчасти была связана с тем, что само слово Мессия могло подвигнуть народ на политическое восстание против Рима, – как произошло с восстанием Бар Кохбы в следующем столетии. Но была и вторая важная причина: сам Иисус считал свою мессианскую деятельность более сложной, чем ее описывали иудейские мессианские представления периода Второго Храма[1376].
А значит, эта сцена, описанная с куда меньшим «пафосом», чем обычно придавала фигуре Иисуса Древняя Церковь, и при этом центральная для понимания Иисуса у Марка, вполне может быть подлинной – и тем самым показывает ценность Евангелия от Марка для «Исследования Иисуса».
Заключение
Мы показали различные причины, по которым Евангелие от Марка имеет для изучения Иисуса очень важное, даже центральное значение. Во-первых, внутренние свидетельства самого Евангелия показывают, что из всех синоптических Евангелий оно было написано первым. В сравнении с Матфеем и Лукой более пространные и подробные описания Марка, а также устранение бесед и притч заставляет думать, что Марк был первым евангелистом.
Во-вторых, древние упоминания этого Евангелия, например у Папия, гласят, что источники, к которым обращался Марк, восходят к воспоминаниям апостолов, – а значит, это материал ранний, особенно в сравнении с источниками многих других древних трудов.
В-третьих, по мере того, как старели и умирали апостолы, усиливались преследования, а обещанное Второе Пришествие Иисуса все откладывалось, возникла необходимость в письменных Евангелиях, и раннехристианская традиция из чисто устной превратилась в устно-письменную. «Живой голос» первого христианского поколения был сохранен в записях, которые Иустин Мученик назвал «воспоминаниями апостолов».
В-четвертых, Марк демонстрирует точность и достоверность в некоторых вопросах, связанных с иудейскими воззрениями и обычаями, – такими как апокалиптическое мировоззрение и споры о чистоте.
В-пятых, археологические открытия – такие как распространенность бассейнов для ритуального омовения, синагоги, дом Петра в Капернауме – по всей видимости, подтверждают предания Марка.
Наконец, то, что можно назвать развитыми теологическими размышлениями, в Евангелии от Марка вполне соответствует эпохе и обстановке. Мы не раз видим, как Марк говорит о чем-либо не столь открыто, – эта манера указывает на то, что он опирается на старинные предания, а не на богословие своего времени.
В этот список кто-то может добавить и свидетельства о редактуре, которую провел Марк. Об этом мы почти не говорили. Поскольку Евангелие от Марка – по всей видимости, первое, то к содержанию его источников у нас нет прямого доступа, и трудно с уверенностью судить о редакторской работе. Мы можем лишь выводить некие «обратные» заключения, сравнивая Евангелие от Марка с другими, более поздними Евангелиями и отмечая сходства и различия. Мы касались этого вопроса, когда говорили о мессианской неоднозначности, однако не стали выделять его в отдельную категорию. Такие наблюдения, часто приводящие к выводу, что одни и те же темы раскрыты у Марка более «примитивно», чем в других Евангелиях, также свидетельствуют в пользу древности преданий, к которым он обращался.
Таковы некоторые важнейшие причины, по которым Евангелие от Марка прошло путь от самого малоизвестного и «малоинтересного» Евангелия в древности – до незаменимого источника по жизни и учению Иисуса в наши дни – и именно поэтому современные исследователи Иисуса просто не могут его игнорировать.
Интерпретативные «тенденции» Матфея и «исторический» Иисус
Ульрих Луц
Как относился Матфей к тому, что мы называем «исторической истиной», и в каком смысле его Евангелие можно назвать «историческим трудом»? Этот вопрос следует задать на двух уровнях: необходимо сравнить Евангелие от Матфея как с древними, так и с современными представлениями об исторической истине. В первом разделе статьи я представлю свой взгляд на то, как понимает «историческую истину» Матфей, рассказывая об Иисусе. Во втором разделе – сравню его понимание с некоторыми древними и современными концепциями «историографии», как эллинистическими, так и библейскими. По моему мнению, Матфей достаточно далек от того, как понимали «историческую истину» историки античного мира, но довольно близок к библейской «историографии», по крайней мере к книгам, рассказывающим о начале истории Израиля. На современном уровне Матфей не так уж далек от историографических концепций, сформировавшихся во второй половине ХХ века, после лингвистического поворота в западной философии, однако весьма далек от нашего Третьего поиска исторического Иисуса, на который современные историографические теории почти не оказали влияния. Наконец, в третьем разделе я постараюсь ответить – по необходимости, весьма кратко и обобщенно – на главный вопрос: что можно рассказать о связи интерпретативных «тенденций» Матфея и «исторического Иисуса»?
1. Матфей: историк?
1.1. Домыслы Матфея
Долгое время считалось, что Евангелия – не историческая литература. Это верно в трех отношениях:
Во-первых, богословски Евангелия рассказывают историю «geschichtliche biblische Christus» (Мартин Келер) – историю Иисуса в свете керигмы, «историю Иисуса Христа»[1377]. Эта история часто оказывается «инклюзивной»: прошлое Иисуса открыто для того, чтобы те, кто читает евангельские строки, впечатлялись в этот миг встречей с их воскресшим Господом, а целые Церкви познавали свою историю после пасхального воскресения. Это возможно, поскольку Иисус, главный герой евангельских повествований, – и фигура из прошлого, и воскресший Господь, пребывающий с Церковью во все дни до скончания века (Мф 28:20)[1378].
Во-вторых, общепризнанным мнением стал вывод критики форм о том, что отдельные предания об Иисусе в ходе их устной и письменной передачи рассказывались и пересказывались по-новому. Их вспоминали, передавали, адаптировали, осовременивали, их применяли для самых разных целей, их подвергали цензуре, их расширяли – и очень по-разному. «Воспоминание» было не только воспроизведением традиции, но и творческим актом[1379].
В-третьих, меньше внимания обычно уделяется тому, что не только слова и отдельные истории, но и порядок повествования в записанных Евангелиях со временем изменился, по крайней мере частично. Позднейшие евангелисты – Матфей, Лука и Иоанн – каждый по-своему строят сюжет «истории» Иисуса, по-своему расставляют в нем акценты.
У Матфея особенно бросаются в глаза литературные дополнения. Опишу их вкратце, не вдаваясь в детали:
1. Он добавил пролог (1:2–4:16), несущий двойную функцию: это и начало истории Иисуса, и предвестие пути Иисуса из Вифлеема, града Давидова (2:6) в «Галилею языческую» (4:15; ср.: 28:16–20)[1380].
2. Он составил пять больших речей Иисуса, окончание каждой из которых обозначается формулой ἐγένετο-ὅτι-ἐτέλεσεν. Речи обращены напрямую к читателям Евангелия. Их автор-составитель несомненно отдавал себе отчет в том, что Иисус не произносил их в таком виде, – с распределением по темам, которое предпочел сам евангелист.
3. Также он составил и поместил в книге несколько малых речей. Называя их «малыми речами», я не имею в виду, что они непременно короче «больших» – однако они не отмечены особой формулой в конце. Вот эти речи: Мф 11:7–19 (30); 12:22–37 (50); 21:28–22:14; 23:1–39. Они также составлены самим евангелистом из материалов, найденных у Марка, в Q и других источниках. И в этом случае евангелист, несомненно, отдавал себе отчет в том, что Иисус не произносил этих речей в таком виде и порядке, в каком он, евангелист, составил их и разместил в книге. Их вымышленный характер тем более поражает, что эти речи уже не обращены напрямую к читателям Евангелия – они составляют часть истории. В этих речах Иисус не только интерпретирует свою историю, рассказанную евангелистом, но и сам в ней участвует, развивая сюжет.
4. Особенно примечательный пример литературного вымысла у Матфея – Мф 8:1–9:34. Это новый раздел Евангелия, посвященный чудесным исцелениям, совершенным Иисусом, сыном Давидовым. Евангелист использовал два раздела Евангелия от Марка (Мк 1:29 – 2:18 и 4:35 – 5:43), две дополнительные истории о чудесах из Q (Q 7:1–10; 11:14–15), рассказ о чуде из другой части Евангелия от Марка (Мк 10:46–52) и еще один текст Q (Q 9:57–60). Два раздела Марка он переплел друг с другом так, что последовательность историй стала совершенно иной. Но поразительнее всего то, что, искусно сплетя друг с другом два своих основных источника, Марка и Q, он создал совершенно новую временную и пространственную последовательность событий. Теперь все выглядит так, словно в начале своей общественной деятельности Иисус исцелял больных и изгонял бесов из людей Израилевых почти без всяких помех. Разумеется, Матфей не мог не понимать, что излагаемая им последовательность событий вымышлена. Он писал именно так, поскольку хотел показать своим читателям, что Иисус, Сын Давидов и Мессия Израиля, действительно «исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях» (Мф 4:23; ср.: 9:35), вполне исполняя пророчество о том, что «слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают» (Мф 11:5). Таким образом, намерения рассказчика (Матфея) при составлении этой вымышленной последовательности событий очевидны. Главы 1–12 его книги вместе составляют, по сути, совершенно новое повествование, служащее σύµπασα γνώµη евангелиста[1381].
5. Матфей дублировал рассказы[1382] Марка (Мк 10:46–52 = Мф 9:27–31; 20:29–45) и Q (11:14–15 = Мф 9:32–34; 12:22–24). Дублирование позволяет создавать «типичные»[1383] или «решающие сцены»[1384]. И в этих случаях невозможно избежать вывода, что Матфей вполне сознательно дублировал историю – рассказывал ее дважды, немного по-разному, хотя прекрасно знал, что в источниках она происходит лишь один раз. По этим же причинам Матфей намеренно сохранил некоторые дублеты Марка / Q[1385]. Дублирование эпизодов, кстати, вообще не так уж необычно для синоптической традиции; это происходит уже у Марка и в до-Марковой традиции, как засвидетельствовано для до-Марковой традиции – двумя рассказами о кормлении голодных (Мк 6:34–44 / 8:1–10), а в Евангелии от Марка – редактурой предсказаний Иисуса о своей смерти и воскресении, где к двум традиционным редакциям (Мк 8:31; 9:31) Марк добавляет третью (Мк 10:32–34). Схожий случай представляет история обращения Павла в Деяниях, которая рассказывается трижды (Деян, гл. 9; гл. 22; гл. 26); однако историк Лука ясно дает понять, что это событие произошло один раз, а в гл. 22 и 26 Павел лишь снова о нем рассказывает.
6. В рассказ о Страстях, почерпнутый у Марка, Матфей вводит новые материалы, как имеющие, так и не имеющие традиционной основы, с целью сюжетно переделать окончание истории Иисуса, которое дает Марк. Не стану перечислять здесь все случаи – назову лишь наиболее известный: сцена умывания рук (Мф 27:24–25). Крайне маловероятно, чтобы Матфей пользовался здесь материалами преданий; возможно, он просто выдумал эту сцену, занимающую в рассказе о Страстях ключевое место. В последующие века она оказала огромное влияние на христианский мир, побудив христиан видеть в еврейском народе в целом «народ богоубийц»[1386]. Здесь я должен сказать: на мой взгляд, Матфей знал, что создает исторический вымысел, что в виде якобы «исторического факта» излагает собственную богословскую интерпретацию смерти Иисуса и причин разрушения Иерусалима и Храма. Если мы принимаем современные общепринятые представления о том, что можно и что нельзя делать историку – «оправдать» Матфея в этом случае никак невозможно.
Заключение: Матфей создавал различного рода исторические вымыслы вполне сознательно, понимая, что делает. Что же понимал он сам под «истинностью» своей истории об Иисусе, учитывая, что многие эпизоды в этой истории вымышлены и в целом его повествование является, по крайней мере отчасти, хронологической и географической выдумкой?
1.2. Матфей укоренен в традиции
В то же время Матфей укоренен в традиции и многим ей обязан. Эти корни особенно очевидны в случае главного его источника, Евангелия от Марка. Проиллюстрирую свою мысль.
1. После того как в главах 1–11 Матфей создает собственное введение к истории Иисуса, в главах 12–26 он точно следует сюжету Марка. Только в последних двух главах (27–28) он вновь отходит от этого образца и начинает творить самостоятельно. После главы 12 он не меняет последовательность событий, приведенную Марком, лишь иногда добавляет материал из других источников[1387].
2. Матфей почти ничего из Марка не пропускает. Лишь четыре истории из Евангелия от Марка отсутствуют в Евангелии от Матфея (Мк 1:23–26; 4:26–29; 9:38–40; 12:41–44), и в каждом случае – по очевидным причинам. То, как обращается Матфей с источником Q, разумеется, оценить труднее; но предполагаю, что и с ним он обходится достаточно бережно[1388].
3. Речи Иисуса у Матфея также традиционны. И большие, и малые речи Иисуса у Матфея почти полностью взяты из преданий. К материалу преданий он добавляет лишь несколько логий, выдержанных в том же стиле. В этом он сильно отличается от греческих историков, которые, как правило, вкладывали в уста своих героев речи собственного сочинения. В сравнении с Фукидидом, самым «солидным» греческим историком, Матфей делает прямо противоположное: Фукидид признает, что в случае с речами действующих лиц ему не оставалось иного выхода, как писать их самому, стараясь, насколько это возможно, следовать «основному содержанию» (σύµπασα γνώµη) того, что они могли сказать в данной ситуации. В том же, что касается «фактов» (τὰ ἔργα) истории – в том числе и ситуаций, в которых произносятся речи героев, – он отвергает всякие попытки приукрасить реальность, даже если приукрашенный рассказ и стал бы более занимателен для читателей[1389]. Матфей поступает строго наоборот: в речах Иисуса он почти полностью, даже в выборе слов, верен преданию – однако те «исторические» ситуации, в которых произносятся эти речи, без колебаний выдумывает, как в случае Нагорной проповеди или второй части изложения притч (Мф 13:36–50).
Столь же поражает различие между Матфеем и Четвертым Евангелистом. Несмотря на то что Иоанн писал свое Евангелие в ситуации, аналогичной Матфею – после разрыва с местными синагогами, – он писал совершенно по-другому: из множества историй о чудесах выбрал лишь несколько (Ин 20:30–31), а затем сам составил речи и диалоги Иисуса, переформулировав (даже) несколько традиционных речений Иисуса таким образом, что и они стали «иоаннизироваными». Метод Матфея иной. Даже если сравнивать Матфея с историческими авторами Ветхого Завета, мы заметим, что в целом – например, излагая речи Моисея и Иисуса Навина к народу, – они обращаются с традицией более свободно.
4. Закончу замечанием о том, что на преданиях основана большая часть материала Матфея, несмотря даже на то, что словарь и стиль его порой носят на себе явные следы редактуры – что и понятно, поскольку во многих случаях евангелист должен был сначала записать устное предание. Даже во вставках в рассказы о Страстях и о Пасхе в последней части Евангелия по большей части ощущается укорененность в до-Матфеевой устной традиции[1390]. Мф 27:24–25 является в этом смысле исключением.
Как же совместить творческую активность Матфея, его склонность к инновациям и литературному вымыслу – с верностью традиции?
1.3. Как Матфей понимал истинность своей истории
Для Матфея, по-видимому, не существовало противоречия между истинностью, в смысле достоверности истории Иисуса, и введением новаций, вымышленных дополнений, а также изменений в расположении материала. Можно сказать еще резче: Матфей написал художественное произведение по реальной истории Господа Иисуса. Его понимание истины достаточно далеко от современного, постпросвещенческого понимания исторических фактов.
У Матфея мы не видим знания категорий, присущих греческим историографам. Истинность рассказов об Иисусе и слов Иисуса, сохраненных Матфеем, не имеет ничего общего с верностью историческим фактам. Они не «верны» – ни в смысле историчности, ни в смысле свободы от мифологических элементов[1391]. «Верность» их не означает и вероятности – эти слова и события лишь «могли произойти», в Аристотелевом смысле[1392], и излагаются, поскольку иллюстрируют некую общую философскую истину. Эти категории не очевидны. Матфей нигде не рассуждает об истинности своей истории открыто – поэтому мы можем лишь догадываться о том, как он понимает верность истине.
В последующих своих предположениях я постараюсь дать положительные формулировки некоторых аспектов понимания истины у Матфея. С их помощью я попробую понять, в чем же состоит истинность Матфеева художественного вымысла. Можно предположить, что события, о которых рассказывается в этой книге, «истинны», когда:
• Они передаются в Церкви, сохраняются Церковью и противоречат очерняющим слухам, бытующим среди иудеев – врагов Церкви (см.: Мф 28:15).
• О них пророчествуют Писания. Пророки предсказали даже подробности истории Иисуса – например, то, что семья его поселится в Назарете (Мф 2:23), что Иисус въедет в Иерусалим на двух ослах (Мф 21:5), о том, какими словами будут первосвященники насмехаться над Иисусом, распятым на кресте (Мф 27:43), или о том, как распорядятся они кровавыми деньгами, которые вернет им Иуда (Мф 27:9–10).
• Они укладываются в общий повествовательный контур истории Иисуса – то есть рассказывают, иллюстрируют или объясняют то, как Иисус, Мессия Израилев, оказался отвержен израильскими вождями и обманутым ими народом, а затем, благодаря своему воскресению, стал Господом всего мира.
• Они соответствуют опыту церкви Матфея: Церковь в своей истории и жизни также следовала модели Иисуса. Как и Господь, она терпела преследования в Израиле. Как и одиннадцать учеников на горе в Галилее (Мф 28:16–20), она ныне призвана нести всему миру заповеди Господни.
• Они соответствуют опыту учеников, общавшихся с Господом, который исцелял «слепых», восставлял «хромых» и простирал руки, дабы защитить изнемогающих в жизненных бурях (ср.: Мф 14:28–31).
Можно ли считать Евангелие от Матфея надежным источником для реконструкции исторического Иисуса? Вопрос этот сложен. В следующем разделе я взгляну на Матфея с точки зрения современной исторической науки, пережившей лингвистический поворот. Затем постараюсь глубже разобраться в этом вопросе, определив место Матфея между греческой и библейской «историографией».
2. Матфей в контексте историографических представлений: современных, греческих и библейских
2.1. Современные концепции исторического повествования после лингвистического поворота
С первого взгляда кажется, что Матфей хорошо укладывается в современные концепции исторического повествования, развившиеся во второй половине ХХ века, после лингвистического поворота. Преобладающее сейчас понимание историографии далеко отстоит от представления об истории как простом воспроизведении прошлого «как было». После лингвистического поворота в центр интереса теоретиков вышло конструирование истории и рассказывание истории. История понимается теперь как конструирование смысла прошлого[1393]. Воспоминание понимается как воссоздание прошлого в настоящем и для настоящего[1394]. Хейден Уайт и Ханс Роберт-Яусс научили нас тому, что факт и вымысел не живут друг без друга: для того чтобы реконструкция прошлого вышла за пределы роли простого архива, ей необходим вымысел, несущий когнитивные и коммуникативные функции[1395]. Res factae и res fictae невозможно по-аристотелевски отделить друг от друга[1396], ибо история существует лишь как рассказанная история. А без вымысла и без творческого воображения невозможен никакой рассказ. Алейда Ассман, говоря с точки зрения истории литературы, утверждает, что вымысел – необходимое и незаменимое орудие индивидуального истолкования мира: «Модель [реальности], созданная вымыслом… индивидуальна, ее создает сознательный личный разум, и она обобщает бессознательную [коллективную] картину мира в мета-дискурсе»[1397]. Противоположностью «вымыслу» для нее является не «факт», а общепризнанная, коллективная истина традиции.
Разумеется, это серьезный отход от концепции объективных исторических фактов, направлявшей историческую науку со времен Просвещения и вплоть до середины ХХ века. Но каково значение этих новых теоретических разработок, последовавших за лингвистическим поворотом, для представителей так называемого Третьего поиска и их работы – создания жизнеописания исторического Иисуса? В целом, приходится сказать, значение это минимально. Редко, очень редко у исследователей Иисуса можно встретить размышления об искусственном характере любой исторической реконструкции, любого рассказа о событиях прошлого[1398]. Скорее, представители Третьего поиска стремятся расширить историческую базу для изучения Иисуса: включают в свою работу археологические, социоисторические, культурологические данные, чтобы написать более обоснованную, «более реальную», более объективную историю Иисуса. Для практической исторической работы – по крайней мере в мейнстриме современного исследования Иисуса – идеал исторической объективности, которому следовали в Античности Фукидид, Полибий и Лукиан и который столь восхвалялся в XIX веке, а теоретические размышления, последовавшие за лингвистическим поворотом, по большей части остаются незамеченными. Это имеет определенные последствия для взаимоотношений между Евангелием от Матфея и нашим поиском «исторического» Иисуса. Пропасть между Матфеем и его интерпретативными «тенденциями», с одной стороны, и исторической методологией большинства представителей Третьего поиска – с другой, выглядит непреодолимой, в то время как историографические концепции, созданные уже после лингвистического поворота, открывают для нас множество возможностей контакта не столько с классическими греческими историографами, сколько с другими типами греческих историографов, а также со многими библейскими «историографами», включая и Матфея. К этим концепциям мы сейчас и обратимся.
2.2. Современные историографические концепции и написание истории в древности
Сравнивая историков древности с современными историографическими концепциями, возникшими после лингвистического поворота, мы видим определенное сходство последних с так называемой «моралистической» историографией, ставящей своей целью не только поведать некую историческую истину, но и восхвалить или обличить[1399]. Новое открытие повествовательного измерения истории ведет также к пониманию близости между историографией и биографией как в древности[1400], так и в наши дни: задача и биографа, и историка – изображать хорошие и дурные примеры. Не только биограф, но и историк ставят перед собой задачу поучать, в том числе – правителей.
Современные историографические концепции относительно близки также к так называемому риторическому типу историографии, представленному, например, в трудах Эфора Кимского и Феопомпа Хиосского, учеников Исократа. Для них, помимо риторического стиля, характерен акцент на дидактической и моралистической стороне истории и, соответственно, на личностях[1401]. Эти современные концепции могут привести даже к частичной реабилитации так называемого драматического типа историографии, представителем которого был, например, Дурид Самосский, открыто вводивший в историографию элементы мимесиса и гедоне[1402]. Новое восприятие повествовательного и «литературного» начала в историографии может привести и к более позитивной оценке тех древних историографов, что сочетали факты с легендами и вымыслами, как Ксенофонт в своей «Киропедии» или даже Ктесий Книдский – историки, ставшие важными предшественниками эллинистического жанра исторического романа, в котором исторические факты были почти отброшены, а главной, если не единственной заботой автора стало удовольствие читателей[1403].
История как рассказ, история как художественное произведение – может ли такая современная концепция истории открыть нам двери и к реабилитации библейских и иудейских исторических сочинений именно как исторической литературы? Коснется ли такая реабилитация не только Иосифа и Луки, но и Матфея, и псевдо-Филона, и Книги Юбилеев, Книг Царств, Священнического кодекса, истории Давида? Факты в них неотделимы от вымысла; их не различают и сами авторы. Означает ли это, что мы можем видеть в Матфее историка – так же как современные исследователи видят историков в яхвисте или авторах Книг Царств?[1404] В самом деле, использование вымысла для интерпретации истории у Матфея – яркий пример подобного подхода к истории. Даже вымышленные детали своего повествования он создает и использует ради σύµπασα γνώµη[1405]. Можем ли мы назвать Матфея историком?
Как бы ни отвечать на этот вопрос в наше время – необходимо помнить, что в Античности историография была весьма разнообразна и зачастую пересекалась с другими жанрами. Наиболее известен был идеал Фукидида; однако даже те, кто его цитировал, далеко не всегда ему следовали. Даже Лукиан, строгий сторонник приверженности историка одной лишь истине, рекомендует «изящно располагать события и описывать их так живо, как только возможно», становясь в этом истинным «Фидием от истории»[1406].
2.3. Отличие Матфея от греческой историографии
Иудейский историк Иосиф Флавий в предисловии к «Иудейским древностям» дает четкое определение различных форм историографии: одни заботятся о том, чтобы «выказать блестящий стиль свой» (λόγων δεινότητα) на пути к славе; другие стремятся «снискать себе расположение» (χάριν φέρειν) тех, о ком пишут. Третьи стремятся описать события, коим стали свидетелями. Интерес четвертой группы историков – в том, чтобы показать «величие дотоле скрытых и покоящихся как бы во тьме событий» (χρησίµων µέγεθος πραγµάτων ἐν ἀγνοίᾳ κειµένων) и написать о них ради общего блага (εἰς κοινὴν ὠφέλειαν) (И. Д. I, 1.1 = предисловие автора). Здесь Иосиф Флавий демонстрирует понимание типов и задач греческой историографии. На мой взгляд, Евангелие от Матфея весьма отличается от всех форм греческой и римской историографии, не только классической «фукидидовской», но и «поучительной», «риторической» и «драматической» историографии. Его трудно расположить на этой шкале, поскольку он просто не знаком с их моделями и идеалами.
Его Евангелие имеет фундаментальные характеристики, свидетельствующие о его серьезном отличии от современной ему греческой историографии:
1. Как и многие греческие историки, Матфей пишет о современной ему истории, однако делает это в стиле повествования о далеком прошлом. Современная история – основная тема классических греческих историографов. Вернемся снова к Фукидиду. В главах 2–20 своей первой книги он делает краткий обзор древнейшей истории Греции (= τὰ παλαιά… τῶν προγεγενηµένων; История I, 20.1). Для этого ему приходится обращаться к поэтам и хронистам (λογογράφοι), и единственная его задача – выбрать из их сильно приукрашенных и мифологизированных сообщений то, что может быть правдой. Однако истинная задача историка – писать историю времен недавних, которым он либо сам был свидетелем, либо может опросить свидетелей, которые при этом присутствовали (История I, 22.2). Отзвуки этого широко распространенного представления о задаче историка слышны, по-видимому, и в прологе к Евангелию от Луки, где Лука говорит, что будет писать о «совершенно известных между нами событиях» (τῶν πεπληροφορηµένων ἐν ἡµῖν πραγµάτων), и приписывает важную роль очевидцам (Лк 1:1–2)[1407]. В Евангелии от Матфея все по-другому. Несмотря на то что предмет этого Евангелия – современная история, в нем, в отличие от Луки, нет ни ссылок на свидетелей, ни упоминания о его исторической точности. В заголовке своей книги Матфей излагает совсем иную программу: его намерение – написать Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, родословие Иисуса Христа (Мф 1:1). Если верно понимание, которое предложили Уильям Дэвис, Дейл Эллисон и Мойзес Майордомо-Марин[1408], то γένεσισ – это отсылка к первой библейской книге, известной среди грекоязычных иудеев как Γένεσις. Матфей хочет написать новую «Книгу Бытия» об Иисусе Христе. Иными словами, он не хочет рассказывать современную историю Иисуса так, как это сделал бы греческий историк – он хочет рассказать ее по-библейски: как основу истории Церкви, так же, как Пятикнижие рассказывает основу истории Израиля. С точки зрения греческого историка можно сказать резче: Матфей рассказывает историю Иисуса не как «историк», но как «поэт» или λογογράφος, так, словно говорит о чем-то «древнем», случившемся в стародавние времена.
2. Имя автора книги либо не сохранилось, либо не было дано ей изначально. Евангелие от Матфея – анонимный текст: в этом оно схоже не только с библейскими историческими книгами и с большинством древнееврейских исторических текстов, рассказывавших «начало истории» Израиля от сотворения мира до вхождения в Землю Обетованную, но и с сочинениями «традиционных» иудейских историков, рассказывающих о последующих событиях израильской истории[1409]. Общее правило, верное для всех анонимных «традиционных» исторических книг, можно сформулировать так: важен не авторитет историка – ни его свидетельства очевидца, ни мастерство исследователя, ни даже доступ к первоисточникам[1410]; важен авторитет самой традиции[1411]. Эта анонимность как основная характеристика «традиционной» или «начальной» истории очень важна: она идет рука об руку с другими характеристиками, которые Матфей также разделяет с «традиционными» иудейскими рассказчиками о прошлом.
3. В книге нет предисловия, объясняющего цель или принципы ее создания. Автор Евангелия от Матфея нигде не размышляет над тем, как именно он рассказывает свою историю, не объясняет читателям особенности или особые достоинства своей книги сравнительно с прочими.
4. Мы не замечаем у Матфея никакого сознания исторической истины[1412]. Матфей не делает хорошо известных и столь важных для греков различий между µῦθος и ἀληθεία, между «фактом» и «вымыслом», между «до-историей» (ἀρχαιολογία, τὰ παλαιά)[1413], которую невозможно ничем подтвердить или доказать – и «современной историей», у которой есть очевидцы и которая, по мнению многих, только и должна интересовать историка в полном смысле слова. Матфей начинает свою книгу с Авраама и ведет читателей по генеалогическому древу вплоть до Иосифа, усыновившего Иисуса (1:2–17), явно не сознавая того, что с отдалением от его собственного времени его задача становится труднее. Короче говоря, у Матфея совершенно не заметно того, что можно назвать «критическим самосознанием» историка. Этому соответствует и холистический тип восприятия, в центре которого стоит идентификация[1414].
5. Матфей не обращается к своим читателям. Для кого предназначена его книга? Ответ очевиден: он пишет для Церкви. По всей видимости, он прекрасно знал, что его книгу будут переписывать и она разойдется по другим церквям, в Сирии и в иных местах, как случилось и с его основным источником, Евангелием от Марка. Все это хорошо известно, но я упоминаю об этом, чтобы подчеркнуть важное отличие Матфея от других греческих историков и биографов: книга Матфея предназначалась не для отдельных читателей, но для использования в церковных собраниях. Разумеется, ее читали и отдельные читатели – но читатели, сознающие себя полноправными участниками своих общин, µαθηταί Ἰησοῦ (учениками Иисуса), представителями богоизбранного народа Израилева и в то же время членами ἐκκλησία Иисуса.
6. История Иисуса, изложенная у Матфея – это «начальный миф» христианской общины. Книга Матфея написана и читается не потому, что история Иисуса очень важна исторически, не потому, что она вдохновляет или подает пример, не потому, что учит чему-то важному или доставляет читателю удовольствие, а потому, что в ней изложены причины и основы существования религиозной группы. Она сходна с тем типом священного сюжета, который Мирча Элиаде именует «мифом», образующим религиозную ориентацию народа или племени – с той лишь разницей, что действие этого мифа происходит не в «изначальные» времена[1415]. В особенности похож он на мифы о возникновении Израиля, изложенные в Пятикнижии.
7. Отношение читателей/слушателей к истории Иисуса – это отношение причастности. Последняя из основных характеристик, о которой мне хотелось бы сказать – причастность читающего сообщества к своему изначальному мифу. В Евангелии от Матфея хорошо заметен «инклюзивный» характер истории Иисуса: то, что произошло с Иисусом, повторяется в послепасхальной истории его последователей, а во многих случаях и то, что рассказано в отдельных сюжетах об Иисусе, повторяется в индивидуальном опыте общения верующих с воскресшим Господом[1416]. Община «становится причастником» истории Иисуса, рассказанной в Евангелии, через чтение или слушание. Матфей смотрит на историю не со стороны, не как на объект исследования, что предполагается самим ее названием (ἱστορία – расследование). Причастность как модель восприятия Евангелия от Матфея – еще оно указание на мифический характер той истории Иисуса, которая в нем рассказана[1417].
2.4. Матфей и библейская «историография»
Эти наблюдения демонстрируют нам также близость между Евангелием от Матфея и библейскими, а также другими древними иудейскими т. н. «историческими» сочинениями: все эти характеристики так или иначе свойственны библейским и другим древнеиудейским авторам, повествующим о начале истории Израиля, от Яхвиста до псевдо-Филона (более или менее современника Матфея). Культурный мир этих авторов – даже эллинизированных и грекоязычных – разительно отличен от мира греческих историографов[1418]. Вслед за Герхардом фон Радом в его знаменитой статье о началах историографии в Израиле[1419] мы можем назвать Грецию и Израиль родителями современной историографии – но сколь различны эти родители между собой!
В некоторых отношениях ближайшими «родственниками» Матфея в Греции следует назвать не историков и не биографов – даже тех из них, кто не сторонился сверхъестественного, – а… гомеровские поэмы! Анонимный гомеровский эпос содержит в себе «изначальную» историю (хотя, разумеется, совсем иную и в иной форме, чем Библия) аристократического общества архаической Греции. Понимание «истины» у «Гомера» еще абсолютно «докритично»[1420]. Напротив, Гесиод – первый греческий автор, оставивший нам свое имя (Теог 1.22) – уже знает, что те прекрасные песни, коим научили его Музы, для одних людей ложь (ψεύδεα), а для других истина (ἀληθεία) (Теог 1.27–28)[1421]. Это начало освобождения индивида из-под власти традиционной мифологической «истины».
2.5. Богословский взгляд
Отмечу и последнюю общую точку между Матфеем и традиционной библейской историей, отличающую его от греческой, эллинистической и римской историографии. Библейские «исторические» книги, как и Евангелие от Матфея, рассказывают свои истории с богословской точки зрения. Господин истории в них – Бог. Для Матфея Бог – также главное действующее лицо в истории Иисуса. Бог присутствует в мире и в Церкви через Иисуса-«Эммануила» (Мф 1:23–24). Бог – властелин всей истории, которая видится Матфею как исполнение пророчеств, причем каждое из них он фиксирует «цитатами». Однако это еще не составляет различия между Матфеем и всеми греческими историками. Действительно, многие греческие историки, в том числе Фукидид и Полибий, описывали события с атеистической точки зрения; они стали предшественниками методологического атеизма в современном, постпросвещенческом историческом исследовании. Другие эллинистические историки говорят о τύχη[1422], изредка можно встретить упоминания о εἱµαρµένη или προνοία[1423] как основной движущей силе истории. Наконец, третьи, скажем, Геродот, Ксенофонт или Аппиан, видят в истории поле деятельности богов[1424]. В их случае разницу между ними и библейской, а также Матфеевой «историографией» составляет не сам богословский взгляд на вещи, а то, как они говорят о Боге и/или богах.
Подведем итоги: Матфей – не историк в смысле греческой историографии. У него нет сознания исторической истины. Между греческой и библейской «историографией» имеется фундаментальное различие в понимании исторической истины, вымысла и факта, точнее, в том, что у библейской «историографии» это понимание отсутствует.
В этом необходимо отдавать себе отчет, когда мы используем библейские «исторические» книги, в том числе и Евангелие от Матфея, в качестве источников для современных исторических исследований. Что бы там ни говорить, наш поиск исторического Иисуса очень далек от интересов и мышления Матфея. И не только потому, что Иисус для Матфея – фигура не истории, а керигмы, живой Господь Церкви, но и потому, что расстояние между Евангелием от Матфея как источником по историческому Иисусу и нашими историческими изысканиями огромна, причем не только в хронологическом, но и в культурном плане: для Матфея «прошлое» – всегда живое, актуализованное, вспоминаемое, интерпретируемое, источник нынешней жизни церкви. «Прошлое» для него – не предмет индивидуальной ἱστορία, как для греческих историков и для современных исследователей Иисуса.
3. Матфей и исторический Иисус
В последнем разделе сделаю несколько замечаний о Евангелии от Матфея как источнике по «историческому» Иисусу – замечаний, которые, несомненно, для самого Матфея прозвучали бы крайне странно.
3.1. Матфей как «традиционный повествователь», ориентированный на прошлое
Здесь я пользуюсь терминологией Йорна Рюзена, которые различает четыре вида исторического повествования: «традиционное повествование», «повествование-образец», «критическое повествование» и «генетическое повествование»[1425]. Матфей – не «критический» повествователь, готовый перевернуть прошлое вверх дном, чтобы привести его в соответствие своим концепциям[1426]. Традиционный повествователь видит в прошлом источник смыслов и целевых указаний для настоящего: прошлое для него неразрывно связано с настоящим[1427]. Переформулирование прошлого, даже «вымысел» для него имеют одну цель – подчеркнуть значение прошлого; вымысел здесь служит прошлому, а не наоборот.
Специфическая характеристика Матфея как традиционного повествователя: он подчеркивает, что все учение Иисуса сохраняет верность и значимость для его времени (διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάµην ὑµῖν [28:20а]). Как автор, ориентированный на верность традиции, Матфей стремится сообщить своим читателям учение Иисуса целиком. Он полностью сохраняет, насколько мы можем судить, не только Евангелие от Марка, но и Источник Речений[1428]. Возможно, он имел доступ и к каким-то другим письменным материалам, которые также сохранил в своем Евангелии[1429]. Различие в этом отношении между традиционно-ориентированным евангелистом Матфеем и Четвертым Евангелистом поразительно[1430]. Поскольку Матфей – традиционно-ориентированный автор, в качестве источника для реконструкции Иисуса он заслуживает внимания и доверия.
3.2. Матфей – иудейский автор, возможно, очень близкий к иудейскому окружению Иисуса
Почти никем не оспаривается, что евангелист – последователь Иисуса из иудеев и что его церкви имели еврейско-палестинское происхождение. Хотя я и не думаю, будто имеющиеся у нас свидетельства позволяют с достаточной уверенностью поместить Матфея в Галилею, на родину Иисуса[1431], а кроме того, я предпочитаю соглашаться с традиционным мнением, считающим родиной Первого Евангелия какой-либо сирийский город с крупной еврейской диаспорой (скажем, Антиохию), несомненно, у иудеев, окружавших Матфея, много общего с Иисусом: не только Иисус, но и до-Матфеевы иудеохристианские предания, к которым обращался евангелист, свидетельствуют о значительном отдалении от принципов чистоты и других ритуальных законов[1432]. В этой среде проповедь Иисуса – не фарисея, не книжника, но всего лишь благочестивого ам-хаарец — должна была приниматься благосклонно. Не только для галилеянина Иисуса, но и для позднейших его учеников в Сирии близость к язычникам была неизбежным и самым обычным делом. Несомненно, Иисус не определял Израиль, противопоставляя израильтян язычникам, – и равно так же ученики Иисуса, которые обосновались в языческой Сирии в дни Первой Иудейской войны, приняли языческо-христианское Евангелие от Марка и готовы были выполнять Великое Поручение воскресшего Господа: найти ему учеников во всех народах, πάντα τὰ ἔθνη. Есть преемственность и между благочестием Иисуса, трактовавшего присутствие Бога в Израиле не в культовых, а в эсхатологических категориях, и позднейшими легендами вроде Мф 17:24–27, в которых заметно некое подобие «несомненной отдаленности» от Храма.
На мой взгляд, Евангелие от Матфея – это традиционный текст, передающий предания об Иисусе без радикального разрыва с его религиозной и культурной средой. Радикальные разрывы в культурной и религиозной среде всегда идут рука об руку с разрывами традиции. В таких случаях предания устаревают, забываются или подвергаются цензуре, и обретают важность новые традиции, призванные легитимизировать новые нормы в новых контекстах. В пример можно привести городское и в основном «языческое» христианство Павла. Христиане, к которым обращался Матфей, были иудеями, верующими в Иисуса; и как таковые, они – с их трактовкой Иисуса, с их обычаями, основанными на Торе, и в их самосознании – оставались израильтянами, а не приверженцами какой-то другой религии, отличной от иудаизма.
В такой среде могла сохраниться память о том, что Иисус был иудеем и был послан к Израилю, а не к язычникам (Мф 10:5–6)[1433]. В такой среде могли сохраниться – и не превратиться в архаизмы – и речения о Сыне Человеческом. В такой среде верность Иисуса Торе не стала проблемой: здесь не подвергали сомнению ни Тору как один из столпов иудаизма, ни возможность приспособить ее к новым обстоятельствам. Все это позволяет нам видеть в Евангелии от Матфея сосуд, сохранивший в себе многое из того, что значил Иисус для своих современников-иудеев.
Мы, христиане-неевреи, часто слышим от своих еврейских друзей, что они понимают Иисуса лучше нас, ибо он был одним из них. Думаю, в этих словах есть смысл[1434]. На мой взгляд, Матфей как иудей должен был особенно хорошо понимать иудея Иисуса, поскольку жил в той же культурной среде и, возможно, был даже культурно ближе к Иисусу, чем другие ранние христиане. Хочу подчеркнуть – пусть даже это и постулат, – что образам Иисуса, созданным там, где сохранили с ним культурную преемственность, необходимо отдавать предпочтение. Не следует ли сделать это критерием для дальнейшего «Исследования Иисуса»?
3.3. Как Матфей сводит Иисуса в систему – и как это делаем мы
Одна из наших проблем с Иисусом – в том, что каждому истолкователю необходимо сначала свести в систему отдельные и разрозненные речения и предания о нем, а затем сформировать общую картину, некий каркас или конструктивный принцип, в котором все эти речения складываются в единую мозаику. Вот почему, даже если мы в целом согласны друг с другом относительно подлинности или недостоверности отдельных преданий, наши представления об Иисусе могут сильно различаться. Теперь спросим: какие из «систематизаций» (или «не-систематизаций») Иисуса, предложенные Матфеем, могут быть очень близки к самому Иисусу просто потому, что их создал иудей, близкий к Иисусу и по времени, и по культуре? Приведу два примера.
Во-первых, для Матфея, в отличие от его современных истолкователей-христиан, нет противоречия между тем, что Иисус пришел исполнить закон (Мф 5:17) до последней йоты и черты (Мф 5:18) – и тем, что его проповедь, казалось бы, противоречит закону[1435]. Какова логика Матфея? Быть может, его, как и многих раввинов, интересует не столько логическая связность, сколько возможность представить множество разнообразных изречений? Или же нам необходимо пересмотреть наши собственные представления о логике и связности? Или, быть может, иудейское представление о живой и изменчивой Торе столь широко, что те перемены, которые для нас порой выглядят как отказ от Торы (например, Мф 5:31–32, 38–39) – для иудея Матфея остаются лишь формой ее исполнения? Или вводные формулы к антитезам риторичны и их не следует понимать как серьезные христологические утверждения? Разумеется, все это не имеет прямого отношения к Иисусу: как минимум некоторые из наиболее сложных логий главы 5 к нему напрямую не восходят[1436]. Но в любом случае каркас, построенный Матфеем в главе 5 – это вызов для наших представлений о связи Иисуса и Торы.
Второй пример также показывает, как Матфей сплетал идеи, которые современному человеку кажутся противоречивыми. Матфей, по-видимому, не видит никакого противоречия между пророчествами Иисуса (у Матфея – очень ясными!) о грядущем Страшном суде – и утверждений о милосердии Божьем и о том, что Бог исцеляет и защищает нищих, слепых, бесноватых… Мысль о милосердии Божьем, которое обратится в проклятие, если его не примут, для Матфея проблемы не представляла.
Почему? Разумеется, систематизация (и не-систематизация) Матфея принадлежит ему, а наши толкования – только наши. И все же, полагаю, об этом стоит задуматься современным западным комментаторам, которые сводят пророчества о грядущем Суде к неизбежному «концу света», а Иисуса превращают в учителя нравственности и проповедника безграничной милости Божьей.
Особенно сложен для меня вопрос о том, почему Матфей зачастую не видит никаких противоречий там, где для нас они просто бросаются в глаза. Может быть, он, как иудейский раввин, сопоставляет различные предания и темы, не пытаясь их согласовать или подвергнуть цензуре?[1437] Или же сам Иисус в этом отношении «вел себя как раввин»? Эти вопросы Матфей оставляет современным толкователям исторического Иисуса – и он заслуживает того, чтобы его услышали!
3.4. Иоанн Креститель и Иисус
Особого внимания требуют отношения Иисуса с Иоанном Крестителем. Из речей Иоанна сохранилось очень немногое, и его общий образ можно достраивать очень по-разному. Христианские представления, как правило, сводятся к утверждению фундаментального различия между Иоанном и Иисусом[1438]. Матфей поступает иначе: согласно ему, образ жизни у Иоанна и Иисуса различался, но и проповедь, и судьба почти совпадали. Быть может, толкование Матфея ближе к исторической истине?
3.5. Иисус как истинный иудей
Последнее мое замечание – не об историческом воссоздании, а о нынешнем значении наших попыток восстановить облик Иисуса-иудея. Матфей изображает Иисуса истинным иудеем: Иисус исполняет Тору и весь закон; он – мессианский Сын Давидов, исцеляющий немощных в народе Израиля; его миссия и судьба едина с миссией и судьбой израильских пророков. И именно эта миссия Иисуса, истинного иудея, привела к конфликтам и в конечном счете к расколу Израиля – такую историю рассказывает нам Матфей. Этот опыт столь для него катастрофичен, что он не может найти ему иных объяснений, кроме очернения враждебных к Иисусу иудейских вождей. Для Матфея они – не истинные иудеи: они – лицемеры и, в конечном счете, преступники, действующие подкупом (Мф 26:14–16; 27:5–10; 28:14–15). Матфей не дает им возможности объяснить, в чем, по их мнению, состоит истинный иудаизм. Но даже так его видение иудаизма, представленного Иисусом, остается значимым: он смотрит глазами иудея I века и, возможно, его видение отражает иудаизм I века, близкий к тому, какой исповедовал сам Иисус. Взгляд Иисуса и Матфея на истинный иудаизм важен для нас и сегодня, как один из иудейских голосов в непрестанном диалоге, который ведут между собой иудеи. И, наконец, взгляд Матфея на иудея Иисуса, вероятно, важен и для нас, христиан-неевреев, – для того чтобы Иисус стал не камнем преткновения, а мостиком, способным соединить иудеев и христиан.
Евангелие от Луки/Деяния и исторический Иисус
Крэйг Кинер
Я уже касался вопроса об историческом Иисусе в древнеиудейском контексте[1439] и считаю, что этот вопрос очень важен – как полагает и большинство моих коллег, принявших участие в создании этой книги. Впрочем, здесь мне хотелось бы сосредоточиться на более узкой теме.
Все исследователи согласны в том, что Лука не был очевидцем событий, о которых сообщает в своей первой книге. Кем бы ни был Лука, очевидно, что он из Диаспоры: специалисты часто упоминают о том, что он слабо представлял географию Галилеи[1440], а также, вполне возможно, не знал арамейского[1441]. Более того, Лука пишет по меньшей мере через поколение после событий, происходящих в его Евангелии (а если говорить о событиях младенчества и детства Иисуса, то еще позже). И пусть ряд исследователей – их меньше, но все же немало – все еще относят труд Луки к 60-м годам I в., полагая, что Лука не пишет о смерти апостола Павла, поскольку во время его работы Павел был еще жив (а есть и те, кто датирует эту работу или по крайней мере ее часть ее началом II в.) – большинство все же указывает на последние три десятилетия I в., и большая часть из них склоняется к 70–90 гг.[1442].
Очень вероятно, что ни об одном событии, описанном в его Евангелии, Лука не знал из первых рук: однако столь же вероятно, что писал он в то время, когда были еще живы многие очевидцы евангельских событий[1443]. Никто не говорит, что таким очевидцем был сам Лука, – но, возможно, другие свидетельства помогут нам понять, что он мог знать об Иисусе, сколь вольно он мог обращаться с этими сведениями или «заполнять» лакуны, и какого рода «истину» могли ожидать от него читатели I века. В поисках ответа я уделю внимание двум основным темам: во-первых, жанру труда Луки, а во-вторых, его замечаниям, сделанным в предисловии.
Жанр Луки
Многие исследователи указывают, на мой взгляд, вполне убедительно, что двухтомный труд Луки сочетает в себе биографию и историографию. И если мы намерены рассмотреть обе книги вместе, необходимо хотя бы вкратце коснуться античной историографии и постараться понять, к какой из разновидностей этого жанра относится творение Луки.
Биография и история
Из трудов Чарльза Тэлберта, Ричарда Бёрриджа и других[1444] можно сделать вывод, что большинство современных исследователей видят в Евангелиях «жизнеописания», или древние биографии. От современных биографий этот жанр отличается, например, тем, что довольно часто он начинается с общественной деятельности главного героя и часто строится не хронологически, а тематически. Евангелия – не современные биографии, однако очевидно, что они соответствуют основным характеристикам античных жизнеописаний – и, помимо прочего, сосредоточены на одном герое, написаны прозой и довольно длинны[1445].
Уверение в том, что Евангелия – это античные биографии, налагает определенные последствия на то, к каким источникам обращались евангелисты как к подлинным. Специалисты по классической филологии часто определяют биографию как жанр, близкий к историографии, и не без оснований – и та, и другая имеют дело с историей[1446]. Джордж Александр Кеннеди даже называет биографию «подразделом истории»[1447]. Учитывая панегирический характер многих античных биографий, Дэвид Оун отмечает, что «этот жанр был все еще укоренен в историческом факте куда более, чем в литературном вымысле»[1448].
Разумеется, источники биографий, написанных через много лет после смерти протагониста, включают в себя немало легендарного; однако от биографий, написанных при жизни очевидцев, мы вправе ждать куда большей верности историческим событиям. Например, я исследовал биографию Отона, написанную Светонием через 40–50 лет после смерти императора (для сравнения, апостол Марк писал примерно через 40 лет после смерти Иисуса)[1449]. Хотя в «Отоне» Светония меньше двух тысяч слов, я обнаружил в нем сорок восемь совпадений (и более тридцати из них – близких) с рассказом Тацита и столько же – между Светонием и Плутархом (а также около тридцати близких совпадений между Плутархом и Тацитом). О людях, живших всего за поколение или два до них, такие биографы, как Светоний, Плутарх, Марк или Лука, не сочиняли романов, – они достигали своей цели, используя доступные им достоверные материалы.
В случае Луки дело осложняется тем, что его труд состоит из двух томов, причем второй из них (несмотря на ряд убедительных аргументов в пользу обратного) самоочевидной биографией не является. Деяния не сосредоточены на каком-то одном персонаже (несмотря на первостепенную роль апостола Петра и особенно апостола Павла), и пусть даже параллели между этими персонажами и евангельским Иисусом позволяют сравнивать Деяния с античным жанром «параллельных жизнеописаний», отсутствие во втором томе единой доминирующей фигуры не позволяет называть его биографией как таковой (хотя, возможно, это биографическая история, или комбинация этих двух жанров)[1450]. Деяния завершаются не смертью Павла, что было бы естественно для биографии, но более оптимистично, – тем, как он отправляется на проповедь в сердце империи.
Если относительно Евангелий практически все исследователи согласны, что перед нами биография, то в Деяниях, как правило, видят разновидность историографии. Высказывается немало предположений о теме Деяний (например – политическая история), о поджанре (скажем, апологетика), о форме (однотомная «монография», как работа Саллюстия) – однако, вслед за Дибелиусом и Кэдбери[1451], большинство ученых признает, что жанр Деяний – это историография в той или иной ее форме; куда меньше исследователей видит в ней биографию, а другие предположения, такие как «роман» или «эпос», и вовсе остаются экзотикой[1452]. Использование интерпретативных речей[1453], внимание к историческим событиям, случайный стиль синхронизации с историческими событиями, происходившими вне рамок повествования[1454], и другие элементы – все указывает на это[1455].
Хотя два тома книги, возможно, различаются по жанру[1456], их несомненное сюжетное единство[1457] побуждает внимательных читателей воспринимать их вместе. Евангелие, взятое само по себе – биография, однако в составе двухтомного труда Луки оно становится биографической частью истории – так же как авторы многотомных исторических трудов порой посвящают целый том или раздел какому-либо выдающемуся историческому деятелю[1458]. Это заставляет нас внимательнее присмотреться к историографическому подходу Луки.
Античная историография
Поскольку историки не просто цитировали летописи, а излагали связные истории, важнейшую роль в их деле играла риторика[1459]. Одни использовали больше риторических украшений, другие – меньше, однако в связности повествования были заинтересованы все. Даже Полибий полагал, что историки должны выносить суждения о том, заслуживают ли народы или отдельные люди критики или похвалы (Полибий 3.4.1).
Придавая своему повествованию связность, античные историки не считали, будто искажают свой материал. Напротив, зачастую они верили, что та логика, которую они наблюдают в истории, вложена туда божественным провидением[1460]. Создавая свои «параллельные жизнеописания», Плутарх старался найти наиболее схожих персонажей[1461], и замечал при этом, что сама природа дает внимательному наблюдателю достаточно материала для проведения параллелей[1462]. Выбирая моменты, полезные для сравнений, он не скрывал и различий между своими персонажами[1463]; тем более не следует нам ожидать, что сравнения главных героев у Луки уничтожат его предание. Какую бы свободу ни предоставляли себе историки (в основном высокообразованные и риторически искусные) в деталях, большинство из них не стало бы выдумывать события, чтобы создать параллель. Хотя, по всей вероятности, Лука сообщил бы нам о казни Павла, если бы захотел – место рассказа о страстях в Деяниях занимает катастрофа на море. Помимо греко-римской модели параллельных характеров и событий, Лука, вполне возможно, ориентировался здесь на библейскую традицию, которую, несомненно, считал исторически достоверной[1464]. Таким образом, не стоит считать, будто общее повествование Луки идет вразрез с историческим жанром или интересами его книги.
Античные историки часто составляли речи, в которых комментировали свое повествование[1465], хотя могли при этом следовать основной теме или темам реальной речи, произнесенной в этих обстоятельствах, если та была известна[1466]. (Это замечание относится более ко второму тому Луки; речи Иисуса в первом томе, как часто подтверждают наши источники, основаны на более ранних преданиях.) К добру или к худу, но у античных историков не было той радикальной предвзятости, с которой в просвещенческой и постпросвещенческой историографии относились к чудесам и знамениям[1467], хотя некоторые историки проявляли здесь больше скепсиса и критики, чем другие (возможно, в зависимости от ожиданий аудитории, на которую рассчитывали)[1468]. Евангелия и Деяния сообщают о знамениях чаще, чем большинство историков[1469] (а Лука и Деяния – несомненно чаще, чем Марк и Иоанн), однако отчасти это связано с тем, что они рассказывают историю чудотворца, в которой – в отличие от войн или политических хитросплетений – чудеса занимают очень важное место[1470].
Хотя ни один историк не может оставаться полностью отстраненным от событий, о которых рассказывает, в Античности, как правило, этические и религиозные взгляды самих историков обозначались в тексте более ясно, чем сейчас[1471]. Даже лучшие историки проявляли националистические предрассудки[1472]; «ответственные» историки старались включить в свое повествование тот или иной нравственный урок[1473] и верили, что ораторы и государственные деятели смогут использовать предоставленные ими примеры во благо общества[1474]. Однако историки и биографы могли вести и «чистое» повествование, никак не высказывая своего отношения к происходящему[1475]. В иудейской историографии также ценился элемент интерпретации[1476]. Как правило, для древней историографии был характерен обычай украшать повествование восхвалением и порицанием[1477]. А вот замечание, важное для Евангелия от Луки и Деяний: древние историки могли включать в свои книги богословские рассуждения[1478] и в большинстве своем верили, что в некоторых исторических событиях различима рука провидения[1479]. Разумеется, историки древности осуждали суеверия и предрассудки – но, как правило, осуждали их у других историков[1480]. Как и остальные историки, Лука мог обрабатывать свой материал в соответствии с собственными богословскими, политическими, апологетическими и иными взглядами и задачами с большей свободой, чем это принято в современной историографии.
Древние историки и сведения
Древняя историография как жанр не вполне походила на свою современную «наследницу». Однако скептицизм относительно того, что «наименование «историка» имеет какое-либо отношение к исторической точности»[1481], преувеличен: если бы оно не имело никакого отношения к точности и достоверности содержания, мы не могли бы делать из древних исторических сочинений никаких выводов и, следовательно, не знали бы об античности почти ничего[1482]. Лукиан пишет, что хорошие биографы избегают лести, искажающей события (Как следует писать историю 12), и лишь дурные историки выдумывают факты (например, Как следует писать историю 24–25). Полибий, хотя сам он ранее и восхвалял отдельных личностей, настаивает на том, что истинный историк должен хвалить и осуждать не людей, а их дела (Полибий 10.21.8). То, что историки писали, руководствуясь богословскими, политическими и иными интересами, вовсе не означает, что они все выдумывали![1483]
Даже апологетический и риторический подход Иосифа Флавия, как правило, не выхолащивает сущность библейских или иных сюжетов, которые он пересказывает. Изображая смерть Агриппы по всем правилам трагического искусства, используя в качестве предзнаменования филина (И. Д. XIX, 8.2)[1484], Иосиф дает себе волю как мастеру риторической истории (эллинистические риторические и трагические художественные приемы интересуют его куда больше, чем Луку) – однако не выдумывает ради этого саму смерть Агриппы. Клэр Ротшильд предлагает вполне сбалансированную, центристскую оценку: историки, подобно ораторам, заявлявшие, что ставят истину превыше стиля, различались по своим предпочтениям, но по большей части работали одновременно с информацией и с выразительной ее подачей[1485].
Интеллектуалы часто считали историю интересной и увлекательной[1486]. Разумеется, увлекательными были и романы; однако, как справедливо спрашивает Грегори Стерлинг о втором томе Луки, «призваны ли Деяния развлечь – или увлекательно сообщить о чем-то?»[1487]. В отличие от писателей других жанров, историки стремились в первую очередь донести до широкой публики истину[1488]. Если романы были предназначены именно для развлечения[1489], то историки верили, что могут развлекать читателя, не пренебрегая исторической истиной[1490]. Палестинская агада (возможно, более близкая к Матфею, чем к Иоанну или Луке), по-видимому, допускала большую свободу в обращении с материалом, чем эллинистическая историография.
Историки древности, как правило, стремились точно передавать сами события, если не их подробности[1491], и сурово критиковали других историков за неточности или предрассудки[1492]. Аристотель отмечал, что разница между «историей» и «поэзией» не в литературном стиле, ибо всякий желающий мог бы переложить Геродота стихами; однако первая рассказывает о том, что действительно произошло, а вторая – о том, что лишь могло бы произойти[1493]. Поэтому даже более риторически ориентированные историки признавали, что исторический труд требует не только риторического искусства, но и исследования фактов[1494]. Плиний Младший, оратор, которому так и не выпало случая написать собственную историю, настаивал, что главная цель истории – точность в изложении фактов, а вовсе не риторические красоты (Письма VII, 17.3); риторика уместна лишь там, где проверены все факты (VIII, 4.1)[1495]. Хотя риторический уровень Луки намного выше, чем у Марка, он – не элитный историк: ни его греческий язык, ни риторическое искусство не позволяют помещать его в одну категорию с куда более риторически ориентированным Иосифом Флавием[1496].
Историки Античности зачастую были достаточно критичны к своей информации; некоторые из них стали основателями критических методов, используемых в историографии и по сей день[1497]. Мы часто видим, как они критикуют сообщения своих предшественников[1498]: так, Арриан зачастую оценивает различные сообщения, сравнивая их и отмечая, например, что о той или иной примечательной истории древнейшие авторы-очевидцы ничего не сообщают, а значит, возможно, она не заслуживает доверия[1499]. В тех случаях, когда трудно было определить, где правда, писатели часто представляли несколько версий происшедшего и предлагали читателю сравнить их самому[1500]. Историки признавали также, что источники, более близкие по времени к описываемым событиям, в целом надежнее сообщений об отдаленном прошлом[1501]; этот критерий важен и для Луки, который пишет примерно через полвека после событий, отраженных в его Евангелии[1502].
Сколь аккуратен Лука-историк?
И все же некоторые античные историки обращались с доступной им исторической информацией куда аккуратнее, чем другие. Как можно оценить в этом отношении Луку? Я приведу ряд наблюдений, которые можно было бы развить намного подробнее, однако мне представляется, что для изучающих сочинения Луки они самоочевидны. Во-первых, исторические проблемы Луки возникают именно там, где мы более всего вправе ожидать их от древней историографии. Когда мудрец Гамалиил в неизреченной мудрости своей упоминает революционного вождя (Деян 5:36), который, если верить Иосифу, еще не явился, не стоит слишком удивляться: мало того что это устное уверение, так оно еще и прозвучало за закрытыми дверями, и едва ли Лука мог найти свидетелей той речи.
Во-вторых, напротив, там, где мы вправе ожидать точности от хорошего античного историка, Лука точен. Например, именно в повествовании от первого лица («мы»), предполагающем информацию от очевидцев, у Луки появляются наиболее разработанные сцены и подробности событий[1503]. Там, где в посланиях апостола Павла видна хронология его жизни и деятельности, она почти буквально совпадает с последовательностью Деяний[1504]. В ранних главах Деяний также отмечаются значительные совпадения с внешними источниками[1505].
В-третьих, как всякий ученый, работающий над синопсисом известных ему Евангелий[1506], Лука берет часть материала от Марка, часть – от Матфея. Он регулярно исправляет грамматику Марка, однако содержание заимствованных повествований и речений в целом оставляет в неприкосновенности[1507]. Если мы хотим предположить, что в местах, недоступных нашей проверке, Лука изменял свой метод и пускался в выдумки, придется исходить из того, что он предвидел, какие источники сохранятся до наших дней, а какие нет. Древние историки достаточно свободно организовывали свой материал в связные повествования – и не ожидали друг от друга того, что эту свободу используют для вымысла. Выдумывание небылиц – преступление, в котором Полибий не обвиняет даже Тимея (который, по-видимому, также считал, что в основе исторических повествований должны лежать факты)[1508]. Здесь, возможно, нам следует обратиться к предисловию Луки, показывающему, чего именно стоит ожидать от его труда.
Предисловие Луки
Единственный из всех евангелистов, Лука начинает свою книгу с предисловия, очень похожего на предисловия к историческим сочинениям[1509]; большинство ученых полагает, что оно относится к обоим томам. То, что в нем Лука сообщает о своем знакомстве с теми, от кого получил свои сведения, и о том, что расспрашивал их (Лк 1:3), соответствует принципам написания истории (Фукидид 1.22.2); использование время от времени первого лица множественного числа (например Деян 16:10) подчеркивает вовлеченность в события, считавшуюся идеалом хорошего эллинистического историка[1510].
Что бы ни говорили о стиле предисловия – содержание его обещает немало. Хорошее введение должно кратко сообщить о том, что будет дальше[1511], и у Луки это сообщение вполне исторично: «…повествования о совершенно известных между нами событиях… по порядку описать» (Лк 1:1, 3). Так же открыто и прямо он сообщает о своей цели: чтобы адресат, Феофил, получил «…твердое основание того учения, в котором был наставлен» (Лк 1:4). «Учитывая это утверждение, – отмечает Терренс Каллан, – почти очевидно, что предисловие Луки по своему содержанию более всего напоминает предисловия к историческим трудам»[1512]. Различные ученые указывали на то, что лексика в предисловии Луки соответствует обычной лексике предисловий к историческим сочинениям[1513]. (Даже Лавдэй Александер, полагающая, что предисловие Луки соответствует предисловию к научной работе, допускает, что его книга – историография, однако не столько риторического, сколько научного характера[1514].)
Источники
Лука отмечает, что о том же писали уже «многие» до него (Лк 1:1) – и эти ранние источники были, как минимум, ближе его ко времени описываемых событий. От древних историков ожидалось, что они будут обращаться к источникам[1515], – и они не стеснялись сообщать об этом своим читателям[1516]. Лука свои источники не конкретизирует – возможно, потому, что пишет ближе ко времени описываемых событий, чем большинство историков, которым приходилось иметь дело с источниками, противоречащими друг другу[1517], поскольку пишет историю не для элиты, а для широкой публики, или же потому, что опирается на коллективную память общины (ср.: «…совершенно известных между нами», Лк 1:1)[1518]. Потенциально «многочисленные» источники Луки включают в себя как минимум Евангелие от Марка, по мнению большинства ученых, с большой вероятностью Q[1519], а также другие источники, до нас не дошедшие[1520].
В ст. 1:2 Лука упоминает передачу устной традиции, которая предшествовала написанию текстов и шла одновременно с ним. Насколько точно могли ученики вспоминать и передавать учение Иисуса? Начальное образование в Античности уделяло особое внимание заучиванию наизусть[1521], хотя на более высоком уровне от ученика начинали требовать и пересказа[1522] (что, возможно, помогло дошедшим до нас преданиям сохраниться в нескольких вариантах)[1523]. Таким же образом и ученики в греческих школах запоминали и передавали из поколения в поколение изречения своих учителей[1524]. В иудейских школах, согласно дошедшим до нас источникам, тренировке памяти и запоминанию также уделялось большое внимание на всех уровнях обучения[1525]. Важным принципом укрепления памяти учеников было постоянное повторение[1526]. Некоторые ученики со временем расходились во мнениях со своими учителями, однако всегда сохраняли уважение к ним[1527] и верно передавали их учение[1528]. Таким образом, бремя доказательства должно лежать на тех, кто полагает, будто ученики Иисуса (несмотря на их восторженное преклонение перед ним) намного меньше заботились о том, чтобы запомнить и верно передать его слова, чем первое и второе поколение учеников большинства учителей той эпохи[1529].
Ученики-неевреи чаще всего вели конспект того, что говорили их учителя[1530]; иногда эти конспекты потом публиковались[1531], причем иногда сами учителя проверяли текст и подтверждали его верность[1532]. (Однако даже тем ученикам, что вели записи, многие учителя советовали также заучивать их слова наизусть[1533].) Даже ученики-иудеи, для которых на первом месте стояла устная передача, делали минимальные заметки как подспорье для памяти[1534]. Умел ли писать кто-нибудь из учеников Иисуса – вопрос открытый; но, во всяком случае, возможность таких минимальных заметок не следует отвергать с порога на основании априорных предположений о повальной галилейской неграмотности[1535].
Очевидцы, которых упоминает Лука, говоря об источниках своих преданий, занимали ведущие позиции в церкви на протяжении большей части того времени, когда их истории передавались преимущественно устно (ср.: 1 Кор 15:5–7 и Гал 1:18–19; 2:9)[1536].
А хорошо ли знал Лука свои источники?
В ст. 1:3 Лука сообщает, что «тщательно исследовал» (παρηκολουθηκότι)[1537] события, о которых повествует: слово это указывает на знакомство автора с предыдущими сообщениями и на то, что в этом вопросе ему можно доверять[1538]. Исследование источников, в том числе поездки для бесед с очевидцами, принадлежат к лучшим традициям эллинистической историографии[1539]. Однако не все историки соответствовали этим стандартам – особенно историки, жившие на Западе, или те, что описывали отдаленные страны. Мог ли Феофил – и мог ли его круг – судить о том, насколько Лука соответствует этим стандартам?
Возможно, ключ к ответу – в заявлении Луки о личной причастности к хронологически поздним разделам своего труда[1540]. «Мы» появляется в его книге время от времени: Лука не делает на своей причастности такого акцента, как, скажем, Полибий. Можно было бы ожидать, что авторское «мы» будет появляться чаще, а не время от времени: в Троаде, при отбытии в Филиппы (Деян 16:10–16), а затем – уже через несколько лет, снова в Филиппах (20:6–21:18; 27:1–28:16). И равно так же слово «мы» могло бы оказаться уместным в большем числе ключевых пунктов (скажем, в Деян 2 или Деян 10)[1541]. Кроме того, материал, отмеченный словом «мы» – наиболее подробный в книге[1542]; это соответствует тому, что он написан очевидцем событий.
Поскольку точка зрения Луки отличается от Павловой, ученые часто задаются вопросом, в самом ли деле Лука сопровождал Павла в путешествиях. Однако каждый из нас, преподавателей, знает по опыту, что ученики далеко не всегда повторяют нас во всем: глубоко уважая Павла, Лука, однако, мог и не вполне разделять его взгляды, и даже не вполне их понимать. Впрочем, некоторые из предполагаемых «богословских различий» связаны с традиционным протестантским непониманием апостола Павла[1543].
Некоторые полагают, что материал, связанный со словом «мы», отражает некий письменный источник, а именно записки о путешествии. Существование такого источника вполне возможно, однако не объясняет, почему здесь Лука использует первое лицо, не сохраняя его во всех остальных случаях, когда явно пользуется свидетельствами очевидцев (Лк 1:2)[1544]. Если это не редакторский промах, почему-то допущенный Лукой именно и только в этом месте – значит, «мы» либо подразумевает в том числе и автора, либо это – литературный прием, понятный для аудитории.
Впрочем, предположение об особом литературном приеме для описания путешествий по морю[1545] не подтверждается свидетельствами[1546]: предположение о чистом литературном вымысле здесь выглядит еще невероятнее. Да, целые книги (скажем, послания киников и апокалипсисы), могли создаваться под псевдонимом[1547]; однако Лука нигде в тексте не называет своего имени, и Феофилу он, очевидно, знаком[1548]. Вымышленное повествование от первого лица порой использовали романисты[1549], однако при этом, как правило, рассказчик находился в центре повествования[1550], – и в любом случае, как мы уже заметили, Деяния – не роман. Напротив, в исторических сочинениях повествование от первого лица (как и от третьего, с называнием рассказчика по имени) почти всегда указывало на личное присутствие автора при описываемых событиях[1551]. Артур Дарби Нок, специалист в истории античной эпохи, сумел обнаружить вне явно художественного текста лишь одно «мы», связанное с вымышленными событиями, – и заключил, что слово «мы», как правило, указывает на реальные воспоминания очевидцев[1552]. Итак, многие считают, что Лука сам предпринимал морские путешествия; что части книги, отмеченные словом «мы», описывают события, при которых он сам присутствовал; и что в этот раздел включены личные воспоминания Луки о Павле[1553]. То, что мы готовы верить почти любому античному историку, но с подозрением относимся к свидетельствам Луки, говорит многое не столько о Луке, сколько о нас самих.
Если так, значит, Лука отправляется с Павлом в Иудею в Деян 20:5–21:18, и вместе с ним покидает Иудею два года спустя, в 27:1–28:16. Хотя большую часть этого времени Лука, по-видимому, провел в Кесарии – несомненно, у него была возможность «близко познакомиться» с очевидцами тех событий в Иудее, о которых он писал.
Поскольку исследование Луки ставит перед собой, в первую очередь, задачу подтвердить несомненность уже известного (Лк 1:4)[1554], ясно, что конечные выводы его не могут быть слишком далеки от источников, по-видимому, в то время широко распространенных. В отличие от тех, кто исследует труды апостола Павла, исследователи Евангелий порой недооценивают взаимосвязанность христиан, обитавших по всей империи: им мерещатся какие-то гипотетические изолированные общины, с собственным богословием в каждой[1555]. С какой бы свободой Лука не создавал связное и увлекательное повествование, – он пользуется теми сведениями, которые уже есть и хорошо известны. Он не «вписывает» в речения Иисуса споры своего времени или даже времени своего героя Павла (например, разделение трапезы с язычниками, пищевые запреты, обрезание для язычников), а пользуется тем, что находит в источниках – в Евангелии от Марка, Q, а также, возможно, в иных, до нас не дошедших.
Завершающие размышления
В этом кратком исследовании я постарался показать, что избранный Лукой жанр и выраженные им намерения позволяют нам ожидать от него аккуратного, согласно стандартам его эпохи, обращения с доступными ему источниками. Лука стремился написать историографию (и биографию): а древняя историография, уделяя большое внимание риторике и литературному украшательству, все же имела в своей основе реальные сведения. Лука указывает на то, что обращался ко многим устным и письменным источникам, до нас не дошедшим, но в его время вполне доступным.
В дальнейшем я лишь бегло обозначу еще две важные темы. Во-первых, насколько удалось Луке выполнить свои намерения? Целые статьи посвящаются внимательному анализу его текста, призванному ответить на вопрос о том, как Лука использует свои источники (в Евангелии это Марк и Q) или насколько его рассказ соответствует другим, более ранним источникам на ту же тему (для Деяний – послания Павла). В обоих случаях мы видим, что Лука приспосабливает повествование к обстоятельствам, однако суть его – а в случае Евангелия даже речения Иисуса – остается неизменной. Лука, несомненно, адаптирует свой материал к ожиданиям эллинистической аудитории (например, пишет о симпосиях), однако изображает Иисуса как иудейского мудреца (с традиционными афоризмами, притчами и так далее), пророка и Мессию. Хотя язык Матфея в большей степени сохраняет изначальный палестинско-иудейский дух, Лука порой понимает источники тоньше: он чаще отличает фарисеев от книжников (Лк 11:42, 45–46, Мф 23:13–29), и образ фарисеев у него более глубок и нюансирован[1556]. На мой взгляд, по стандартам античной историографии Лука остается близок к своим источникам.
Во-вторых, если даже Лука добросовестно обращался к источникам, – сколь точны и аккуратны были они сами? Для ответа на этот вопрос, очевидно, нужно писать другие статьи: я затрону его лишь вкратце. Учитывая, что источники Луки предшествовали ему по времени (а те, что в его эпоху привлекали наибольшее внимание, скорее всего, предшествовали ему на много лет), сам собой напрашивается вывод о том, что многие из них исходили от первого христианского поколения, из того времени, когда очевидцы событий были живы и занимали видное положение в Церкви. К мысли о том, будто Церковь I в. постигла быстрая амнезия, я отношусь скептически, – и скептицизм этот кажется мне вполне обоснованным. Вместе с Уильямом Дэвисом стоит отметить, что, возможно, продолжительность лишь одной человеческой жизни
…отделяет Иисуса от последней книги Нового Завета. И евангельское предание – не фольклор, который передавали из уст в уста на протяжении бесчисленных лет; это предание хранили верующие общины, а во главе их стояли ответственные предводители, многие из которых сами были очевидцами служения Иисуса[1557].
Если мы принимаем гипотезу двух источников, то оба эти источника, скорее всего, принадлежат первому поколению христиан. Попытка воссоздать источники самих этих источников, возможно, носила бы спекулятивный характер; однако по опыту первых поколений других известных нам греко-римских школ[1558] можно заключить, что живая память об Иисусе (в речениях и кратких историях) в этот период должна была сохраняться неизменной. Едва ли можно предположить и то, что Лука, столкнувшись с произведением в новом жанре романа, принял его за достоверный исторический источник[1559]: Лука, как и Матфей, имевший доступ к широко (по всей видимости) распространенному Евангелию от Марка, скорее всего, знал о происхождении этой книги больше, чем поколение Папия, – и уж точно больше, чем знаем мы. Как уже отмечалось, в отличие от спекулятивных теорий о географически изолированных христианских общинах, – теорий, распространенных в некоторых кругах исследователей Евангелий[1560], – исследователи посланий Павла работают с более конкретными и достоверными сведениями.
Задолго до того, как работал Лука (и, разумеется, задолго до того, как во II в. н. э. сложилась более явная сеть епископов), древние церкви по всей империи уже были связаны неформальными узами[1561]. (Вообще в древнем Средиземноморье путешественники регулярно приносили новости из одних мест в другие[1562], особенно когда пребывали со своей социальной группой – с иудеями, христианами или просто с соотечественниками, которых удалось повстречать в другой стране[1563].) Даже в те годы, когда Павел лишь насаждал церкви, многие из них уже знали, что происходит у христиан в других городах (Рим 1:8, 1 Кор 11:16; 14:33, 1 Фес 1:7–9)[1564]. Миссионеры I века могли рассказывать об одних церквях другим (Рим 15:26, 2 Кор 8:1–5; 9:2–4, Флп 4:16, 1 Фес 2:14–16) и передавали личные послания со своими помощниками (Еф 6:21–22, Кол 4:7–9). Более того, в этих церквях по-прежнему сохраняли вес и авторитет взгляды апостолов, даже и в тех случаях, когда лица, обладающие апостольским статусом, спорили о чем-либо (далеко не всегда относящемся к преданиям об Иисусе: см. 1 Кор 1:12; 9:5; 15:5, 7, Гал 1:18–19; 2:8–9). Разумеется, апостольские предания были в Церкви широко распространены, – на это, по всей видимости, указывает и замечание Луки о знаниях Феофила (Лк 1:4).
Учитывая все факты, перечисленные выше, я полагаю, есть причины доверять не только тому, что Лука стремился рассказать об исторических событиях, но и тому, что большая часть сведений, к которым он имел доступ, исходила из достоверных в основе своей источников, – из свидетельства очевидцев.
Евангелие от Иоанна: жанры, критика редакций и нарратива – и исторический Иисус
Дуайт Муди Смит
Рубрики, обозначенные в рамках симпозиума по Иисусу, очень серьезны: критика редакций, жанр, критика сюжета, исторический Иисус. О критике редакций и об исследовании исторического Иисуса я кое-что знаю, о жанрах и критике сюжета знаю меньше, хотя кое-что о них слышал, и тем не менее я постараюсь коснуться каждой из этих тем.
Критика редакций
Может ли критика редакций Иоанна вывести нас к историческим корням этого Евангелия? Применив такую критику к Евангелиям от Матфея и Луки, мы приходим к заключению о том, что основным сюжетным источником для них послужил Марк. Их параллельный или частично совпадающий материал, не связанный с Марком, восходит к Источнику Речений (Q, в котором, впрочем, могли содержаться не только речения), а уникальные материалы – к собственным источникам (M, L) или к их редакторскому творчеству. С Марком проблема сложнее – его источников у нас нет. Однако и здесь можно довольно уверенно выделить первоначальные предания и их редакцию. Марк брал отдельные предания и связывал их в единое целое, скрепленное общим сюжетом и определенным богословием. Это азы нашей науки.
С Иоанном ситуация иная, и перспективы критики редакций на первый взгляд выглядят не столь радужно. С чего начать? От каких предпосылок отталкиваться? Каково было отношение Иоанна к синоптикам? Знал ли он их, использовал ли? Быть может, знал, но сознательно игнорировал (Ханс Виндиш)?[1565] Или писал, не зная их и не используя (Персиваль Гарднер-Смит)?[1566] На чем основывать критику редакций? Те, кто полагает, что Иоанн не знал синоптиков или не обращался к ним, часто предлагают сюжетные источники, по самой сути своей гипотетические. Те же, кто считает, что он знал и использовал труды синоптиков, настаивают на своем, подчеркивая, что их позиция опирается на известные, дошедшие до нас источники и не требует привлечения гипотетических[1567]. Однако их критика редакций гипотетична сама по себе: ведь то, где, как именно и зачем Иоанн использовал труды синоптиков, далеко не столь очевидно, как то, что Матфей и Лука обращались к Евангелию от Марка.
Хорошим примером сложностей, которые встают перед критиком редакций, если тот решит исследовать Иоанна в свете синоптических Евангелий, станет то, как автор Четвертого Евангелия обращается с Крестителем (которого всегда именует просто «Иоанном»). Прежде всего, у Иоанна Креститель произносит ту же цитату из Исаии (Ис 40:3), что и во всех остальных Евангелиях, вместе с прочими словами, которые атрибутируют Крестителю синоптики (Ин 1:23, 26–27, 31–34). Из-за этого дословного сходства Рудольф Бультман отнес их появление у Иоанна к работе церковного редактора, который, среди прочего, старался примирить Иоанна с синоптическими Евангелиями[1568]. (Можно спросить, однако, почему же редактор предпринял такие усилия здесь, но отказался от них во всех прочих местах, – притом что это Евангелие прямо-таки изобилует противоречиями и расхождениями с синоптиками. Или – поставим вопрос иначе – зачем мог это сделать евангелист, если это был он[1569]). Кстати, именование Иисуса «Сын Божий» в этом Евангелии исходит скорее от Крестителя, чем от гласа с небес. Вообще Креститель здесь всегда прав: природу Иисуса он понимает раньше и лучше, чем кто-либо из его учеников.
Однако немедленно вслед за тем (Ин 1:35–37) евангелист изображает, как Креститель посылает к Иисусу своих учеников. Здесь Бультман делает весьма вероятное предположение, согласно которому некоторые из учеников Иисуса прежде были учениками Крестителя[1570]. Такое их происхождение может объяснить важную роль Крестителя в этом Евангелии. Он значим настолько, что сам вынужден подчеркивать, что он не Христос (Ин 1:20; ср.: Ин 1:8), что «идущий за мною стал впереди меня» (Ин 1:15, 30). Так он подчеркивает разницу между ними.
Быть может, неудивительно, что Марк (Мк 1:14–15) проводит четкую границу между временем трудов Крестителя, окончившихся его арестом, и началом служения Иисуса. Такую последовательность часто считают исторической, и она не противоречит ни остальному рассказу Марка, ни рассказам других синоптиков. Однако у Четвертого Евангелиста все по-другому – у него служения Крестителя и Иисуса совпадают по времени, и Иисус ожидаемо демонстрирует свое превосходство (см. особ.: Ин 3:22–23, 36; 4:1). Иисус и Иоанн изображены как соперники в деле крещения, и эту странность приходится смягчать замечаниями о том, что Иоанн (и это довольно очевидно) в то время был еще на свободе (Ин 3:24), а также, как бы спохватившись, о том, что Иисус не крестил народ, это делали только его ученики (Ин 4:2). (Ни в одном Евангелии нигде больше не говорится о том, будто ученики кого-либо крестили.) Что сказать об этом? Заявления Крестителя о том, что Иисус больше его (например, Ин 3:27–37), несомненно, вымышлены Иоанном Евангелистом: но с кем здесь спорит Иоанн? Возможно, с синоптиками: однако изображение двух конкурирующих служений у Иоанна Евангелиста явно противоречит четкому разграничению этих двух периодов у Марка, и это навлекает на Иоанна подозрение в том, что его рассказ основан на богословских, но не на исторических предпосылках. Если же версия Иоанна основана на знании реальной истории – как и откуда он получил эти знания?[1571]
Мысль о независимости Иоанна от синоптиков лучше сочетается с возможной исторической ценностью его Евангелия, чем мысль противоположная. Однако то, что Иоанн знал труды синоптиков и обращался к этим трудам, не обязательно означает (вопреки тому, что пишет Морис Кейси[1572]), будто все предания об Иисусе и вообще все исторические предания у Иоанна исходят от них. Особенно остро встает эта проблема в повествовании о Страстях, где Иоанн, очевидно, рассказывает о тех же событиях, что и другие евангелисты, и по большей части в том же порядке. Отличия в рассказе Иоанна, большие и малые, иногда объяснимы как вымысел: Иисус сам несет свой крест и не нуждается в помощи Симона Киринеянина. Иногда они более загадочны. Хотя в рассказе Марка о суде перед Синедрионом (Мк 14:55–65) Иисуса приговаривают к смерти за то же, что и у Иоанна, а именно за богохульство (ср.: Ин 10:33), Иоанн опускает этот рассказ, который мог бы стать отличной кульминацией повествования об аресте[1573]. Кроме того, Иоанн дает другую хронологию или датировку смерти Иисуса в отношении к иудейскому календарю. Возможно ли, что эта датировка не связана с богословскими целями Иоанна, а основана на других свидетельствах или традиции?[1574] Если датировка отвечает его богословским целям – а некоторые экзегеты об этом спорят, – то можно ли предположить, что здесь именно богословская аргументация выросла из традиционной датировки, а не наоборот?
Жанр Евангелий
Можно ли определить Евангелие как отдельный жанр? Если да, то каково его происхождение? Изобретен ли он Марком или заимствован? Быть может, Евангелия – это βιοῖ, если не в современном, то в античном смысле? Часто предполагают, что если даже в содержании своей книги Иоанн не опирался ни на Марка, ни на синоптиков в целом, то о самой книге Марка он должен был знать, чтобы написать свое Евангелие, поскольку именно Марк создал этот жанр. Однако так ли это? Биографии или жизнеописания выдающихся религиозных деятелей были хорошо известны в Античности: от «Моисея» Филона до «Жизни Аполлония Тианского» Филострата, не говоря уж о жизнеописании Давида в 1 и 2 Цар (1 Цар 15:35 – 2 Цар 20:22). Современные читатели, взяв в руки Евангелие и начав его читать, не сомневаются в том, что читают βιός (жизнеописание) религиозного лидера[1575].
Однако канонические Евангелия выделяются среди других βιοῖ тем, что в каждом из них кульминация приходится на подробный рассказ о последнем путешествии Иисуса в Иерусалим, его аресте, суде (или судах) над ним, распятии, смерти и погребении. В каждом случае гробница затем оказывается пустой. Иными словами, все они заканчиваются рассказом о Страстях, причем во всех случаях и последовательность событий, и содержание рассказа примечательно схожи (Мф 21:1 и далее; Мк 11:1 и далее; Лк 19:28 и далее; Ин 12:12 и далее). Таким образом, этот период можно отличить от так называемого общественного служения (описание которого у Иоанна заметно отличается от других). Откуда взялось это деление на две части, другим βιοῖ несвойственное: результат ли это литературной зависимости (других от Марка) или традиции (существования отдельного предания или преданий о Страстях)? Классическая критика форм отдает предпочтение второму ответу. Предание о Страстях сложилось рано из-за той значимости, которую имела смерть Иисуса для богослужения (литургии Страстей?) и проповеди, из которой впоследствии выросло богословие[1576]. В этом случае жанр Евангелия является, в значительной степени, скорее развитием традиции, а не изобретением какого-либо отдельного автора.
Каковы следствия вопроса о жанре для исторической ценности Евангелия от Иоанна? Если жанр Евангелия представляет собой развитие традиции, то повествование Иоанна, по самой своей природе, становится более вероятным источником исторической традиции, чем если бы Иоанн был «ответвлением» Марка или синоптиков в целом. То же применимо, mutatis mutandis, и к рассказу о Страстях. Более того: если этот рассказ у Иоанна отличается от синоптиков не только там, где уместно ожидать редакторских изменений, но и в других отношениях (например, здесь нет суда перед Синедрионом, дана другая дата смерти Иисуса по иудейскому календарю), в этом может отражаться не литературная зависимость, а знание какой-то более ранней традиции.
Нарративная критика
Все канонические Евангелия – это повествования об общественном служении Иисуса, в которых имеются важные общие элементы. Во всех них служение начинается со встречи Иисуса с Иоанном (Крестителем) и заканчивается распятием и погребением. В центре служения стоит, по-видимому, осевая серия событий, включающая чудесное кормление Иисусом множества людей. Помимо этого, Иисус учит, совершает чудеса или знамения (Иоанн), спорит с другими иудеями. Некоторые другие древние писания, дошедшие до нас и также названные «Евангелиями», этих общих сюжетных черт не имеют. В сущности, они вообще не имеют сюжета. Быть может, именно этого следует ожидать от писаний из Наг-Хаммади, по всей видимости, гностических – таких как Евангелие Фомы и Евангелие Истины. С другой стороны, такие писания, как Евангелие евреев и Евангелие Петра – это повествования, однако в них не заметно зависимости от Марка (хотя, впрочем, об их реальном содержании нам известно немного).
Сюжетный характер канонических Евангелий предполагает и их историчность, однако, разумеется, ее не доказывает. И Матфей, и Лука, по-видимому, зависят от повествования Марка. (Таким образом, сравнивая Иоанна с синоптиками, мы сравниваем не одно с тремя, а одно с одним.)[1577] Рейнольдс Прайс, мой коллега с факультета английского языка и литературы Университета Дьюка, называет Евангелие от Марка интереснейшей книгой на свете[1578]. Марк волнует так, как не волнуют ни Матфей, ни Лука – быть может, потому, что вопрос о сущности и роли Иисуса у него еще остается открытым. Иоанн – совершенно другое дело. В каком-то смысле он не волнует совсем, поскольку характер главного героя не разворачивается в ходе повествования. Иисус остается одним и тем же: «Богом, шествующим по земле»[1579]. Знал ли Иоанн Марка или нет – он от Марка не зависит. Повествование у Иоанна не столь связно, оно дробится – не только не зависит от Марка, но, может быть, и ему предшествует. (Кстати сказать, когда Иоанн, повествуя о служении Иисуса, показывает, что оно длилось два с лишним года и проходило в основном в Иудее и Иерусалиме, – такое описание, при всей его богословской утилитарности, по сути своей не является чем-то невероятным.)
Рассматривая сюжет Евангелий, необходимо взять в соображение и еще один вопрос. Как повествование соотносится с памятью? Свою собственную жизнь мы помним именно как сюжет, в повествовательной форме. Однако в изучении Евангелий утвердилось мнение, что изначально предание (кроме рассказа о Страстях) было разбито на мелкие отрывки и собрано воедино лишь евангелистом, по всей видимости, Марком. Кажется, Карл Людвиг Шмидт впервые сравнил Евангелие с нитью жемчуга, состоящей из отдельных жемчужин. Но что, если повествование неотделимо от памяти? И о себе, и о других мы мыслим как о героях и носителях определенных историй. «Какова твоя история?» (А если у кого-то нет истории – не связано ли это в наших глазах с психической ненормальностью?) Разумеется, это свойство памяти еще не гарантирует историчности Евангелий. Однако в его свете весьма вероятно то, что воспоминания об Иисусе носили характер повествования. А если так – вполне возможно, что среди евангельских повествований об Иисусе можно найти многие, истоки которых восходят к нему самому. Одно из них мы находим у Марка, другое у Иоанна, третье, возможно, в Q (или в прото-Луке). Быть может, были и другие, ныне навеки от нас сокрытые?
Быть может, в основе евангельского сюжета лежат краткие повествования о служении Иисуса, подобные тем, какие мы находим в рассказах о раннехристианской проповеди в Книге Деяний (например, Деян 2:14–39; 3:13–26; 10:36–43; 13:17–41)[1580]. По-видимому, они отражают взгляд Луки на эту проповедь, а возможно, также и практику его собственного времени. Быть может, они не столько содержат в себе раннюю традицию или практику, сколько воплощают ее – не как дословные цитаты, разумеется, но как примеры того, как это должно было происходить. Можно ли было оторвать повествование о смерти и воскресении Иисуса от рассказа о его речах и деяниях? Однако древнейший наш источник, апостол Павел, подытоживая переданную ему традицию проповеди, ничего не говорит о делах и учении Иисуса (1 Кор 15:3–8). Достаточно интересно, что Павел нигде не упоминает совершенных Иисусом исцелений и чудес. Однако он свидетельствует о том, что такие феномены имели место среди его последователей (1 Кор 12:9–10, 28) и что сам он исцелял больных своими руками (2 Кор 12:12). Почему же происходили эти чудеса, и к чему Павлу о них рассказывать, если они не воспринимались как продолжение трудов Иисуса, о чем и говорится в Деяниях? (Деян 2:43; 3:1–16). Разумеется, Павлу известны и слова Иисуса (например, 1 Кор 7:10–12), и, возможно, рассказ о Страстях (1 Кор 11:23: «…в ту ночь, в которую предан был»). Вслед за этим упоминанием идут слова установления Тайной Вечери (1 Кор 11:24–26), истолковывающие смерть Иисуса. Не похоже ли, что перед нами известный сюжет, всем знакомый, пусть даже о нем и не говорят, – или, по крайней мере, его не записали?[1581]
Исторический Иисус
Целью этого раздела, несомненно, должно стать предположение об уместности предыдущих тем (жанров, критики редакций и критики сюжета) с исследованием исторического Иисуса. Это дает нам возможность хотя бы вкратце поговорить о том, почему в этом исследовании Иоанн не играет значительной роли.
Первая причина этого – внутренняя разобщенность нашей дисциплины. От Альберта Швейцера[1582] до Эда Сандерса[1583] исследованием Иисуса занимались в первую очередь ученые, уделявшие внимание синоптикам. В эту группу входят даже исследователи с широким кругозором, разнообразными интересами и самой различной направленностью, скажем, такие как Джон Доминик Кроссан и Николас Томас Райт[1584]. И если синоптики и Иоанн в чем-то расходятся, тем хуже для Иоанна, – такое отношение принято повсеместно. Однако в нынешнем поколении ситуация меняется, как свидетельствуют, среди прочих, труды Джона Мейера, Полы Фредриксен и Раймонда Брауна[1585]. (Быть может, парадоксально, что Иисус в знаменитой коде Швейцера выглядит более «иоанновским», чем «синоптическим»: «Он приходит к нам как некто неведомый… И говорит все те же слова: следуй за мной! И тем, кто к нему прислушивается, он открывает себя в мире, в трудах, в борениях, в страданиях – открывается как непостижимая и неизреченная тайна»)[1586].
Вторая причина – это изображение Иисуса у Иоанна, в особенности изображение его речей. Мы знаем, что Иисус был иудеем и не занимался христологией. Но что за Иисус, или чей Иисус говорит у Иоанна? Похоже, это Иисус христианского учения. Или лучше сказать так: Иисус, которому надлежало стать христианским учением. Однако именно этого Иисуса обещал Утешитель / Дух Истины, который уже говорит в истории и через историю Иисуса в Евангелии от Иоанна, обращаясь к его последователям и к Церкви (см. особ.: Ин 14:26; 16:12–15). Быть может, именно потому, что Евангелие от Иоанна наделяет слишком великой властью любого, кто заявит, что говорит от имени Духа – или просто духа, – Первое послание Иоанна обличает лжепророков, безосновательно приписывающих себе духовный авторитет. Более того, автор описывает Иисуса как бывшего «от начала» (1 Ин 1:1) и ставит прежние заповеди превыше новых (1 Ин 2:7–8). Живой, фундаментальный интерес к тому, что произошло с Иисусом в прошлом, характерен и для Иоанновой общины.
Более того, иудейские корни Евангелия от Иоанна также сообщают нечто о его исторической ценности. У Иоанна Иисус, возможно, выходит из иудаизма, – но он также глубоко укоренен в иудаизме, ясно различимом в Евангелии, хотя и отвергает этот иудаизм, как только его приверженцы не признают Иисуса Мессией. Джеймс Луис Мартин изучал общину или церковь Иоанна и ее проповедь. В то же время он указывал, что этот уровень повествования находится в диалектической связи с единственным в своем роде (нем. einmalig), уровнем, стремящимся вернуться к старой традиции и, в конечном счете, к самому Иисусу[1587]. Этот уровень требует дальнейшего исследования. В конце концов, в Евангелии от Иоанна говорится, что его автор видел Иисуса своими глазами – в отличие от Евангелия от Луки, где подобное прямо отрицается (Лк 1:1–4), однако упоминаются многочисленные предшественники Луки (Лк 1:1). Не был ли Иоанн одним из них?[1588]
Рубрики нашей дискуссии дают нам подходящие средства для исследования вопроса о поиске исторического Иисуса в Евангелии от Иоанна. Критика редакций не доказывает независимости Иоанна от синоптических Евангелий, но, по крайней мере, предполагает, что во многих случаях Иоанн мог знать альтернативные предания, быть может, вполне исторические. Зависимость от Марка (или от синоптиков в целом) не требовалась Иоанну и для выбора жанра Евангелия. (Во всяком случае, сам термин «Евангелие» к этим текстам в то время еще не применялся[1589].) В Античности были широко распространены жизнеописания религиозных лидеров и иных выдающихся людей. Ключевой фактор здесь – рассказ о Страстях, общий для всех четырех Евангелий, а также для «Евангелия Петра». По моему убеждению, эта общность – результат церковной жизни, богослужений и, следовательно, традиции, а не зависимость от творчества Марка. Означает ли сюжетный характер воспоминаний, что в традициях могло сохраниться множество сюжетов об Иисусе? На мой взгляд, это вполне возможно. Наконец, то, каким образом Евангелие от Иоанна помещает Иисуса в иудейский контекст, указывает нам на присутствующее в нем значимое историческое измерение. Иисус противостоит «иудеям», хотя и сам он иудей (Ин 4:9). Его предшественник и свидетель Иоанн (Креститель) ни разу не назван иудеем, хотя в своей миссии крещения он открыл Иисуса Израилю (Ин 1:31). (Здесь, возможно, играет свою роль различие между «Израилем», употребляемым в Евангелиях всегда в положительном смысле, и «иудеями», обычно употребляемыми в смысле отрицательном. Уверовавшие иудеи становятся Израилем.) Под рассказом Иоанна об Иисусе скрывается история; однако этот исторический Иисус не на поверхности – он скрыт в глубине, и его, так сказать, надо еще оттуда достать. Это задача не для богословия, а для исторической и литературной критики, и пусть даже она может иметь и богословское значение… разговор об этом мы оставим на другой раз.
Иисус и неканонические писания
Крэйг Эванс
Спор о том, помогают ли Евангелия, не входящие в канон, изучать исторического Иисуса, ведется уже много лет: можно сказать, что в каком-то смысле он восходит ко временам Древней Церкви. Сразу вспоминаются отцы II–IV вв., которые ссылались на различные Евангелия или их редакции в своих комментариях, трактатах, апологетических трудах, и сознательно дополняли, а порой и видоизменяли традицию тех Евангелий, которые со временем стали считаться каноническими. В каком-то плане эти занятия раннехристианских богословов и апологетов не слишком далеко отстоят от того, чем заняты современные исследователи.
Здесь я критически рассмотрю этот вопрос и его состояние в наши дни. Сам я склонен считать, что в этих текстах можно найти ранние и достоверные предания – и я отстаиваю это мнение, – однако предупреждаю, что нужно проявлять крайнюю осторожность. В центре нашего внимания – четыре источника, в которых, как говорят и пишут, содержатся предания, независимые от новозаветных Евангелий, равные им или даже их превосходящие. Вот эти источники: Евангелие Фомы, папирус Эджертона 2, Евангелие Петра и Тайное Евангелие от Марка. Джон Доминик Кроссан проявил к ним огромный интерес в книге «Другие четыре Евангелия: тени канона»[1590]. К этим источникам непрестанно обращаются и другие ученые, изучая как исторического Иисуса, так и то, как возникали предания об Иисусе и новозаветные Евангелия. В публикации «Семинара по Иисусу», получившей название «Пять Евангелий»[1591], почетное место пятого обрело Евангелие Фомы. С него я и начну наш разговор о внеканонических евангельских источниках – и уделю ему больше внимания, чем другим.
Евангелие Фомы
Самое известное из внеканонических Евангелий – Евангелие Фомы, дошедшее до нас полностью, на коптском языке, в виде второго трактата Кодекса II библиотеки Наг-Хаммади (NHC II, 2), а также частично в трех греческих фрагментах на Оксиринхских папирусах 1, 654 и 655[1592]. P.Oxy. 654 содержит Ев. Фом 1–7 (пролог и речения), а также часть речения 30; P.Oxy. 1 – речения 26–33, и P.Oxy. 655 – речения 24, 36–39 и 77. И большинство ученых согласны с тем, что изначально Евангелие Фомы было написано по-гречески и что Оксиринхские папирусы стоят ближе к изначальной форме традиции[1593] – хотя порой против этого и звучат чьи-нибудь возражения.
Евангелие Фомы упоминают отцы Церкви, творившие в III–IV вв. Ипполит Римский (ок. 230 г.), говоря о гностической группе наассеев, упоминает о книге, «озаглавленной как Евангелие от Фомы» (Облич 5.7.20). Вскоре о «Евангелии от Фомы» говорит и Ориген (Гом. Лк 1.5.13–14) – свидетельство, которое повторяет Иероним (342–420) в конце IV в. (Толк. Мф, пролог). Упоминает эту книгу и Амвросий Медиоланский (339–397; Изъясн. Лк 1.2.10). И у нас нет причин не отождествлять документ, о котором говорили отцы Церкви, с текстом Евангелия Фомы, найденным в Египте. Это эзотерическое писание, призванное передать тайное (или «сокрытое») учение Иисуса.
Большая часть кодексов, составляющих библиотеку Наг-Хаммади, датируется второй половиной IV в., хотя, разумеется, многие писания в них восходят к более раннему периоду. Кодекс с Евангелием Фомы можно датировать первой половиной IV в. Само произведение (его заглавие звучит именно как Евангелие от Фомы – Εὐαγγέλιον κατὰ Θωµάς) доступно нам на трех греческих фрагментах из Оксиринха (начало и середина III в.; один, возможно – 200 г.). Многие ученые допускают, что Евангелие Фомы возникло уже в середине II в. Могло ли это произойти еще раньше? Об этом идут жаркие споры. На мой взгляд, Евангелие Фомы появилось только в конце II в.
Некоторые ученые и сейчас полагают, что в Евангелии Фомы сохранена древняя, досиноптическая традиция[1594]. Разумеется, в теории это возможно – но немалые трудности ждут тех, кто попытается извлечь из этого собрания речений (114 в коптском тексте, по-видимому, полном) материал, который можно с уверенностью назвать древним, независимым от новозаветных Евангелий и даже подлинным. Цитаты или аллюзии более чем на половину новозаветных писаний (это Евангелия от Марка, Матфея, Луки, Иоанна; Деяния, Послание к Римлянам, Первое и Второе послания к Коринфянам, Послания к Галатам, Ефесянам, Колоссянам, Первое послание к Фессалоникийцам, Первое послание к Тимофею, Послание к Евреям, Первое послание Иоанна и Книга Откровения)[1595] указывают на то, что Евангелие Фомы – это, возможно, попросту коллаж из новозаветных и апокрифических материалов, которые часто толковались аллегорически ради того, чтобы «поддержать» мистические или гностические идеи II–III вв. Более того, предания в Евангелии Фомы едва ли отражают обстановку, предшествующую созданию Нового Завета, – вот почему Джон Доминик Кроссан и другие стараются извлечь из дошедших до нас коптских и греческих текстов некую раннюю версию (или версии) Евангелия Фомы. Такого рода попытки меня поражают: мол, если имеющиеся свидетельства нам не подходят – тем хуже для них, обратимся к свидетельствам гипотетическим. Проблема в том, что нам неизвестно, существовала ли когда-либо версия Евангелия Фомы, заметно иная по сравнению с греческими фрагментами из Оксиринха и позднейшим коптским переводом из Наг-Хаммади. Воображать некую древнюю форму Фомы, очищенную от поздних и вторичных черт – это чистой воды спекуляция. Видя в Евангелии Фомы такое обилие новозаветных материалов, стоит остановиться и подумать, прежде чем принимать теории о древности и независимости этого писания.
Еще одна серьезная проблема для тех, кто хочет видеть в Евангелии Фомы текст, независимый от канонических Евангелий, – это значительное присутствие в нем материала, характерного для Матфея (М), Луки (L) и Иоанна. Это важное замечание: ученые обычно склонны видеть наиболее древний и подлинный материал у Марка и в Q – но не в источниках М или L и не в Иоанновой традиции. Однако в Евангелии Фомы часто видны параллели и с позднейшими преданиями.
Есть и еще один красноречивый фактор, предлагающий нам задуматься, прежде чем принимать суждения о древности и независимости Евангелия Фомы: в нем заметны черты, характерные для редакторской работы Матфея и Луки. Во-первых, рассмотрим несколько примеров заимствований у Матфея. Логии 40 и 57 отражают, соответственно, Мф 15:13 и 13:24–30. Этот материал исходит из источника M, он – свидетельство редактуры Матфея. Другие речения Фомы, также параллельные синоптической традиции, лексически следуют Матфею (ср. Мф 15:11 = Ев. Фом 34b; Мф 12:50 = Ев. Фом 99) в большей степени, чем Марку. Уникальное противопоставление милостыни, молитвы и поста у Матфея (Мф 6:1–18), по-видимому, отражено в Ев. Фом 6 (= P.Oxy. 654.6) и 14. В Евангелии Фомы о милостыне, молитве и посте говорится в негативном ключе, в чем, возможно, проявляется гностическая неприязнь к иудейскому благочестию, – и это, разумеется, говорит о том, что Фома по отношению к Матфею вторичен. В целом мы видим явное влияние Матфеевой традиции на Евангелие Фомы.
Есть и свидетельства влияния Евангелия от Луки. Лука переделывает речение Марка: «Ибо нет ничего тайного, кроме того, что станет явным» (Мк 4:22) на «Ибо нет ничего тайного, что не стало бы явным» (Лк 8:17)[1596]. Именно эта отредактированная версия находится в Ев. Фом 5–6, а греческая параллель (P.Oxy. 654.5) копирует текст Луки буква в букву, отвергая утверждение, будто текст Луки повлиял лишь на позднейшую коптскую версию[1597]. Сам греческий текст выглядит так:
οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ἐὰν µὴ ἵνα φανερωθῇ (Мк 4:22)
οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται (Лк 8:17)
οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ὃ οὐ φανε[ρὸν γενήσεται] (P.Oxy. 654.5)
Указания на зависимость Фомы от Луки имеются и в других местах[1598]. Учитывая все эти свидетельства, неудивительна убежденность многих ученых в том, что Евангелие Фомы основано на новозаветных Евангелиях[1599].
Однако стоит сделать еще одно важное замечание. Если Евангелие Фомы действительно относится к I в., возможно, к 70 г. н. э. – почему же его не цитирует никто в первой половине II в.? Иустин Мученик в своей Гармонии Евангелий (ок. 150 г.) обращается к текстам Матфея, Марка, Луки – но не к тексту Фомы. Татиан, ученик Иустина, в своем Диатессароне (ок. 175 г.) использует Матфея, Марка, Луку, Иоанна и, возможно, еще какой-то материал – но не Фому. Как показал Эдуард Массо в своем авторитетном исследовании влияния Матфея на христианскую литературу вплоть до Иринея, новозаветные Евангелия, прежде всего от Матфея, были хорошо известны[1600]. Если Евангелие Фомы возникло столь рано и содержит подлинные древние материалы, – почему же до конца II в. о нем ничего не знают христианские авторы?
Наконец, вскоре после публикации Евангелия от Фомы некоторые ученые обратили внимание на близость нового Евангелия к восточному, или сирийскому христианству, особенно к традициям II в., в том числе к Диатессарону Татиана – уже упомянутому согласованию новозаветных Евангелий. И, возможно, это очень важно: Диатессарон был единственной формой новозаветной евангельской традиции, известной сирийским христианам во II в. Последствия этого вывода еще требуют своего подробного рассмотрения.
Защитники независимости и древности Евангелия Фомы сознают – по крайней мере отчасти, – что это произведение близко к сирийскому христианству. Кроссан и Паттерсон резонно предполагают, что Евангелие Фомы могли написать в Эдессе, на востоке Сирии. Они указывают, среди прочего, что имя «Иуда Фома» встречается и в других книгах сирийского происхождения, например, в Книге Фомы Атлета (NHC II, 7), начало которой напоминает начало Евангелия Фомы: «Тайные слова, какие сказал Спаситель Иуде Фоме, а я, Матфайас, записал» (138.1–3; ср. 142.7: «Иуда, которого называют Фомой»), и Деяния Фомы, в которых апостол назван «Иуда Фома, также [называемый] Дидим» (1; ср. 11: «Иуда, также Фома»). В сирийской версии Ин 14:22 «Иуда (не Искариот)» назван «Иуда Фома». Та же номенклатура сохраняется и в позднейшей сирийской христианской традиции[1601].
Однако несмотря на близость к сирийской традиции, характерные черты которой, насколько мы можем судить, сложились во II в., Кроссан и Паттерсон (как и другие) уверены, что Евангелие Фомы возникло раньше. Паттерсон относит это время к концу I в. (хотя допускает, что позже текст, возможно, был отредактирован). Кроссан склонен считать, что первая редакция Фомы появилась ок. 50 г. н. э., а вторая – собственно, дошедшая до нас – в 60–70 гг. н. э. Иными словами, первая редакция Евангелия Фомы древнее любого из новозаветных Евангелий. Да что там – древнее их оказывается даже вторая редакция![1602]
Среди ученых нет единодушия по этому вопросу: одни считают, что Евангелие Фомы относится ко II в. (обычно датируя его началом или серединой века), но почти столько же (и многие из них – члены «Семинара по Иисусу») отстаивают иную точку зрения и склоняются к I в., как правило, к концу; впрочем, они считают, что в Евангелии Фомы отражена независимая традиция, во многих случаях предшествующая параллелям в новозаветных Евангелиях.
Такой важный вопрос нельзя решать голосованием. На мой взгляд, нам необходимо внимательнейшим образом рассмотреть Евангелие Фомы, особенно его связь с сирийской традицией. По-моему, этот текст восходит – самое раннее – к середине II в. На самом деле свидетельства, возможно, даже указывают на последнюю четверть II в. Вполне возможно, что в Евангелии Фомы нет никаких независимых материалов, восходящих к I в. Но какие же это свидетельства?
И в опубликованных изданиях, и в публичных лекциях Кроссан защищает древность и независимость Евангелия Фомы на двух основаниях: 1) он не видит в этом Евангелии «общей композиционной структуры», если не считать нескольких групп речений, связанных между собой ключевыми словами; и 2) в параллелях с новозаветными Евангелиями он находит сложности, которые, на его взгляд, не объяснить редактурой. Таковы же и аргументы Паттерсона[1603] – и, как мы сейчас увидим, сирийские свидетельства отвечают на оба.
Почти изначально несколько ученых, знатоков сирийской традиции, говорили о семитском, точнее – сирийском стиле Евангелия Фомы. Это, разумеется, согласуется с тем, что мы уже сказали о форме имени апостола. Далее отмечалось, что ряд характерных чтений в Евангелии Фомы совпадает с сирийской версией Нового Завета или с более ранним Диатессароном Татиана[1604]. Некоторые спрашивали, не был ли оригинал Евангелия Фомы написан на сирийском – а не на греческом, как полагают обычно[1605].
Николас Перрин исследовал ключевые слова Евангелия Фомы. Для этого он перевел коптский текст на греческий – там, где греческим мы не располагали – а кроме того, перевел весь текст на сирийский, основной язык Эдессы во II в. В коптской и греческой версиях он обнаружил около 250 ключевых слов. В гипотетической сирийской версии их было около 600 – и, на его взгляд, это доказывает, что изначально это «Евангелие» писали по-сирийски. Однако эту часть его исследования критиковали, в первую очередь из-за отсутствия строгого определения термина «ключевые слова»[1606]. Быть может, лучше всего предположить, что Евангелие Фомы изначально было написано по-гречески, пусть даже и в Сирии. Однако Перрин убедительно показал, что композиция этого произведения более устойчива, чем думали раньше. Более того: Перрин показывает не только то, что логии Фомы связаны между собой ключевыми словами, но и то, что некоторые из этих связей отражают сирийские предания. В том, что Евангелие Фомы не зависит напрямую от новозаветных Евангелий, Перрин соглашается с Кроссаном, Паттерсоном и прочими.
На мой взгляд, основной аргумент, выдвигаемый Кроссаном и другими в пользу литературной независимости Евангелия Фомы от новозаветных Евангелий, серьезно подорван. Мы не можем больше говорить, что у этого произведения нет единой композиции или структуры. Она есть – и она становится очевидной, если рассматривать этот текст явно сирийского происхождения в свете характерных сирийских традиций.
Не меньше впечатляет и число характерных точек соприкосновения между Евангелием Фомы и сирийскими религиозными традициями – и евангельскими, и другими. Снова и снова мы видим, что там, где Евангелие Фомы отличается от новозаветных Евангелий, оно сходится с сирийскими традициями. Ни Кроссан, ни кто-либо иной не оценили этого факта в полной мере. Примеров множество: позвольте мне привести лишь один.
Сирийская традиция проясняет то, как в Евангелии Фомы выглядит заповедь блаженства, о которой Иисус говорил нищим:
Греч. Мф 5:3: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное».
Греч. Лк 6:20: «Блаженны вы, нищие, ибо ваше есть Царствие Божие»[1607].
Ев. Фом 54: «Блаженны нищие, ибо ваше есть Царствие Небесное».
Сир. Мф 5:3: «Блаженны вы, нищие духом, ибо ваше есть Царствие Небесное».
Диатессарон: «Блаженны нищие духом…»
Кроссан считает, что Ев. Фом 54 – веское доказательство в пользу независимости традиции, отраженной в Евангелии Фомы. Он отмечает, что глосса Матфея «духом» в тексте Евангелия Фомы отсутствует и что здесь смешаны два предложения, входящие в состав сложного: вначале мы видим третье лицо, как у Матфея [ «нищие»], а потом обращение идет во втором лице, как у Луки [ «ваше»]. Кроссан не представляет, как мог автор или составитель Евангелия Фомы совершить нечто подобное: «Пришлось бы по крайней мере сказать, что Фома: а) взял третье лицо “нищие” у Матфея, затем б) второе лицо “ваше” у Луки, и в) снова вернулся к Матфею и завершил фразу “Царствием Небесным”. Проще предположить, что Фома был психически нездоров»[1608]. Вот только прежде чем обращаться к диванной психиатрии, Кроссану стоило бы внимательно взглянуть на сирийскую традицию.
Логия 54 следует сирийской форме Матфея (возможно, из Диатессарона – единственной формы новозаветных Евангелий, доступной для сироязычных читателей в конце II в.). Пропуск уточняющего слова «духом» едва ли должен нас удивлять. Мало того что оно отсутствует у Луки, отсутствие его в Евангелии Фомы вполне согласуется с мировоззрением этой книги. Пропуск уточняющего слова «духом» нетрудно объяснить в свете воззрений Евангелия Фомы, направленных против материи (ср.: Ев. Фом 27, 63, 64, 65, 95, 110), вполне сочетающихся с аскетическими взглядами Сирийской Церкви. Нет, говорит Фома, не нищие духом блаженны, а нищие в самом прямом смысле. Вернемся к аргументу Кроссана. Все, что от нас требуется – это сказать, что Фома: а) взял речение, известное на сирийском (и в сирийской форме которого сочетались второе и третье лицо, а также присутствовало слово «духом»); и б) убрал слово «духом» в полном соответствии с сирийским христианским аскетизмом.
Аскетическая, антиматериалистическая, антикоммерческая тенденция в Евангелии Фомы хорошо засвидетельствована; о ней стоит поговорить подробнее. Рассмотрим логии 63–65. Почему они сгруппированы вместе? Ответ прост: все они направлены против богатства и приверженности материальным ценностям. Первая логия (63) – параллель к притче о неразумном богаче (Лк 12:16–21). У Луки богач решает расширить амбары, чтобы поместить в них обильный урожай. Он воображает, что проживет еще много лет в достатке и благополучии. Но в глазах Бога он – глупец, ибо умрет гораздо скорее, чем думает, оставит земное богатство на земле и явится пред Богом с пустыми руками. У Луки притча образует инклюзио – от слова «богатого» (πλουσίου) (ст. 16) и оканчивающееся тем, что тот же человек уже «не в Бога богатеет [πλουτῶν]». Версия Евангелия Фомы чуть короче (прежде всего потому, что в ней опущены детали: обильный урожай и необходимость в более просторных амбарах)[1609]; здесь говорится просто, что у богача много денег (заимствованное греч. χρῆµα)[1610], которые он намерен выгодно вложить, чтобы получить прибыль, наполнить свои амбары зерном и ни в чем не нуждаться. Таковы были его планы – но он умер в ту же ночь. Версия Фомы заканчивается знакомым увещанием: имеющий уши да слышит.
Вторая логия (64) параллельна притче о брачном пире (Мф 22:1–14; Лк 14:15–24), особенно в форме, приведенной у Луки. По Луке, трое гостей отклонили приглашение: кто-то хотел осмотреть купленное поле, другой – испытать волов, третий надумал жениться, хотя изначально все они (как предполагается) обещали прийти. Тогда вместо них на пир были приглашены те, кого обычно вовсе не воспринимают как святых или почтенных: нищие, калеки, слепые, хромые… В Евангелии Фомы сразу бросается в глаза, что все отговорки гостей (здесь их не трое, а четверо) связаны с деньгами. Первый говорит: «Я имею деньги от неких купцов. Они придут ко мне сегодня вечером». Четвертый: «Я приобрел деревню, намерен собрать плату, и потому не смогу прийти». В ответах второго и третьего гостей тоже есть любопытные черты. Второй говорит: «Я приобрел дом, и меня вызвали на весь день. У меня не будет времени». Слово «вызвали», очевидно, связано с необходимостью вести дела. По-видимому, покупатель не собирается в этом доме жить. Возможно, он купил его, чтобы сдавать внаем. Третий говорит: «Мой друг женится, и я должен приготовить трапезу». Возможно, это развитие темы из притчи Луки: «Я женился и потому не могу прийти», – отговорка, которая, возможно, будет непонятна тем, кто не знаком с иудейскими обычаями (молодожен на год освобождается от всех гражданских обязанностей). Версия Евангелия Фомы поясняет, почему свадьба мешает прийти на пир. И снова речь идет о бизнесе, если понимать это так, что третий гость – устроитель свадьбы. Поэтому в Евангелии Фомы притча оканчивается словами: «Купцы и торгующие не войдут в обители Отца Моего». Иными словами, в Евангелии Фомы все четверо отказавшихся гостей вовлечены в те или иные торговые дела.
Третья логия (65) параллельна притче о злых виноградарях, которая появляется во всех трех синоптических Евангелиях (Мф 21:33–41, Мк 12:1–9, Лк 20:9–16). И снова версия Евангелия Фомы ближе к версии Луки, чем к остальным[1611]. В ней опущены почти все детали из Ис 5:1–7, однако мораль та же, что и у Марка (и у Матфея): нанятые виноградари презрели власть хозяина виноградника, избили и прогнали его слуг и даже убили сына – и за это их ждет гибель. Однако в Евангелии Фомы есть и значительные отличия. «Насадил виноградник» не «человек», а «богач» или «ростовщик» (χρήστης), владелец виноградника, надеявшийся извлечь из него выгоду. Но это ему не удалось: его слуг поносят, его сын убит. Откровенного поучения не выводится[1612], а вместо этого мы снова слышим знакомый рефрен: «Имеющий уши да услышит».
Все три логии в Евангелии Фомы взяты у Луки. Во всех трех подчеркнута тема денег и материального богатства. Все три учат тому, что торговля и погоня за материальным достатком никому не дадут ни безопасности, ни, разумеется, места рядом с Отцом. Исправляя эти материалы Луки, редактор Евангелия Фомы опускает заключительную «мораль» (в которой на свой лад отражена редактура Луки), поскольку эта мораль не соответствует тем урокам, которые стремится вывести из притч он сам. Убрав мораль из логии 63, редактор Евангелия Фомы разрушил инклюзио. Логии 63 и 65 заканчиваются призывом «услышать». Но что должны услышать читатели и слушатели Евангелия Фомы? Заключение логии 64: «Купцы и торгующие не войдут в обители Отца Моего». Вот урок трех собранных вместе и отредактированных отрывков из Луки в новом контексте «Евангелия от Фомы». Редактор или составитель Евангелия Фомы создал новое инклюзио, которое начинается и заканчивается знакомым призывом: имеющий уши да слышит, – а главный смысл заключен в поучении: те, кто заботится о богатстве, не спасутся.
Еще один важный элемент, который нам необходимо рассмотреть – это географическая и историческая достоверность. В бесчисленном множестве случаев новозаветные Евангелия проливают свет на политические, социальные, культурные условия жизни еврейской Палестины до 70 г. Иосиф Флавий и новозаветные евангелисты взаимно проясняют друг друга, и каждый при этом прекрасно знаком с Израилем первой половины I в. Археология еврейской Палестины до 70 г. активно обращается к новозаветным материалам и во многом руководствуется ими. И наоборот, археологические открытия зачастую позволяют нам лучше понять ту или иную деталь новозаветных Евангелий: те рассказывают о реальных местах и людях, о реальных событиях и обычаях. Почти ничего подобного нельзя сказать о Евангелии Фомы. В нем почти нет ни исторической, ни социальной, ни географической достоверности; и в нем невозможно найти связь с известными нам реалиями еврейской Палестины до 70 года[1613]. Это важное соображение сторонники древности и независимости Евангелия Фомы попросту игнорируют.
Прежде чем закончить разговор о Евангелии Фомы, коснусь еще одной темы. Стивен Паттерсон, Джеймс Робинсон и другие полагают, что раннюю датировку Евангелия Фомы подтверждает его жанр. Оно похоже на Q, источник речений, из которого заимствовали Матфей и Лука – а значит, говорят сторонники этого взгляда, в своей древнейшей форме Евангелие Фомы — примерно ровесник Q[1614]. Аргумент этот совершенно обманчив: не только потому, что не принимает в расчет связь с сирийской традицией конца II в. и отсутствие связи с традицией еврейской Палестины до 70 г., но и потому, что не учитывает других сборников речений, возникших во II–III вв., в том числе в Сирии. Среди них – раввинистический сборник «Пиркей Авот» («Поучения отцов») и «Изречения Секста». Последний особенно важен, поскольку создан в Сирии во II в. – т. е. примерно в то же время и в том же месте, что и Евангелие Фомы. Так и эти свидетельства подтверждают, что Евангелие Фомы было написано в Сирии во II в.
Свидетельства ясно указывают на позднее происхождение Евангелия Фомы. Отсутствие упоминаний о нем в христианских писаниях начала II в., недостаток исторической, культурной и географической достоверности, ассоциация произведения с Иудой Фомой, связь элементов Евангелия Фомы, отличных от новозаветных Евангелий, с элементами Диатессарона или других сирийских христианских книг того же периода, – все это убедительно говорит о том, что Евангелие Фомы было создано в Сирии в конце II в. В двух словах, обилие указаний на восточную сироязычную Церковь, знавшую новозаветные Евангелия в первую очередь (а может быть, и только) по Диатессарону Татиана[1615], созданному не ранее 170 г. н. э., убеждает меня в том, что Евангелие Фомы не предлагает нам древний и независимый материал, способный помочь в критическом исследовании жизни и учения Иисуса.
Евангельский фрагмент из Ахмима (Евангелие Петра?)
Говоря о произведениях, приписываемых апостолу Петру, церковный историк Евсевий Кесарийский (ок. 260–340) упоминает Евангелие Петра, которое Серапион, архиепископ Антиохийский (годы епископства 199–211), осудил как еретическое (Церк. ист 6.12.3–6). Серапион не цитирует это Евангелие, говорит лишь, что его использовали докеты. Зимой 1886–1887 гг. во время раскопок в Ахмиме (Египет) в гробнице христианского монаха был найден кодекс, написанный, возможно, в IX в. В рукописи содержится фрагмент Евангелия, фрагмент Книги Еноха на греческом, Апокалипсис Петра, а также, на внутренней стороне задней обложки – рассказ о мученичестве святого Иулиана. У евангельского фрагмента нет ни заглавия, ни имени, ни каких-либо намеков на авторство: не сохранились ни его начало, ни его конец. Впрочем, в тексте появляется апостол Петр, говорящий о себе в первом лице (ст. 60: «Но я, Симон Петр»); сам тон Евангелия, возможно, докетический; а текст был найден вместе с Апокалипсисом Петра, – и потому повсеместно принято считать, что это и есть то самое Евангелие Петра, о котором писал Евсевий[1616].
Критические оценки недавно опубликованного евангельского фрагмента сильно разошлись: одни ученые полагали, что он независим от новозаветных Евангелий, другие считали совершенно наоборот [1617]. Однако никто из спорящих всерьез не спросил, точно ли Ахмимский фрагмент – часть Евангелия Петра, созданного во II в. Все просто приняли это как данность.
Затем, в 1970–1980-х гг., были опубликованы еще два греческих фрагмента из Египта, P.Oxy. 2949 и P.Oxy. 4009, которые с разной степенью уверенности также были причислены к Евангелию Петра. И более того, считалось, что один из них частично совпадал с частью Ахмимского фрагмента. Публикация возродила интерес публики: казалось, эти тексты подтверждают принадлежность Ахмимского фрагмента к Евангелию Петра II в., которое сначала признал, но вскоре отверг архиепископ Серапион. Кроме того, предполагали, что еще одним древним фрагментом Евангелия Петра является Фаюмский фрагмент (P.Vindob. G 2325)[1618].
Уже в наше время Хельмут Кёстер, его коллеги и студенты дали воззрениям Гарднер-Смита новую жизнь. По Кёстеру, в основе Евангелия Петра «должен лежать более древний текст, освященный авторитетом Петра и независимый от канонических Евангелий»[1619]. С этим соглашается и Рональд Кэмерон, ученик Кёстера, заключая, что Евангелие Петра независимо от канонических, возможно, даже им предшествует и «могло послужить источником для их авторов»[1620]. Эту позицию подробно проработал Джон Доминик Кроссан, признавший отождествление Ахмимского фрагмента с Серапионовым Евангелием Петра. В пространном исследовании, опубликованном в 1985 году, он пишет, что пусть даже Евангелие Петра и могло испытать влияние новозаветной евангельской традиции на финальных стадиях, оно все же сохранило очень древнюю традицию, на которой основаны рассказы о Страстях во всех четырех канонических Евангелиях[1621]. Эту традицию Кроссан называет Евангелием креста. Это смелый вывод, и мы должны его оценить.
Видимо, автор Ахмимского фрагмента обладал очень неточными знаниями об иудейских обычаях и традициях. Согласно тексту (Ахм. фр 8.31, 10.38), иудейские старейшины и книжники провели ночь на кладбище, среди стражи, надзирающей за гробницей Иисуса. Учитывая иудейские представления о нечистоте трупов, не говоря уж о страхе перед кладбищами по ночам, автор нашего фрагмента проявляет невероятное невежество. Кто стал бы сочинять такую историю, скажем, всего лишь лет через двадцать после смерти Иисуса? А если бы кто-то и сочинил – можно ли поверить, что автор Евангелия от Матфея, сам, несомненно, иудей, стал бы пользоваться столь недостоверным сочинением? Нет, невозможно.
Но есть проблемы и посерьезнее. Страх иудейских вождей впасть в руки иудейского народа (Ахм. фр 8.30) отдает приукрашиванием, а то и прямой христианской апологетикой. «Семь печатей» (8.33) и «толпа из Иерусалима и окрестных мест», которая «пришла увидеть запечатанную гробницу» (9.34), явно служат апологетическим интересам – побольше подробностей, подтверждающих воскресение, и побольше свидетелей этого чуда. По отношению к канонической традиции эти детали, скорее всего, вторичны. Выражение «день Господень» – еще одно явное свидетельство позднего происхождения текста[1622]. Исповедание сотника в Евангелии Петра не только отражает влияние Матфея[1623], – так говорят все стражники, да еще и перед Пилатом! Снова перед нами явная апологетика[1624].
Наконец, можно ли всерьез полагать, что рассказ Ахмимского фрагмента о воскресении, в котором крест говорит человеческим голосом, а ангелы достигают головами небес – это самое древнее и изначальное из дошедших до нас сообщений? Неужто этот рассказ лежал перед каноническими евангелистами? Или же более здраво будет заключить, что перед нами еще одно доказательство вторичности этого апокрифического писания и буйной фантазии его автора?[1625] Кроссан и другие явно недостаточно оценили значение фантастических элементов в Ахмимском евангельском фрагменте. Фрагмент изображает воскресшего Иисуса таким великаном, что голова его – выше небес; а вместе с ним из гробницы выходит крест, на котором Иисус был распят (10.39–40). Все это явно детали поздней, а не ранней традиции. Не доказывают ли эти свидетельства, что Ахмимский евангельский фрагмент – едва ли что-то большее, чем смешение всех четырех канонических Евангелий (с Матфеем в основе), приукрашенное благочестивым воображением, апологетическими заботами и нотками антисемитизма?
Свидетельства ясно говорят о том, что Ахмимский евангельский фрагмент – поздний документ, даже если мы и попытаемся выделить из него некий ранний субстрат, очистив его (хотелось бы надеяться) от позднейших сказочных добавлений. Встает и другой вопрос: точно ли имеющийся у нас Ахмимский евангельский фрагмент IX в. относится к «Евангелию Петра» II в., осужденному епископом Серапионом в начале III в.? В дошедшем до нас Ахмимском евангельском фрагменте нет никаких указаний на то, к какой книге он принадлежит; нет у нас и святоотеческих цитат из Евангелия Петра, которые можно было бы сравнить с текстом и разрешить этот вопрос. Кроме того, Ахмимский фрагмент вовсе не докетичен, как поспешили заявить многие сразу после его публикации[1626]. И если так, то причисление его к Евангелию Петра становится еще менее убедительным. В конце концов, Серапион сообщил нам лишь то, что Евангелие Петра использовали докеты в поддержку своих учений. Наконец, как показал Пол Фостер, связь между Ахмимским евангельским фрагментом и маленькими папирусными фрагментами, упомянутыми выше (150–200 гг.), довольно сомнительна[1627]. Итак, у нас нет достоверных свидетельств, позволяющих более или менее уверенно связать дошедший до нас Ахмимский евангельский фрагмент IX в. с каким-либо текстом II столетия, будь то Евангелие Петра, упомянутое епископом Серапионом, или какое-либо иное произведение конца II в. Учитывая фантастические черты Ахмимского фрагмента и его связь с поздними преданиями, едва ли целесообразно обращаться к этому евангельскому фрагменту в поиске исторического Иисуса.
Папирус Эджертона 2
Папирус Эджертона 2 состоит из четырех фрагментов. В четвертом сохранилась лишь одна нечитаемая буква. Третий – это несколько разрозненных слов, не складывающихся в связный текст. Первый и второй предлагают нам четыре (или, возможно, пять) историй, параллельных материалу Иоанна и синоптиков. Связанный с ними фрагмент текста содержится также в Кельнском папирусе 255[1628].
Во многом эти фрагменты – параллели к новозаветным Евангелиям. Первая история полна аллюзий на Четвертое Евангелие. Утверждение Иисуса в строках 7–10 (Ἐραυνᾶτε τὰς γραφάς· ἐν αῖς ὑµεῖς δοκεῖτε ζωὴν ἔχειν ἐκεῖναί εἰσιν αἱ µαρτυροῦσαι περὶ ἐµοῦ…) вполне выводится из Ин 5:39, 45. Ответ законников (строки 15–17; εὗ οἴδαµεν ὅτι Μωϋσεῖ ελάλησεν ὁ Θεός· σὲ δὲ οὐκ οἴδαµεν πόθεν εἷ), по-видимому, взят из Ин 9:29, а упрек Иисуса (строки 20–23а; εἰ γὰρ ἐπιστεύσατε Μωϋσεῖ, ἐπιστεύσατε ἂν ἐµοί· περὶ ἐµοῦ γὰρ ἐκεῖνος ἔγραψεν)[1629] отражает Ин 5:46. Попытка побить Иисуса камнями (строки 22–24) – параллель к Ин 10:31, а утверждение, что люди не могут этого сделать, ибо «час еще не пришел» (οὔπω ἐληλύθει αὐτοῦ ἡ ὥρα, строки 25–30) – эхо Ин 7:30 (οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ). Упоминание Иисуса как «Господа» (строка 30) звучит явно вторично. Вторая история в основном параллельна синоптикам. В третьей снова сочетаются иоанновские и синоптические элементы. Вступительное заявление: «Учитель Иисус, мы знаем, что [от Бога] ты пришел, ибо то, что ты делаешь, свидете[льствует] превыше всех пророков» (строки 45–47), основано на Ин 3:2 и 9:29 (ср. также: Ин 1:45; Деян 3:18). Использование слова «учитель» (διδάσκαλε) в Папирусе Эджертона вторично по сравнению с транслитерацией ῥαββί у Иоанна (Ин 1:38) и, возможно, связано с его появлением в Мк 12:14а («Учитель, мы знаем, что Ты справедлив»). Вопрос, заданный Иисусу в строках 48–50 («Позволительно ли давать подать царям по праву их власти? Платим мы им или нет?») взят из Мк 12:14b и параллельных мест – однако, похоже, изначальный смысл его утрачен. Чувства Иисуса в строке 51 (ἐµβρειµεσαµενος) напоминают о Мк 1:43 (ἐµβριµησάµενος), а его вопрос: «Зачем устами своими зовете меня “учитель”, если не слушаете, что я говорю?» (строки 52–54) напоминает вопрос у Луки: «Что вы зовете меня “Господи, Господи!” и не делаете того, что я говорю?» (Лк 6:46). Остальные слова в этом речении Иисуса – парафразе Ис 29:13 – это отголосок Мк 7:6–7 и параллелей.
Анализ этих фрагментов приводит Кроссана к выводу, что P.Egerton 2 отражает традицию, предшествующую каноническим Евангелиям. Кроссан полагает, что «Евангелие от Марка напрямую зависит от нее» и что она дает нам свидетельства «той стадии, когда традиции синоптиков и Иоанна еще не разошлись окончательно». Со вторым утверждением соглашается Кёстер, говоря, что в P.Egerton 2 мы находим «до-Иоанновы и до-синоптические языковые характеристики, еще существующие бок о бок». Он считает маловероятным, что автор этого папируса мог быть знаком с каноническими Евангелиями и «сознательно составлял свой текст, выбирая из них отдельные фразы»[1630].
В теории Кроссан и Кёстер, возможно, правы. Однако возникают серьезные вопросы. Во-первых, в «Евангелии Эджертона» присутствует редактура, внесенная Матфеем и Лукой[1631]. Есть и другие указания на то, что Папирус Эджертона по сравнению с каноническими Евангелиями вторичен. Множественное «цари», возможно, вторично по отношению к единичному «кесарю», которого мы находим у синоптиков (а также в Евангелии Фомы 100). Льстивое «то, что ты делаешь, свидетельствует превыше всех пророков», возможно, отражает Ин 1:34, 45, и снова напоминает о позднейших благочестивых христианских приукрашиваниях, призванных преувеличить то уважение, которое питали к Иисусу современники[1632].
Второй вопрос возникает в ответ на заявление Кёстера, согласно которому ситуация, когда автор P.Egerton 2 «сознательно составлял свой текст, выбирая отдельные фразы» из канонических Евангелий, неправдоподобна. Но разве не то же самое делали Иустин Мученик и его ученик Татиан? Иустин составил Гармонию синоптических Евангелий (ок. 150 г.), а лет двадцать спустя Татиан написал свою гармонию всех четырех новозаветных Евангелий, Диатессарон. Если они, жившие во II в., могли составлять свои гармонии, выбирая одну фразу из того Евангелия, а другую из этого, – почему этого не мог делать автор Папируса Эджертона 2?
Примеры можно найти в цитатах из творений Иустина Мученика, где порой совмещается материал двух или более Евангелий. В 1 Апол 15:9 читаем:
Если любите любящих вас [ср.: Мф 5:46 = Лк 6:32], что нового делаете [нет параллели]? Ибо и блудники это делают [Мф 5:46: «мытари», Лк 6:32–33: «грешники»]. А я говорю вам [ср.: Мф 5:44]: молитесь за врагов ваших [ср.: Мф 5:44 «любите врагов ваших»] и любите ненавидящих вас [ср. Лк 6:27: «благотворите ненавидящим вас»], и благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас [ср.: Лк 6:28].
В 1 Апол 15:10–12 Иустин, комбинируя материал Матфея и Луки, создает из них пространное речение, которое воспринимается читателями как целостное высказывание. Однако это не единый текст: он сплавлен из множества элементов.
В 1 Апол 16:9–13 Иустин составляет по памяти «слово» Иисуса, на самом деле – «попурри» из текстов синоптиков, а в одном случае, возможно, и с влиянием Иоанна. Однако у этих материалов, выбранных из разных контекстов, есть общее тематическое единство, позволяющее им гармонично сочетаться. Речения в P.Egerton 2.1 и 3 по композиции очень схожи с этим «словом Господним» у Иустина.
Третий вопрос связан с предположением Кёстера о том, что смешение «иоанновых» и синоптических элементов первично, а разделение их, которое сохранилось в дошедших до нас канонических формах, вторично. Если Кёстер прав, то «Евангелие Эджертона» и правда надлежит датировать серединой I в., как полагает Кроссан. Его просто не могли написать позже, если к нему обращались синоптики. Но если так, самое время спросить: почему же до нас не дошло ни одного другого фрагмента, ни одной цитаты, ни одного упоминания, вообще ни одного свидетельства о существовании такого необычайно древнего Евангелия? Как вышло, что ни один другой папирус, ни одно внеканоническое Евангелие, ни одна святоотеческая цитата не подтверждает существования этой единой традиции, предшествующей синоптикам и Иоанну?
Еще одна черта, свидетельствующая против древности и приоритета P.Egerton 2 – это история, запечатленная на плохо сохранившейся обратной стороне фрагмента 2. В ней Иисус, по-видимому, бросает горсть зерна в реку Иордан, и из воды появляется обилие злаков. Эта история очень напоминает те, что мы находим в поздних небылицах апокрифических Евангелий. Например, Евангелие детства Фомы рассказывает о том, как маленький Иисус вырастил богатый урожай всего из горсти зерна (Ев. дет. Фом 10:1–2 [латынь])[1633]. Параллель между этими историями, пусть и довольно слабая и неточная, едва ли может подвигнуть нас рассматривать P.Egerton 2 как ранний и тем более надежный источник для «Исследования Иисуса».
Хотя гипотеза Кроссана, Кёстера и других остается теоретической возможностью, известные на данный момент свидетельства со всей очевидностью говорят нам, что P.Egerton 2, по всей видимости, представляет собой не материал I в., от которого зависят канонические Евангелия, а слияние элементов, заимствованных у синоптиков и Иоанна во II в.[1634]. Присутствие рядом с этими более или менее историческими преданиями явной апокрифической сказки только подтверждает этот вывод.
Тайное Евангелие от Марка
В 1960 году, на ежегодном собрании Общества библейской литературы в Нью-Йорке, Мортон Смит объявил о том, что во время своего годичного отпуска в 1958 году, который проводил в монастыре Мар-Саба в Иудейской пустыне, он нашел первую часть послания Климента Александрийского (ок. 150–215), написанного по-гречески, скорописью, как ему показалось, в XVIII в.; на оборотных сторонах листов находились послания Игнатия в редакции XVII в.[1635]. В 1973 году Смит опубликовал два издания своей находки: научное и популярное[1636]. С самого начала ученые подозревали, что этот текст – подделка и сделал ее сам Смит[1637]. Однако многие – в том числе некоторые участники «Семинара по Иисусу» – защищали Смита и подлинность послания Климента.
Такие споры вокруг предполагаемой находки связаны с двумя приведенными в ней цитатами, – отрывками из некоей тайной, или мистической, версии Евангелия от Марка, которых в общеизвестном Евангелии от Марка нет. В первом, более пространном отрывке Иисус воскрешает юношу из мертвых, а затем учит его, обнаженного, тайнам Царства Божьего[1638]. Трудно не обратить внимания на гомоэротическую направленность пассажа.
Несмотря на то что, в сущности, никто, кроме Смита, не изучал сам физический документ и не проверял достойным образом ни бумагу, ни чернила, многие ученые принимают это послание Климента как подлинное и видят в нем доказательство того, что во II в. имела хождение некая тайная версия Евангелия от Марка. Некоторые даже предполагали, что «Тайный Марк» может помочь нам прояснить синоптическую проблему; и, разумеется, нашлись те, кто считает, что «Тайный Марк» (или «Пространный Марк») старше и оригинальнее общеизвестного (или «Краткого») Марка. И в наши дни публикуются все новые исследования[1639]; так, недавно вышли в свет четыре монографии, выводы которых резко расходятся[1640].
На мой взгляд, все эти труды потрачены впустую: и послание Климента, и включенные в него цитаты из «Тайного Марка» – по всей вероятности, современная подделка и, скорее всего, изготовил ее сам Мортон Смит. Некоторые ученые подозревали это много лет; однако недавно опубликованные фотографии документа, цветные и четкие, дали экспертам по разоблачению подделок возможность исследовать почерк в документе, сравнить его с почерком покойного профессора Смита[1641] – и их вывод гласил: текст написан Смитом. Стивен Карлсон сопоставил и проанализировал свидетельства. Вот его основные заключения[1642]:
1. Увеличение рукописного текста ясно показало красноречивые признаки того, что эксперты называют «тремором фальсификатора». Иначе говоря, рукопись не столько написана, сколько нарисована, поскольку фальсификатор стремился сымитировать чужой почерк. Эти красноречивые признаки присутствуют в т. н. «послании Климента» повсюду. (Карлсон привлек к работе эксперта-почерковеда.)[1643]
2. Сравнение стиля греческого письма в рукописи и заметках Мортона Смита (в его бумагах и пометах на полях книг) показывает, что именно Смит написал или, точнее, «нарисовал» «послание Климента». Например, у Смита имеется характерное написание греческих букв тау, тэта и лямбда. Эти необычные формы время от времени вторгаются и в рукописный текст документа, в остальном последовательно имитирующий стиль греческого письма XVIII в.
3. Некоторые темы документа присутствуют в трудах Смита, опубликованных прежде «находки» документа в 1958 г.[1644].
4. Важно отметить, что в списке старых книг и рукописей из монастыря Мар-Саба, составленном в 1910 году, книга Исаака Восса не значится.
5. Один документ из монастыря Мар-Саба, внесенный Смитом в каталог, по-видимому, написан той же рукой, что и предполагаемое послание Климента. Этот документ Смит датировал двадцатым веком (а не восемнадцатым, как послание Климента). Более того, этот документ, датированный XX в., подписан «M. Madiotes». Возможно, это псевдо-греческое имя: его корень (µαδάω) означает «вялый» (ср.: LSJ), а применительно к человеку – «лысый». Карлсон полагает, что Смит, рано облысевший, намекает здесь на свое авторство (т. е. М[ортон] Лысый).
6. Вся эта история – находка в монастыре Мар-Саба давно утраченного документа, способного перевернуть наши представления об истории христианства, – предсказана в романе Джеймса Хантера «Тайна Мар-Сабы»[1645]. И более того, один из главных героев книги, разоблачающий фальсификаторов и их обман – это инспектор Скотланд-Ярда лорд Моретон. Параллели между «открытием» Мортона Смита в монастыре Мар-Саба и романом Хантера поразительны. Стоит добавить: в предисловии к опубликованному посланию Климента Смит пишет, что его пригласили побывать в монастыре Мар-Саба в 1941 году (через год после публикации романа Хантера).
И Карлсон, и Джеффри пытаются понять мотивы Смита. Карлсон предполагает карьерную мотивацию, возможно, связанную с потерей университетской кафедры. Джеффри рассматривает возможный «церковный» сценарий. Браун гневно оспаривает эти предположения. Разумеется, именно эта часть дела навсегда останется для нас наиболее темной и неясной. Если не обнаружится письменное признание, мы никогда не узнаем, чего хотел добиться покойный профессор Смит, если, конечно, изготовитель подделки – он.
На мой взгляд, наиболее убедительное свидетельство неподлинности послания Климента из монастыря Мар-Саба – это тот «неудобный» факт, что в двух предыдущих своих публикациях Смит сам связывал воедино те же самые элементы, какие связаны в его «открытии» 1958 года. В диссертации, опубликованной в 1951 году, Смит пишет: 1) о тайных учениях; 2) о выражении «тайны Царства Божия» (Мк 4:11), и 3) о раввинистическом отрывке (т. Хаг 2:1), посвященном запретному сексу. В исследовании, вышедшем в 1958 году, Смит возвращается к этим темам, на этот раз добавляя к ним 4) Климента Александрийского. И позже в том же году, среди старых книг и рукописей монастыря Мар-Саба посреди Иудейской пустыни, вдруг обнаруживает документ, в котором тоже сочетаются все четыре темы! Именно такие «совпадения» – когда первооткрыватель обладает знанием, характерным для открытого им текста, еще до того, как текст открыт, – и наводят критиков на мысль о подделке. Этот признак очевиден в случае профессора Коулмен-Нортона, который пошутил о том, что третий ряд зубов – признак проклятого, а десять лет спустя «открыл» текст, где говорилось то же самое. Пожалуй, очевиден он и в случае профессора Смита, который писал о тайнах и запретном сексе в учении Иисуса, а затем вдруг «нашел» текст со столь необычным сочетанием идей. Идею такой подделки и подробности фабрикации мог подсказать им обоим роман Джеймса Хантера, в котором фальсификаторы вшили в одну из редких книг из монастыря Мар-Саба, не внесенных в каталог, страницу поддельного греческого текста[1646].
Едва ли мы когда-нибудь полностью проясним эту странную историю. Споры, несомненно, будут продолжаться. Однако, на мой взгляд, серьезное научное исследование Евангелия от Марка и исторического Иисуса не может полагаться на «Климентово послание» из монастыря Мар-Саба.
Заключительные замечания
Многие портреты и реконструкции исторического Иисуса, создаваемые учеными, сильно искажаются, поскольку их авторы опираются на поздние документы сомнительной исторической ценности. По иронии судьбы, пытаясь заглянуть «за рамки» новозаветных Евангелий и отыскать истину, сокрытую под пластами преданий и богословских умозаключений, некоторые безоглядно полагаются на тексты, написанные на 60–100 лет позже новозаветных Евангелий. Поистине странный подход!
Два из четырех внеканонических Евангелий, о которых мы говорили в этой статье, появились во второй половине II в.: это Евангелие Фомы и Папирус Эджертона. Третье произведение, Ахмимский фрагмент, также невозможно датировать ранее чем серединой II в. – если, конечно, это и правда то самое Евангелие Петра, о котором в начале III в. упоминал архиепископ Серапион, однако в этом есть серьезнейшие сомнения. Ахмимский евангельский фрагмент вполне может быть частью неизвестного нам произведения из еще более поздней эпохи – не случайно для него характерны грубые неточности, а также невероятные и даже фантастические элементы. Во всяком случае, нет никаких оснований выводить из него некий гипотетический рассказ середины I в. о Страстях и воскресении, – рассказ, на который якобы опирались новозаветные Евангелия. Такая теория не выдержит ни малейшей критики.
Оставшийся документ – цитаты из Тайного Евангелия от Марка, включенные в потерянное и найденное послание Климента Александрийского – вполне может быть современной подделкой; и если это так, то он ничего не может предложить критической науке, исследующей происхождение христианства, исторического Иисуса и возникновение евангельской традиции. Однако и это произведение наряду с прочими используется в исследованиях исторического Иисуса и в изучении Евангелия от Марка, которое ученые уже более столетия считают древнейшим из трех синоптических Евангелий.
Откровенно говоря, столь вольное и легкое обращение ученых к внеканоническим Евангелиям вызывает недоумение и беспокойство. По контрасту со сверхкритичным отношением к новозаветным Евангелиям порой удивляет, что Евангелия внеканонические воспринимаются некоторыми вообще без критики. Трудно объяснить, почему ученые питают такое доверие к документам, в которых отражена обстановка, совершенно чуждая Палестине до 70 г. н. э., и в то же время присутствуют предания и тенденции, явно возникшие позже и в других местах.
Если учесть неопределенные происхождение и подлинность Ахмимского фрагмента, ценность его для евангельских исследований минимальна. А вот Евангелие Фомы и Папирус Эджертона 2 – это важные тексты, заслуживающие тщательного критического изучения. Возможно, они оба свидетельствуют о развитии евангельской традиции во II в., а также о ранних гармониях Евангелий, подобных тем, какие составляли Иустин Мученик и его ученик Татиан.
Однако эти тексты намного менее ценны как источники, если исследование касается исторического Иисуса или проблемы возникновения новозаветных Евангелий. И потому я призываю ученых-новозаветников и исследователей Иисуса в будущем быть более осторожными, меньше увлекаться гипотезами и спекуляциями и делать выводы на основе более строгой критики, основанной на доказательствах.
Апокрифические Евангелия и исторический Иисус
Фема Перкинс
Неканонические Евангелия и «исторический Иисус»
В научном сообществе идут бесконечные методологические споры о том, можно ли использовать неканонические, так называемые апокрифические или «гностические» Евангелия, для реконструкции исторического Иисуса. Поскольку многие из них дошли до нас лишь фрагментарно, в виде подборок цитат у более поздних авторов или позднейших переводов с греческих оригиналов на другие языки, хронологический и культурный разрыв между такими источниками и свидетельствами рубежа I–II вв. – времени составления канонических Евангелий – уводит большую часть неканонических Евангелий на периферию наших исследований. Тем специалистам, которые стремятся доказать, что использование иных евангельских традиций в реконструкции исторического Иисуса имеет под собой основу, приходится применять особые стратегии источниковедения и критики редакций, чтобы найти и выделить «археологический слой» I века в этих позднейших сочинениях. Наиболее известные примеры такого рода – это Евангелие Фомы, собрание речений, и рассказ о Страстях из Евангелия Петра, из которого Кроссан извлекает раннее «Евангелие креста»[1647]. Последняя реконструкция принята далеко не всеми, прежде всего из-за очевидной связи текста, дошедшего до нас в рукописи VIII в., с каноническими материалами[1648]. Первая в целом принята научным сообществом: логии из Евангелия Фомы регулярно рассматриваются в научных комментариях и публикуются в изданиях Евангелий с параллелями[1649]. Обратный перевод коптских логий на греческий включен в критическое издание Q[1650].
Да, у нас нет причин априори отрицать возможность того, что ранние предания были сохранены, став частью неканонических текстов, которые дошли до нас лишь в составе позднейших версий и переводов. Но такое предположение ставит перед нами серьезные методологические проблемы. Можно вспомнить, сколь сложную композиционную историю постулировали для текстов, составивших Первую книгу Еноха, после кумранских находок. Джордж Никельсбург полагает, что в новое критическое издание теперь войдут примерно сорок девять рукописей. Он отмечает также, что на каждой стадии перевода текста – в его арамейской, греческой и эфиопской версиях – заново возникают вопросы его исторического происхождения, а вплетение в него преданий различной культурной и религиозной принадлежности требует отдельных исследований[1651]. Подобные сложности ждут и исследователей неканонических евангельских преданий. Хотя ученые уже научились с осторожностью обращаться к каноническим текстам как к эталону, позволяющему относить новые материалы к жанрам «евангелия», «деяния» или «откровения», мы часто возвращаемся к этим категориям при классификации новых рукописей или в попытках определить – на фоне позднейших событий – что представляло собой «изначальное христианство»[1652].
Отказ от допущения, согласно которому канонические Евангелия устанавливались как «мерка» ранних преданий об Иисусе или древнейших очертаний христианского движения[1653], повлиял на реконструкцию исторического Иисуса и в других отношениях. В Иисусе видят народного учителя мудрости, не имевшего никакого отношения к апокалиптике, образ которого затем преобразился или в апокалиптических грезах визионеров, отождествивших Иисуса с Сыном Человеческим, или в эллинистических христологических представлениях, которые сложились в церквях, основанных апостолом Павлом. Редакторы критического издания Q уверенно заявляют: большинство ученых согласны, что Q сложился из ранних сборников поучительных изречений – жанра, пример которого мы встречаем в Евангелии Фомы[1654]. Тот же принцип еще более широко применяется к фрагментарным обрывкам речений в Диалоге Спасителя – еще одной беседе, которую Иисус уже после воскресения (?) ведет с несколькими учениками (и Марией Магдалиной). Пейджелс и Кёстер проводят развернутые параллели с Евангелием Фомы, в котором видят более древнее предание об Иисусе, чем в окончательной редакции Q. Более того, Диалог Спасителя избавлен от ярлыка «гностический»: о нем говорится, что он, «как и Евангелие от Иоанна… стал свидетельством богословских размышлений, сопровождавших появление преданий о речениях Иисуса на горизонте гностической мысли»[1655].
Более конкретное предложение по оценке материала речений, ставших частью внеканонических Евангелий и гностических диалогических откровений, мы находим в анализе Апокрифа Иакова. Этот анализ провел Рональд Кэмерон[1656], применив к материалу речений категории критики форм. Кэмерон признает, что речения можно обнаружить и в более поздних сочинениях, принадлежащих к различным жанрам. Например, пророчества о Страшном суде можно найти не только в собраниях речений, но и в посланиях, и в гомилиях, и в апокалипсисах, и в романах[1657]. Апокриф Иакова включает в себя три земделельческие притчи или уподобления: «…ибо Царство Небесное подобно…» – колосу с зерном, проросшему в поле (12, 20–27), плюс дополнительная просьба (12, 27–31); или пальмовой ветви (7, 24–28), с просьбой (7, 28–35); или же «Слово подобно…» пшеничному зерну засеянному (8, 16–23), вместе с увещанием хранить ревность к Слову (8, 10–15; 8, 23–27)[1658]. Увещания применять эти притчи к жизни подчеркивают необходимость прозревать скрытую в них истину: «Так и вы сами можете стяжать Царство Небесное; если же не стяжаете его через знание, то никогда не сможете найти его» (8, 23–27). Список заглавий притч в этом разделе Апокрифа Иакова показывает, что автор предполагает в своих читателях знакомство с притчами синоптической традиции: «Для некоторых довольно [услышать] учение и понять “Пастырей”, и “Семя”, и “Дом”, и “Светильники дев”, и “Плату работникам”, и “Дидрахму”, и “Женщину”» (8, 4–10).
Этот пример не дает нам новых свидетельств об изначальных притчах Иисуса. Он лишь показывает тематическую структуру, согласно которой метафоры для Царства Божьего брались из земледельческой тематики[1659]. Список заглавий притч показывает, что читателям нетрудно было восстановить содержание притчи по одному-двум ключевым словам, примерно так же, как современный читатель легко понимает, о чем речь, стоит ему услышать о «блудном сыне» или «добром самаритянине». Быть может, у нас и получится, как предлагает Кэмерон, выделить древнейшее ядро таких неизвестных ранее притч, как «Пальмовая ветвь». Но категории критики форм, которые позволяют нам это сделать, слишком зависимы от формальных критериев, установленных сравнением с синоптическими преданиями и Евангелием Фомы. Как и в Евангелии Фомы, речения и притчи Иисуса в Апокрифе Иакова содержат тот уровень смысла, который еще не могли постичь ученики во время земной жизни Иисуса[1660]. Полтора года, как рассказывают, посвятил воскресший Спаситель наставлению своих учеников[1661], – и это означает, что даже самый просветленный гностический учитель не мог понять истинного значения слов Иисуса без наставлений небесного Спасителя.
Второй важный элемент внеканонических Евангелий, который может иметь значение для изучения исторического Иисуса – рассказ о Страстях. Собрания речений, такие как Q или Евангелие Фомы, в этом отношении малоинтересны. Однако Апокриф Иакова содержит диалог между Иисусом и Иаковом, подтверждающий необходимость верить в распятие Иисуса (5, 31 – 6, 11)[1662]. Утверждение это звучит в беседе с Иаковом: Иисус говорит, что ученикам необходимо вслед за ним испытать несправедливые обвинения, тюремное заключение, распятие и погребение (4, 31 – 5, 35). Эта положительная оценка страданий учеников в Апокрифе Иакова схожа с предсказанием Страстей, протестом Петра и призывом «взять крест свой» в Мк 8:31–38. Однако конечная цель спасения здесь – не воскресение плоти, а возможность следовать за преобразившимся Спасителем на небеса в качестве нового, духовного существа[1663]. Еще два апокалипсиса, в которые входят откровения-диалоги между Иисусом и Иаковом Праведным, содержатся в трактатах 3 и 4 Кодекса V из Наг-Хаммади: это Первый Апокалипсис Иакова и Второй Апокалипсис Иакова. Последний завершается рассказом о мученичестве Иакова, по большей части утраченным. По сообщениям, еще один список Первого Апокалипсиса Иакова найден в кодексе, содержащем Евангелие Иуды, но он пока не опубликован.
В Первом Апокалипсисе Иакова к Иакову применяется эпитет «праведный» (32, 3–6)[1664], а сам Иаков неоднократно называет Иисуса «равви» (25, 10). Здесь приводится беседа Иисуса и Иакова незадолго до распятия, в которой Иисус предсказывает свою грядущую смерть и посмертное явление, а также страдания Иакова и встречу Иакова и Иисуса после воскресения. Иисус останется нетронут смертью (31, 14–26), а Иаков подвергнется ее страданиям (33, 4–6). Иисус открывает Иакову формулировки, необходимые душе для того, чтобы пройти мимо демонических стражей материального мира (33, 5 – 34, 20). Следующая стадия восхождения требует уже вмешательства высшей Софии, пребывающей в Отце (35, 5–8).
И распятие Иисуса, и последующее мученичество Иакова перетолковываются как образы борьбы сил, сражающихся за душу. Следовательно, здесь нет интереса к историческим деталям Страстей, которые могли бы помочь нам в изучении исторического Иисуса по гностическим апокрифам[1665].
Рассмотрим, как решаются в гностических апокрифах наиболее спорные вопросы о Страстях, возникающие сегодня у исследователей исторического Иисуса: а) ответственность за смерть Иисуса: был ли это заговор нескольких иудейских вождей – или решение римского префекта, увидевшего в Иисусе угрозу стабильности? б) деятельность самого Иисуса, приведшая к смерти: организовывал ли он – с помощью Иуды или без него – какие-либо акции, провоцирующие конфронтацию с властями? и в) судьба тела Иисуса: насколько исторически достоверен (и достоверен ли вообще) рассказ канонических Евангелий о том, что его похоронил некий благочестивый иудей? Что касается первого, в гностических апокрифах, упоминающих о кресте, остаются кое-какие ссылки на противостояние Иисуса и иудеев, однако римская власть полностью исчезает[1666]. Что касается второго, здесь нет связных рассказов о конкретных действиях Иисуса, приведших к Страстям. «Власти», с которыми конфликтует Иисус – это бог-творец и его ангелы, которые хотят, чтобы люди не узнали об истинном Боге и божественном мире[1667]. Что касается третьего, то тело неважно. Спаситель сбрасывает его перед распятием или во время его, чтобы вернуться к своим небесным корням (Ап. Иак 8, 37 – 9, 4: «Видите, что я сошел, и говорил, и подвергся судилищу, и сбросил венец мой после того, как спас вас, дабы и вы теперь обитали со мной»). Апокриф Иакова упрекает Иакова (и Петра) за приверженность к плоти: «Когда же прекратите вы любить плоть и бояться страданий? Или не ведаете еще, что вам предстоит претерпеть обиды и несправедливые обвинения?» (5, 2–12).
Итак, значительные методологические проблемы возникают при любых попытках извлечь из гностических апокрифов какие-либо сведения об историческом Иисусе. Ни в одном гностическом тексте, претендующем на то, что в нем сохранилось учение кого-либо из учеников Иисуса, мы не находим ни хронологической последовательности событий, ни повествовательного реализма[1668]. Кроме того, тот герменевтический контекст, который придают авторы отдельным частям этого сюжета, противоположен герменевтическому контексту историка. Даже если не пытаться задавать им вопросы, на которые эти тексты и не собирались отвечать, они напоминают нам о проблемах изучения новозаветных апокрифов в целом. Мы имеем дело с неполными текстами, зачастую сохранившимися только в переводах. Аллюзии на канонические Евангелия по большей части недостаточно близки, чтоб счесть их прямыми цитатами. Однако своей цели они могли достичь лишь в аудитории, знакомой с общепринятыми евангельскими традициями.
Ханс-Йозеф Клаук полагает, что апокрифические Евангелия следует рассматривать как примеры «вторичной устности»: иначе говоря, наряду с письменными текстами, используемыми в богослужении, мы видим, что те же материалы передавались и распространялись устно, приводились в гармоничное сочетание и служили основой для составления апокрифических текстов. Хотя со временем апокрифические Евангелия были приравнены к девиантным или еретическим формам христианства, они вовсе не обязательно задумывались как соперники канонических Евангелий[1669]. Как показала Кристина Томас, этот феномен множественных версий сюжета в текстах, которые, по-видимому, на каком-то уровне соотносятся друг с другом, однако не контролируются рамками зафиксированной письменной парадигмы, хорошо иллюстрируется преданиями, собранными в апокрифических деяниях[1670]. В таком контексте множественные версии одной истории могут приниматься как авторитетные – и незачем искать среди них «изначальную» и «истинную». Даже мысль о том, что некоторые версии могли предназначаться лишь для узкой элитарной группы, получившей особые наставления, – мысль, выраженная во вступлениях к множеству гностических апокрифов, – имеет долгую родословную, которую можно проследить вплоть до древней ближневосточной книжной культуры[1671]. Вступление к Апокрифу Иакова представляет нам описание этого процесса, имевшего отношение к рубежу II–III вв.:
Поскольку ты просил, чтобы я прислал тебе тайную книгу, открытую Господом мне и Петру, я не мог отказать или возразить (?) тебе; но написал ее еврейским алфавитом и отправил одному только тебе. Однако, поскольку ты служишь спасению святых, прошу тебя, соблюдай осторожность и не пересказывай эту книгу многим, – ибо Спаситель не хотел говорить этого всем нам, двенадцати Его ученикам. Но блаженны те, кто спасется верою в слова сии (1, 8–28).
…Двенадцать учеников все сидели вместе и вспоминали, что говорил Спаситель каждому из них, тайно или открыто, и [записывали это] в книги. [Но я] писал то, что было в [моей книге] – вот, Спаситель явился [после] того, как ушел от [нас, пока мы] смотрели вслед ему (2, 7–19).
Он сказал: «Истинно говорю вам, никто не войдет в Царство Небесное по зову моему, но (лишь) потому, что сами вы полны. Оставьте мне Иакова и Петра, чтобы я мог наполнить их». И, призвав этих двоих, отвел их в сторону, а остальным повелел заняться тем, чем они занимались прежде (2, 28–39)[1672].
Этот сценарий подвергает сомнению предпосылку, лежащую в основе большинстве попыток «найти исторического Иисуса», – предпосылку, согласно которой должна существовать одна-единственная, фиксированная точка зрения на жизнь и учение Иисуса. Можно поменять ход игры и спросить: не являются ли разнообразные поиски «исторических Иисусов» своего рода гностическими евангелиями для наших современников? Однако историки могут возразить: по мере того как расширяются наши познания о прошлом, наш взгляд становится глубже и осмысленнее, чем у тех, кто жил во времена описываемых событий. Как замечает Джон Льюис Гэддис, «прямое переживание событий – не обязательно лучший способ их понять»[1673].
Апокрифические Евангелия и понимание Иисуса
Даже канонические Евангелия намекают, что ученики Иисуса не понимали его действий, учения и смысла смерти во время его жизни. Притчи – это своего рода загадки, иносказательная речь (Мк 4:10–12). Связь между определенными действиями Иисуса и пророчествами, воплощенными в них, после воскресения оформилась как «воспоминание» (см. Ин 2:22), которое четвертый евангелист ассоциирует с Утешителем (Ин 14:26). Петр решительно протестует против предсказания о Страстях и слышит упрек в том, что не хочет понять план Бога (Мк 8:31–33). В версии пасхальных событий, изложенных у Луки, различные ученики, мужчины и женщины, слышат призыв вспомнить, что говорил Иисус, или научиться тому, что в Писаниях предсказаны его смерть и воскресение (Лк 24:6–8, 25–27). Вот почему к ученикам Иисуса, несомненно, применим знаменитый вопрос: «Что они знали – и когда узнали это?»
Сколь сильно зависела необходимость создать рассказ, способный отразить и представления самого Иисуса, и суть его учения, и смысл спасения, о котором он говорил последователям, от культурных моделей, иных по сравнению с теми, какие были характерны для галилеян I в.? Для некоторых ученых пропасть между Иисусом-иудеем и мессией первых христиан так широка, что через нее едва ли возможно перекинуть мост. Как пишет Эми-Джилл Левин:
Та небольшая группа, что осталась верной, вдохновленная учением Иисуса и после его воскресения убежденная в том, что он – помазанник Божий, теперь должна была решить неизбежные вопросы, связанные с верой в Иисуса как мессию… Среди прочих, ответы на эти вопросы предлагали Петр, Павел и Иаков – и по мере этого превращали иудейскую секту в неиудейский феномен. Они создали движение, неразрывно связанное с иудейской проповедью Иисуса, однако приспособили эту проповедь – вместе с возвещением о распятии Иисуса и его воскресении – к новым временам, новым условиям, новым слушателям[1674].
Она заключает, что Павел сделал даже более радикальный шаг, чем Петр или Иаков:
Поскольку знамением мессианской эры, ознаменованной явлением Иисуса, еще не были, по крайней мере пока, ни воскресение мертвых, ни Страшный суд, – апостол Павел оказал иное и, на его взгляд, даже лучшее влияние. Он заключил, что крест можно понимать как жертвоприношение: крест доказывал, что Иисус заплатил «штраф» за весь человеческий грех… и тем самым победил силы греха и смерти, примирил человечество с Богом и открыл ему доступ к вечной жизни[1675].
Свидетельствуют ли апокрифические Евангелия о более ранней – или, напротив, о более поздней стадии процесса, в ходе которого возникли все наши предания об Иисусе? Возможно, некоторые ранние фрагменты евангельского материала восходят к рассказам, схожим с каноническими текстами – таков, например, спор о чистоте в P.Oxy. 840[1676], или какой-нибудь из «свободно плавающих» отрывков предания об Иисусе, время от времени попадавший в канонические Евангелия (Ин 7:53 – 8:11). Один из древнейших пространных фрагментов, Папирус Эджертона 2 (ныне дополненный Кельнским папирусом 255), представляет собой, по-видимому, устную компиляцию материалов, взятых у синоптиков и Иоанна, а не работу книжника, который обращался к письменным текстам[1677]. Поскольку отголоски спора между Иисусом и вождями иудеев звучат также в Ин 5:39, 45 и 9:29, а побиения камнями не происходит, потому что «не пришел еще час» (ср. Ин 8:59; 10:31–39), можно предположить, что это фрагмент из Евангелия, содержавшего рассказ о Страстях[1678]. В фрагментарной версии исцеления прокаженного (ср.: Мк 1:40–45; Мф 8:1–4; Лк 5:12–16) объясняется и то, как заболел исцеленный: он сам виноват в своей болезни, поскольку общался с прокаженными. Кроме того, здесь, в отличие от синоптических Евангелий, не говорится о том, что Иисус прикоснулся к прокаженному, – эта часть просто опускается, а вместо этого в завершение Иисус напутствует исцеленного «больше не грешить» (ср.: Ин 5:14). Фрагментарность отрывка не позволяет заключить, случайные ли это вариации, возникшие при пересказе текста, или они призваны подчеркнуть, что сам Иисус не нарушал предписаний Торы, касавшихся чистоты[1679].
Еще одно фрагментарное Евангелие, найденное среди коптских рукописей в Берлине, было опубликовано в 1990-х гг. Английские редакторы озаглавили его как Евангелие Спасителя[1680], хотя у самого папируса P.Berol. 22220 (который немецкие ученые окрестили как «Неизвестное Берлинское Евангелие» – Unbekannte Berliner Evangelium, UBE), никакого древнего заглавия не сохранилось. После первой публикации, внимательно изучив кодекс, Стивен Эммел предложил совершенно иначе распределить фрагментарные страницы[1681]. Сохранившийся остаток текста повествует о беседе Иисуса с учениками на Тайной Вечере, еще до предательства; в нем слышны отзвуки канонических Евангелий, особенно Матфея и Иоанна, звучит речение из Евангелия Фомы (Ев. Фом 82 = Ев. Спас 72, по Эммелу) и, возможно, присутствуют иные апокрифические предания, связанные со схождением Иисуса в ад[1682].
Плохое состояние уцелевших фрагментов, а также непрестанные споры об их взаимном расположении и их связи с другими отрывками, для которых еще не найдены места, лишают нас возможности анализировать Евангелие Спасителя так, как это необходимо для различения в нем пластов традиции. Однако некоторые черты в имеющемся тексте кажутся позднейшим развитием канонических элементов. Отзвук бесед на Тайной Вечере, приведенных у Иоанна, слышится в словах о радости, связанной с явлением Иисуса (Эммел, Ев. Спас 9; Ин 16:22). Призыв встать и уйти посреди трапезы (Ев. Спас 12; Ин 14:31) сочетается с возвещением о том, что рядом предатель (Мк 14:42; Мф 26:46). Самоописание Спасителя как доброго пастыря, готового жизнь отдать за друзей, указывает на то, что еще предстоит сделать апостолам, чтобы исполнить величайшее из поручений (Ев. Спас 18–22; Ин 10:11, 15, 17; 15:13). Согласно расположению фрагментов, предложенному Эммелом, долгое видение восхождения Спасителя в небесные кущи происходит на горе (Масличной?). Апостолы видят, как разверзаются небеса, видят парящих ангелов и Иисуса-великана, голова которого достигает седьмого неба (Ев. Спас 28–44). Затем сцена возвращается к сценарию Гефсиманской молитвы – хотя, по-видимому, молитвы возносятся непосредственно перед престолом небесным, и вполне возможно, что в них входят и ответы Отца (Ев. Спас 48–60; Мк 14:36; Мф 26:39; Лк 22:42)[1683]. Среди других дополнений – диалог о будущем видении Спасителя во славе; сюда, помимо прочего, входят слова Иисуса, обращенные к Марии Магдалине из Ин 20:17 (Ев. Спас 65–72), серия речений «Я есмь…», на которые апостолы отвечают «Аминь» (Ев. Спас 72–87), и обращение Спасителя к кресту (Ев. Спас 101–116). Еще одна группа речений, которую Эммел располагает между разделом с откликами «Аминь» и обращением к кресту – по-видимому, описание распятия[1684]. Это описание, по реконструкции Эммела, должно приободрить скорбящих учеников. Они должны возрадоваться тому, что Иисус победил мир (Ев. Спас 88–89; Ин 16:33).
Можно предположить некоторую связь между Евангелием Спасителя и Евангелием Петра: и там, и там в видении предстает сияющий Христос с головою выше неба; в обоих случаях звучит обращение к кресту как к участнику в спасении и упоминание о том, что Христос проповедовал мертвым[1685]. Благодаря замечанию Евсевия о столкновении Серапиона с христианами, которые использовали это Евангелие в общественном богослужении, мы знаем, что Евангелие Петра имело хождение в Малой Азии во II в. н. э. (Церк. ист 3.3.2; 6.12.1–6)[1686]. Фрагмент III в. (P.Oxy. 2949) весьма отличается – в разделе о Страстях и воскресении – от текста VIII в., на который опираются современные исследования Евангелия Петра. Однако рукопись VIII в. показывает, что этот текст распространялся и после того, как епископ Серапион счел его докетическим и, следовательно, неуместным для богослужения и наставления верующих[1687]. Как и другие апокрифы, Евангелие Петра в различных списках варьируется более свободно, чем канонические Евангелия.
Раймонд Браун предлагает подробнейший сравнительный анализ рассказа о Страстях в Евангелии Петра по сравнению с каноническими Евангелиями[1688] и делает вывод о том, что в тексте невозможно выделить древнейшую страту повествования о Страстях, которую затем бы дополнили отсылки к каноническим Евангелиям и апокрифическим элементам текста. Однако зависимость автора от мотивов, уникальных для Матфея, а также отголоски Луки и Иоанна вытекают скорее из устного знакомства с этими текстами, чем из такой переработки письменных источников, какую мы видим в работе Матфея и Луки над текстом Марка или в гармонизации евангельских текстов у Татиана[1689]. Следовательно, теоретически возможно, что такая свободная гармонизация знакомых Евангелий содержала ранние воспоминания, не вошедшие в канонические версии – почти так же, как не вошли в них многие речения, извлеченные из Евангелия Фомы.
Очевидно, решение необходимо принимать по каждому случаю в отдельности. Какие элементы Евангелия Петра могу восходить к I столетию? Большинство ученых сомневаются, что в этом Евангелии можно найти что-либо значительное для изучения исторического Иисуса[1690]. В его повествовании, почти как в Апокалипсисе Петра, где под видом «иудеев» изображены ортодоксальные христианские лидеры, в распятии Иисуса оказываются виновны иудейские вожди. Роль Ирода, упомянутого во вступлении к Евангелию от Луки, перевернута с ног на голову: здесь Ирод лично распоряжается о распятии. Пилат играет второстепенную роль – и даже обращается к Ироду с просьбой отдать тело Иисуса своему другу Иосифу [то есть здесь Иосиф – друг Пилата!] (Ев. Пет 1–6)[1691]. Столь сильная неприязнь к иудеям больше похожа на позднейшее развитие, а не на исторические воспоминания о том, что казнь Иисуса устроили и провели иудейские власти. В рассказе о гробнице сочетаются два предания, не согласованные друг с другом. По сравнению со стражниками у Матфея, запечатавшими гробницу и потом доложившими начальству (Мф 27:62–66; 28:11–15), здесь проводится настоящий дозор: римские солдаты стоят на страже, сменяя друг друга, к ним присоединяются иудейские старейшины, а на рассвете к гробнице приходит целая толпа народа. Все они видят, как ангелы открывают гробницу, заходят туда, а затем выходят вместе с великаном-Христом, у которого голова выше неба, и крест следует за ними (Ев. Пет 8–11). К этому рассказу добавлена история о Марии Магдалине и других женщинах, посетивших гробницу: здесь подробнее говорится о страхе иудеев, прервавших традиционное погребение и оплакивание Иисуса. Эта история следует каноническим образцам. Женщины находят гробницу открытой, встречают ангелов, возвещающих им о воскресении Иисуса, и убегают в страхе (Ев. Пет 12–13). Предыдущий эпизод у гробницы при этом не упоминается. Евангелие Петра отражает апологетический интерес. Истории о гробнице могут послужить свидетельством воскресения только в том случае, если посторонние видели, как Иисус выходит из склепа. Отсутствие тела само по себе ничего не доказывает. Однако у этой истории, развитой в Евангелии Петра, отсутствуют какие-либо иные источники кроме тех, что сохранены в канонических Евангелиях. Их версии отражают лишь то, каким образом христиане II в. дополняли и приукрашивали эти истории, пересказывая их друг другу, – или, может быть, старались объяснить для себя то, что услышали или прочли в канонических Евангелиях.
Итак, единственным правдоподобным источником ранних преданий об Иисусе – помимо канонических Евангелий – остаются речения, сохраненные в Евангелии Фомы. Это собрание распространялось во II–III вв. н. э. в нескольких версиях, как показывают нам греческие фрагменты, коптский текст и цитата из Ев. Фом 82, приведенная в Ев. Спас 72. Скорее всего, за его появлением стоят те же движущие силы, какие руководили Папием, который говорил, что собирал предания у тех, кто слышал их от очевидцев слов и дел Иисуса, и отмечал, что можно познать из этих преданий (Евсевий, Церк. ист 3.39.7; Ириней, Против ересей 5.33.4)[1692]. Поскольку множество речений носит следы гностической обработки или свидетельствует о схожести с каноническими вариантами, выносить окончательное суждение об исторической ценности Евангелия Фомы невозможно. В решении вопроса о том, какие речения представляют ранние предания об Иисусе, важную роль играет сходство с притчами и речениями, знакомыми нам по синоптической традиции. Однако все эти усилия остаются во многом спекулятивными. Часто происходят взаимодействия между представлениями специалистов о страте «раннего Q» и Евангелием Фомы. Последнее служит своего рода гарантом для расценивания апокалиптических мотивов в преданиях об Иисусе как более поздних элементов в сравнении с «учением премудрости» – самом раннем пласте, который выделяют некоторые анализы Евангелия от Фомы[1693].
Наиболее подробную и развернутую систему критериев для сортировки речений Евангелия Фомы разработала Эйприл Деконик[1694]. Она выделяет «Стержневое Евангелие» (англ. “Kernel Gospel”), которое впоследствии разрослось до известного нам собрания речений – за счет позднейших дополнений и влияния устной памяти о синоптических вариациях. Это «Стержневое Евангелие» состоит из пяти речей:
1. Близость конца мира (логии 2; 4.2–3; 5; 6.2–3; 8–10; 11.1; 14.4; 15; 16.1–3).
2. Эсхатологические вызовы (логии 17; 20.2–4; 21.5, 10, 11; 23.1; 24.2, 3; 25; 26; 30–36).
3. Необходимость исключительной верности Иисусу (логии 38.1; 39–42; 44.2–3; 45–48; 54–55; 57–58; 61.1).
4. Избрание немногих достойных (логии 62–63; 64.1–11; 65–66; 68.1; 69.2; 71–74; 76; 78–79; 81–82; 86; 89–90; 91.2).
5. Близость Царства Божьего (логии 92–99; 100.1–3; 102–104; 107; 109; 111.1)[1695].
Чуть более пятидесяти процентов «стержневых» речений Деконик имеют параллели в Q, в то время как более поздние пласты в ее реконструкции параллелей в Q не имеют. Таким образом, заключает Деконик, «Стержневое Евангелие» – пример древнейшей известной нам традиции об Иисусе, независимой от Q[1696].
Критерии Деконик, согласно которым она выделяет речения и отбирает их в группы, связанные определенными темами, – как здесь, так и в других реконструкциях, – можно поставить под вопрос. Известны другие апокрифы, состоящие из групп речений или выдержек из учения какого-либо философа. В таких антологиях может вообще отсутствовать тематическая последовательность или богословская связность, которую предполагает Деконик (а также ее более ранние предшественники)[1697]. В частности, трудности возникают в связи с самой сутью этого сборника. Например, Элейн Пейджелс, начиная разговор об интерпретации Книги Бытия в традициях Евангелия Фомы и Четвертого Евангелия, для начала выделяет в Евангелии Фомы группу речений, которые, по гипотезе Деконик, относятся к разным слоям[1698]. Такое предположение относится к развитию богословских идей, которое Деконик прилагает к более поздним добавлениям в традицию. Изначальному апокалиптическому предчувствию близкого Царствия, нашедшему отражение в арамейском сборнике речений Иисуса, созданном иерусалимскими христианами в 50-х гг. I в. н. э., предстояло со временем стать Царствием, в полной мере присутствующим на земле и означающим мистическое преображение верующих. Деконик считает, что здесь перед нами сирийская, энкратитская форма христианства, предлагающая верующему сопричастие к славе Адама до грехопадения[1699].
Желая доказать существование стержневого собрания речений, возникшего прежде, чем источник Q, Деконик подчеркивает в некоторых речениях семитские черты, видя в них свидетельство их арамейского происхождения с позднейшим переводом на сирийский (поскольку традиции, связанные с именем Иуды Фомы, имели хождение в Сирии). Греческие фрагменты и коптская версия представляют собой уже третью и четвертую стадии развития текста[1700]. Однако свидетельств, способных указать на семитское происхождение Евангелия Фомы, не больше, чем подобных же доказательств для речений, присутствующих в канонических Евангелиях. Далее, гипотетические беседы, «заглавия» которых дает нам Деконик, не показывают связной картины ожиданий Царства и Иисуса как пророка, который становится великим ангелом, – иными словами, того богословия, которое, по мнению Деконик, было характерно для древнейшей христианской общины. Чтобы подогнать некоторые из речений под свои «заглавия», ей приходится игнорировать случаи, когда речение явно выглядит краткой сводкой, указывающей на более полную версию у синоптиков или в Q. Например, вопрос об уплате податей кесарю (Ев. Фом 100, 1–3), в ее понимании, просто утверждает, что Царство Божье не похоже на царство кесаря. Она полагает, что «изюминка» синоптической апофегмы, в которой Иисус обращает против обвинителей изображение кесаря на монете (Мф 22:15–22; Мк 12:13–19; Лк 20:20–26) – позднейшее дополнение[1701]. Во многих случаях упрощенные речения и притчи в Евангелии Фомы лишаются конкретности, характерной для их синоптических аналогов.
Если рассматривать эти варианты в Евангелии Фомы как краткие напоминания для людей, знакомых с полным текстом, то проповедь Царства сохраняет свою конкретность и связь с социокультурным миром Иисуса. Однако, если принять реконструкцию Деконик, выходит, что почти все, связанное с «историческим Иисусом», порождено воображением верующих в более поздние времена. Решая, что относится к изначальной страте, а что появилось потом, когда хранители преданий перешли к новым богословским воззрениям, Деконик не может не обратиться к принципу когерентности. Она отмечает: «Апокалиптический аспект Евангелия изменился – теперь мистика преобладает над герменевтикой… По-видимому, община считает воплощением Царствия свою Церковь и энкратические практики»[1702].
Если между пластом поучений, воссозданным или по источнику Q, или по «Стержневому Евангелию», извлеченному из Евангелия Фомы, и богословием древнейших Евангелий нет богословской преемственности, то между «Иисусом истории» и «Христом веры» остается непреодолимый разрыв. Оценивая различные образцы веры и практики первых столетий нашей эры, можно говорить даже о разных «Христах», – суть от этого не меняется: верующие воображают себе основателя религии так, как им нравится, будь то Иисус, Будда или Мухаммед.
Гностические апокрифы и весть о спасении
Апокрифы, обнаруженные в гностических сборниках, отличаются характерными сотериологическими воззрениями. Спаситель приходит для того, чтобы просветленные души могли вернуться на свою истинную родину, в Божественный мир за гранью видимых небес. Поскольку небесами правит невежественное или злонамеренное божество, отождествляемое с «Господом Богом» иудейских Писаний, спасение требует освобождения из-под его власти. История освобождения разыгрывается в мире абстрактных сущностей, вторичной или интеллектуальной мифологии, мало связанной с культурным и политическим миром, в котором жили ее приверженцы. Следовательно, попытки дать социальную характеристику движений, относимых к «гностическим», в научном мире далеко не столь популярны и успешны, как попытки воссоздать Движение Иисуса на основе канонических Евангелий[1703].
Интерес этих апокрифов к поучениям Спасителя перед самым распятием и после воскресения отражает более широкие интересы христиан II–III веков. И Евангелие Петра, и Евангелие Спасителя в реконструкции Эммела показывают нам, что эти сюжеты и связанные с ними богословские размышления сосредоточены прежде всего на божественной природе Спасителя. Во фрагментах Евангелия Спасителя мы встречаем Иоанново изображение Сына, возвращающегося к Отцу, который послал его, наряду с апокалиптическим описанием небесных сфер и их стражей. Ни Евангелие Петра, ни реконструированное Евангелие Спасителя не высказывают столь откровенно докетического взгляда на распятие, какой мы видим в гностическом Апокалипсисе Петра. Эта книга открыто спорит с богословием искупления, принятым в основной христианской общине: «И восхваляют проповедующих ложь – тех, кто унаследует тебе. И будут поститься во имя мертвеца, думая, что этим очистятся» (VII, 74, 10–15)[1704]. Петру являются видения распятия; Иисус объясняет ему эти видения и наставляет его о внутренней божественной природе Спасителя, которая при распятии отделится от телесного облика распятого, простого сосуда, созданного демонами и наказанного по закону Элохим (Апок. Пет 82, 18–83, 6). Видение также являет Петру славу внутренней сущности Спасителя, наполненной «нашей умопостигаемой Плеромой» (82, 3–17; 83, 10–15)[1705]. Эта докетическая христология, возможно, развилась из более ранних концепций, какие мы встречаем в Евангелии Петра и Евангелии Спасителя.
Апокриф Иакова хорошо знаком с характерной моделью речений Иисуса о Царстве и его притч. Во вступлении упоминание о «еврейском алфавите» представляется как особая стратегия книжника, призванная открыть содержание книги лишь «продвинутым» читателям. Автор исходит из предположения, что одни откровения сообщались всем Двенадцати апостолам, но другие – лишь отдельным ученикам. Хотя здесь и сказано, что откровение было дано приблизительно через полтора года после воскресения, общий принцип индивидуальных откровений ученикам не ограничивается лишь этим периодом. В (Первом) Апокалипсисе Иакова Иисус сообщает брату о грядущих Страстях до того, как они произойдут, а после воскресения возвращается и дает дополнительные наставления. Таким же образом и в Апокалипсисе Петра все наставления Иисуса о грядущем распятии и о будущем упадке Церкви по вине лжеучителей звучат еще до распятия. Той же схеме следует и недавно опубликованное Евангелие Иуды. Другие тексты не столь ясны. Видение Марии Магдалины, о котором рассказывает Евангелие Марии; наставление, данное только Фоме в Ев. Фом 13, и наставление, данное группе учеников, среди которых присутствует и Мария Магдалина, в Диалоге Спасителя, – все это могло произойти в дни земной жизни Иисуса. Учение, переданное после воскресения апостолу Иоанну в Апокрифе Иоанна и двенадцати ученикам и семи ученицам в Софии Иисуса Христа, представлено как пояснение учения, преподанного еще при земной жизни Иисуса, но в то время непонятого.
Эти тексты II–III вв. признают противоречия между тем, как представали в них личность и учение Спасителя – и тем, какое понимание сохранялось в других христианских группах. Вполне вероятно, что собрания речений со временем расширялись и дополнялись примерно так, как это предполагает Деконик; однако подобного же расширения рассказа о Страстях и воскресении – такого, как мы видим в Евангелии Петра и Евангелии Спасителя – самого по себе недостаточно для каких-либо богословских утверждений, противоречащих каноническим повествованиям. Дело не в дополнительных подробностях, а в их интерпретации. Некто, казавшийся идентичным с Иисусом из Назарета, умер на кресте; однако его смерть не была смертью Спасителя. Она не имела ключевого смысла для нашего спасения. Ученики, поодиночке и группами, видели живого Спасителя после распятия; однако то, что произошло с физической и психической оболочкой, которую он использовал в своей земной жизни, не имело никакого значения и никаких последствий[1706]. Важно не то, как окончилась земная жизнь Спасителя, а то, чему он учил в то время.
Религиозный контекст, в котором создавались эти гностические апокрифы, априори исключает какую-либо заботу об «историческом Иисусе». И тем не менее Национальное географическое общество рекламировало недавно открытое Евангелие Иуды как прорыв, который изменит наши представления о роли исторических Иисуса и Иуды в событиях, приведших к смерти Иисуса. Спор христиан II–III веков об истинном значении Страстей, нашедший свое отражение в Евангелии Иуды, очевидно, не следует «принимать за чистую монету»[1707]. А какой вклад может внести Евангелие Иуды в методологию исследования гностических апокрифов и «исторического Иисуса»? Восстановление сильно поврежденных кодексов – трудная задача; о заполнении лакун и о трудных местах перевода сейчас ведутся ожесточенные споры. Поскольку Евангелие Иуды составляет часть сборника, известного под названием Кодекс Чакос, его необходимо рассматривать в контексте соседних произведений и сборника в целом.
Первые два трактата в этом кодексе известны нам по библиотеке Наг-Хаммади: это Послание Петра Филиппу и (Первый) Апокалипсис Иакова. Фотография довольно плохого качества с частью Послания Петра Филиппу из нового кодекса (ее опубликовал в 1991 году Джеймс Робинсон), подтвердила, что текст и заглавие в этой рукописи несколько отличаются от варианта, найденного в Наг-Хаммади[1708]. В трактате, идущем вслед за Евангелием Иуды, упоминается «Аллоген», – но это не одноименный трактат из Наг-Хаммади. Сравнение первых двух трактатов с их версиями из Наг-Хаммади показывает, что составитель Кодекса Чакос пользовался коптскими переводами, несколько иными, нежели тексты из Наг-Хаммади[1709]. Дальнейшие вопросы связаны с использованием материалов, происхождение которых неизвестно, поскольку они проникли неким темным путем на рынок предметов древности. В докладе Национального географического общества говорится о том, что Кодекс Чакос, по всей видимости, представлял собой часть собрания, в которое входил и некий математический труд на греческом языке[1710]. В последнем упоминается административная область Египта, которой до IV в. не существовало. Если оба кодекса вышли из одной мастерской, то, следовательно, наша копия Евангелия Иуды не старше IV в. – приблизительная современница кодексов из Наг-Хаммади.
Еще один технический вопрос связан с названием книги. Окончание Евангелия Иуды отделено от начала следующего текста декоративным элементом (58, 28–29). Последняя страница сохранилась полностью, так что мы знаем, что текст в этой версии заканчивается словами «Он [= Иуда] получил деньги и предал его им». Однако задумывался ли этот текст изначально как Евангелие? Первая же фраза стремится уверить, что перед нами тайный рассказ или беседа (греч. λόγος) о том объяснении (греч. ἀπόφασις), которое Иисус дал Иуде в дни перед своей пасхой (33, 1–6). Схожим образом и Евангелие Фомы определяет себя как «тайные слова», которые живой Иисус говорил Фоме. Определение «евангелие» появляется лишь в конце: «…Евангелие от Фомы». Ни в том, ни в другом труде наставления Иисуса не обращены лишь к кому-то одному, как, например, в Апокрифе Иакова, Апокрифе Иоанна, (Первом) Апокалипсисе Иакова или Апокалипсисе Петра. В обоих содержатся и диалоги Иисуса с другими учениками. Кто и в какой момент определил эти произведения как «Евангелие» – с уверенностью сказать невозможно.
Исследование названий книг из собрания Наг-Хаммади, проведенное Мадлен Скопелло, позволило заключить, что эти заглавия появились у книг еще в то время, когда они распространялись на греческом, до создания коптских переводов[1711]. Множество заглавий[1712] строится так: жанр произведения плюс знаменитая фигура из прошлого, как правило, мужчина, представленный либо как автор откровения, либо как тот, для кого оно предназначено: Молитва апостола Павла (I, 1), апокриф – Иоанна (II, 1; III, 1; IV, 1 и BG 8502, 2); Евангелие — Фомы (II, 2), Филиппа (II, 3), Марии (BG 8502, 1); диалог — Спасителя (III, 5); апокалипсис – Павла (V, 2), Иакова (V, 3), (второй) Иакова (V, 4), Адама (V, 5), деяния – Петра и двенадцати апостолов (VI, 1); парафраз – Сима (VII, 1); трактат – Сифа, второй (VII, 2); поучения – Силуана (VII, 4); три стелы – Сифа (VII, 5) и послание – Петра к Филиппу (VIII, 2). В этой группе Силуан – единственный персонаж, названный по имени, но не упоминаемый в тексте книги. Мария Магдалина – единственная женщина, чье имя появляется в заглавии. Другие женские персонажи с именами в заглавиях – обитательницы умопостигаемого мира[1713]. Заглавие Евангелие Иуды соответствует этой схеме. Скопелло полагает, что заглавия такого типа – определение жанра плюс имя какой-либо знаменитой фигуры из прошлого – маркировали книгу как священный текст[1714].
По всей видимости, писец, собравший эти трактаты в одном кодексе, искал апостольское подтверждение гностической интерпретации учения Христа. Как очевидно и в некоторых кодексах из Наг-Хаммади[1715], последовательность трактатов в Кодексе Чакос указывает на знакомство с христианским каноном. Послание Петра Филиппу не только открывается словами о том, что Петр, как глава Двенадцати, имел право собрать других апостолов и преподать им учение воскресшего Спасителя, но и содержит прямые аллюзии на первые главы Деяний. Петр в нем учит, как правильно понимать Страсти Иисусовы. А пересказывая речь Петра в Храме, где тот доказывал, что Иисус «был этому страданию чужд», автор включает в нее, по всей видимости, обычный христианский Символ веры:
И был он исполнен духом святым. И говорил так: Просветитель наш Иисус, сошел и был распят. Он носил терновый венец. И надел он пурпурное одеяние. И был он [распят] на древе, и был он похоронен в гробнице. И он восстал из мертвых. Братья мои, Иисус этому страданию чужд. Но мы есть те, кто пострадал через прегрешение матери нашей. И потому он все делал подобно нам. Ибо Господь Иисус, Сын неизмеримой славы Отца – творец нашей жизни. Братья мои, не будем повиноваться беззаконным и ходить путями их… (139, 14–30)[1716].
Краткое изложение фактов о Страстях, ставшее частью речи Петра на Пятидесятницу, не отличается от того, чего мог бы ожидать любой читатель канонических Евангелий и Деяний. Для гностического рассказа о Страстях этот перечень необычен, поскольку в нем упоминается погребение[1717]. Однако 1 Кор 15:3–5 показывает, что еще в I в. н. э. погребение стало частью этой общепринятой христианской формулы. Что же касается «беззаконных», то, хотя гностический читатель должен был немедленно опознать в них демонические силы творца, действующие через тех, кто пытался распять Спасителя и противостоять его апостолам – в проповеди, упомянутой в Деяниях, Петр также говорит, что Иисус был распят «руками беззаконных» (Деян 2:23).
Как мы уже говорили, следующий трактат, (Первый) Апокалипсис Иакова, содержит двойное откровение, данное другому авторитетному лидеру раннехристианской общины, Иакову, брату Господню. Первый раздел – до Страстей, второй – после воскресения Господа. Опять же, Иисус не может пострадать от нападения демонических сил, но Иаков должен готовиться к страданиям. Звучат несколько мотивов, которые появятся и в Евангелии Иуды. «Семь» небес из традиции Писания заменены двенадцатью небесами гностической космогонии, с примечанием, что автору Писания было ведомо далеко не все (V, 25, 26–26, 6). Город Иерусалим – место космической битвы, населенное демонами, откуда Иакову следует бежать (25, 18–19). В очень плохо сохранившемся отрывке, по-видимому, отвергаются жертвоприношения, связанные с Храмом, – всесожжения и приношения начатков плодов (41, 7–15?). Фрагментарная сохранность текста затрудняет его анализ в целом, однако (Первый) Апокалипсис Иакова описывает передачу этого откровения не через Петра и двенадцать апостолов, а через других, например через семерых женщин (38, 12–24). По-видимому, разрыв с иудейским храмовым культом и священством одновременно становится разрывом и с двенадцатью апостолами[1718].
В Евангелии Иуды действие происходит в течение трех дней Страстной недели – и внезапно обрывается на сцене, когда Иуда, получив плату, указывает стражникам на комнату, где скрылся Иисус со своими учениками. Хотя эти страницы плохо сохранились и о содержании их трудно судить с определенностью, создается впечатление, что автор представляет себе эту комнату как-то соединенной с Храмом (58, 10–26)[1719]. И снова текст слишком фрагментарен, чтобы можно было ясно его понять: однако, по всей видимости, дальше читатели должны сделать вывод, что Иуда следует более раннему приказу или предсказанию Иисуса: «Ибо ты принесешь в жертву человека того, что облекает меня» (56, 19–21)[1720]. В отличие от других гностических трактатов, уже нами рассмотренных, в особенности от тех двух, что предшествуют ему в кодексе, в самом Евангелии Иуды отсутствует какая-либо интерпретация событий Страстей. Возможно, писец, который изучал вступительное хронологическое примечание, добавил его в собрание, исходя из того, что эта интерпретация есть.
Враждебная позиция Евангелия Иуды по отношению к двенадцати апостолам, которые здесь оказываются на стороне иудейских властей, а не Иисуса, звучит и в других гностических текстах. Как мы уже видели, в Апокалипсисе Петра сам Петр узнает, что его именем и авторитетом впоследствии станут злоупотреблять позднейшие поколения церковных вождей, преследующие тех, кто не отступает от истины. В Евангелии Иуды есть своеобразное дополнение: здесь самим двенадцати апостолам является видение, в котором они наблюдают, как уводят своих последователей на ложный путь, не сумев избавиться от привязанности к творцу и двенадцати астральным демонам (37, 20–41, 8). Увещание, завершающее этот раздел, утрачено. Из того, что далее Иуде является видение о том, как двенадцать апостолов побивают его камнями, а затем он видит дом, в который может войти только просветленный (44, 23–45, 8), можно предположить, что Евангелие Иуды не предполагало никакой реабилитации Двенадцати, подобной тому, какую мы находим в Послании Петра Филиппу или в Софии Иисуса Христа. Схожее видение есть и в Апокалипсисе Петра, где Петр видит, как священники и народ бегут к нему и Иисусу, словно бы намереваясь побить их камнями (VII, 72, 5–8). Однако в Апокалипсисе Петра Спаситель объясняет Петру, что тот видел на самом деле. Толпа с камнями – это те, кто восхваляет Иисуса, не понимая его учения, пленники «отца их заблуждения», – это явный намек на современников автора, впавших, по его мнению, в лжеучение.
По аналогии можно предположить, что в Евангелии Иуды и двенадцать апостолов показаны отпавшими от истинного учения Иисуса, неспособными разорвать цепи творца и его астральных прислужников. Когда Иисусу говорят, что он притязает на звание «Сына Божьего», Иисус это отрицает. Лишь Иуда понимает, что Иисус произошел от высочайшего божественного эона Барбело и послан Богом, имя которого Иуда не может произнести (33, 21–35, 21). Дальше текст переходит к критике иудейских жертвоприношений (в видении апостолы их дозволяют), а также, возможно, крещения; складывается впечатление, что истинная мишень обличений – таинства более крупной христианской общины. Соблюдение этих ритуалов не поможет душе покинуть владения творца и вознестись в божественный мир, – восхождение, которое совершает Иуда на глазах у других учеников прямо перед заключительной сценой Евангелия (57, 15–58, 2).
В Евангелии Иуды можно видеть откровение, поданное в форме диалога – популярный жанр гностической литературы. Отождествление Спасителя с Сыном из эона Барбело и космогонический экскурс (47, 14–53, 7)[1721] – характерная черта обширной группы текстов, которые современные ученые относят к «сифианским»[1722]. Однако в других диалогах откровения в главной роли выступают почитаемые фигуры – или из древних времен (Адам, Сиф, Зостриан), или ученики Иисуса – Петр, Иуда Фома, Мария Магдалина, Иаков, различные группы из числа Двенадцати. В этом тексте Иуда играет роль, уже отведенную ему в других произведениях. Писец, переписавший Евангелие Иуды в свой сборник, вслед за ним добавил еще два примера того же жанра, один из которых, Послание Петра Филиппу, изображает двенадцать апостолов совсем иначе, чем Евангелие Иуды[1723]. Есть у этого текста и еще одна особенность: в нем отсутствует цепочка передачи – нет ни надписания, ни подписи, в отличие от Апокалипсиса Адама или Евангелия Фомы, нет указания на учеников, получивших откровение, как в Апокрифе Иакова и (Первом) Апокалипсисе Иакова. Разумеется, возможно, что это указание содержалось в утраченной части текста. Однако ни в первых, ни в заключительных строках на него нет даже намека.
Для того чтобы сделать дополнительные заключения о связи текстов этого кодекса с другими коптскими текстами, необходимо тщательнее исследовать кодекс как целое. Однако можно быть уверенными, что Евангелие Иуды не сообщает нам ничего нового об историческом Иисусе и не предлагает своей версии его ареста, альтернативной каноническому преданию. Его полемика против двенадцати апостолов и против обрядов крещения и причащения находит параллели в других гностических апокрифах, однако в сравнении с ними выглядит несколько размытой. Поэтому можно предположить, что Евангелие Иуды не отражает гностическую мысль II в. и начала III в. Вполне возможно, оно написано более поздним автором, более заинтересованным в том, чтобы очернить апостолов, чем в притязаниях на передачу подлинного учения Спасителя.
Основное свидетельство против поздней датировки – упоминание у Иринея некоего «Евангелия Иуды», используемого группой, которую сам Ириней называет каинитами (Против ересей 1.31.1). Однако он не приводит ни цитат, ни краткого содержания. Епифаний в середине IV в., говоря о каинитах, также упоминает «Евангелие Иуды», но тоже не дает никакой информации о его содержании (Панарион 38). Он перечисляет множество противоречивых взглядов гностиков на поступок Иуды, а также на его отношения с Иисусом и другими в группе. В этот перечень включен и стандартный гностический взгляд на распятие как на отделение небесной силы от тела, созданного творцом, и на крест как способ победить архонтов. Если в каинитском «Евангелии Иуды» выражались именно эти взгляды, тогда Евангелие Иуды, дошедшее до наших дней – это, видимо, иное произведение. Однако Епифаний мог тоже не иметь о содержании каинитского «Евангелия Иуды» точного представления из первых рук. Сохранившееся Евангелие Иуды, как того и требует его жанр, подтверждает каинитскую мысль, согласно которой Иуда знал истину о божественном мире[1724]. Дошедшие до нас отрывки текста не соответствуют тем деталям, которые сообщают о каинитах святоотеческие авторы. Если бы Ириней или Епифаний видели известный нам текст, от них можно было бы ожидать каких-либо замечаний или возражений по поводу развернутой полемики против двенадцати апостолов и христианских таинств. Итак, у нас нет уверенности, что Евангелие Иуды – та самая книга, о которой упоминают святоотеческие источники.
А как использованы в нем канонические тексты? Издатели и переводчики отметили в сносках немало возможных аллюзий. В тех случаях, когда Евангелие Иуды позволяет предположить общее знакомство с каноном, конкретные детали тех или иных евангельских пассажей применяются редко. Краткое описание явления Иисуса на земле – «он совершал чудеса и великие деяния творил ради спасения человечества» (33, 6–9) – напоминает речь Петра в Деян 2:22. Предсказание Иисуса, что Иуду заменят другим – «Ибо другой заменит тебя, того ради, чтобы Двенадцать [апостолов] могли вновь стать совершенными с богом своим» (36, 1–4), – возможно, аллюзия на Деян 1:15–22. Речение Иисуса: «Невозможно посеять семя на [скале] и пожать плод его» (43, 25–44, 2) – возможно, отсылает к притче о сеятеле. В 47, 10–13 появляется версия 1 Кор 2:9. То, что власти стремились арестовать Иисуса тайно, обосновано так: «…ведь они боялись народа» (58, 16–17) – и это перекликается с Лк 22:2b. Евангелие Иуды добавляет объяснение: «…ибо все считали его за пророка» (58, 18). Эта дополнительная фраза отражает Лк 24:19. Финальная сцена, разумеется, отсылает к тому, что иудейские власти заплатили Иуде за информацию (58, 25). Здесь нет ни сцены переговоров (как в Мк 14:11; в Лк 22:3–6 действия Иуды приписываются сатане), ни упоминания конкретной суммы (как в Мф 26:15; об исполнении пророчеств см. Мф 27:9–10). Иуда в этих событиях не проявляет инициативы. Книжники подходят к нему, поскольку он не вошел вместе с Иисусом и Двенадцатью в комнату для трапезы (58, 19–24).
Если Иисус приказал Иуде остаться снаружи и сообщить книжникам все, что им потребуется, то действиям Иуды объяснения не требуются. По всей видимости, тогда не требовалась бы и плата; однако деталь, согласно которой Иуда получил от первосвященников деньги за то, что предал им Иисуса, была столь прочно связана с фигурой Иуды, что опустить ее было невозможно. Стэнли Портер и Гордон Хит считают, что канонический материал в Евангелии Иуды использован так же, как и в других апокрифах II–III вв.[1725]. Однако предложенное сравнение с такими трудами, как папирус Эджертона 2, не поддерживается на микроуровне. Христианские апокрифы, сравнимые с папирусом Эджертона 2 и Евангелием Петра, остаются на том же уровне повествовательного реализма, что и канонические Евангелия. Рассказы об Иисусе, будь то словесные споры с его противниками или события Страстей и воскресения, опираются на детали, имеющиеся в традиции; имеются даже отсылки к каноническим Евангелиям, хотя и неточные. Как мы уже видели, такие гностические тексты, как Послание Петра Филиппу, основанные на обычном христианском представлении о Страстях, также содержат повествовательные детали. Евангелие Иуды никакого интереса к деталям не демонстрирует. В нем, скорее, квазиевангельская обстановка служит контекстом для диалога, в котором Иисус наставляет ученика о спасении. Та же схема присутствует в (Первом) Апокалипсисе Иакова, трактате, предшествующем Евангелию Иуды в Кодексе Чакос.
Заключение
Исследование новозаветных апокрифов первых трех столетий[1726] подпитывалось ложной идеей – считалось, что в них отражены более древние и достоверные сведения о Движении Иисуса, чем в канонических текстах. Некоторые ученые внесли в эту теорию свой вклад, создавая новые повествования о Движении Иисуса на основе: а) выделения в текстах речений и повествований (особенно рассказа о Страстях) пласта, якобы восходящего к середине I в.; и б) теории заговора, согласно которой господствующее крыло раннехристианских церковных лидеров, «ортодоксальные епископы», ответственны за подавление и замалчивание других, разнообразных и более аутентичных версий христианства I–II вв. И этот метод, и эта теория сомнительны[1727]. Почти все тексты, дошедшие до наших дней, свидетельствуют о связи с одним или несколькими каноническими Евангелиями, уже существовавшими и, по всей видимости, широко распространенными. И они представляют собой не переработку прототипа, сделанную переписчиком или редактором текста, – какую источниковеды, скажем, могут различить в канонических Евангелиях, – но пересказ, реконструкцию, расширение и
интерпретацию, словом, то, что Клаук и другие удачно именуют «вторичной устностью»[1728].
Даже Евангелие Фомы, собрание речений, которое в наше время утвердилось в исследовании синоптиков и Q, свидетельствует о значительном расширении и дополнении в более поздние времена. Ряд его «упрощенных» речений и параллелей, воспринятых некоторыми учеными как изначальные, мне и многим другим специалистам кажутся подтверждением повсеместного знакомства с каноническими евангельскими преданиями. Мы воссоздали все что возможно, и если и остались хоть какие-либо ранние сведения об Иисусе, то их очень мало. И все гипотезы о ранних преданиях, независимо от их источника, – будь то речения или нарративы, – во многом зависят от того, как тот или иной специалист представляет себе «правдоподобное Движение Иисуса» – на основе проанализированных канонических текстов и реконструкции общественно-политического, культурного и религиозного контекста иудейского и греко-римского мира I века. У нас нет новых методов, позволяющих извлечь из этих окаменелостей II столетия «ДНК» Иисуса, жившего столетием раньше.
Иосиф, Тацит, Светоний: Иисус глазами античных историков
Кейси Элледж
В любых спорах об Иисусе рано или поздно всплывает одна общая тема – тема туманных, но критически важных свидетельств об Иисусе, исходящих не от самих носителей церковного предания, а из мимолетных заметок иудейских и римских историков. Как писал в начале XX века Иосиф Клаузнер: «С этими источниками имеет дело практически любая “Жизнь Иисуса”, древняя или современная»[1729]. В их число входят ключевые, хотя и вызывающие много споров, свидетельства об Иисусе, полученные от историков Иосифа Флавия (37 – ок. 101), Тацита (55 – ок. 120) и Светония (70 – ок. 130). Их сообщения анализируют уже много веков – и тем не менее вопросов к ним у нас по-прежнему больше, чем ответов. Могут ли они показать нам, что знала об Иисусе иудейская и римская аристократия в конце I в. н. э., и если да, то как? Как иллюстрируют отношение к росту и развитию Церкви в Римской империи? Откуда им известно об Иисусе? И наконец – самый важный вопрос для нашего сборника – что могут они добавить к ответам на главные вопросы об историческом Иисусе?
Мимолетные замечания античных историков, стоящих вне традиций Древней Церкви, составляют заметный корпус свидетельств, способных осветить эти темы; впрочем, тексты кратки и неопределенны, и многие вопросы так и остаются неразрешенными. Достаточно сказать: когда мы сводим вместе мудреца-пророка, чьим деяниям предстояло вдохновить новую религию, иудейского историка с неоднозначной биографией, римского аристократа – язвительного сатирика, и еще одного римлянина – страстного любителя сплетен, неудивительно, что у нас появляются и темы для дискуссий, и пространство для споров и исследования разных точек зрения. Я перечислю центральные методологические проблемы, которые ставят перед нами античные сообщения Иосифа, Тацита и Светония. И быть может, важнейшей проблемой и для нынешних, и для будущих исследователей остается, в частности, неразрешенный вопрос о тех источниках, из которых эти историки брали свои знания об Иисусе.
Иосиф Флавий: «Жил Иисус, человек мудрый»
Самый известный текст об Иисусе за пределами Нового Завета, возможно, составленный в I столетии, – это, несомненно, Флавиево свидетельство (И. Д. XVIII, 3.3)[1730]. В приложении к этой главе дан греческий текст этого спорного отрывка, а вместе с ним – аппарат, отражающий важные вариантные чтения латинской, сирийской и арабской версий[1731]:
Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлёк к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту. Но те, кто раньше любили его, не прекращали любить его и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о нем и о многих других его чудесах боговдохновенные пророки. Поныне ещё существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по его имени.
Споры вокруг этого краткого пассажа, как правило, сосредоточены вокруг следующих важнейших вопросов:
1. Прежде всего: в какой степени содержание этого отрывка принадлежит иудейскому историку Иосифу Флавию, а в какой – его позднейшим редакторам-христианам? В последнем поколении ученых вопрос о подлинности этого отрывка претерпел драматический поворот. В 1906 году Альберт Швейцер с абсолютной уверенностью писал о том, что Флавиево свидетельство для изучения Иисуса совершенно бесполезно[1732]. Эта позиция отражает общее отношение к Свидетельству, господствовавшее на протяжении первой половины XX столетия. Роберт Эйслер видит первые его проявления в Германии XVI века, в комментариях филолога Хюберта ван Гиффена и богослова Лукаса Озиандера[1733]. Прекрасные примеры – исследования Бенедикта Низе[1734], Эмиля Шюрера[1735], Эдуарда Нордена[1736], Ханса Концельмана[1737] и других. Их серьезнейшие аргументы против подлинности Свидетельства сделали совершенно невозможным принятие его греческой версии целиком как аутентичной. Подозрительность здесь в высшей степени обоснована – особенно в отношении материалов, которые могли быть составлены только человеком, верующим в Иисуса, и пропагандируют истинность христианского вероучения. Здесь необходимо прежде всего указать на заявления: «То был Христос»[1738] и: «На третий день он вновь явился им живой», во исполнение пророчеств. Тяжкая тень подозрения по-прежнему лежит и на отрывках, в которых видятся более завуалированные христианские утверждения – таких как: «Если его вообще можно назвать человеком»[1739].
Однако несмотря на вполне обоснованный скепсис в отношении этих черт Свидетельства, в последнем поколении исследователей маятник критического суждения склонился в другую сторону – и теперь специалисты считают вероятным, что Иосиф в самом деле писал об Иисусе, и в греческой, а также в других версиях этого отрывка все еще можно найти элементы исходного, подлинного текста. Этот резкий поворот в критической оценке, начатый исследованиями 1920-х, 1930-х и 1940-х годов, продолжается и по сей день[1740]. Так, уже в 1998 году Джон Мейер отмечает: согласно «новейшим мнениям» по вопросу о подлинности Свидетельства, в нем можно обнаружить по меньшей мере следы, а возможно, и достаточно значительные элементы изначального текста, принадлежавшего Иосифу[1741]. Перед нами значительная перемена в сравнении с заявлением Швейцера о том, что Иосифа следует вообще исключить из числа свидетельств об Иисусе[1742]. Среди ученых, выступающих за частичную подлинность Свидетельства, особенно популярна «гипотеза интерполяции»: согласно ей, Иосиф Флавий изначально написал что-то об Иисусе, а позже христианские редакторы пересмотрели его текст, переделали его и дополнили, чтобы тот лучше отвечал их собственному учению и апологетическим целям.
В пользу этой гипотезы высказывался широкий круг ученых, приводя в ее поддержку множество аргументов. Одни части свидетельства, несомненно, выдают руку редактора, верившего в то, что Иисус был Мессией, – однако другие, по словам этих ученых, столь же явственно носят на себе отпечаток изначального неверия[1743]. Внимательно читая эти, более нейтральные элементы описания, на фоне других, явно связанных с керигмой, исследователи разработали серьезнейший набор аргументов в пользу подлинности по крайней мере части текста[1744]. Прежде всего они обращают внимание на применяемые к Иисусу термины σοφός ἀνήρ («мудрый человек») и διδάσκαλος («наставник»)[1745]. С точки зрения Древней Церкви такие описания Иисуса, безусловно, были неудовлетворительны[1746]: однако они прекрасно укладываются в стиль иудейского историка, который называет словом σοφός мудрецов Египта (И. Д. II, 13.3; Пр. Ап 1.236; ср.: 1.256; 2.140), Вавилона (И. Д. X, 10.3) и Греции (Пр. Ап 2.168), а также таких выдающихся иудеев, как Моисей (И. В. III, 8.5), Соломон (И. Д. VIII, 2.7; Пр. Ап 1.111), Зоровавель (И. Д. XI, 1.3) и Даниил (И. Д. X, 10.4, 11.2, 11.3), а слово διδάσκαλος применяет к самым разным учителям (И. Д. I, 2.2; III, 2.3; XIII, 4.7; XV, 10.5; XVII, 12.1, 12.2; XVIII, 1.4; XIX, 2.2; XX, 2.5; Пр. Ап 1.178; 2.145; И. В. VII, 11.1–2; Жизнь 274)[1747]. Эти слова описывают Иисуса нейтрально, а пожалуй, даже и положительно, однако не изображают его ни Мессией, ни существом божественным. Такое беспристрастное описание, несомненно, могло вызвать у редактора-христианина желание привести его в большее соответствие с учением Церкви[1748].
Сильные аргументы выдвигаются и в защиту подлинности других элементов описания – а именно того, что Иисус «совершил изумительные деяния»[1749], что его последователи «охотно принимали истину»[1750], что он привлек к себе «многих иудеев и эллинов»[1751]; что Пилат осудил Иисуса по навету «влиятельных лиц» – возможно, имеется в виду иудейская аристократия[1752]; и что «племя [или «сообщество»] χριστιανός не исчезло»[1753]. Хотя время от времени об этих элементах текста идут споры и сейчас, в целом во всей современной истории критики Свидетельства, быть может, не было момента, когда ученые были бы готовы столь же серьезно принимать его подлинность.
Неопределенность все еще окружает конкретные обстоятельства и цели христианской редактуры Свидетельства. Христианская редакция, несомненно, уже существовала в начале IV в., когда Евсевий цитировал христианизированную версию греческого текста (Церк. ист 1.11.7–8; Док. Ев 3.5). По предположению Теккерея, это, скорее всего, могло произойти в эпоху Константина. Христианская цензура еретической литературы в эти годы вполне могла создать благоприятный контекст, в котором кто-то решил отредактировать и Иосифа Флавия[1754]. Джеймс Чарлзворт приводит для сравнения также христианские «пересмотренные» версии более ранних апокрифов и псевдэпиграфов, также связанные с этой эпохой[1755]. Более того, апологетические задачи христианства в поздней Античности требовали цитировать таких авторов, как Иосиф Флавий, Таллос и Флегонт (Ориген, Цельс 2.33), способных подтвердить истинность христианской проповеди, – с комментарием, что даже некоторые иудеи и язычники принимали Христа[1756]. Однако до «верхней границы», указанной Евсевием, все скрыто во мраке. Поскольку Ориген поколением раньше сокрушался о том, что Иосиф Флавий не верил в Иисуса[1757], можно предположить, что христианская редакция возникла после Оригена, но до Евсевия[1758]. Однако можно вполне основательно заметить, что комментарии Оригена связаны не с самим Флавиевым свидетельством, а с соседним пассажем, повествующим об Иакове (Толк. Мф 2.17; Цельс 1.47; 2.13)[1759]. Страстно желая найти в III столетии редактора, ученые называют Оригена[1760], Евсевия[1761] или других, не столь известных их современников[1762]; однако все это – лишь предположения. Хотя историческая обстановка в III–IV вв. была вполне для этого подходящей, мы все же не знаем ни имени редактора, ни даже того, один ли он был – или (что вполне возможно) не один. Например, Пеллетье, следуя более раннему исследованию Ч. Мартина[1763], предполагает постепенный процесс, в котором заметки на полях раз за разом вносили в основной текст позднейшие переписчики[1764]. Цитаты из Иосифа Флавия, приводимые отцами Церкви того времени, также указывают на то, что изначально Свидетельство должно было иметь довольно ограниченное хождение в античных изданиях Иудейских древностей. После Евсевия следующее цитирование Свидетельства встречается лишь у Иеронима, полных сто лет спустя, несмотря на то что Иосифа Флавия часто цитируют Амвросий (25 упоминаний) и Иоанн Златоуст (20 упоминаний)[1765]. Хотя на «аргументы от молчания» вообще следует опираться с немалой осторожностью, отсутствие цитат из Свидетельства в промежутке между Евсевием и Иеронимом может свидетельствовать о том, что в большинстве античных изданий Иудейских древностей этот отрывок попросту отсутствовал[1766].
2. Что может прояснить о Свидетельстве сообщение Иосифа Флавия об Иакове? Иосифу было чуть за двадцать в 62 году, когда мученическая кончина Иакова, вызвавшая большие споры, вновь поставила перед иудейской аристократией и римской правящей властью проблему Иисуса (И. Д. XX, 9.1). Рассказ Иосифа Флавия об этом эпизоде – единственное, не считая самого Свидетельства, где он упоминает людей, которых сам открыто связывает с Иисусом. Согласно повествованию, Анан младший, первосвященник, использовал смену римских прокураторов для того, чтобы добиться казни Иакова путем побивания камнями:
Анан же младший, о назначении которого мы только что упомянули, имел крутой и весьма неспокойный характер; он принадлежал к партии саддукеев, которые, как мы уже говорили, отличались в судах особенною жестокостью. Будучи таким человеком, Анан полагал, что вследствие смерти Феста и неприбытия пока еще Альбина наступил удобный момент (для удовлетворения своей суровости). Поэтому он собрал Синедрион и представил ему Иакова, брата Иисуса, именуемого Христом, равно как нескольких других лиц, обвинил их в нарушении законов и приговорил к побитию камнями. Однако все усерднейшие и лучшие законоведы, бывшие [тогда] в городе, отнеслись к этому постановлению неприязненно. Они тайно послали к царю с просьбою запретить Анану подобные мероприятия на будущее время и указали на то, что и теперь он поступил неправильно (И. Д. XX, 9.1)[1767].
Хотя некоторые, очень немногие ученые сомневаются в авторстве Иосифа Флавия и в этом случае[1768], здесь убеждение в его авторстве у большинства исследователей подкреплено очень серьезными аргументами[1769]; особенно важны комментарии Оригена, в которых он снова и снова подтверждает, что Иосиф не верил в мессианство Иисуса (Толк. Мф 2.17; Цельс 1.48; 2.13). Поскольку, по всей видимости, сообщение об Иакове подлинно, оно дает нам надежную основу для перекрестного анализа текста Свидетельства: отрывки из Свидетельства, наиболее схожие по тону и содержанию с отрывками из сообщения об Иакове, с большой вероятностью подлинны; а к тем частям Свидетельства, которые противоречат тенденциям текста, повествующего об Иакове, следует отнестись с наибольшим подозрением.
Пассаж, посвященный Иакову, проясняет и некоторые аспекты того, как могло звучать Свидетельство до христианской редактуры. И самое важное: мы видим, что в двадцатой книге Иудейских древностей Иосиф не чувствует необходимости объяснять происхождение и значение слова χριστιανοί, – не потому ли, что он объяснил его ранее, в книге восемнадцатой?[1770] Литературная структура Свидетельства также требует, чтобы фраза «χριστιανοί, именующие себя таким образом по его имени», следовала за упоминанием самого Христа[1771]. Раз он упоминает «Иисуса, именуемого Христом» в отрывке об Иакове, то возможность аналогичного упоминания в Свидетельстве многократно возрастает[1772]. Далее, казнь Иакова, совершенная Ананом младшим без согласия римских властей, возможно, подтверждает подлинность деталей смерти Иисуса, изложенных в Свидетельстве[1773]: обвинение со стороны иудейских лидеров, смертный приговор и казнь от рук Пилата[1774]. Поскольку казнь Иакова и споры вокруг нее происходили при жизни самого Иосифа, эти события, возможно, дают нам важный биографический контекст: указание на то, при каких обстоятельствах молодой иудейский аристократ мог впервые узнать об Иисусе, о различных слухах, окружавших его, и о том, как продолжалась деятельность вдохновленного им движения[1775]. Словом, какие бы аргументы ни приводились в пользу этого – так или иначе очевидно, что изучение Свидетельства всегда будет идти рука об руку с изучением пассажа, повествующего об Иакове. Джон Мейер, например, полагает, что именно через текст об Иакове пролегает кратчайший и надежнейший путь к решению всей проблемы Свидетельства[1776].
3. Что может сообщить нам анализ иноязычных версий Свидетельства? Пытаясь понять, что же мог сказать об Иисусе сам Иосиф Флавий – до того, как по греческому тексту прошлись христианские редакторы, – ученые по-прежнему используют иноязычные версии Свидетельства, в том числе латинскую версию Иеронима (ок. 340–420), сирийскую версию Михаила (XII в.)[1777] и арабскую версию Агапия (Х в.)[1778]. Помимо других содержательных дополнений, эти труды дают нам подсказки, позволяющие приблизиться к подлинным словам Иосифа. Если отрывок об Иакове указывает лишь на то, что имя «Христос» упоминалось в книге ранее, то латинская, сирийская и арабская версии, возможно, помогут понять, что именно о нем говорилось. В латинской версии Иеронима об Иисусе говорится так: «…верили, что он Христос» (credebatur esse Christus; Знам. муж 13)[1779]; в сирийской версии Михаила: «…думали, что он Мессия» (‘ytw hw’ mstbr’ dmšyh’; Хрон 4.91); наконец, в арабской версии Агапия «он, возможно, был Мессией» (fa-la’allahu huwa al-masīh; Всем. ист, т. 6)[1780]. Столь уклончивые мнения о мессианстве Иисуса, возможно, стоят ближе к оригинальному тексту Иосифа Флавия, чем известная нам греческая версия, хранящая на себе явные следы христианской редактуры[1781]. Однако стоит задуматься и о том, что христиане могли редактировать и арабскую версию, пусть и не так откровенно, как греческий текст[1782]. Например, там, где в арабской версии мы читаем: «Пилат приговорил его к смерти на кресте», вполне справедливо заподозрить здесь христианскую полемику против исламских преданий, отрицавших распятие Иисуса[1783]. Итак, можно осторожно заметить, что свидетельства иноязычных версий хотя и позволяют нам несколько приблизиться к оригинальному тексту, но вовсе не обязательно содержат точные слова Иосифа. Другие иноязычные версии, старославянская и эфиопская, не выдерживают критической проверки: они представляют собой не возвращение к изначальному тексту Иосифа, а, напротив, набор позднейших добавлений к нему[1784].
4. До какой степени известный нам греческий текст очищен от подлинных замечаний Иосифа Флавия, которые слишком сильно смущали христиан-редакторов? Разумеется, редакторы могли не только добавлять новые элементы, но и вычеркивать прежние; поэтому ученые задаются вопросом, дошло ли до нас все, что сказал Иосиф. Обсуждение этой проблемы повлекло за собой и вопрос о том, можно ли вынести какие-либо суждения о Свидетельстве на основе его непосредственного контекста – восемнадцатой книги Иудейских древностей, где оно стоит третьим в ряду описаний все более сильных народных волнений, случившихся в те дни, когда префектом был Понтий Пилат[1785]. Учитывая такое его положение среди этих «прискорбных» эпизодов, некоторые комментаторы – скажем, Роберт Эйслер – предлагают реконструкцию, согласно которой в подлинном рассказе Иосифа Флавия об Иисусе также присутствовало упоминание народных волнений вокруг него. Следовательно, образ Иисуса и первых христиан у Иосифа должен был изначально предстать в негативном ключе – ведь Иосиф считал их политическими и религиозными «бунтовщиками»[1786]. Как хорошо известно, подтверждение своей реконструкции Эйслер обнаружил в старославянской версии Свидетельства, которая, по его мнению, более близка к оригиналу, чем греческая. Христианские редакторы преобразили первоначально негативный образ Иисуса-революционера, придав ему более мирный и благостный характер, – и для этого то пропускали, то добавляли материал[1787]. Пожалуй, еще больше собственного творчества в реконструкции изначального повествования проявил Клайд Фарр, считавший, что в подлинном тексте Свидетельства отражался скандал с Паулиной и Мундом, о котором рассказывается сразу вслед за ним (И. Д. XVIII, 3.4). В этой истории с римлянкой Паулиной вступил в связь некий мужчина, обманом выдавший себя за божество. По мнению Фарра, в Свидетельстве, как и в этом рассказе, должна была разоблачаться история рождения от Девы (ср.: Ориген, Цельс 1.32)[1788]. Хотя со смелыми предположениями Эйслера и Фарра согласны лишь немногие, их работы заставляют задуматься о том, что, возможно, Иосиф писал об Иисусе и нечто, до нас не дошедшее[1789].
В то же время Стив Мейсон серьезно предостерегает против слишком вольной трактовки Свидетельства в контексте восемнадцатой книги Иудейских древностей[1790]. Известный нам текст этой книги местами представляет собой разнородное смешение материалов, расположенных в хронологическом порядке, однако никак не объединенных тематически. Эта черта редакционного контекста Свидетельства заставляет усомниться в том, действительно ли оно изначально появилось в ряду сообщений о народных волнениях. Аргумент «от контекста» необходимо здесь принимать с осторожностью, с учетом сложного смешения текста при редактуре этой части Иудейских древностей.
Толкователи, отвергающие гипотезу редакторских пропусков, полагают, что Иосиф высказался очень кратко, сказав лишь самое необходимое, поскольку желал обойти политически опасную тему иудейского мессианства[1791]. Или, возможно – если верить Эду Сандерсу – для Иосифа было достаточно уделить этой теме один короткий абзац, «ни больше, ни меньше», поскольку с именем Иисуса, в отличие от имен Иоанна Крестителя или Египтянина, не были связаны грандиозные общественно-политические события[1792]. Краткость сообщений Светония и Тацита, по-видимому, также подкрепляет предположение, что до нас дошла большая часть изначального сообщения, а может, и полный его текст. И Светоний, и Тацит, казалось бы, могли остановиться на новом религиозном движении подробнее; однако оба они говорят об Иисусе удивительно кратко и лишь потому, что он прямо вмешивается в политические события, играющие главную роль для их истории[1793]. Если Иосиф действительно упомянул об Иисусе очень кратко, лишь постольку, поскольку его биография пересекалась с правлением Пилата и позднейшей отставкой Анана, то он поступил вполне в духе историографии своего времени, которая проявляла интерес к подобным периферийным событиям лишь в том случае, когда рассказать о них было совершенно необходимо для освещения основной темы. Светоний и Тацит, упоминая об Иисусе, по-видимому, придерживались такого же минимализма.
5. Если Иосиф сказал что-то об Иисусе – из каких источников он брал свои сведения? Этот вопрос заслуживает более серьезного внимания как сейчас, так и в будущем, поскольку предшествующие исследования наметили ряд многообещающих направлений. Луис Фельдман как-то предположил, что у Иосифа был доступ к официальным документам Римской империи[1794]. Схожей теорией часто пытаются объяснить и то, что об Иисусе знал Тацит[1795]. Однако вряд ли в официальных архивах хранились расплывчатые описания Иисуса как «мудреца» и «совершителя изумительных деяний». Сообщение Иосифа, по всей видимости, целиком опирается на воспоминания о народных легендах об Иисусе; в нем совсем не чувствуется точности и строгости, характерной для официальных документов. Геза Вермеш полагает, что описание Иисуса как «мудреца» и «чудотворца» у Иосифа коренится в палестинских народных преданиях, впоследствии принятых раввинами в более полемическом ключе: «мудрец» превратился у них в обманщика, а «совершитель изумительных деяний» – в колдуна (вав. Санх 43а). Если это верно, значит, сообщение Иосифа вполне может быть основано на народных преданиях об Иисусе[1796].
Исследуя далее эту возможность, можно заметить, что остатки тех же преданий сохранились и в Новом Завете. Например, у синоптиков в эпизоде отвержения Иисуса в Назарете слушатели спрашивают: «Откуда у Него это? Что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его?» (Мк 6:2; пар. Мф 13:54). «Мудрость» и «чудеса» – характеристики те же, что и в описании Иосифа[1797]. Некоторые ученые считают также, что характеристика Иисуса как «мудреца» центральна для древнейшего слоя палестинских преданий Q[1798]. Эти синоптические предания дают нам некое внешнее подтверждение того, что в описании Иосифа звучат более ранние характеристики Иисуса, распространенные в Палестине[1799]. Возможно, источниками, к которым обращался Иосиф Флавий, стали «до-Павловы иудеохристианские предания», о которых говорит Вермеш[1800]; а может быть, как думают Мейер[1801] и Эванс[1802], они и вовсе не были христианскими. Однако в любом случае Иосиф Флавий мог опираться на старинные палестинские предания, а это говорит в пользу подлинности этих элементов Свидетельства и их независимости от новозаветных писаний.
Методологические последствия этой возможности поразительны. Если комментарии Иосифа основаны не на Евангелиях, а на палестинских народных преданиях, не дает ли нам Свидетельство независимое подтверждение того, что еще до составления Евангелий Иисус был известен как мудрец и чудотворец? Подобный же вопрос в более агрессивной форме можно применить и к таким деталям, как осуждение Иисуса по навету первосвященников и его распятие по приговору Понтия Пилата[1803]. Применительно к доносу иудейской аристократии на Иисуса Иосиф использует термин ἔνδειξις[1804], а приговор и казнь приписывает власти Пилата. Свидетельство упрямо настаивает на том, чтобы ученые серьезно отнеслись к гипотезе, согласно которой ответственность за смерть Иисуса разделяют иерусалимская аристократия и римский наместник[1805]. Свидетельство говорит об этом нейтрально – и это важная корректива к полемическому изложению событий в новозаветных Евангелиях, ведь евангелисты стремятся возложить ответственность прежде всего на иудейскую аристократию и народ, сняв ее с Пилата (Мф 27:22–25; Лк 20:20–23; Ин 19:1–16; ср.: Ев. Пет 1–2)[1806]. Свидетельство заставляет усомниться и в тех исследованиях, которые отрицают роль первосвященников или сводят ее к минимальной[1807].
Однако в сообщении Иосифа прослеживается не столько зависимость от ранних палестинских преданий, сколько смешение сведений об Иисусе, исходивших из различных контекстов. Например, вполне возможно, что знания Иосифа Флавия об Иисусе во многом определяются тем, что могли сказать о нем священники-аристократы в связи с казнью Иакова, описанной в главе 62. Иосиф характеризует верующих как «сообщество» или «племя» (φῦλον), которое охватывает и иудеев, и язычников – и в этом проявляется анахроничное сочетание ранних палестинских преданий со знаниями Иосифа о его современниках, χριστιανοί из язычников в Риме, о которых также прекрасно знали Тацит и Светоний[1808].
6. Наконец, остается неясным, что думал об Иисусе сам Иосиф Флавий: было ли его первоначальное описание враждебным, нейтральным или даже благожелательным? Джон Мейер старается «застолбить» несколько возможностей сразу и пишет, что собственная позиция Иосифа «нейтральна, или двусмысленна, или, возможно, в какой-то степени пренебрежительна»[1809]. Он «написал продуманно неоднозначный текст, который различные читатели могли воспринимать по-разному»[1810]. Если это так, то Свидетельство – «шедевр объективности»[1811], его тон – «тон беспристрастия ученого»[1812]. Возможно, такая сознательная двусмысленность наиболее ярко проявляется в том, что Иосиф называет Иисуса чудотворцем, однако воздерживается от суждений об источнике его силы[1813]. Так историк сознательно избегает решения ключевого спорного вопроса об источнике деяний Иисуса, – а ведь отзвуки этого спора снова и снова звучат в синоптических Евангелиях (Мк 3:21–30; Мф 12:22–32; Лк 11:14–23). Однако выдвигаются и аргументы в пользу скорее недоброжелательной[1814] – или, напротив, скорее благожелательной[1815] позиции Иосифа.
А) Негативное представление. Сторонники негативной оценки зачастую опираются на теорию, согласно которой отрывок прошел серьезную христианскую редактуру, призванную путем пропусков и правок скрыть изначально критические замечания Иосифа об Иисусе. Роберт Эйслер, Эрнст Баммель и другие разработали сложную реконструкцию этой редактуры, в которой слова с изначально отрицательными коннотациями будто бы заменялись очень близкими, но положительными по смыслу выражениями. Благодаря такой тонкой работе христианских редакторов «софист и шарлатан» (σοφιστής γόης) превратился в «мудреца» (σοφὸς ἀνήρ); Иисус, «завлекший» (απήγαγετo) в свой обман множество иудеев и греков, теперь «привлекал» их к себе (ἐπηγάγετο); «обманутые» Иисусом (ἀπατήσαντες) стали «любящими» его (ἀγαπήσαντες); тот, кто учил «необычному» (τὰ ἀήθη), сделался учителем «истины» (τἀληθῆ)[1816]. Баммель, однако, отвергает идею, согласно которой значительные элементы отрывка при редактуре были опущены[1817].
Другие ученые, придерживающиеся того же взгляда, полагаются скорее на теорию лакун. Эйслер, например, полагает, что в изначальном описании смерть Иисуса сопровождалась мятежом в Иерусалиме. Негативно окрашенное слово «мятеж» переводит χριστιανοί в разряд большой группы «мятежников», к которым Иосиф относится неодобрительно. Такая характеристика могла поместить Иисуса в длинный ряд смутьянов и обманщиков, фигурирующих в книгах Иосифа – таких как Февда (И. Д. XX, 5.1), Египтянин (И. Д. XX, 8.6; И. В. II, 13.5) и другие «лжепророки», ψευδοπροφῆται (И. В. VI, 5.2)[1818]. Отрицание сомнительных мессианских пророчеств – ключевая стратегия, которую избирает Иосиф в религиозной интерпретации Иудейской войны (И. В. VI, 5.4); маловероятно, что к раннехристианским интерпретациям мессианства он относился более снисходительно[1819]. Теккерей приводит и другие аргументы в пользу негативного прочтения, показывая, что выражение «охотно принимали» (или «с восторгом принимали») употребляется в сочинениях Иосифа в положительном смысле лишь один раз (И. Д. XVIII, 3.1); в других случаях оно относится к тем, кто принимал учение Иуды Галилеянина (XVIII, 1.1) и других заговорщиков (XIX, 2.3)[1820]. Рейнах считает также термин «изумительные деяния» (παραδόξων ἔργων) по сути негативным[1821]. Полученное в результате негативное изображение Иисуса как обманщика, колдуна (шарлатана) и политического смутьяна значительно приближает Иосифа к талмудическим преданиям об Иисусе (вав. Санх 43а). Следствия этого глубоки и значительны для понимания самого Иосифа: выходит, что он вставил в свою историю краткую полемику против христиан, отдалив от христианства собственные представления об иудаизме[1822].
Б) Позитивное представление. Поскольку слова σοφὸς ἀνήρ в контексте творений Иосифа помещают Иисуса в очень хорошую компанию[1823], другие ученые полагают, что Иосиф описывает его вполне доброжелательно. Ричард Лакёр предположил как-то, что в течение десятилетий после Иудейской войны Иосиф Флавий оставался в иудейском сообществе отверженным и потому искал поддержку везде, где мог ее найти – в том числе и у христиан[1824]. Однако для того, чтобы искать поддержки у христиан, исторический момент, пожалуй, был совсем неподходящий. Иосиф Клаузнер предложил более вероятную гипотезу: Иосиф Флавий был заинтересован в восхвалении различных миролюбивых иудейских партий и движений – фарисеев, ессеев, отчасти саддукеев и в какой-то, пусть и небольшой мере, возможно, и христиан[1825]. С одной стороны, он старается не хвалить Иисуса больше необходимого, но с другой, не обвиняет его ни в каких серьезных грехах, поскольку, как мы видим по Тациту и Светонию, греки и римляне того времени склонны были по-прежнему связывать христиан с иудаизмом[1826].
Возможно, такое прочтение стоит подкрепить указанием на множество религиозных лидеров, не призывавших к насилию, о которых Иосиф Флавий отзывается нейтрально или даже с симпатией. Это и сам Иаков, которого Иосиф считает злосчастной жертвой политических интриг Анана младшего (И. Д. XX, 9.1)[1827], и Иоанн Креститель, благородный учитель праведности, безвинно пострадавший от паранойи Ирода Антипы (И. Д. XVIII, 5.2)[1828], и двое учителей, подговорившие своих учеников сбросить Иродовых орлов с Иерусалимского Храма, а затем павшие жертвами последней жестокости умирающего царя (И. В. I, 33.1–4; И. Д. XVII, 6.1–3)[1829], и пророк Иисус (Иошуа) сын Анана, несправедливо наказанный за свой плач по Иерусалиму, – пророчество его впоследствии оправдалось (И. В. VI, 5.3). В этих эпизодах множество популярных религиозных лидеров изображены нейтрально или даже благожелательно, как прискорбные жертвы возрастающих в обществе ожесточенности и произвола. Нейтральное или даже положительное изображение Иисуса вполне укладывается в эту картину.
Пол Уинтер отмечает в писаниях Иосифа сильную неприязнь к Пилату[1830]: возможно, ненависть к Пилату вызвала симпатию к его жертвам (ср.: Филон, О посольстве к Гаю 38)[1831]. Действительно, из И. Д. XVIII, 3.4, идущего сразу за Свидетельством, можно сделать вывод, что смерть Иисуса была еще одним из «плачевных событий» (τι δεινὸν) во время правления Пилата[1832]. Клаудия Зетцер предполагает, что стойкость христиан-современников Иосифа могла вызывать у него уважение[1833]. Некоторую поддержку этому предположению можно увидеть и в том, что Тацит, не сторонник христианского superstitio, «суеверия», все же с некоторым сожалением пишет о несправедливых гонениях и казнях христиан при Нероне, в 60-х годах, когда христиане, по-видимому, были одной из групп, пострадавших сильнее всего (Анн 15.44)[1834]. Впрочем, χριστιανοί не «истощились» (ἐπέλιπε), несмотря ни на смерть их основателя, ни на нероновские преследования, ни на великое иудейское восстание против Рима. Заключительная реплика Иосифа Флавия о том, что они существуют и поныне, вполне возможно, отражает репутацию стойкости и упорства, которую они заслужили собственной кровью как в Риме, так и за его пределами. В век грандиозных политических и религиозных переворотов такая стойкость, несомненно, могла вызывать как минимум сдержанное восхищение – пусть и с безопасного расстояния[1835]. Далее, против гипотезы о негативном описании Иисуса говорит то, что Иосиф Флавий, отозвавшись об Иисусе отрицательно, неминуемо заслужил бы от Оригена яростную отповедь[1836]; однако нам о таком неизвестно. Напротив, Иосиф Флавий стал для отцов Церкви не противником, а важнейшим историком – и помощником в апологетике.
Тацит: «Христа, от имени которого происходит это название…»
Если Иосиф Флавий позволяет нам мельком увидеть то, что мог знать об Иисусе аристократ из Палестины, то Тацит и Светоний приоткрывают завесу над тем, что могли знать о нем римские историки на рубеже I–II вв. н. э. Хотя по своему, так сказать, историческому качеству эти два свидетельства резко различаются, каждое из них по-своему ценно для понимания того, как и в какой форме предания об Иисусе доходили до «внешних» – аристократов из Рима.
Читатель, знакомый с Тацитом, не найдет ничего удивительного в его изображении христианства, в котором автор при помощи достаточно тонких и искусных средств осуждает не только это новое иудейское «суеверие», но заодно с ним и весь Рим. Используя метафору болезни, Тацит изображает христианство как заразную болезнь (malus), которая зародилась на востоке, на время была там подавлена, но затем вспыхнула и начала стремительно распространяться уже в столице:
И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых[1837] и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла «Chrestiani»[1838]. Христа, от имени которого происходит это название[1839], казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время, это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в городе [Риме], куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев (Анн 15.44).
Тацит, как, по-видимому, и Иосиф, не проявляет здесь специального интереса ни к Иисусу, ни к христианам; он упоминает о них лишь случайно, в виде примечания к рассказу о пожаре 64 г. н. э. и о правлении Нерона – событиях, описываемых им в ретроспективе, пятьдесят лет спустя. Значительная часть Анналов утрачена, и рассказ Тацита о правлении Тиберия с 29 по 32 г. н. э. (кн. 5) нам недоступен. Поэтому вопрос о том, говорилось ли что-нибудь об Иисусе в этой утерянной книге, остается открытым[1840]. Однако лексика отрывка 15.44 заставляет предположить, что перед нами первое и последнее упоминание Тацита об Иисусе и христианах: во-первых, само построение фразы предполагает, что Тацит впервые упоминает о «тех, кого толпа называла Chrestiani», и этот новый для Анналов термин требует каких-то пояснений; во-вторых, едва ли Тациту пришлось бы рассказывать здесь о казни Иисуса, о том, когда и где это произошло, если бы он уже упоминал Иисуса ранее. Итак, структура и пояснительный тон отрывка свидетельствуют против того, что Тацит упоминал об Иисусе и христианах где-либо в других местах своей книги[1841].
Несмотря на краткость Анн 15.44, из этого отрывка можно почерпнуть немало полезных сведений об Иисусе и его последователях. С удивительной точностью Тацит сообщает о времени и месте смерти Иисуса: в Иудее, в правление Пилата как «прокуратора» (26–36 гг.) и Тиберия как императора (14–37 гг.). В этом ключевом вопросе Евангелия Иосиф и Тацит проявляют полное и совершенно независимое друг от друга согласие – и даже по самым строгим критериям их совместное свидетельство делает несомненным тот факт, что Иисус был казнен в правление Пилата.
Это примечательное согласие Тацита с Евангелиями и с Иосифом заставило ученых задуматься об источниках, из которых римский историк мог почерпнуть информацию. Тацит предоставляет нам «древнейшее языческое свидетельство о казни Христа»[1842]. Откуда же он взял столь точную и достоверную информацию через восемьдесят лет после события? Зависимость от новозаветных Евангелий можно отвергнуть сразу. У нас нет никаких свидетельств, способных подтвердить как зависимость Тацита от других книг Нового Завета, так и то, что ему вообще были известны хоть какие-то евангельские предания, письменные или устные[1843]. Общий тон отрывка предполагает некоторую осведомленность, но довольно отдаленную, а также взгляд на новый культ как на еще одно восточное superstitio, суеверие, загрязняющее традиционную римскую культуру[1844]; по всей видимости, Тацит считает то, что знает об этом культе, вполне достаточным и не стремится узнать больше, изучая его литературу.
Смелое предположение о зависимости Тацита от Иосифа Флавия некогда выдвинул Адольф фон Гарнак[1845]. Почему бы и нет? Иосиф писал за несколько десятилетий до Тацита; его знание Иудеи и иудейских дел для более поздних историков было недостижимо; оба историка писали об одних и тех же исторических событиях; оба датируют смерть Иисуса правлением Пилата и объясняют этимологию слова Chrestiani — названия последователей новой религии, дожившей до его времени. Ставки высоки: зависимость Тацита от Иосифа устранила бы все сомнения в подлинности Флавиева свидетельства[1846].
Однако при всем сходстве между двумя сообщениями немало различий. Тацит не мог найти у Иосифа никаких указаний на то, что после смерти основателя движение христиан было подавлено; напротив, Иосиф несколько раз повторяет, что движение Иисуса не погибло и не рассеялось после его казни. Тацит не сообщает о том, что Иисуса знали как мудреца и чудотворца. Термин «Христос» оба историка также используют совершенно по-разному: у Иосифа это – мессианский эпитет к личному имени Иисуса; Тацит использует слово «Христос» как личное имя[1847]. Возможно, сходство сообщений двух историков указывает на то, какие сведения о смерти Иисуса проникли в римские аристократические круги конца I столетия: время и место казни, участие Пилата, выживание христианского движения после смерти основателя, этимология названия «христиане». Однако никаких определенных свидетельств, способных указать на зависимость Тацита от Иосифа Флавия, у нас нет. Отвергая зависимость Тацита от Иосифа и от Нового Завета, Мейер указывает, что в его лице мы получаем свидетеля, «независимого» от других известных нам письменных источников об Иисусе[1848].
Быть может, ближе всего к христианским свидетельствам об Иисусе, полученным из первых рук, Тацит мог подойти во время своего проконсульства в Малой Азии (112–113), почти в одно время с тем, как Плиний Младший проводил свои знаменитые допросы христиан в провинции Вифинии и Понта (ок. 110–112 гг., Письма 10.96–97)[1849]. Трудно вообразить, что столь умный и проницательный человек, как Тацит, мог в период своего проконсульства не заметить распространения христианского культа в Малой Азии, – тем более что в то же время в том же регионе служил его близкий друг Плиний, которому этот культ был лично и хорошо известен[1850]. Однако, несмотря на это сходство биографий, в замечании Тацита о христианах Малая Азия не упоминается. Он говорит, что это «суеверие» зародилось в Иудее, там было на время подавлено, но затем нашло себе путь в Рим, где и расцвело. Несмотря на общее использование термина «суеверие» (superstitio)[1851], внимательное сравнение сообщений Плиния и Тацита немедленно показывает, что замечания их, в сущности, очень различны: первый описывает официальное расследование, посвященное сути культа, его верованиям и практикам; второй упоминает о культе вскользь, пренебрежительно, не говоря почти ни о чем, кроме его исторического происхождения и судьбы во времена Нерона[1852]. В изображении Тацита нет даже намека на христианские свидетельства из первых рук, явно звучащие в письме Плиния, – а Плиний не дает точных исторических и географических сведений об Иисусе, которые есть у Тацита[1853]. И хотя знания из первых рук, почерпнутые в Малой Азии или непосредственно у Плиния, могли дать Тациту какой-то контекст для понимания христианства[1854], подробности его текста нельзя в полной мере объяснить одним лишь этим фактором[1855].
Некоторые предполагали, что Тацит опирался на официальные римские архивы; однако у этой гипотезы есть свои проблемы. Архивы объясняют нехристианскую точку зрения Тацита, в особенности – мнение о том, что Пилату удалось хотя бы на время подавить «суеверие». Однако Тацит ошибочно именует Пилата «прокуратором», а не «префектом» (в отличие от надписи на плите, найденной в Кесарии Приморской), и это заставляет усомниться в источнике: едва ли в официальном документе могли допустить такой анахронизм[1856]. Сам Тацит вполне мог применить к префекту анахроничный термин «прокуратор»: в его время это слово было в ходу. Другое возможное объяснение этой ошибки – в греческом термине ἐπίτροπος, которым переводились оба латинских слова[1857]. Поскольку в то время, особенно на востоке, широко использовались и греческий, и латынь, вполне возможно, что Тацит, писавший в начале II в., понял титул Пилата ἐπίτροπος как «прокуратор». Еще одно критическое замечание против этой теории – вопрос о том, какие именно архивные источники могли быть доступны Тациту. По всей видимости, Commentarii Principis даже для человека уровня Тацита оставались недоступными (Истор 4.40). Другие ученые задают более широкий вопрос: упоминался ли Иисус хоть в каких-нибудь документах сенатского архива (Acta Senatus)?[1858] Быть может, более вероятно то, что какой-либо исторический или документальный источник, повествующий о христианах, появился уже после пожара, когда христиане и их происхождение оказались в фокусе общественного внимания – не случайно, именно описывая пожар, Тацит ненадолго отвлекается и делает пояснения не только об историческом и географическом происхождении христиан, но и об этимологии их названия.
Наконец, у Тацита отсутствуют важные черты, имеющиеся в других свидетельствах. Он нигде не упоминает действия иудейской священнической аристократии против Иисуса; осуждение Иисуса изображено как мера, предпринятая Римом против заразительного суеверия, продолжением чего несколько десятилетий спустя стали гонения на христиан, устроенные Нероном. О распятии Иисуса не говорится – хотя, возможно, имеется в виду, что христиане, распятые Нероном, повторили судьбу основателя своей религии. Не упоминаются ни чудеса Иисуса, ни его проповедь; нет и никаких упоминаний о заявлениях христиан, что Иисус воскрес. По всей видимости, Тацит стремится дать максимально краткое, точное, фактологическое описание основателя религии «хрестиан» – и это ему, несомненно, удается. Более того: свидетельство Тацита, как и свидетельство Иосифа, представляет собой лишь «примечание», краткое пояснение к неким событиям имперской истории. Оба автора в этих коротких «примечаниях» придерживаются строгого историографического стиля.
Светоний: «Иудеи, волнуемые Хрестом»
Хотя упоминание о «Хресте» у Светония имеет наименьшую ценность для изучения исторического Иисуса, оно показывает нам, сколь различные слухи об Иисусе ходили среди язычников II столетия. Интересующий нас отрывок находится в перечне различных деяний Клавдия (Клавдий 25.3–5) по отношению к различным провинциям и неримским этническим группам, в данном случае к евреям[1859]:
Иудеев, постоянно волнуемых Хрестом, он изгнал их из Рима (25.4)[1860].
При буквальном прочтении этот отрывок означает следующее: некто по имени Хрестос так часто провоцировал римских евреев на беспорядки, что Клавдий счел нужным изгнать их из Рима.
Кто такой Хрестос? Хочет ли Светоний сказать, что сам основатель христианского движения (т. е. Иисус) был во времена Клавдия вождем иудаизма в Риме? Или он говорит о некоем неизвестном нам агитаторе (иными словами, не об Иисусе), волновавшем римских евреев?[1861] Учитывая отсутствие всяких дальнейших объяснений, более вероятным выглядит первое: современники Светония хорошо знали о существовании христиан (см.: Нерон 16.2), и специальных пояснений здесь не требовалось, в то время как упоминание какого-то неизвестного политического агитатора требовало объяснить, кто это такой. Более того: имя «Хрестос» напоминает нам то, как называет последователей Иисуса Тацит – «хрестиане» – и слово «Хрестос» как обозначение лидера христиан, по всей видимости, было знакомым для латинских читателей. Далее можно предположить, что Светоний ошибочно приписывает действиям самого «Хреста» ту серию беспорядков, которая, возможно, была связана с деятельностью позднейших христианских миссионеров среди иудеев в Риме.
Светоний, как и Иосиф Флавий, а также Тацит, не склонен к многословию: он сообщает лишь то, что считает нужным: несколько слов в середине абзаца, посвященного обращению Клавдия с неримскими народами. Удивляет то, что Светоний не стал использовать описание христиан, сделанное Тацитом[1862]: но даже так резкий контраст между точностью последнего и неточностью первого помогает понять, сколь различные слухи и толки об Иисусе ходили среди римской элиты II в.
Заключение
Современный читатель заметит, сколь глубокая историческая ирония скрывается во всех трех этих кратких заметках об Иисусе. Три виднейших историка своего времени посвятили Иисусу лишь короткие замечания в скобках, не ведая, что уже посеяны семена, всходы которых однажды подчинят его власти империю и всю Европу. Однако, несмотря на краткость этих заметок, три темы, поднятые античными историками, продолжают влиять на наше восприятие Иисуса в современности и в будущем.
1. Свидетельства древних историков – сильный аргумент против чисто мифологического понимания Иисуса. Вопреки тем, кто совершенно отрицает историческое бытие Иисуса, видя в нем лишь мифологический конструкт раннехристианской мысли[1863], эти свидетельства показывают нам, что и вне христианской Церкви люди считали Иисуса реальной исторической личностью. Трудно, а может быть, и невозможно отрицать историческое существование Иисуса, когда о нем говорят древнейшие свидетельства и христиан, и иудеев, и язычников.
2. То, что Иосиф Флавий и Тацит писали независимо от Нового Завета и друг от друга, влечет важные следствия для нашей методологии. Ученые называют это «множественным независимым свидетельствованием»: у нас есть ряд независимых друг от друга подтверждений того, что Иисуса считали мудрецом и чудотворцем, а также того, что он выступал против иудейской аристократии (Иосиф Флавий) и был приговорен к смерти Понтием Пилатом (Иосиф Флавий/Тацит).
3. Быть может, самый значительный вклад этих свидетельств в том, что они проясняют, кто именно несет ответственность за смерть Иисуса. Евангелия, Иосиф и Тацит независимо друг от друга приписывают осуждение и казнь Иисуса Пилату. Говоря о действиях иудейской аристократии, Иосиф приписывает ей донос на Иисуса, – эта деталь в какой-то мере подтверждает евангельский рассказ о Страстях. Иосиф не отвечает на вопрос о том, провела ли иудейская аристократия формальный суд над Иисусом (как у Марка и Матфея) или только его допрашивала (как у Луки и Иоанна), однако его свидетельство подтверждает, что она сыграла свою роль в его осуждении. Независимо подтверждая этот евангельский рассказ, однако описывая иудейскую аристократию
в более нейтральном ключе, Иосиф вносит важные коррективы в полемическое изображение иудейских вождей, которое мы находим в Новом Завете. Не осуждая аристократию и не оправдывая Пилата, Иосиф указывает на роль обеих сторон, внося поправки в более тенденциозную картину, изображенную в Евангелиях. Таким образом, Тацит и Иосиф Флавий могут помочь как историкам, так и верующим лучше понять те роли, которые сыграли в последних часах жизни Иисуса иудейская и римская власть.
Приложение: Флавиево свидетельство(И. Д. XVIII, 3.3)
В этом приложении приведен ключевой отрывок из греческого textus receptus Иудейских древностей, вместе со значимыми вариантными чтениями из Евсевия, латинской, сирийской и арабской версий[1864]. Помимо этого, отмечены аналогичные слова и фразы в других частях сочинений Иосифа, а также лексические аналоги из сочинений других авторов.
Γίνεται δὲ κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον[1865] Ἰησοῦς[1866] σοφὸς ἀνήρ[1867], εἴγε ἄνδρα αὐτὸν λέγειν χρή[1868] ἦν γὰρ παραδόξων ἔργων[1869] ποιητής, διδάσκαλος[1870] ἀνθρώπων τῶν ἡδονῇ[1871] τἀληθῆ[1872] δεχοµένων[1873], καὶ πολλοὺς µὲν Ἰουδαίους[1874], πολλοὺς δὲ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ[1875] ἐπηγάγετο[1876] ὁ χριστὸς οὗτος ἦν.[1877] [64] καὶ αὐτὸν ἐνδείξει[1878] τῶν πρώτων ἀνδρῶν παρ᾽ ἡµῖν[1879] σταυρῷ[1880] ἐπιτετιµηκότος[1881] Πιλάτου οὐκ ἐπαύσαντο[1882] οἱ τὸ πρῶτον ἀγαπήσαντες[1883] ἐφάνη γὰρ αὐτοῖς[1884] τρίτην ἔχων ἡµέραν πάλιν ζῶν τῶν θείων προφητῶν ταῦτά τε καὶ ἄλλα µυρία περὶ αὐτοῦ θαυµάσια εἰρηκότων. εἰς ἔτι τε νῦν[1885] τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τοῦδε ὠνοµασµένον[1886] οὐκ ἐπέλιπε τὸ φῦλον[1887].
[Перевод греческого текста]
(63) Примерно в это время жил Иисус, человек мудрый, если и вправду приличествует называть его человеком. Ибо он совершал изумительные дела, и был наставником тех, кто охотно принимает истину; и привлек к себе многих иудеев и эллинов. Он был Мессией. (64) Когда Пилат приговорил его ко кресту по обвинению виднейших из нас, те, кто сперва полюбили его, не рассеялись. Ибо на третий день он снова явился им живым, как говорили божественные пророки об этом и о бесчисленных иных чудесах, связанных с ним. И даже до сего дня племя христиан, названное так по его имени, не уменьшилось.
Акцент на человеческой природе Иисуса в изначальной керигме
Этьен Нодэ
Казалось бы, в заглавии этой статьи говорится об очевидном. Однако я постараюсь показать, что утверждение человеческой природы Иисуса не было данностью для первых его учеников: оно связано с появлением керигмы и со стремлением доказать, что страдания Иисуса не были «спектаклем». Эта керигма стала ключевой чертой Евангелий благодаря переработке рассказов очевидцев. Второстепенная цель моей статьи – утвердить важность Флавиева свидетельства об Иисусе и христианстве. Все мое исследование можно свести к шести кратким пунктам:
1. Павлово христианство не особенно доверяет очевидцам, свидетельствующим о сверхчеловеческой природе Иисуса.
2. Павлово христианство выросло из крошечной частички многолюдного Движения Иисуса, окружавшего апостола Павла.
3. Возвещая, что День Господень уже наступил и мы в определенном смысле живем в мире, где смерти уже нет, христианство утверждает, что Писания уже исполнились. Следовательно, истинность рассказа о Страстях влечет за собой акцент на человеческой природе Иисуса.
4. Именно в согласии с этим взглядом были написаны или отредактированы канонические Евангелия. Из них наиболее близок к истокам Иоанн.
5. В своем первом сообщении Иосиф Флавий благосклонно отзывался об Иисусе, считал его человеком выдающимся и сожалел о последствиях его казни.
6. Позднее, в Риме, увидев, что Движение Иисуса по большей части превратилось в христианство, объединившее иудеев и язычников, Иосиф Флавий испугался (или, быть может, подпал под цензуру Тита) и отверг свои прежние мнения.
В самом деле, свидетельство Иосифа Флавия может оказать нам огромную помощь в понимании раннего христианства, без которого немыслим и поиск исторического Иисуса. Однако все источники, доступные нам, не отличаются нейтральностью: за каждым стоят определенные мотивы, и в конечном счете все зависит от того, как мы оцениваем «предание» и до какой степени его принимаем.
Очевидцы и христиане
Новый Завет в целом являет нам развитое христианство: весть Иисуса о Царстве Божьем неразрывно слита в нем с христианским провозглашением воскресения. Читая Послания, Деяния, Откровение, даже ранних отцов Церкви[1888], мы узнаем о личности Иисуса, о его Страстях и воскресении: это керигма. Однако о деяниях и учении Иисуса мы не узнаем почти ничего: читаем лишь обобщенные утверждения о «силах, чудесах и знамениях, которые Бог сотворил через Него среди вас» (Деян 2:22), о мудрых речениях (Деян 20:35), правила о разводе (1 Кор 7:10–11) и о евхаристии (1 Кор 11:23–26). Так что нам остаются одни лишь евангельские повествования; впрочем, два отрывка из Евангелий говорят о том, что их свидетельства об историческом Иисусе подвергались редактуре.
Во-первых, Евангелие от Иоанна сообщает, что записаны лишь немногие деяния Иисуса, «дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин 20:30–31). Это указывает нам, что рассказы о чудесных знамениях, сопровождавших Иисуса – как доказательства его божественного происхождения, – сведены к минимуму. Иными словами, слишком подробное описание деяний Иисуса могло бы подорвать веру в него. Конечно, можно возразить, что к речениям это не относится – однако еще со времен Фукидида считалось, что даже самый точный и аккуратный историк имеет право сам сочинять и вкладывать в уста главных героев своей истории такие речи, которые, на его взгляд, лучше всего выражают их позицию[1889].
Во-вторых, уточнить проблему нам помогает пролог к Евангелию от Луки (Лк 1:1–4):
Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен.
Это утверждение странно в нескольких отношениях. Читая начало этой длинной фразы, можно либо решить, что в дальнейших книгах на эту тему нет необходимости, либо подумать, что автор намерен, как и эти «многие», представить свою версию событий. Тон автора не полемический, но слова его звучат так, как будто предыдущие рассказы очевидцев[1890] – в число которых Евангелие от Марка, очевидно, не входит – не подтверждают то учение, которое известно Феофилу (или те сведения, которыми он располагает). Чтобы понять, чего им недостает, можно обратиться к писаниям апостола Павла – тоже, как известно, не очевидца[1891]. Во Втором послании к Коринфянам он говорит: «Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем» (2 Кор 5:16). Итак, независимо от того, что знал апостол Павел о земном Иисусе или о его первых учениках, он считает это неважным для своей нынешней деятельности, сосредоточенной на керигме как исполнении Писания[1892]. Иными словами, он не полагается на очевидцев, хотя несомненно и явно стремится оставаться в общении с апостолами, знавшими Иисуса (Гал 1:12; 2:2).
В наши дни идут споры о том, относится ли пролог к обеим книгам Луки – Евангелию и Деяниям апостолов, – или же только к Евангелию; но в любом случае можно отметить значительную перемену во взгляде учеников на Иисуса, произошедшую после его смерти и связанную с двумя аспектами: Духом Святым и Писанием. К моменту вознесения ученики просто ожидали, что он вернется и восстановит царство Израиля – но затем они получают обетование Духа Святого и поручение стать свидетелями Иисуса воскресшего (Деян 1:5–8); это происходит в Пятидесятницу. Слово «свидетельство» здесь употребляется в очень своеобычном значении – разумеется, это не просто беспристрастное изложение факта. Ученики в Эммаусе тоже ожидают, что Иисус восстановит царство Израиля, однако возвещение о том, что Писание исполнилось, преображает их (Лк 24:32). В обоих случаях речь идет не о «простом» свидетельстве очевидцев.
Все это указывает, что подчеркнутый в прологе разрыв между свидетельствами очевидцев и учениями, полученными Феофилом – будь то реальная личность или собирательный «образ читателя», – связан не с дополнительными или уточненными подробностями речений и деяний Иисуса, то есть не с улучшением беспристрастных свидетельств. Речь идет о керигме – той единственной части учения, которую Иисус мог предсказать, но не мог провозгласить при жизни. Стоит добавить, что само то слово, которым описывается то, что получил Феофил – κατηχήθης – происходит от ἔχω и указывает на устную передачу. Использует его и апостол Павел (Гал 6:6), а христианский неофит называется катехуменом.
Таким образом, пролог к Евангелию позволяет предположить, что в нем историю Иисуса могли отредактировать или дополнить особыми свидетельствами о Воскресшем, что вполне соответствует тому развитию событий, о котором мы читаем в Деяниях апостолов. Разрыв между свидетельствами очевидцев и керигмой, хотя и по-иному выраженный, заметен и в первом Евангелии: согласно ему, Воскресший посылает учеников ко всем народам (Мф 28:19–20); однако при жизни Иисус говорил, что пришел лишь к заблудшим овцам дома Израилева и предостерегал учеников, чтобы они не ходили ни в Самарию, ни к язычникам (Мф 10:5–6). Нечто подобное мы видим и в важном сообщении о том, как апостол Петр посещает Корнилия. В Иоппии (Яффе) Петр остановился у Симона кожевника и вышел помолиться на крышу, поскольку дом кожевника был нечист. Там ему явилось потрясающее видение: все животные, сотворенные Богом, без разделения их на чистых и нечистых, – новшество, к которому иудей из Галилеи оказался не готов. Когда затем приходят люди от Корнилия, Петр в конце концов идет с ними, однако не ссылается при этом ни на какие речения Иисуса. Более того, когда он возвращается в Иерусалим, обрезанные с ним не соглашаются (Деян 11:2–3). Эта история позволяет нам рассмотреть и ярко выраженное иудейство первых учеников Иисуса, и галилейский иудаизм (распространенный вдали от больших городов).
Подведем итог: если под «христианином» мы понимаем того, кто принимает керигму и крестится во имя Иисуса[1893], то к Движению Иисуса в Галилее и Иудее это определение не подходит. В этой связи отметим: когда потребовалось кем-то заменить Иуду, Петр предложил собранию выбрать свидетелем воскресения Иисуса одного из учеников, «находившихся с нами» (Деян 1:21–22) с того момента, как Иисус принял крещение у Иоанна. Иными словами: вокруг множество очевидцев, своими глазами видевших чудеса, своими ушами слышавших речения, – иначе говоря, голые факты. но Петру нужен свидетель совершенно особого рода, способный осмыслить все происшедшее в определенном ключе и изложить керигму. Авторитет такого свидетеля должен быть утвержден собранием апостолов. Быть «свидетелем» воскресения – это нечто большее, чем быть просто его очевидцем.
Разнообразное Движение Иисуса
Однако между самим Иисусом и христианской проповедью мы можем различить в Деяниях апостолов иудейское движение последователей Иисуса, с двумя течениями – или, быть может, двумя сторонами одного целого – представленными Петром и Аполлосом: чудотворцы и верные ученики.
Петр исцелил хромого у Красных врат Храма, призвав имя Иисуса (Деян 3:1–9), затем исцелял и других. Смерть Анании и Сапфиры показала силу его слова (Деян 5:1–11). Апостолы совершили много знамений и чудес, и «из посторонних никто не осмеливался пристать к ним» (5:13). Даже о Павле сообщается, что он исцелил калеку с парализованными ногами и других (14:8–10; 19:11–12), хотя сам он в своих посланиях об этом не упоминает.
Помимо главных героев книги, мы слышим и о других учениках из самых разных мест, что показывает нам широкую известность Иисуса. В Дамаске, не так уж далеко от Галилеи, некий Анания, принявший Савла у себя после его обращения, был учеником Иисуса, однако ходил в местную синагогу, не вызывая там никакого смущения (Деян 9:20–25). Аполлос, египтянин из Александрии, также был учеником Иисуса: в западном тексте[1894] Деяний (18:24–26) его история рассказана отдельно:
Некто иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен (κατηχηµένος) в начатках пути Господня и, горя Духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанново. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень.
Это показывает, что движение последователей Иисуса было связано с крещением Иоанна, о чем мы узнаем и из других пассажей (Деян 1:22; 19:3). Дальнейшие объяснения Акилы можно сравнить с учением Павла, проповеданным двенадцати ученикам в Эфесе, знавшим лишь крещение Иоанново: после того, как он возложил руки на них, они исполнились Духа Святого и начали пророчествовать (19:6). Позднее Аполлос переселился в Коринф и начал проповедовать там, однако возникли некоторые проблемы. Из объяснений Павла в Первом послании к Коринфянам (1 Кор 3:5, также 16:12), где он старается преодолеть противоречия, можно понять, что его учение не вполне соответствовало взглядам Аполлоса. В Александрии Аполлос узнал все об Иисусе (предположим, что от очевидцев), однако его еще нельзя было назвать христианином. Более того, по описанию вмешательства Акилы не похоже, что речь шла о чем-то вроде керигмы: в отличие от происшествия в Эфесе с двенадцатью учениками, здесь нет упоминания о крещении во имя Иисуса (Деян 19:5). Тот же западный текст предлагает нам интересное сообщение о встрече Павла и Акилы в Коринфе (Деян 18:1–3):
После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. И, нашед некоторого иудея, именем Акилу, родом понтянина, недавно приехавшего из Италии, и Прискиллу, жену его – потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима – пришел к ним и, поскольку Акила знал его как человека из того же рода (ὁµόφυλος), остался у них и работал. [В Синодальном переводе – «по одинаковости ремесла». – Прим. пер.]
По Светонию (Клавдий, § 25) император Клавдий изгнал евреев из Рима, поскольку они производили постоянные волнения и беспорядки, подстрекаемые «Хрестом» (impulsore Chresto). Светоний не дает датировки, но Дион Кассий сообщает, что эти события произошли в начале правления Клавдия, то есть в 41 г. н. э.[1895]. Беспорядки последовали за решением Калигулы воздвигнуть себе статую в Иерусалимском храме, и нет явных причин связывать их с Иисусом. Слова о том, что Акила знал Павла, указывают, что на какой-то ранней стадии Акила был более известен. «Человек из того же рода», – возможно, здесь имеется в виду общая деятельность, связанная с проповедью о Мессии, скорее всего, еще до обращения Павла. Это дает нам ключ к пониманию и учения Акилы, и разрыва между Аполлосом и Павлом. Очевидно, последствия редактуры придали повествованию инклюзивный характер, сходный с учением Павла, и сгладили различия.
Еще одна сторона движения Иисуса представлена Иаковом, или, в более широком смысле, родственниками Иисуса – назореями, не признавшими его миссию (Мф 12:46–50, Лк 4:22–28), хотя надпись Пилата на кресте Иисуса показывает, что он по-прежнему имел право называться назореем. Выдающееся положение Иакова, отмеченное в Деяниях – даже Петр ходит к нему с отчетами (Деян 12:17), – показывает, что после смерти Иисуса важнейшим авторитетом для апостолов стал именно Иаков, хоть он и не упоминает Иисуса и жестко настаивает на отделении иудеев от язычников. Это был человек выдающийся и широко известный. Иосиф сообщает о его казни при Анане, единственном известном нам саддукее-первосвященнике (И. Д. XX, 9.1), однако за это Анан был смещен со своего поста. Но и Анан был сильной личностью; в другом месте (И. В. IV, 5.2) Иосиф заявляет, что, если бы того не убили (в 66 году), то он смог бы остановить последующие войны. Итак, Иаков пал от руки Анана, однако при этом назван «братом Иисуса, именуемого Христом», – это означает, что последний был более известен, хотя сообщение Иосифа Флавия о нем и очень кратко (см. далее об Иудейских древностях).
Егесипп (цитируемый Евсевием, Церк. ист 2.23.3–14) сообщает о смерти «Иакова Праведного», который «никогда не омывался», иначе говоря, не принимал крещение. Вот важный эпизод в тексте – непосредственно перед побиванием камнями:
Поскольку многие, и даже вожди народа, уверовали[1896], началось волнение среди иудеев, книжников и фарисеев. Они говорили: опасно, если весь народ будет ждать Иисуса Христа. И пришли вместе к Иакову и сказали ему: «Мы требуем от тебя: успокой людей и убеди их оставить Иисуса. Не думаешь же ты, что он Христос! Мы требуем, чтобы ты убедил всех, кто приходит сюда на Пасху, ибо в тебе мы уверены. Мы, как и весь народ, свидетельствуем, что ты праведен и не заботишься о внешнем… Итак, встань на вершине Храма, чтобы тебя видели и слышали отовсюду»… Итак, эти книжники и фарисеи поставили Иакова на вершине Храма и кричали ему, говоря: «О ты, единственный, кто заслуживает доверия всех нас! Ты видишь, что люди заблуждаются, следуя за Иисусом распятым; скажи им, каковы врата Иисуса!»[1897] И отвечал он громким голосом: «Каких слов ждете вы от меня о Сыне Человеческом? Он сидит на небесах одесную великой Силы и явится снова на облаке небесном». И многие совершенно уверовали, и прославляли свидетельство Иакова, говоря: «Осанна Сыну Давидову».
Возможно, в этом отрывке смешано несколько разных событий, однако он очень поучителен. «Волнение» представляло собой мессианское движение, строго иудейское, основанное на вере в близкий конец света, который будет сопровождаться блистательным явлением Мессии или Сына Человеческого. Это соответствует и первым ожиданиям учеников (Деян 1:7), и взглядам, которые выражает сам Иаков в Деян 15:14–18. Иудейские власти боялись всяких волнений, однако Иакова не подозревали в тесных связях с Павлом. И действительно, он не пытался помочь Павлу, когда того арестовали[1898]. Стоит добавить, что и Иоанн Креститель, и Иисус призывали людей покаяться и проповедовали: «Приблизилось Царство Божие» (см.: Мф 3:2; Мк 1:15). В этом отношении они были близки к Иакову, однако принадлежали к иной «партии» или «философии», поскольку Иаков не принимал никакого крещения. Более того, его слова в Деяниях (15:13–21) свидетельствуют, что он не был готов обрезать язычников, будучи сам приверженцем Давидова родословия; во всяком случае, в его речи различие между иудеями и язычниками проводится так же четко, как и в других местах (Гал 2:12–14).
Керигма утверждает, что началась новая эра – но другие иудейские партии либо ожидают этого в будущем, либо вовсе отрицают. Они отделяются от язычников, ибо этого требуют и статус богоизбранных участников завета, и, в более широком смысле, вся библейская история. Отказаться от этого требования – значит разрушить тварный мир, для которого «отделение» – ключевое слово: первичный хаос (tōhû-wābōhû) слово Божье разделило на элементы и дало им имена. Вот почему так важно видение Петра в Иоппии.
Чтобы внимательнее разглядеть и понять феномен, о котором идет речь, рассмотрим рассказ о том, как апостол Павел побывал в Антиохии Писидийской (Деян 13). Важная речь его в этой синагоге, построенная на «слове спасения» (13:26–31), то есть на керигме, пронизана отсылками к Писанию. Однако собрание разделилось надвое – на «иудеев» и «боящихся Бога», причем Писание прекрасно знали и те и другие. Границей между ними стало как минимум обрезание, а возможно, и еврейское происхождение – важный критерий, согласно книгам Ездры и Неемии, а также позднейшим представлениям галилейских иудеев. В Еф 2:14–16 Павел объясняет, что Христос своею кровью разрушил эту преграду и создал новое человечество на земле (см.: 2 Кор 5:17); у Церкви по-прежнему есть граница: крещение, расколовшее иудейскую общность – отсюда разделение и гнев (см. также: Деян 28:25). Все это изображено на схеме ниже.

Воздействие антиохийской речи Павла (Деян 13)
Необходимо подчеркнуть, что в этой синагоге «боящиеся Бога» и «иудеи» должны были воспитываться в одной среде. Позже, после проповеди Павла в Коринфе, иудеи отдали его под суд, однако после его освобождения избили Сосфена, начальника синагоги (Деян 18:17). Возможно, это было связано с тем, что он позволил кому-то из синагогального собрания перейти границу.
Если говорить более обобщенно, заявления Павла о том, что он хочет идти к язычникам, имели вполне конкретное значение: имелись в виду язычники, знающие Писание. Его споры с представителями другой культуры в Афинах остались почти бесплодными. В своей речи перед ареопагом он воспроизводит библейскую историю, сопровождая ее философскими размышлениями, однако, когда он упоминает о воскресении Иисуса, никто его не понимает (Деян 17:32).
Новая эра?
Теперь мы можем поговорить о контексте, в котором возникла и развивалась идея новой эры. Ко времени Иисуса существовали мессианские ожидания, отчасти связанные с библейскими пророчествами[1899]. Движение зилотов восходит к началу римского господства над Палестиной – то есть к 63 г. до н. э. Зилоты стремились подготовить пришествие Царства Божьего на земле – и в первую очередь для этого следовало изгнать римлян и убедить людей пойти за зилотами. В сущности, движение это было обычным объединением местных националистов, и глобального взгляда на мир у них практически не было. Начиная с Езекии и Иуды Галилеянина появлялось множество самопровозглашенных мессий, нарастало насилие, пока в 70 г. все это не закончилось войной. Были и другие течения, призывавшие людей покаяться и обратиться, ибо близок День Господень: в подтверждение этому они приводили тексты Ис 40:3–5 («Глас вопиющего в пустыне») и пророчество Малахии о возвращении Илии (Мал 4:5–6 [MT 3:23–24]). К этой группе относятся и кумранский Устав общины, и проповеди Иоанна Крестителя и Иисуса. В Евангелиях люди спрашивают, не являются ли эти двое воскресшими библейскими пророками.
Интересно, что наступления новой эпохи ждали и в Риме. В 40 г. до н. э. Вергилий посвятил Азинию Поллиону, своему начитанному покровителю, стихотворение по случаю примирения Антония с Октавианом после долгих гражданских войн. В стихах поэт выражал надежду на рождение сына у Антония, сочетавшегося браком с сестрой Октавиана. Вот самые важные выдержки (Экл 4.8–17, 31–36):
Новая эпоха, обладающая мессианскими чертами, воспевается и в гимне, найденном в Кумране (Песнь Праведного 4QHa [4Q427], фрг. 7 I–II), где появляется персонаж сверхчеловеческой природы. В Риме надежды не сбылись, ибо ожидаемый ребенок родился девочкой. Но в том же году тот же консул Поллион председательствовал в сенате во время назначения Ирода царем Иудейским (см.: И. Д. XIV, 14.5). Быть может, нечто мессианское ощущалось и в Ироде – во-первых, поскольку он пришел восстановить царство Израилево, занятое парфянами, во-вторых, поскольку родом был не иудей, как предписывало Второзаконие (17:15). Возможно, его права на престол подтверждались стихом из Быт 49:10: «Не отойдет скипетр от Иуды… пока не придет Мессия, которому принадлежит царство, и народы послушают его»[1900]. Иными словами, Мессия мог прийти извне (см.: Ин 7:27).
Все это указывает на своего рода «дух времени», общее ощущение того, что на наших глазах Небеса сближаются с землей. Этому сопутствовали обстоятельства, хорошо засвидетельствованные у ессеев – пророчества и исцеления, то есть умение проникать мыслью в суть вещей и соответственно действовать. С этим можно связать и веру в воскресение: во время суда над Павлом в Синедрионе апостол называет себя фарисеем и говорит о воскресении; саддукеи не соглашаются с ним, но фарисеи говорят: «Ничего худого не находим мы в этом человеке; если же дух или Ангел говорил с ним, то не будем противиться Богу» (Деян 23:9).
Таким образом, когда появился Иисус – человек выдающийся, способный творить чудеса, – вполне естественно было связать его с небесами и увидеть в нем «того пророка, который должен прийти» или, по крайней мере, правителя (Ин 6:14–15). Сам он называет себя Сыном Человеческим, о котором говорится в Дан 7:13 (Мф 8:20) и входит в Иерусалим как сын Давидов (Мф 21:1–11). Кстати, стоит подчеркнуть, что в раввинистическом иудаизме способность творить чудеса уже не считалась доказательством истинности притязаний чудотворца (вав. Б. Мец 59b); более того, Книга Даниила была исключена раввинами из книг Пророков и перемещена в раздел Писаний (вав. Мег 3а).
Подводя итоги, мы можем сказать, что приписывание Иисусу сверхчеловеческого происхождения и достоинства не было чем-то невозможным для иудаизма в Иудее того времени; однако большинство современных исследователей считает Евангелие от Марка, где Иисус изображен наиболее «человечным», древнейшим из Евангелий, а Евангелие от Иоанна, где Иисус намного больше «похож на Бога», – самым поздним, и строит теории, согласно которым он был «обожествлен» позднее, по образцу греческих и римских божественных героев.
О канонических Евангелиях
По мнению Августина, канонический порядок Евангелий соответствует хронологическому порядку их написания и каждый редактор знал своих предшественников, причем первым и последним из них были ученики Иисуса, Матфей и Иоанн (Согл 1.2.3). Августин писал, что четыре Евангелия, несмотря на видимые различия между ними, гармоничны: Иоанна, Матфея, Луку и Марка символизируют орел, лев, телец и человек (см.: Откр 4:7), что, в свою очередь, отражает природу Христа – божественную, царскую, священническую и человеческую. Августин показывает, как рассмотрение Евангелий с разных сторон позволяет свести их расхождения к минимуму. Этот апологетический метод, разработанный Августином против тех, кто из-за противоречий в Евангелиях подвергал сомнению их истинность, считался вполне удовлетворительным вплоть до эпохи Просвещения.
Современная наука, начиная с XVIII века, следовала за Августином в одном: она также считала Евангелие от Иоанна самым поздним и наиболее богословски утонченным из четырех. Поскольку исследователи стремились найти исторического Иисуса за рамками богословия и религиозной веры, они сосредоточились на синоптических Евангелиях и на их зависимости друг от друга. Иоганн Якоб Грисбах, впервые проведший детальное сравнение синоптических текстов, в 1783 году заключил, что редактор Марка, почти не имевший собственного текста, пользовался текстами Матфея и Луки, и поддержал традиционное мнение о зависимости Луки от Матфея[1901]. Марк намного короче, однако истории, общие с Матфеем и Лукой (тройная традиция), у него обычно длиннее. Вот довольно тривиальный пример, показывающий, что Марк искусно комбинировал материал Матфея и Луки:
Мф 8:16: «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых».
Мк 1:32: «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых».
Лк 4:40: «При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями…»
В 1832 году Фридрих Шлейермахер, не считавший, что Евангелие от Матфея написано очевидцем событий, опубликовал свой труд о Папии Иерапольском[1902], который – насколько понял его Шлейермахер – говорил о двух источниках: о Евангелии, которое написал Марк (причем ином по сравнению с Евангелием от Марка в его нынешнем виде), и о собрании логий, к которому обращался Матфей (и от которого зависел Лука). Из этого впоследствии развилась «теория двух источников»: Матфей и Лука независимо друг от друга комбинировали Марка с собранием речений Иисуса, обозначаемым как Q, добавляя к этому дополнительный материал и проводя над всем этим редакторскую работу. В том же, что касается датировки Евангелий, были приняты с небольшими поправками выводы Гарнака[1903]: Марк – между 65 и 70 гг., Матфей – 70–75 гг., Лука и Деяния – 79–93 гг., и Иоанн – 80–110 гг.
Эти выводы повлекли за собой значительные последствия, которые можно вкратце изложить так:
1. В сравнении с Марком Матфей – намного более «иудей по духу», а кроме того, у него есть речение Иисуса о Петре как о главе Церкви (Мф 16:18). Это указывает на некое возвращение иудейского духа в Евангелие, по-видимому, связанное с формированием централизованной Церкви и церковной ортодоксии. Все это происходило уже после посланий Павла.
3. Развитие богословия от Марка к Иоанну указывает, что божественность Иисуса – позднейшее измышление, связанное с влиянием греческой культуры или даже философии, а не первоначальная иудейская черта. Впрочем, это мнение трудно примирить с предыдущим тезисом о возвращении иудейского духа.
4. Поскольку Евангелия в целом обрели свой нынешний вид и авторитет весьма рано, едва ли можно найти у раннехристианских писателей какие-то важные дополнения к ним.
Однако все это можно поставить под вопрос. Во-первых, Теория двух источников – отнюдь не твердо установленный факт. Она предполагает, что Матфей и Лука независимы друг от друга. Например, в вышеприведенном примере можно допустить, что Матфей и Лука, каждый по-своему, сократили длинную фразу Марка – «при наступлении же вечера, когда заходило солнце», – но невозможно предположить, будто Марк «склеил» вместе тексты Матфея и Луки. Однако, если говорить серьезно, текстуальных совпадений Матфея и Луки, отсутствующих у Марка, огромное множество – от 250 до 300 по разным подсчетам – и невозможно все их объяснить случайностью. В некоторых случаях совпадают умолчания и пропуски слов. Это объяснить легче; но немало и таких мест, где дословно повторяются слова и выражения. Вот один пример, взятый из истории расслабленного в Капернауме: у Матфея и Луки имеется пять общих слов, которых у Марка нет:
Мф 9:7: ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ – «он [расслабленный] пошел в дом свой».
Мк 2:12: ἐξῆλθεν ἔµπροσθεν πάντων – «вышел пред всеми».
Лк 5:25: ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ [греческий текст] – «и пошел в дом свой».
Чтобы разрешить эту проблему, было высказано предположение, что Матфей и Лука зависят от разных форм Евангелия от Марка, названных перво-Марком и второ-Марком. Более того, у Матфея и Луки есть и более значительные общие характеристики, также отсутствующие у Марка: пять перикоп тройной традиции (Мк 3:23–30; 4:30–32; 6:8–11; 9:42–50; 12:28–34) очень схожи у Матфея и Луки, но отличаются у Марка. Чтобы объяснить этот факт, была выдвинута гипотеза, согласно которой в Q имелись и сюжетные повествования[1904]. Однако вся эта система, основанная на источниках, которых никто никогда не видел, не раз подвергалась критике[1905]. Здесь достаточно сказать, что она так и не доказана[1906].
Что же касается датировки Евангелий, стоит сделать несколько общих замечаний. В конце II в. Канон Муратори и Ириней (Против ересей 3.12.12) дают нам список канона Нового Завета (без Второго послания Петра). Последний призывает своих читателей принять и Деяния, раз уж принято Евангелие от Луки. Гарнак убедительно аргументирует, что составление новозаветного канона – отклик на деяния Маркиона[1907], который в середине II в. стремился очистить христианство от всех отзвуков Ветхого Завета. Это говорит о том, что нам необходимо тщательно различать редактуру и канонизацию, или официальную публикацию. Иными словами, можно ожидать, что до финальной стадии – канонизации – тексты были далеко не столь стабильны и неизменны, как после, хотя, несомненно, содержали в себе древние предания.
Можно отметить несколько интересных свидетельств. В древней компиляции под названием Пасхальная хроника приводятся цитаты из нескольких авторитетных авторов о датировке Тайной Вечери (PG 90:80). Около 165 г. Аполлинарий, епископ Иерапольский, негодовал по поводу мнения неких невежд, будто «14 нисана Господь вкушал агнца с учениками своими, а затем пострадал в великий День Опресноков» (то есть 15 нисана); они защищали свое мнение тем, что «с ними будто бы согласен Матфей – однако суждение их противоречит закону и вносит противоречия в Евангелия». К этому он добавляет, что «истинной Пасхой 14-го дня стал Сын Божий, заменивший собой агнца». Далее Аполлинарий следует хронологии Иоанна; однако стоит отметить, что Матфей, каким мы его знаем, действительно с этими «невеждами» согласен[1908].
В той же Хронике имеется цитата из Климента Александрийского, в которой отражены примерно те же идеи:
В день 13 нисана они спросили его: «Где велишь нам приготовить Тебе Пасху?» (см.: Мф 26:17). В этот день совершалось освящение опресноков и приготовление к празднику. Господь наш пострадал на следующий день – он, который сам был Пасхой, предлагаемой евреями. В четырнадцатый день первосвященники и книжники привели его к Пилату, но не вошли в преторий (см.: Ин 18:28), ибо желали избежать осквернения, которое помешало бы им тем же вечером есть Пасху.
По Евсевию (Церк. ист 4.26.4), Климент опирался на утраченное сочинение Мелитона Сардийского, современника Аполлинария. В самом деле, датировка событий и изложение деталей у Иоанна вызывают больше доверия[1909], однако стоит отметить: создается впечатление, что проблема, поставленная датировкой событий у синоптиков, возникла незадолго перед тем, лишь за какое-то время до Иринея. Возможно, еще стоит сказать, что широко известное применение пресного хлеба для Евхаристии вошло в обиход гораздо позднее, и лишь в западных церквях[1910]; если бы этот обычай был в Церкви изначальным, – трудно представить себе, как мог он исчезнуть бесследно и без обсуждений.
Иустин Мученик, живший в середине II в., дает нам полезное свидетельство. Обращаясь к Трифону (Разг 111.3), он говорит: «В день Пасхи вы схватили его и так же распяли его в Пасху». Здесь сочетаются два значения слова «Пасха», праздничный день и само жертвоприношение: сначала Иустин ссылается на хронологию синоптиков, затем – на то, что распятие произошло во время заклания пасхального агнца. Он говорит о своего рода христианизированной Пасхе, которая заканчивается распятием, то есть приготовлением пасхального агнца. Это символично и полно глубокого смысла, однако не имеет никакого отношения к иудейскому обряду, согласно которому, разумеется, агнец должен был быть заклан и приготовлен до Пасхи. Для Иустина «Пасха есть Христос», то есть агнец. В другом месте (40.3) он объясняет, что пасхальный агнец прекрасно символизирует Иисуса на кресте, поскольку готовится на двух вертелах, образующих крест: главный вертел пронзает его от нижней части тела до головы, а на второй, прикрепленный к лопатке, кладутся ноги, так что ягненок не варится, не печется, а именно жарится на открытом огне (см.: Исх 12:9). В продолжение (Разг 41) Иустин говорит о хлебе евхаристии, однако не связывает его с Пасхой: для него библейский прообраз причастия – пшеничная мука, которую должен принести в Храм прокаженный после исцеления (Лев 14:10). Все это указывает, что рассказ о Страстях у синоптиков – литературная конструкция[1911].
Вообще слово «Писание» у Иустина относится только к Ветхому Завету, однако иногда он цитирует, по его собственным словам, «воспоминания апостолов», или Евангелия, как подтверждение своих аргументов об исполнении пророчеств в беседе против Трифона. Однако текст его цитат не вполне совпадает с каноническими Евангелиями. По-видимому, он использует греческую «гармонию» Евангелий, сравнимую с неким прото-диатессароном[1912], в которой отражаются ранние стадии их редакции. Это показывает нам, что на тот момент четыре Евангелия еще не превратились в канон, и тексты их не вполне стабилизировались. Иными словами, само понятие «изначального» текста применительно к Евангелиям довольно туманно, и граница между низшей (текстуальной) и высшей (литературной) критикой выглядит проницаемой[1913].
Некоторые детали у синоптиков указывают на то, что окончательные их редакторы были далеки от событий I в., поскольку некоторые истории у них перепутаны друг с другом. Рассмотрим сначала историю Захарии, сына Варахии. В Мф 23:13–36 (и Лк 11:39–52) Иисус снова и снова обличает фарисеев и книжников, все более и более сурово: обвиняет их в слепоте, называет лицемерами, а затем и убийцами, на чьих руках вся невинная кровь, «от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником». Со времен Иеронима (Чет. Толк. Мф, см. соотв. места) этого Захарию отождествляют со священником Захарией, сыном Иодая, который, согласно 2 Пар 24:21, был побит камнями в храмовом дворе за то, что обличал идолопоклонство: имя его, возможно, было спутано с именем пророка Захарии, сына Варахии (Зах 1:1 LXX) Следовательно, обвинение простиралось от первого убийства в Библии до последнего, упомянутого в Ветхом Завете. Однако такое объяснение неудовлетворительно – не только из-за искаженного имени, но и потому, что Иисус, обличая своих собеседников, не мог говорить только о преступлениях древности, – в этом случае его обвинения потеряли бы смысл. Намного лучший ключ к пониманию этих слов дает нам Иосиф Флавий. В Иудейской войне IV, 5.4 он упоминает некоего Захарию, сына Баруха[1914], богатого чиновника, которого зилоты убили посреди Храма после пародийного суда. Это событие произошло в 70 г., в начале войны; однако такое редактирование речи Иисуса нормально для устной традиции[1915], легко сочетающей истории по смысловым шаблонам, если события, о которых идет речь, случились не так давно.
Нечто похожее видим мы и в первых главах Деяний. Достаточно странно, что среди общественных волнений и беспорядков мы не видим римских властей и о них не слышим. Враги новой общины – саддукеи (Деян 4:1), представленные как партия, поддерживающая первосвященника (5:17) – о таком мы до сих пор не слышали. Более того, нового первосвященника зовут Анна[1916], хотя должен быть Каиафа. Однако все эти недоумения легко разрешить: чуть раньше мы читали об Анане, единственном первосвященнике-саддукее. Можно добавить, что во время его краткого правления в 62 году представителей римской власти в Иерусалиме не было. Причина, по которой в Деяниях появляются противники-саддукеи, очевидна: до миссии среди язычников, которая началась позднее и вызвала неприятие в более широких иудейских кругах, основным «камнем преткновения» в этих чисто иудейских главах становится вера в воскресение.
У Евангелий есть еще одна черта, ставившая многих комментаторов в тупик: им не особенно интересна война 70 года. Любопытна в этом отношении эволюция Иосифа Флавия. Первой его книгой стала Иудейская война, причем, по некоторым данным, изначально она называлась Взятие Иерусалима; в конце книги он мрачно замечает: «Бог… ныне избрал своим обиталищем Италию» (И. В. V, 9.3). Однако около двадцати лет спустя, когда Иосиф пишет главный свой труд, Иудейские древности, он почти не упоминает о войне. В Жизни 422 он кратко подводит итоги войны, говоря, что Тит прекратил беспорядки в Иудее. В книге Против Апиона 1.33–36 он между делом отмечает, что в Иерусалиме восстановлены священнические архивы, так что там по-прежнему можно готовить священников для совершения богослужений.
В Евангелиях Иисус предсказывает разрушение города. В Лк 21:20–22 он предвидит грядущую войну, видит Иерусалим, окруженный вражескими войсками, однако объясняет, что все это должно произойти, «да исполнится все написанное», ссылаясь на Иер 25:13, где пророк говорит о гибели Иудеи и порабощении ее народа согласно «всему написанному в сей книге». Возможно, это относится к войне 70 года, однако важнее здесь библейские прообразы. В Евангелиях от Матфея и Марка он говорит: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы» (Мф 24:15–16; Мк 13:14). Это отсылка к пророчеству Даниила, за которым стоит разрушение Храма Антиохом Эпифаном в 167 г. до н. э., после чего Маттафия и его сыновья «бежали в горы» (1 Мак 2:28). Выражение «стоящую» указывает на культовое сооружение. Видимо, речь здесь идет либо о скандальном намерении Калигулы в 40 году воздвигнуть в Храме свою статую, либо о политике Адриана, стремившегося превратить Иерусалим в греко-римский город с форумом и Капитолием, что в 132 году вызвало восстание Бар-Кохбы. Несомненно, больше соответствует обстоятельствам второй вариант[1917]. Война 70 года сюда плохо подходит: даже если римляне в самом деле поклонялись своим штандартам на святой территории (И. В. VI, 6.1), это было уже после сожжения Храма, и поклонение римлян ни к чему не принуждало евреев. Триумф Тита показывает, что римляне стремились перенести иудейский культ в Рим. Лучшее изображение этой войны дают в пророческом стиле Оракулы Сивилл (4:125–127): «Римский правитель придет из Сирии. Он сожжет Храм Иерусалимский, и при этом убьет множество людей и опустошит многие земли Иудейские, застроив их широкими дорогами».
Можно обсудить и другие отрывки из синоптиков, однако уже представленных примеров достаточно, чтобы сказать: нет причин полагать, будто богословие синоптиков древнее богословия Иоанна. Напротив, их богословие развивалось в отрыве от иудейских корней и под влиянием фундаментальной причины: в отличие от всех форм гностицизма и докетизма, истина керигмы предполагает, что Страсти Иисусовы не были «спектаклем», а Иисус – «актером», лишь играющим роль человека. Пример, взятый из посланий Павла, покажет направление, в котором развивалось богословие в Древней Церкви. В гимне, процитированном в Флп 2:6–11, Иисус, будучи божественного происхождения, становится «подобным человеку, и по виду став, как человек» – лексика, близкая к прологу Евангелия от Иоанна. Однако в контексте своего послания (ст. 5) Павел настаивает на человечности Иисуса: «В вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе». В другом месте он говорит (Гал 4:4): «[Сын Божий] родился от жены, подчинился закону».
Свидетельства Иосифа: Иудейская война
Все предыдущие разделы этой статьи лишь мостили дорогу для серьезного исследования тех двух упоминаний об Иисусе и его учениках, которые мы встречаем у Иосифа. Первое из них – хорошо известное свидетельство об Иисусе (И. Д. XVIII, 3.3). О нем мы поговорим чуть ниже. Второе – спорная старославянская версия Иудейской войны. Стоит начать с перечисления внешних и внутренних аргументов в пользу ее подлинности[1918].
Эту версию Иудейской войны идентифицировали в 1866 году. В ней есть пропуски, расположенные без видимой системы, поэтому она примерно на 15 % короче привычного греческого текста; однако в ней есть и дополнения, размером от нескольких слов до нескольких страниц. Они положили начало ожесточенным спорам, поскольку наиболее важные прибавления касаются новозаветных персонажей (Ирода, Иоанна Крестителя, Иисуса), однако производят довольно странное впечатление: с первого взгляда они не похожи на позднейшие христианские интерполяции.
Перевод на старославянский был сделан с греческого, как показывают ряд небольших ошибок и транскрипция греческих слов, в XI–XII вв. – тогда же, когда переводились и другие греческие книги, связанные с христианством. Первое полное критическое издание его вышло в 1934–1938 гг.[1919]. В 1958 году, в непростых условиях, Н. А. Мещерский опубликовал критическое издание в Советском Союзе. С 2003 года у нас есть полный перевод на английский, сделанный по этим изданиям и представленный в синопсисе с классическим переводом «Лёбовской серии»[1920].
В 2000 году Эрнст Хансак опубликовал статью, в которой заявил, что работа Мещерского при сравнении с основными рукописями оказывается исключительно плохой, изобилует ошибками перевода и опечатками. Из-за этих недочетов изучение славянской версии Иосифа Флавия по современному русскому переводу становится практически невозможным. Однако исследователь, которого интересует не перевод, а содержание, очень скоро замечает, что между новым английским переводом и предыдущими нет серьезной разницы.
Старославянская литература, в сущности, вся состоит из переводов. Интересна она лишь для исследователей языка и его диалектных вариаций: содержание ее лучше изучать по греческим оригиналам, поскольку переводы на старославянский обычно очень точны. Старославянский текст Войны, достаточно сильно отличающийся от привычного греческого текста, представляет собой исключение. Хансак описывает это как парадокс: с одной стороны, он обращает внимание на чрезвычайную, даже «рабскую» точность перевода, воспроизводящего греческие обороты речи даже в тех случаях, когда в распоряжении переводчика имеются славянские идиомы с тем же значением. С другой стороны, переводчик обращается с текстом необычайно вольно: выкидывает или переставляет целые отрывки, добавляет другие, то и дело вставляет краткие пояснения. Контраст столь разителен, что приходится предположить две стадии перевода: первая – точный перевод обычного греческого текста, вторая – переделка его редактором, не имевшим под рукой оригинала. Однако Хансак подмечает любопытный факт: редактор «сливается» с переводчиком, перенимая у последнего стиль и формулировки. В этом случае мы должны рассматривать старославянскую Войну как отдельное произведение, ничего не сообщающее нам о труде Иосифа.
Однако нельзя отметать с порога другую гипотезу: возможно, никакой позднейшей редактуры не было – просто переводчик пользовался неизвестной нам греческой версией. В самом деле, о существовании второй греческой версии можно сделать вывод из слов самого Иосифа. В прологе к Войне он поясняет, что сначала писал «для варваров внутренней Азии на нашем родном языке», а затем перевел свою книгу на греческий для римского мира. Позднее он признавался, что пользовался помощью секретарей в обработке греческого текста (Пр. Ап 1.46–53). И действительно, Война в известной нам версии отличается высоким литературным стилем, заметно превосходящим качество позднейших трудов Иосифа, которые он писал уже без секретарей. Однако в ней можно найти ошибки, наводящие на мысль о том, что Иосиф плохо знал иудаизм, географию Иудеи и даже арамейский язык. Впрочем, он хвалится своей одаренностью с юных лет, пишет, что уже в 14 лет к нему приходили советоваться видные законники, и необходимо признать, что в позднейших своих книгах (Иудейские древности, Против Апиона) он демонстрирует прекрасное знание собственной религии и многих греческих авторов, в особенности Фукидида. Родился он в 37 г. н. э., Иудейскую войну опубликовал, когда ему было около сорока, и если он начал с нуля, маловероятно, чтобы шестнадцать лет спустя он достиг такого уровня знаний, какой он проявляет в Иудейских древностях, вышедших в 93 году – тем более если он сам пишет, что соотечественники признавали за ним превосходство в религиозных познаниях. Даже приняв во внимание его тщеславие, мы можем признать, что это утверждение имеет под собой основания: многое указывает на то, что по прибытии в Рим Иосиф Флавий пытался добиться римского покровительства для иудаизма. Однако его религиозные чувства не выходили за пределы обыкновенного и обыденного, и у него не появилось последователей, в то время как аналогичное движение в Иудее привело к созданию совета мудрецов в Явне (Ямнии) – под римским покровительством, но с сильными вавилонскими связями, – и закончилось созданием раввинистического иудаизма.
Все эти соображения ведут нас к одному-единственному выводу: по всей видимости, ученые секретари Иосифа в Риме получили от него черновик книги, написанный по-гречески им самим. Следовательно, между арамейским оригиналом и известным нам греческим текстом стояла еще одна греческая версия, возможно, грубая и плохо обработанная. Можно даже представить, что на каждой стадии работы Иосиф Флавий пользовался новыми документами, поскольку это ясно видно: касаясь в Древностях того, о чем уже говорил в Войне (а именно, всего периода от Маккавейского кризиса до начала войны в 66 г. н. э.), он добавляет много новых сведений из архивов. Некоторые трудности возникают, когда новые данные противоречат старым, более легендарным, и смешение их порой приводит в недоумение, – однако Иосиф придерживается правила ничего не забывать и не упускать, если на то нет очень веских причин.
Строго говоря, первый, черновой вариант греческого текста Иосифа мог сохраниться и попасть в Константинополь, откуда исходили все греческие труды, переведенные на старославянский (см. далее, пункт 3). Чтобы подкрепить эту гипотезу, необходимо рассмотреть два аспекта: засвидетельствовано ли содержание старославянского текста где-либо еще – и почему в окончательном варианте Войны, помимо добавления новых документов, некоторые отрывки сокращены или опущены?
Первый пункт проверяется при помощи добавлений, присутствующих в старославянском тексте, но отсутствующих в тексте греческом. Здесь у нас имеется несколько свидетельств.
1. Философское послание некоего Мары бен Серапиона к сыну, написанное на арамейском языке в конце II в., возможно, после того, как римляне захватили Селевкию[1921].
Что же еще сказать, когда мудрецы вечно становятся жертвами тиранов, мудрость их встречает лишь оскорбления, великие мысли подвергаются нападениям и не находят себе защиты? Какую выгоду нашли афиняне, приговорив к смерти Сократа, смерть которого стоила им голода и чумы? Или самосцы, когда сожгли Пифагора – и страну их в одночасье засыпало песком? Или евреи, когда [убили] своего премудрого царя, и в тот же миг потеряли свое царство? Бог подтвердил мудрость этих троих: афиняне умерли от голода, самосцы были поглощены морем, евреи, всего лишенные, изгнанные из собственного царства, рассеялись по свету. Однако жив Сократ, благодаря Платону; жив Пифагор, благодаря статуе Юноны; и жив мудрый царь, благодаря введенным им новым законам.
«Мудрый царь» евреев, не названный по имени – Иисус. Сведения эти исходят не от христиан, но из иудейского арамейского источника, благожелательного к Иисусу. Они совпадают с тем, что мы читаем в старославянском тексте Войны – иначе говоря, в его арамейском оригинале. Описывая Храм, Иосиф Флавий упоминает надписи, запрещающие входить туда чужестранцам (И. В. V, 5.2); старославянская версия уточняет, что надписи были сделаны по-гречески, на латыни и «по-еврейски», а далее добавляет:
А над этими надписями – четвертая на том же языке, говорившая об Иисусе, царе не царствовавшем, распятом иудеями за то, что он предсказал гибель города и разорение Храма.
Среди нескольких отрывков об Иисусе в старославянском тексте этот – единственный, где Иисус называется по имени; во всех прочих местах его называют чудотворцем. Сама надпись не приводится, но содержание ее напоминает о titulus Пилата на кресте Иисуса, сделанном на трех языках (Ин 19:19–20); возможно, она связана с «вратами Иисуса», о которых упоминали иудейские власти, уговаривая Иакова публично заявить, что распятие Иисуса доказало, что он не Мессия (см. сообщение Егесиппа ранее, в подразделе «Разнообразное Движение Иисуса»). Возможно, над этими «вратами» и находилась надпись, посвященная его осуждению и казни.
2. В старославянском тексте есть подробности о ессеях, подтвержденные свитками Мертвого моря. Например, согласно И. В. II, 8.5, ессеи пламенно благочестивы. Старославянская версия добавляет, что они встают для молитвы по ночам – об этом мы читаем и в Уставе Общины (1QS VI, 7–8).
Также, согласно И. В. II, 8.9, ессеи строже остальных иудеев соблюдают «еженедельный покой» или «семеричный покой» – расплывчатый термин, под которым мы в контексте понимаем день субботний. Славянская версия подробно объясняет, что такой «семеричный» ритм распространяется у ессеев не только на дни, месяцы и годы, как заповедует Библия, но и на недели, иначе говоря, на периоды по пятьдесят дней, завершаемые праздником Пятидесятницы. Существование такого обычая подтверждают и основные кумранские документы (4QMMT, 11QTa), и рассказ Филона об аналогичных группах «терапевтов» (Созерц 65).
3. Евсевий (Церк. ист 1.8.5) и Фотий (Библ 238) утверждают, что Иосиф писал об избиении Вифлеемских младенцев (см. Мф 2:16), однако в окончательном греческом тексте Войны эта резня не упоминается. Но в старославянской версии мы встречаем эту историю, изложенную подробно, начиная с мудрецов, идущих за звездой (после И. В. I, 20.4), хотя и без упоминания об Иисусе. Тот же Фотий дает пересказ утраченной книги Иуста Тивериадского «Летопись царей Иудеи в виде генеалогии» (Библ 33) и негодует, что этот иудейский автор, современник Иосифа, не включил в число иудейских царей Иисуса. Это заставляет предположить, что он читал об Иисусе в другом иудейском сочинении – а именно в греческом Vorlage славянской Войны. Здесь можно добавить, что именно Фотий, патриарх Константинопольский (IX в.), начал миссию среди славян, отправив к ним Кирилла и Мефодия – так что вполне возможно, что копия Войны, впоследствии отправленная славянам для перевода, исходила из Фотиевой библиотеки.
Что же касается содержания дополнений – приведу несколько примеров, которые едва ли можно объяснить христианской редактурой.
4. Антипатр, сын Ирода, устроил заговор против своего отца, но был разоблачен и осужден (И. В. I, 32.5). Старославянская версия добавляет здесь рассуждение о божественном провидении.
Можно лишь подивиться божественной икономии, которая за зло вознаграждает злом, а за добро добром. И никто, будь то праведный или неправедный, не в силах избежать ее всемогущей десницы. Однако светлый взор Бога чаще падает на праведных. Авраам, праотец нашего народа, был изгнан из своей страны, поскольку обманул брата своего при разделе земель. Так он согрешил – и за это понес наказание. Но затем, за его послушание, Бог даровал ему Землю Обетованную.
Такая небиблейская интерпретация странствий Авраама совпадает с тем, что говорит Иосиф в другом месте, уже не пересказывая Библию: в И. Д. I, 19.2 он сообщает, что Авраам был изгнан своей семьей и что Бог привел его в Ханаан.
5. Ко времени Архелая в славянском тексте относятся два замечания о некоем не названном по имени мудреце, ходившем в звериных шкурах, который путешествовал по всей Иудее и призывал народ к освобождению. В нем легко узнать Иоанна Крестителя, однако этот рассказ относится ко времени за поколение до Иисуса (см.: Мф 3:1). Приведем здесь выдержку из текста (после И. В. II, 9.1) – описание этого мудреца после того, как он удаляется за реку Иордан:
Странный это был человек, и жил он не как человек, но, скорее, как бесплотный дух. Уста его не вкушали хлеба, и даже на Пасху он не ел опресненный хлеб, говоря, что его вкушают в воспоминание о Боге, освободившем народ свой из рабства – сейчас же народу далеко до освобождения. К вину и пиву он не позволял себе даже приближаться. Всякая мясная пища вызывала у него отвращение. Он ненавидел всякую несправедливость. Жил он в шатре из древесных ветвей.
Лк 7:33 сообщает коротко, что Иоанн не ел хлеба и не пил вина, но здесь картина становится более «иудейской» или «библейской»: пророк близок к Земле Обетованной, но все же остается вне ее – не празднует Пасху, установленную Иисусом Навином, не вкушает земные плоды (ср.: Нав 5:10–12).
Прежде чем попытаться объяснить, почему из греческого текста Войны исчезли отрывки, описывающие новозаветных персонажей, имеет смысл представить несколько текстов, в этом разделе – из Войны, в следующем – из Древностей, поскольку ответить на этот вопрос нам поможет их содержание.
Первый текст – начало и конец заметки о «чудотворце», в котором легко узнать Иисуса, поскольку здесь появляются многие детали, засвидетельствованные в Евангелиях (после И. В. II, 9.3).
В то время появился некий человек, если только позволительно называть его человеком. По природе своей и по внешности он был человеком, однако вид его превосходил человеческий, а дела были прямо божественными: он творил дивные и поразительные чудеса. Вот почему не могу я назвать его человеком. С другой стороны, зная его человеческую природу, не назову [или «не назовут»] его и ангелом. Все совершал он с помощью некоей невидимой силы, одним лишь словом своим и приказом. Иные говорят о нем: «Это наш первый законодатель, что восстал из мертвых, многих исцелил и много дал доказательств своего знания»[1922]. Другие полагают, что он послан Богом. Во многом он спорил с Законом и не соблюдал субботу по обычаю предков, однако не творил ничего нечистого руками своими, а все делал только словом[1923]. И многие из простонародья следовали за ним и слушали учение его, и многие души пришли в волнение, думая, что его властью колена Израильские освободятся из-под римского ярма…
И, придя на обычное место, делал там то же, что и обыкновенно. И снова окружило его великое множество народа и превозносило его за дела его. Знатоки Закона, позавидовав ему, решили его погубить и принесли Пилату тридцать талантов, чтобы он убил его. Он взял деньги и разрешил им исполнить их желание. Они схватили его и распяли, вопреки закону предков.
Итак, эта необыкновенная личность «творила божественные дела», но умерла вполне по-человечески.
После смерти в 44 году царя Агриппы Рим начал посылать в Иудею прокураторов. Однако, в отличие от ситуации при Тиберии, теперь кесарь (Клавдий) гарантировал законным иудейским властям полное сохранение их полномочий. Вот отрывок об учениках чудотворца (после И. В. II, 11.6):
Если кто-то отходил от буквы Закона, об этом становилось известно учителям Закона. Они хватали его и мучили, а затем казнили или, чаще, отсылали к кесарю. При этих прокураторах явились слуги чудотворца, описанного выше, и говорили народу, что господин их жив, хотя и умер: «И он освободит вас от рабства». И многие из народа к ним прислушивались. Люди склоняли слух свой к заповедям их – не из-за славы их, ибо это были люди скромного звания: одни из них делатели парусов[1924], другие башмачники[1925], третьи ремесленники. Однако они творили знамения поистине чудесные, и делали все, что пожелают. Тогда эти высокородные прокураторы, видя смущение народа, вступили в сговор с книжниками, чтобы схватить их и убить, пока из этого малого дела не выросло нечто великое, однако были устрашены и пристыжены знамениями. Такие чудеса, сказали они, нельзя сотворить волшебством: если люди эти не посланы провидением Божьим, то скоро они будут разоблачены[1926]. И дали им позволение являться и проповедовать, где хотят. Позже, смущенные ими, разогнали их, и одних отправили к кесарю, других на суд к Антиоху, третьих же в отдаленные земли.
Последователи чудотворца делают то же, что и он, и ожидают скорого возвращения своего господина, который «восстановит царство Израиля»; они верят в его сверхчеловеческую природу, поскольку его именем творят чудеса. Легко узнать в этом краткий очерк первых глав Деяний, до кризиса со Стефаном, однако помещенный в более позднее время: это указывает, что данные сведения исходят не из архивов, а из иудейских преданий. Ни на какие контакты с язычниками здесь нет даже намека. У Иосифа Флавия нет причин плохо относиться к этому иудейскому Движению Иисуса. Напротив, он сожалеет об узколобости иерусалимских правителей.
Свидетельства Иосифа: Иудейские древности
Теперь перейдем к широко известному Свидетельству об Иисусе (И. Д. XVIII, 3.3). В замечании, подлинность которого не подвергается сомнению, Иосиф именует Иакова «братом Иисуса, именуемого Христом» (И. Д. XX, 9.1). Он ссылается здесь на следующее краткое замечание[1927]:
Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали необыкновенное[1928]. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту. Но те, кто раньше любили его, не прекращали любить его и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили об этом и о многих других его чудесах боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по его имени.
О подлинности этого отрывка ведутся бесчисленные споры, главным образом из-за фразы «То был Христос» или «Он был Христом», которая выглядит как христианская вставка[1929]. Однако мы начнем с «низшей», текстуальной критики.
Греческая форма текста, так же как и латинский перевод VI в., в средневековых рукописях значительных разночтений не имеют. Древнейший свидетель этого текста – Евсевий, трижды цитирующий этот отрывок целиком: в Церк. ист 1.11.7–8; Док. Ев 3.3.105–106, с небольшим изменением во второй фразе; и Теоф 5.44 – тексте, известном нам только по сирийскому переводу.
До Евсевия необходимо упомянуть Оригена, который трижды сообщает, что Иосиф Флавий не верил в Иисуса как Христа (Цельс 1.47; 2.13; Толк. Мф 10.17). Некоторые заключают из этого, что в списке Древностей, принадлежавшем Оригену, этого отрывка или по крайней мере его ключевой фразы не было. Однако более вероятно обратное: дело в том, что в своей полемике против Цельса Ориген стремится опираться на независимых свидетелей. Говоря об Иосифе, он тщательно подбирает слова, не сообщая напрямую, что Иосиф Флавий был иудеем. Далее, вместо того чтобы сказать: «Иосиф не называл Иисуса Христом», он говорит: Иосиф не верил в Иисуса как в Христа. Скорее всего, Ориген читал этот отрывок именно в том виде, какой известен нам, и был впечатлен беспристрастием Иосифа, иначе говоря, его независимостью от более позднего враждебного взгляда иудеев на христианство.
Стоит добавить, что Иосиф Флавий как историк был официально признан на высшем уровне: он получил одобрение самого Тита (Жизнь 360–365). Евсевий (Церк. ист 3.9.2) сообщает, что в Риме была воздвигнута ему статуя, а труды его помещены в официальные книгохранилища, то есть сохранялись и переписывались (публиковались) за государственный счет. Так что трудно себе представить, не имея тому однозначных доказательств, что во времена, предшествующие Оригену, кто-то стал бы их фальсифицировать. Контраст с литературной эволюцией новозаветных повествований здесь разителен.
Традиция предлагает нам несколько вариантов ключевой фразы Свидетельства. Епископ Агапий, живший в Х в., составил по-арабски Всемирную историю – пересказ Церковной истории Евсевия в сирийском переводе[1930]. Его версия Свидетельства звучит совсем по-другому. Помимо мелких изменений, в ней отсутствует ключевая фраза, однако после слов «явился им живой» добавлено «и потому, возможно, он был Мессией» (или «Христом» – по-сирийски и по-арабски здесь нет разницы). Можно предположить, что источник Агапия зависел от ранней, утраченной версии
Евсевиева текста, которую впоследствии отредактировали. Однако Евсевий, процитировав Свидетельство, затем восхваляет «историка, который, несмотря на свое иудейство, передает от начала, в своих собственных трудах, подобное о Спасителе нашем». Похвала эта лишена смысла в уклончивой версии Агапия, где автор просто приводит мнение христиан – иначе говоря, подтверждает очевидное. Следовательно, и предполагаемая ранняя версия Евсевия должна была иметь совершенно иной контекст. Добавим к этому то, что цитата из Евсевия у Агапия прошла через два перевода – и получим, что для наших целей это свидетельство почти бесполезно. Более того, у Агапия слово «Христос» имеет явно мессианское значение, какого оно не имело у Иосифа. В единственном, не считая Свидетельства, случае, когда он использует слово χριστὸν (И. Д. VIII, 5.2), значение его тривиально: речь идет о «крашеной» или «побеленной» стене. В значении «помазания» он использует слово ἀλείφειν.
Иероним (Знам. муж 13; PL 23:631) пишет et credebatur esse Christus, однако контекст показывает его зависимость от Евсевия (Церк. ист 1.11), сочетавшего выдержки из Иосифа и преданий, по-видимому, искаженные, взятые у Егесиппа. Кроме того, он также не является независимым свидетелем; однако слово Christus он здесь употребляет во вполне христианском значении.
В сущности, многие из тех, кто отвергает Свидетельство как сомнительное или пытается восстановить его изначальную форму, до «христианских» интерполяций, не только отвергают текстуальные авторитеты, но и исходят из предположения, будто слово Christus для Иосифа означало то же, что и для христиан. Однако здесь просто напрашиваются вопросы и возражения, поскольку из самого свидетельства Иосифа это далеко не очевидно.
Имя это появляется также в замечании об Иакове, во фразе «Иисус, именуемый Христом». Иосиф не пишет «признаваемый некоторыми Христом» – что могло бы означать не просто прозвище, но намек на некое высокое звание. Стоит отметить также, что в Свидетельстве это имя необходимо, поскольку именно оно устанавливает связь между Иисусом и его последователями, которых называют «христианами» – еще одно прозвание.
О происхождении этих прозвищ сообщают нам несколько свидетельств. Во-первых, само название χριστιανοί впервые появляется в Антиохии, в связи с Павлом и Варнавой. Согласно Деян 11:22–26, у антиохийских последователей Иисуса что-то произошло; Варнава отправился туда и «убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». Затем…
…Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей[1931], и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами.
Так выглядит эта история в западном тексте. Отвлекаясь от позднейших благовидных интерпретаций, мы видим здесь два факта. Во-первых, Варнава не смог удержать ситуацию под контролем и обратился за помощью к Павлу, как человеку более опытному. Во-вторых, название, принятое учениками – латинское по форме, не имеющее ничего общего с Иудеей. Следовательно, оно было придумано не самими учениками, а римскими властями, едва ли склонными к глубоким богословским прозрениям, однако весьма озабоченными сохранением порядка и спокойствия на подотчетной им территории. Иными словами, народные волнения (точнее, мессианские движения) представляли собой проблему для власти, и само слово «христиане» – название, данное властью бунтовщикам, негативный ярлык, близкий к обвинению в преступлении. Это напоминает нам о беспорядках impulsore Chresto, о которых писал Светоний.
Кратко описывая происшествие в Антиохии, можно сказать, что там смешались (или, быть может, были смешаны властями) две партии: ученики, проповедующие Иисуса как грядущего Мессию, и иудейские мессианские движения, с Иисусом не связанные. Возможно, волнения были связаны с решением Калигулы воздвигнуть свою статую в Иерусалимском храме. Позднее название christiani также оставалось связано с Павловым христианством, и также имело негативный, криминальный оттенок. Рассказывая о преследованиях в 64 году, Светоний прямо упоминает christiani и их новое пагубное суеверие, superstitio (Нерон 16). Тацит (Анн 15.44) сообщает о тех же событиях и поясняет, что основателем нового движения был Христос, казненный при прокураторе Понтии Пилате. Эти сведения, не упоминающие об Иисусе, не могут исходить из римских архивов ввиду анахронизма: титул прокуратор был присвоен римскому наместнику в Иудее лишь при Клавдии, после смерти Агриппы; Пилат же был префектом, как показывает надпись в Кесарии, открытая в 1961 году[1932]. Здесь не место подробно останавливаться на этих событиях, однако и этого краткого очерка достаточно, чтобы показать, что для Иосифа слово Christus могло значить не больше, чем для римской администрации: покойный основатель новой религии или superstitio.
Однако, в отличие от Тацита, Иосиф отождествляет Иисуса с Христом, то есть связывает то, что слышал о чудотворце в Иудее, с тем, что узнал в Риме. В сущности, в своей заметке он пересказывает другими словами «слово спасения», процитированное в Деян 13:26–31, в главе, где Павел появляется под своим римским именем. Так что Иосиф просто свидетельствует, пусть и довольно туманно, о вере римских христиан.
О деяниях самого Иисуса, помимо общих утверждений, Иосиф сообщает только, что Иисус основал школу или движение, в которое входят как иудеи, так и язычники и что это движение как-то связано с Библией. Разумеется, это чрезмерное упрощение; однако, на взгляд Иосифа, донос Пилату на Иисуса был вполне оправдан, поскольку такие движения потрясают или размывают границы иудаизма, а следовательно, разрушают иудейскую идентичность (см. выше, первый подраздел, «Очевидцы и христиане»).
Подведем итог: все сомнения относительно подлинности Свидетельства основаны на мнении, будто слово christianus, как и Христос или Мессия, с самого начала имело классическое христианское значение. Однако те, кто так думает, упускают из виду, что прозвание «Христос» не представляло проблемы для античного историка – проблема и для иудея, и для язычника была в другом: признать, что распятый Иисус является тем самым Мессией, которого предсказывает Писание. Об этом ясно говорит Павел: «Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие» (1 Кор 1:23).
Вот почему доверять Свидетельству можно – и стоит принимать его всерьез[1933].
Заключение
Теперь мы можем вернуться к замечаниям старославянского текста Войны о мудреце и чудотворце. Как и многие другие современные исследователи[1934], Хансак считает их все христологическими дополнениями. Основа этого суждения прямо связана с теорией двух источников для синоптических Евангелий: если считать наиболее надежным свидетельством Евангелие от Марка, то достаточно прочесть Мк 1:14: «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие [благовестие] Царствия Божия». Это понимается так, что Иисус, освобожденный наконец от наставничества Иоанна или постоянного сравнения с ним, начал проповедовать в Галилее истинное христианство, открытое для всех народов, а затем был казнен в Иудее, – лишь вследствие несчастного стечения обстоятельств и иудейской нетерпимости. При таких условиях всякий, кто упоминает Иисуса и его не бранит – уже христианин; следовательно, любой намек на евангельские события в писаниях Иосифа Флавия необходимо отвергнуть как сомнительный. Мы постарались показать, что эти условия, заданные либеральной теологией, не отвечают содержанию текстов, в особенности керигме Павла и взглядам древних христианских авторов. Из них мы видим: предположение, что Иисуса обожествили позднее, в результате влияния греческой культуры на христианство, не должно приниматься априори: оно как минимум спорно и нуждается в тщательном обсуждении. В заключение мы видим, что восприятие Свидетельства Иосифа очень сильно зависит от того, как мы воспринимаем само христианство. И наоборот, Свидетельство Иосифа помогает нам разглядеть зарождение Павлова христианства – необычной ветви на мощном иудейском древе Движения Иисуса.
Теперь, если мы рассмотрим старославянский текст Войны как перевод первой версии греческого текста Иосифа – возможно, с небольшими изменениями, – нам придется объяснить ту странную эволюцию, которую мы наблюдаем в его трудах. Мы видим в ней три стадии:
1. В старославянском тексте, имеющем ощутимый иудейский колорит, рассказ в целом короче и менее подтвержден документами, чем в греческом; однако имеются значимые отрывки об Ироде, Иоанне Крестителе, Иисусе и даже об Аврааме.
2. В стандартном греческом тексте Войны информации намного больше, однако все, даже отдаленно связанное с христианством, исчезает. Секретари Иосифа отшлифовали стиль, однако допустили несколько неточностей, связанных с топографией Иудеи и иудейскими обычаями.
3. В Иудейских древностях, которые Иосиф Флавий писал самостоятельно, в отрывках, параллельных повествованию Войны, он расширяет охват и добавляет дополнительные документы; кроме того, появляются замечания об Иисусе, Иоанне Крестителе и Иакове, названных по именам, однако характерных иудейских деталей в этих отрывках мало. Свое замечание об Иисусе Иосиф начинает той же фразой, что и в старославянском тексте Войны, из чего мы видим, что он ее не забыл. Эти замечания не упоминаются в «кратком содержании», приведенном в начале каждой книги, – в сущности, в предварительных набросках, сделанных до редактуры сочинения в целом[1935].
Наблюдения, приведенные выше, позволяют нам принять простую теорию этой эволюции. В 67 году, прибыв в Рим в качестве высокопоставленного пленника, Иосиф, возможно, слышал там о Christiani, однако от его социального кругозора они были далеки, – тем более что он был близок к семейству Флавиев. У него не было причин связывать христиан с движением иудейского чудотворца, – которое он, живя в Иудее, по всей видимости, не мог не заметить. Итак, мы можем выделить три фазы: первая – ретроспективное уважение к иудейскому чудотворцу и суровое осуждение его необдуманной казни и ее последствий. Этой стадии соответствует Война на арамейском языке, известная Маре бен Серапиону, которую Иосиф затем самостоятельно перевел на греческий и опубликовал. Затем, обнаружив (после 75 года), что движение Иисуса живо и процветает, и это – те самые «христиане», подозрительные личности, угрожающие иудейской идентичности, он понял, что сказал слишком много: он начинает изымать (возможно, поспешно) существующие списки Войны и «подчищать» их при помощи секретарей, которые и подготовили второе, исправленное и улучшенное издание, официальное одобренное властями. Наконец, ко времени составления Иудейских древностей при Домициане (ок. 93 г.) христианское движение приобрело в Риме некоторый социальный вес, так что не упоминать о нем было уже невозможно, – хотя Иосиф постарался говорить о нем сдержанно и не связывать его ни с какими современными ему иудейскими лагерями. Он умудрился даже поместить Иоанна Крестителя в книгу спустя несколько лет после смерти Иисуса.
Предположение о создании второй редакции Войны и поспешном изъятии первой позволяет объяснить несколько феноменов. Во-первых, мы понимаем, почему в памяти иудеев Иосиф остался предателем, – несмотря на то что его подчинение римлянам не слишком отличалось от подчинения Йоханана бен Заккая, основателя раввинистической традиции. С другой стороны, от авторов-христиан до нас доносятся слухи, что Иосиф писал нечто важное и был знаменит своей беспристрастностью. Так, Ориген в своей полемике с Цельсом пишет, что Иосиф исследовал причины падения Иерусалима и гибели Храма:
Он мог бы сказать, что причиною всех этих испытаний для народа стала попытка убийства Иисуса, ибо они обрекли на смерть Христа, предсказанного пророками. Однако, сам того не желая, он недалек от истины, когда говорит, что все эти бедствия обрушились на иудеев в возмездие за убийство Иакова Праведного, брата Иисуса, прозванного Христом, ибо они убили его, несмотря на его явную праведность (Цельс 1.47).
Этот отрывок, в котором Ориген сочетает Иосифа и Егесиппа, показывает: Ориген знал, что Иосиф писал об этом предмете, однако не мог найти и процитировать соответствующее место из книги. Так и Евсевий связывает начало иудейских бедствий со смертью Иисуса, ссылаясь на Иосифа – но не приводит точных цитат.
Иисус в Коране и других раннеисламских текстах
Сулейман Мурад
Коран и исламская традиция проявляют особое отношение к Иисусу, ставя его выше всех прочих людей, не считая пророка Мухаммеда. Понять это помогает не столько обилие, сколько тон и стиль упоминаний об Иисусе в Коране и исламских преданиях. Отставив в сторону проблему составления Корана, можно сказать: основная причина, по которой Иисус так важен для движения Мухаммеда[1936] – в том, что он, согласно Корану, предсказал появление арабского пророка:
А вот Иисус сын Марии сказал: «О сыны Израиля! Я послан к вам Аллахом… чтобы сообщить благую весть о Посланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад» (Коран, 61.6)[1937].
Неудивительно, что мусульманские ученые начали искать «упоминания» о Мухаммеде в текстах иудейских и христианских писаний. Самый известный пример – проповедь Иисуса в Ин 15:23–16:1, цитируемая Ибн Исхаком (ум. 767), автором самой авторитетной биографии («Сиры») Мухаммеда:
Ненавидящий меня ненавидит и Господа. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто иной не делал, то не имели бы греха; но стали они порочны и думали, что смогут одолеть и меня, и Господа. Но да сбудется слово, написанное в Законе (аль-намус): «Возненавидели меня напрасно». Когда же придет Мунахеммана, которого Бог пошлет вам от Господа, Дух Святой, который от Господа исходит, он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились[1938].
Это пророчество о явлении Утешителя. Ибн Исхак объясняет, что Мунахеммана — сирийское слово, означающее «Мухаммед», то же, что по-гречески «Утешитель» (παράκλητος, параклет); следовательно, Утешитель – это Мухаммед. Текст взят из сирийской версии Евангелия от Иоанна, находящейся в так называемом «Палестино-сирийском лекционарии»[1939]. Разночтения с источником очень невелики и связаны с тем, что у Иоанна Иисус называет Бога «Отец мой», а в версии Ибн Исхака – «Господь» (ар-Рабб)[1940].
Пророчество о пришествии Мухаммеда – важная, но не единственная причина, по которой мусульмане интересовались Иисусом. Другие темы – его эсхатологическая роль, обращение к нему за одобрением некоторых мусульманских верований и практик, а также использование его фигуры в мусульманско-христианской полемике. В дальнейшем я исследую представления об Иисусе в Коране и исламской традиции, показывая, какие стороны его жизненного пути особенно интересовали мусульман, а также поговорю о религиозных/богословских проблемах, связанных с его фигурой и волновавших как Мухаммеда и его последователей, так и позднейших христиан.
Коранический Иисус
Несколько упоминаний об Иисусе в Коране ясно показывают, что в глазах Мухаммеда и его ближайших последователей Иисус занимал особое место. Будучи одним из важнейших вестников Божьих, Иисус описывается в Коране как «слово/логос (калима) от Бога» (Коран 3.45; 4.171), укрепленный духом святым (рух аль-кудус) (2.87, 253; 5.110). Кроме того, его самого называют духом (рух) от Бога (4.171). Однако при всей возвышенности и значительности таких именований ошибочно было бы понимать их в духе христианского богословия: для христиан столь богословски веские выражения – особенно именование Иисуса Логосом и Святым Духом – свидетельствуют или подтверждают его божественность; однако именно это Коран полностью и категорически отвергает. Не раз Коран предостерегает против тех, кто называет Иисуса Сыном Божьим (4.171; 9.30; 19.35), Богом (5.17, 72), или предлагает поклоняться ему наряду с Богом (5.116; 9.31).
Будучи всего лишь человеком (4.172; 5.75) – хотя и во многом уникальным, даже среди пророков (2.253), – Иисус в Коране часто именуется «Иисусом, сыном Марии». В этом отношении текст подтверждает непорочное зачатие Иисуса; иначе говоря, человеческого отца у Иисуса не было. Интересно, однако, что Коран предлагает два варианта сюжета о благовещении:
Версия А: Мы же послали к ней [Марии] Нашего духа, и он предстал перед ней в образе прекрасно сложенного человека. Она сказала: «Я прибегаю к Милостивому, чтобы Он защитил меня от тебя, если ты богобоязнен». Он сказал: «Воистину, я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе чистого мальчика». Она сказала: «Как у меня может быть мальчик, если меня не касался мужчина, и я не была блудницей?» Он сказал: «Вот так! Господь твой сказал: Это для Меня легко. Мы сделаем его знамением для людей и милостью от Нас. Это уже решено» (19.17–21).
Версия Б: Вот сказали ангелы: «О Мария! Воистину, Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя которому – Мессия Иисус, сын Марии. Он будет почитаем в этом мире и в Последней жизни и будет одним из приближенных. Он будет разговаривать с людьми в колыбели и взрослыми, и станет одним из праведников». Она сказала: «Господи! Как могу я иметь сына, если меня не касался ни один мужчина?» Он сказал: «Так Аллах творит, что пожелает. Когда Он принимает решение, то Ему стоит лишь сказать: «Будь!» – как это сбывается. Он научит его Писанию и мудрости, Торе и Евангелию. Он сделает его посланником к сынам Израиля (3.45–49).
В версии А «дух» от Бога объявляет Марии, что она зачнет сына; этот рассказ параллелен тому, что мы находим в Лк 1:26–35. (Интересно, что в обоих текстах рассказ о благой вести о рождении Иисуса предваряется рассказом о благовещении и рождении Иоанна Крестителя.) В версии Б ангел говорит Марии, что она зачнет слово Божье: этот рассказ параллелен апокрифическому Протоевангелию Иакова 11:1–3. (Интересно, что и здесь в обоих случаях рассказ о благовещении Марии – о рождении Иисуса – предварен повествованием о другой благой вести: о рождении самой Марии – и о ее последующем воспитании при Храме[1941].) К этим двум историям о благовещении можно добавить еще два упоминания в Коране о том, что Бог вдохнул духа своего во чрево Марии, отчего она и зачала Иисуса:
Помяни также ту, которая сохранила свое целомудрие [Марию]. Мы вдохнули в нее посредством нашего духа и сделали ее и ее сына знамением для миров (Коран 21.91; 66.12).
Необязательно делать вывод, будто в этих четырех случаях отражается несогласие редакторов Корана друг с другом относительно обстоятельств зачатия Иисуса и того, кто за это «в ответе». Язык Корана здесь подобен библейскому – как, например, в рассказе о жертвоприношении Исаака в Быт 22, где понятия «Бог» и «ангел Божий» взаимно заменяют друг друга. Во всяком случае, рассказ о благовещении в Коране представляет зачатие Иисуса как нечто однозначно сверхъестественное, даже уникальное.
Упоминает Коран и о чудесах, совершенных Иисусом, например о том, что он заговорил еще в колыбели (3.46; 5.110) – о чем говорится также в апокрифическом (Арабском) Евангелии детства Спасителя 1; создал из глины живую птицу (Коран 3.49; 5.110) – о чем говорится также в апокрифическом Евангелии детства Фомы 2:1–5; воскрешал людей из мертвых (Коран 3.49; 5.110) – с чем мы встречаемся и в евангельских рассказах, – скажем, в историях о воскрешении дочери Иаира (Мк 5:21–43) и Лазаря (Ин 11:1–44).
Однако из всего коранического материала больше всего вопросов вызывает рассказ о распятии и смерти Иисуса в 4.157–158:
И сказали: «Воистину, мы убили Мессию Иисуса, сына Марии, посланника Аллаха». Однако они не убили его и не распяли, а это только показалось им (шуббиха лахум). Те, которые препираются по этому поводу, пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом, а лишь следуют предположениям. Они действительно не убивали его. О нет! Это Аллах вознес его к Себе.
Эти два стиха часто цитируются, особенно учеными, ведущими межрелигиозную полемику, в доказательство того, что Коран отрицает распятие и смерть Иисуса[1942]. Примеры из исламской традиции демонстрируют, что, хотя мусульманские ученые решительно отвергали распятие, относительно реальности смерти Иисуса их мнения резко разделились. Несколько авторитетных раннемусульманских экзегетов (например Ибн Аббас и Вахб ибн Мунаббих) принимали смерть и воскресение Иисуса, и благодаря им эта точка зрения пользуется большим авторитетом и по сей день[1943]. Кроме того, существует малоизвестная легенда о спутнике Мухаммеда, видевшем гробницу Иисуса на горе, называемой аль-Джамма, к югу от Медины; эта легенда относит земную смерть Иисуса ко времени, когда Западная Аравия принадлежала персам (т. е. к IV в. до н. э.), поскольку, как указывается в ней, надписи на гробнице Иисуса были сделаны на древнеперсидском[1944].
Что касается отрицания распятия в Коране[1945] – на двусмысленность его ясно указывает то, что сам Коран говорит о неопределенности относительно «реальности» смерти Иисуса:
Это только показалось им (шуббиха лахум). Те, которые препираются по этому поводу, пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом, а лишь следуют предположениям. Они действительно не убивали его. О нет! Это Аллах вознес его к Себе. (Коран 4.157–158).
Выражение шуббиха лахум означает, что нечто выглядело определенным образом, однако эта видимость не была реальностью. Это не обязательно значит, что некто сознательно создал такую обманчивую «видимость», хотя обычно это так и толкуют, особенно учитывая, что производные от того же корня shbh Коран (например, 3.7) использует для указания на замешательство и двусмысленность. Итак, по существу Коран отрицает, что распятие Иисуса привело к его смерти. Но почему же, согласно Корану, смерть Иисуса не была реальной? Потому что Аллах воскресил его, «аннулировав» его смерть. Упоминания о распятии в Коране (например, 5.33) указывают именно на смерть через распятие, т. е. не только на само действие, но и на его последствия. Если распятие не привело к смерти, значит, оно не было распятием. Схожая мысль встречается в Коране 3.169: «Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа». Этот стих никак невозможно понять в том смысле, что убитые на пути Аллаха не умерли. Они, несомненно, умерли. Однако, поскольку Аллах воскресил их, о них нельзя более говорить как о мертвых. Очевидно, Коран предостерегает здесь от суждений на основе внешних впечатлений, которые могут быть совершенно обманчивы: в случае 4.157–158 говорить, что Иисус мертв – заблуждение, ибо он был воскрешен из мертвых и жив на небесах.
Более того, строки Корана 4.157–158 не направлены против христианства или христиан. Мне не известна ни одна христианская группа, которая считала бы себя «убийцами Иисуса». Текст явно обращен к некоей израильской/иудейской группировке, похвалявшейся убийством Иисуса; нам неизвестно, звучала ли такая похвальба со стороны неких иудеев на самом деле или же это риторическое утверждение. В таком свете еще более вероятно то, что Коран не отрицает распятие как историческое событие, но скорее отражает борьбу Мухаммеда и его последователей с богословским выводом из распятия, предполагающим, будто Аллах не может защитить своих пророков. Такой вывод мог бы иметь драматические последствия и для веры в обетования Аллаха, и для успеха Мухаммеда и его движения. Учитывая такой контекст, не имеет смысла говорить, будто Коран принимает докетическое богословие, как пишут об этом современные ученые[1946]; докетические взгляды основаны на предпосылке, согласно которой Иисус не был человеком, – а коранический Иисус, несомненно, человек.
В заключение стоит добавить, что 4.157–158 необходимо понимать с учетом контекста. Одна из принципиальных тем, поднятых в предыдущих стихах, непосредственно связанных с этими – кораническое обвинение в 4.155 израильтян/иудеев в том, что они «нарушили свой завет» и «несправедливо убивали пророков». Если Иисус не умер на кресте, то это кораническое обвинение, представленное как одно из прегрешений против Бога, совершенных израильтянами/иудеями, лишается смысла, особенно если учесть, что смерть Иисуса – единственный пример, следующий за обвинением в убийстве пророков Божьих.
Итак, я предполагаю, что 4.157–158 следует читать не как прямое отрицание христианской веры в распятие и смерть Иисуса, но, скорее, как попытку Мухаммеда и его последователей разрешить спорный богословский вопрос. Это становится очевидным, если мы взглянем на два других примера из Корана, в которых смерть Иисуса, по-видимому, подтверждается:
Вот сказал Аллах: «О Иисус! Я упокою тебя (мутаваффик) и вознесу тебя к Себе. Я очищу тебя от тех, кто не уверовал» (3.55)[1947].
Мир мне [говорит Иисус] в тот день, когда я родился, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни (19.33)[1948].
По всей видимости, Коран утверждает и эсхатологическую роль, которую будет играть Иисус в конце времен. Коран говорит об Иисусе как о знамении «Часа»: «Воистину он [Иисус] является признаком Часа. Ничуть не сомневайтесь в нем» (43.61). Однако, помимо этого краткого упоминания, Коран не останавливается на подробностях Второго Пришествия Иисуса и его эсхатологической роли. Однако эта сторона пути Иисуса подробно освещена в исламской литературе – и можно сказать, что в ней отражается настойчивое стремление мусульман прочно связать Иисуса со своей религией, о котором мы поговорим далее.
Иисус исламской традиции
Не приходится сомневаться, что именно Коран определил очертания «исламского» Иисуса и того, что думают о нем мусульмане. В контексте формирования и развития собственной исламской идентичности мусульманские ученые цитировали и комментировали материалы об Иисусе, найденные в Коране. Однако коранического материала явно недостаточно: его информация о жизни Иисуса, его деятельности и учении скудна и разрозненна. Чтобы расширить свое понимание, мусульманам пришлось обратиться к христианским источникам, прежде всего к Евангелиям, обретя к ним доступ благодаря прямому копированию или устной передаче. Однако многие легенды об Иисусе и его речения, которые мы находим в исламской литературе, не имеют себе христианских параллелей и происходят, по всей видимости, из богатой ближневосточной традиции «премудрости»: мусульманские ученые или их информанты попросту приписывали их Иисусу[1949].
Одна из сторон жизни и деятельности Иисуса, которой в этих материалах уделяется большое внимание – аскетизм, как видно из следующего примера:
Иисус, сын Марии, ел ячмень, ходил пешком и никогда не ездил на ослах. Он не жил в домах и не зажигал светильников. Не одевался он в одежду из хлопка, не прикасался к женщинам, не пользовался благовониями. Никогда ни с чем не смешивал свое питье и не охлаждал его. Не смазывал свое тело маслом, не мыл волосы и бороду. Никогда не покрывал он свое тело одеждой более чем в один слой ткани. Не заботился о том, чем обедать или чем ужинать, и далек был от всех желаний мира сего. Спутниками его были слабые, бедные и больные. Если предлагали ему еду, он ставил ее наземь, и никогда не вкушал мяса. Ел он очень мало, говоря: «И это слишком много для того, кому предстоит умереть и дать ответ за свои дела»[1950].
Этот пример показывает нам, что мусульманские авторы, особенно те, кто считал благочестие и отказ от мирских удовольствий важнейшими компонентами праведной исламской жизни, изображали Иисуса строгим аскетом. Таким образом, в раннем исламе Иисус стал образцом (возможно, даже основным образцом) аскетизма и мистицизма. Особенно характерно это для раннего периода, до того, как позднейшие мистики дали биографии Мухаммеда новую интерпретацию, перетолковав отдельные эпизоды его жизни в аскетическом и мистическом ключе. Среди других примеров аскетизма Иисуса в исламской литературе можно вспомнить такие речения:
Сказал Иисус: «Нет большего греха, чем любовь к миру сему. Женщины – узы Сатаны. Вино – ключ ко всякому злу»[1951].
Сказал Мессия: «Смотри, как ничтожен мир сей для Бога: только в мире сем возможно непослушание Ему, и только презрением мира сего можно стяжать от Него награду»[1952].
Сказал Иисус: «Собирайте сокровища свои на небесах, ибо сердце человека – там, где сокровище его»[1953].
Иисус проходил мимо человека, едящего мясо. Сказал он: «Что за отвратительное зрелище – плоть пожирает плоть!»[1954].
В этих легендах отречение от мира, как и от всех удовольствий и удобств, с ним связанных, представляется необходимым для спасения. Кроме того, Иисус в них предстает выразителем и защитником исламского аскетизма и образцом аскета.
Далее, исламская традиция подробно останавливается на «втором этапе» жизненного пути Иисуса, а именно на подробностях его Второго Пришествия перед Судным днем, когда он поразит антихриста и обеспечит окончательную победу ислама над всеми иными религиями. В исламской науке известен спор о личности этой эсхатологической фигуры и о том, будет ли Мессия один (Иисус) или явятся двое (Иисус и некто иной, называемый Махди). Например, передают, что пророк Мухаммед говорил об этом так:
Когда явится антихрист (аль-Даджжаль) – левый глаз его будет поврежден и покрыт большой опухолью – он будет исцелять слепых и прокаженных и воскрешать мертвых. И скажет он людям: «Я ваш бог». Те, кто признают его богом, обречены; но те, кто скажут, что лишь Бог единый – их бог, и умрут за свою веру, будут спасены от кары, назначенной антихристу, и от (посмертного) суда. Антихрист будет править миром, пока Иисус, сын Марии, не явится на западе, подтверждая пророчества Мухаммеда и веря в учение его. Он поразит антихриста, и тогда настанет судный час[1955].
В других сообщениях уточняется, что Иисус убьет антихриста у врат Лудда в Иерусалиме[1956]. Можно точно сказать, что этот эсхатологический материал отчасти исходит из стиха Корана 43.61, приведенного выше. Однако в нем отражаются и христианские представления о Втором Пришествии Иисуса, которые мусульманские ученые заимствовали и серьезно редактировали, наполняя их исламскими концепциями. Так, Иисус у них подтверждает пророчества Мухаммеда и верит в его учение; иначе говоря, при своем возвращении он станет последователем Мухаммедова ислама, а не того расплывчатого «ислама», который состоит лишь в покорности Богу.
Третья важная черта Иисуса в исламской традиции – его вовлеченность во внутримусульманскую полемику. На протяжении менее чем ста лет три гражданские войны между мусульманами раскололи мир ислама на разные лагеря, дали начало религиозным сектам и спорам, навеки изменившим суть религии Мухаммеда. Один из древнейших споров связан был с вопросом о свободе человеческой воли: есть ли у людей свободная воля и до какой степени, или же они обречены идти по пути, предназначенному для них Богом? В этот спор Иисус был вовлечен благодаря речениям, приписанным ему мусульманскими учеными[1957], – например, такой его проповеди к ученикам: «Не видите ли вы, как Бог… не отказывает людям в милосердии из-за грехов их, но призывает их к покаянию, дабы спасти их и допустить на небеса?»[1958]. Это речение необходимо читать в связи со спором о предопределении и свободе воли, начатым мусульманскими учеными в конце VII в. н. э. Иисус здесь превращается в защитника свободы воли: ответственность за человеческие грехи он возлагает на людей и подчеркивает необходимость действенного покаяния для того, чтобы получить спасение от Бога.
Другие речения и легенды использовались для привлечения Иисуса как авторитета в вопросе о том, может ли мусульманин судить других мусульман за веру или политическую деятельность:
Сказал Иисус: «Не исследуйте грехи людей так, словно вы их господа – судите о грехах людей так, словно вы их слуги»[1959].
Сказал Иисус: «Цари оставили вам премудрость – а вы оставьте им мир»[1960].
Открылось Иисусу: «Проклята страна, которой правят юнцы»[1961].
Очевидно, большая часть этих и подобных речений направлена против участия в мирских и политических делах; хотя последний пример, по-видимому, защищает позицию противников наследственного правления, при котором халифом порой оказывался ребенок. Эти речения свидетельствуют также о том, что во внутримусульманской полемике авторитет Иисуса использовался для защиты различных лагерей и в уста ему вкладывали отражение разных точек зрения; схожий феномен наблюдается в литературе хадисов, где участником внутримусульманской полемики становится сам Мухаммед.
Заключение
Для того чтобы лучше понять, как Иисус представлен в Коране, необходимо, на мой взгляд, рассматривать его отдельно от «исламского Иисуса» или Иисуса мусульманской традиции. (Разница здесь примерно такая же, как между Движением Иисуса и христианством.) Слово «ислам» влечет за собой множество понятий и явлений, которых во времена Мухаммеда и его движения попросту не было. Таким образом, группа, создавшая коранического Иисуса, и цели, с которыми создавали этот образ, не были идентичны группам и целям, создавшим исламского Иисуса, хотя у них, безусловно, есть общие элементы. Исламский Иисус «взят» в основном из канонических Евангелий, а также других христианских и ближневосточных источников. В определении богословских очертаний исламского Иисуса Коран играет значительную роль, однако почти не касается деталей, оставляя позднейшим ученым право черпать их из других источников, – эта ситуация отражает отношение ученых-мусульман к христианскому материалу в целом (по большей части получаемому от христиан, обращенных в ислам в Ираке, Сирии и Египте). Основная общая тема у коранического и исламского Иисуса – значимость пророческой деятельности Иисуса (прежде всего его пророчеств о пришествии Мухаммеда), его чудесное рождество, Второе Пришествие – но не Страсти. На мой взгляд, в Коране вопрос о Страстях остается туманным: движение Мухаммеда не смогло сформулировать по нему четкой позиции, особенно если учесть, что Коран, рассказывая о библейских пророках, неизменно подчеркивает, что Аллах всегда приходит на выручку своим посланникам. Позднейшие мусульманские ученые в контексте полемики против христианства и христиан имели время поразмыслить над проблемой смерти Иисуса и выработать по этому поводу различные позиции[1962].
Для Корана важнейший эпизод в жизни Иисуса – его пророчество о пришествии Мухаммеда (на основе этого мусульманские ученые поздних времен разработали теорию о том, что христианство призвано заполнить разрыв между иудаизмом и исламом). Озабоченное доктриной строгого единобожия, движение Мухаммеда не могло принять или даже терпеть мысль об Иисусе как существе божественном. Чтобы принять Иисуса, а впоследствии и обратить себе на пользу, его следовало «обезбожить». Таким образом, описание Иисуса в Коране – это не свидетельство против христианства и не указание на некие христианские заблуждения или ереси, якобы сформировавшие позицию Мухаммеда и его ранних последователей. Скорее, речь шла о настоятельной богословской необходимости в «легитимации» притязаний движения Мухаммеда – то есть в объяснении того, зачем Бог послал еще одного пророка и еще одну благую весть. Обращение к образу Иисуса в полемике против христианства и христиан относится, на мой взгляд, к посткораническому периоду, когда мусульмане превратили Иисуса в обличителя его собственных исторических последователей, стремясь отмести некоторые христианские обвинения и доказать превосходство ислама. В этом контексте описание Иисуса в Коране стало основным оружием мусульман в антихристианской полемике[1963].
Исламский Иисус проявляет и некоторые черты, характерные для внутреннего развития определенных исламских верований и практик. Он стал образцом аскетизма, был вовлечен во внутримусульманские дискуссии, обрел заметную эсхатологическую роль – и остался в исламской традиции актуальной фигурой, в отличие от остальных библейских пророков, которые, несмотря на значимость их личностей для ислама, ушли в прошлое.
Раздел 6
Жизнь и учение Иисуса
Влияние Иоанна Крестителя на Иисуса: методологические размышления
Роберт Уэбб
На первый взгляд связь Иисуса и Иоанна Крестителя (далее в этой главе мы будем именовать его для краткости просто «Иоанном»), быть может, не кажется особенно важной в исследованиях исторического Иисуса. Как гласит Марк (Мк 1:4–15), Иоанн появляется в пустыне, проповедуя крещение покаяния; крестив Иисуса, он быстро уходит со сцены, а Иисус начинает проповедовать Царство Божье. Однако, как мы увидим, эта связь позволяет нам понять нечто важное об Иисусе, в частности – представить ранние, «основополагающие» события и идеи, придавшие облик его дальнейшему служению. Часто, пытаясь воссоздать эту связь, говорят о сходстве и различиях, о том, что Иоанн мог влиять на Иисуса. Впрочем, реконструкция необходима здесь не только для решения вопросов о сходстве и влиянии: проблема сложнее, она требует от нас «найти и воссоздать исторического Иоанна», – и от того, как мы сумеем это сделать, зависит и то, как мы оценим сходство Иоанна с историческим Иисусом или влияние на него.
Мы поговорим о трех темах, и это:
• данные и методы, к которым мы обращаемся при исследовании Иоанна Крестителя и его отношений с Иисусом;
• различные результаты этих исследований;
• размышления о том, как исследование этой связи и влияния Иоанна может помочь нам в изучении исторического Иисуса.
1. Иисус и Иоанн: наши данные и методы
В поиске исторического Иоанна и его возможного влияния на Иисуса (как и самой их связи) можно выделить два основных типа данных: литературные и нелитературные.
1.1. Иоанн Креститель: что говорит литература?
Литературные данные, важные в исследовании того, как Иоанн повлиял на Иисуса, относятся к двум видам: это тексты, где Иоанн упомянут прямо – и тексты, связанные с ним косвенно. Первые можно разбить на три категории, в зависимости от того, как именно они повествуют об указанной связи: а) тексты говорят об Иоанне, но не о его отношениях с Иисусом; б) тексты говорят об отношениях, а Иоанн играет активную роль (например, крестит Иисуса); и: в) Иисус или кто-либо еще играет активную роль по отношению к Иоанну (например, объясняет что-либо о нем). Большинство этих упоминаний содержатся в четырех канонических Евангелиях; однако в нашем распоряжении и много других источников из первых двух веков нашей эры, в том числе другие раннехристианские Евангелия и Иудейские древности Иосифа Флавия. Чуть ниже, в таблице, мы распределим их по нашим трем категориям.
В таблице 1 представлены тексты, в которых Иоанн упоминается вне связи с Иисусом; однако в большинстве текстов, говорящих об Иоанне, такая связь так или иначе прослеживается[1964]. Их, в свою очередь, можно разделить на две категории: те, в которых активно действует Иоанн, и те, в которых активно действует Иисус. В текстах третьей категории об Иоанне говорят либо сам Иисус, либо кто-то из раннехристианского движения.
Таблица 1: Упоминания об Иоанне без связи с Иисусом


ИК = Иоанн Креститель, И = Иисус; скобки указывают, что текст содержит непрямое упоминание или ссылку или что его связь с Иоанном оспаривается.
а. Сообщения об аресте и казни Иоанна (синоптики, Иосиф Флавий) приведены в параллельных ячейках, поскольку все эти источники повествуют об одних и тех же событиях, и не значит, будто какой-то из них стал основой для другого.
b. Ссылки на Евангелие Речений Q я, следуя установившейся традиции, привожу в соответствии с Евангелием от Луки. Это, однако, не означает, что версия Луки чем-то предпочтительнее прочих.
c. К сожалению, в двух наиболее широко известных переводах Евангелия эбионитов используются разные системы нумерации текста. James K. Elliott (The Apocryphal New Testament: A Collection of Apocryphal Christian Literature in an English Translation [Oxford: Oxford University Press, 1993], с. 14–16) нумерует фрагменты в том порядке, в котором они идут в Панарионе Епифания, в то время как Вильгельм Шнеемельхер [Wilhelm Schneemelcher (New Testament Apocrypha, vol. 1: Gospels and Related Writings [trans. ed. R. McL. Wilson; rev. ed.; Louisville: Westminster John Knox, 1991], с. 166–171)] – в том логическом и сюжетном порядке, в котором они, скорее всего, располагались в самом Евангелии эбионитов. На мой взгляд, система Шнеемельхера предпочтительнее, так что я следую ей. Итак, § 1–7 [Шнеемельхер] у Эллиота идут в следующем порядке: § 4, 3, 5, 2, 6, 7, 8. Далее Эллиот приводит один дополнительный фрагмент (§ 1), который описывает эбионитов, однако цитат из самого Евангелия эбионитов не содержит. В более раннем переводе Монтегю Родса Джеймса нумерации фрагментов нет вообще, – он просто приводит их в том же порядке, в каком они содержатся в Панарионе Епифания: Montague Rhodes James, The Apocryphal New Testament: Being the Apocryphal Gospels, Acts, Epistles, and Apocalypses with Other Narratives and Fragments (rev. ed.; Oxford: Clarendon, 1953), с. 8–10.
Таблица 2: Упоминания Иоанна в связи с Иисусом


ИК = Иоанн Креститель, И = Иисус; упоминание в скобках указывает, что текст содержит непрямое упоминание или ссылку или что его связь с Иоанном оспаривается.
а. Непросто было решить, помещать ли данный материал в эту таблицу или в предыдущую, где указаны предания, не связанные с Иисусом. Однако с учетом того, как переплетены рассказы о рождении Иоанна и Иисуса как у Луки (Лк 1–2), так и в Протоевангелии Иакова, я решил внести их сюда.
b. О том, повествует ли Q о том, что Иоанн крестил Иисуса, ведутся споры. Сигла в Критическом издании Q указывает, что такую вероятность издатели оценивают как {C}: см. James M. Robinson et al., The Critical Edition of Q (Hermeneia; Minneapolis: Fortress, 2000), с. 18–22; см. с. lxxxii. На мой взгляд, присутствие этого рассказа в Q весьма вероятно; аргументы я привожу в ст.: “Jesus’ Baptism: Its Historicity and Implications,” BBR 10 (2000): 263–266. См. также недавнее рассуждение об этом в ст.: Frans Neirynck, “The Reconstruction of Q and IQP/CritEd Parallels,” в кн.: The Sayings Source Q and the Historical Jesus (ed. A. Lindemann; BETL 158; Leuven: Leuven University Press, 2001), с. 78–82.
Таблица 3: Упоминания Иисуса и Древней Церкви в связи с Иоанном

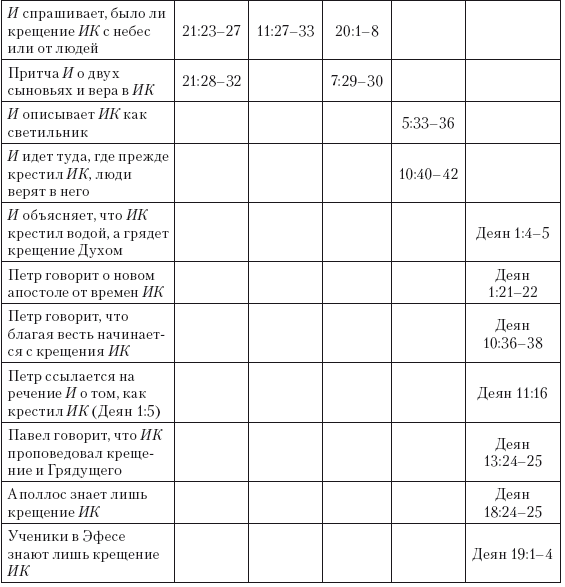
ИК = Иоанн Креститель, И = Иисус; упоминание в скобках указывает, что текст содержит непрямое упоминание или ссылку или что его связь с Иоанном оспаривается.
а. Джон Робинсон полагает, что «другие» в Ин 4:38 – это намек на служение Иоанна, отсылка к Ин 3:23: см.: “The ‘Others’ of John 4.38,” в кн.: Twelve New Testament Studies (London; SCM, 1962), с. 61–66. Некоторые комментаторы с ним согласны, например: Raymond E. Brown, The Gospel According to John (2 vols.; AB 29; Garden City, N.Y.: Doubleday, 1966–1970), 1:183–184.
b. Не вполне очевидно, в какую таблицу внести этот текст. В других текстах, отсылки к которым даны в таблице, об Иоанне говорят или сам Иисус, или его первые последователи, а в данном отрывке Иисуса и Иоанна связывает Ирод Антипа. Однако мы поместили этот текст сюда ввиду его схожести с остальными.
Это основные литературные источники наших сведений, прямо связанных с исследованием исторического Иоанна и его отношения к Иисусу. Иоанн упомянут здесь либо сам по себе, либо в связи с Иисусом. Однако существует и широкий корпус литературных источников, указывающих на Иоанна и эту связь косвенно. В них представлена обстановка, что помогает оценить историчность преданий, оценив их значение для воссоздания облика исторического Иоанна и оценки его отношений с Иисусом. В число этих текстов, дающих нам сведения об окружении для воссоздания исторического Иисуса, входят Еврейская Библия, еврейские тексты эпохи Второго Храма, скажем, кумранская литература и псевдэпиграфы, труды Иосифа Флавия и Филона, поздняя раввинистическая литература (с которой следует проявлять осторожность[1965]), а также большой корпус греко-римской литературы древнего Средиземноморья[1966].
1.2. Иоанн Креститель: нелитературные данные
Нелитературные данные – это прежде всего артефакты и материалы, найденные при археологических раскопках, а также географические и подобные сведения[1967]. До недавнего времени у нас не было археологических открытий, прямо касающихся Иоанна. Однако в 2004 году вышла книга Шимона Гибсона «Пещера Иоанна Крестителя»[1968]. Пещера, открытая в 1999 г. и раскопанная Гибсоном и Тейбором в 2000–2003 гг., расположена близ Субы у Эйн-Керема (ок. 5 км к западу от Иерусалима). Ее вырубили в скале где-то в VIII в. до н. э. для хранения воды. Она длинная и узкая (ок. 24 × 4 м), и ее пол отлого спускается от входа, так что вода стекает к дальнему концу. Учитывая расположение пещеры, Гибсон предполагает, что воду в ней собирали не для питья или орошения, а для ритуальных омовений. На какое-то время пещеру забросили, однако в I–II вв. н. э. она вновь служила для культовых нужд. Свидетельством этого, помимо прочего, становится обилие разбитой (возможно, намеренно) посуды и разнообразные «граффити» на стенах, в том числе мужская фигура (75 см); мужчина одет в шкуру и опирается на посох (в интерпретации Гибсона). В пещере есть каменные бассейны, а также необычный камень, на котором вырезаны отпечаток правой ноги и борозда от этого отпечатка до углубления. Гибсон и Тейбор предполагают, что на стене изображен Иоанн Креститель[1969]; это поддерживается близостью пещеры к Эйн-Керему, который позднейшие христианские предания называют местом рождения Иоанна Крестителя. Свидетельства, найденные в пещере, Гибсон и Тейбор объясняют так:
Размер пещеры и необычная обстановка в ней заставляют нас предположить, что в передней части пещеры проводились групповые ритуалы – по всей видимости, до и после некоего обряда, связанного, скорее всего, с погружением в воду. Насколько можно понять, люди собирались в передней части пещеры, где проводилась некая групповая церемония, во время которой они стояли внутри каменных кругов и использовали керамические сосуды – возможно, поливали друг друга водой, а затем ритуально разбивали сосуды о камень. Затем собравшиеся погружались в естественный водный бассейн в задней части пещеры. По выходе из воды им помазывали правую ногу[1970].
Кроме того, они предполагают, что позже византийские монахи «приходили в пещеру, чтобы почтить память Иоанна Крестителя и разделить его одиночество в пустыне (Лк 1:80)». Эту пещеру они выбрали «благодаря некоему устному преданию, связанному с этой пещерой и восходившему ко временам Рима, – преданию, по-видимому, подтвержденному нашими археологическими свидетельствами, говорящими о том, что именно во времена Иоанна Крестителя в этой пещере проводились необычные ритуалы, связанные с водой»[1971]. Гибсон заходит несколько дальше:
Несомненно, в этих действиях отражались верования определенной группы иудеев с уникальными воззрениями на очищение в воде. Скорее всего, эту пещеру использовал Иоанн Креститель в дни своего пребывания в пустыне, из-за ее близости к его родному Эйн-Керему; также очевидно, что в I столетии здесь бывали его последователи или какая-то иная группа иудеев, совершавших крещение[1972].
Проблема в том, что эти уверения – уже за гранью имеющихся свидетельств. Археолог Джеймс Стрэндж в своем обзоре, отзываясь о книге в целом одобрительно, замечает: «Впрочем, аргумент, связывающий пещеру Суба с Иоанном Крестителем, основан на косвенных свидетельствах и спорен»[1973]. Я не эксперт, но вот моя оценка: возможно, на стене нарисован Иоанн, и возможно, что в какую-то эпоху в пещере совершались ритуалы[1974]. Однако прямая связь пещеры с историческим Иоанном – это спекулятивной утверждение, выходящее далеко за пределы свидетельств[1975]. И как бы ни хотелось нам обнаружить нелитературные находки, прямо связанные с Иоанном (или с любым другим персонажем древней истории из тех, о которых мы говорим), пока что это желание не исполнилось. Однако вполне возможно, что эта пещера предлагает нам косвенные свидетельства – иными словами, контекстуальные данные о том, как в культе очищались от грехов при помощи воды.
Другие нелитературные данные косвенны (впрочем, то же, как выяснилось, можно сказать и о пещере Субы). Они не сообщают нам о самом Иоанне, однако дают контекст, благодаря которому нам легче о нем узнать. Например, понимание географии Иудеи и Переи, в особенности той «пустыни», о которой в связи со служением Иоанна говорит Новый Завет (Мк 1:4), помогает лучше представить и оценить реальность, окружавшую Иоанна. Пример – относительная близость иорданских бродов к Хирбет-Кумрану, или глубина Иордана и скорость его течения. Более конкретный географический пример – это попытки определить местоположение «Вифавары при Иордане, где крестил Иоанн» (Ин 1:28)[1976]. Высказывались различные предположения[1977], однако в современных дискуссиях на эту тему чаще всего фигурируют Батанея и Вади-эль-Харрар, напротив Иерихона[1978].
Более конкретный археологический пример – раскопки микв периода Второго Храма. Их присутствие в Иудее и Галилее помогает осознать то, сколь распространенной была ритуальная практика омовений и погружений в воду в разных группах иудейского населения в дни служения Иоанна, а также то, как связаны с иудейскими обычаями и представлениями конца периода Второго Храма более поздние тексты Мишны (напр.: м. Микваот)[1979]. Что касается вышеупомянутой пещеры Суба, об этом археологическом открытии ведутся споры[1980], однако эти фрагменты прошлого – в той мере, в какой возможно установить их назначение, – помогают нам понять обстановку, в которой жил и проповедовал Иоанн.
1.3. Иоанн Креститель и наши методики
Исследуя то, как Иоанн был связан с Иисусом, а также то, какое влияние он оказывал, мы, по сути, используем те же методики, что и при изучении исторического Иисуса. Среди них – источниковедение (можно ли узнать об Иоанне из Евангелия Речений Q?) и критика редакций (как возникало представление об Иоанне у евангелистов?) Сюда же входят критерии подлинности событий и речений, связанных с Иоанном, – в основном те же, что и для Иисуса. Реконструкция иудейского и греко-римского контекста Палестины I столетия здесь остается почти неизменной – как и применение социальной истории и моделей культурной антропологии и других общественных наук.
Итак, между изучением исторического Иисуса и более широким вопросом об «историческом Иоанне», его связи с Иисусом и его влиянии нет сколь-либо фундаментальных различий. Однако я уделяю Иоанну немало времени и внимания, и у меня сложилось впечатление, что многие, пытаясь воссоздать исторического Иисуса, не считают нужным сперва с должным вниманием воссоздать «исторического Иоанна». К этому мы вернемся чуть позже, а сейчас полезнее рассмотреть, как ученые используют связь Иоанна и Иисуса в своих исторических трудах.
2. Иоанн Креститель: влияние на Иисуса. Различные мнения
Как мы уже отмечали, эта статья фактически посвящена двум темам: понять фигуру исторического Иоанна необходимо прежде, чем давать ответ на вопрос о его влиянии на Иисуса.
Большая часть исследователей исторического Иисуса, особенно те, кто в какой-то момент представил свою версию реконструкции, более или менее полную, спорят об отношениях Иисуса и Иоанна или, по крайней мере, упоминают о них. Как правило, это связано с тем, что Иоанн, скорее всего, крестил Иисуса[1981], – и потому предполагают, что он в какой-то мере оказывал на Иисуса влияние, по крайней мере в начале его служения. Однако в зависимости от того, как кто-либо воссоздает дальнейший путь Иисуса, влияние Иоанна описывается целым спектром мнений – от преемственности до совершенного разрыва. Иными словами, некоторые считают, что Иоанн и поздний Иисус очень похожи[1982] и что во многих аспектах позднейшего служения Иисуса заметно сходство со служением Иоанна. Другие, напротив, полагают, что если поначалу Иоанн и влиял на Иисуса, то затем возникли серьезные различия – а значит, оба в той или иной степени разошлись.
Чаще всего говорят о двух пунктах сходства или различия – это эсхатология и аскетизм, но есть и немало других тем, и мы рассмотрим их по очереди.
Я не стану проводить обзор многих произведений на эту тему или излагать свои взгляды[1983] – вместо этого я решил выбрать двух ученых и подробно сравнить их мнения. Это поможет нам увидеть, как формируются те или иные ответы и какие следствия они за собой влекут. В качестве представителей двух направлений я выбрал Джона Доминика Кроссана и Дейла Эллисона, и тому есть несколько причин. Позиции этих авторов в вопросе о преемственности или разрыве между Иоанном и Иисусом совершенно противоположны. В обоих случаях вопрос сходства и различий Иоанна и Иисуса играет важную роль в реконструкциях. И оба автора достаточно полно излагают свои взгляды на исторического Иисуса, так что мы можем увидеть, как понимание его отношений с Иоанном влияет на представления ученых об Иисусе в целом.
2.1. Эсхатология: разрыв или преемственность?
Насколько поздний Иисус соглашался с эсхатологическими взглядами Иоанна, а насколько отказался от них и развивал свои? Ответов много, но основных подходов, подчеркивающих сходство или различие – два.
Кроссан посвящает этой теме одиннадцатую главу своей книги Исторический Иисус[1984] и отмечает: «…разрыв между Иисусом как мудрым учителем и как апокалиптическим пророком последних времен восходит к самому раннему времени, начиная с которого мы вообще можем говорить о преданиях об Иисусе»[1985]. Три различных воззрения в 50-е гг. н. э. представлены у апостола Павла (акцент на будущем и эсхатологии превыше настоящего и мудрых поучений; см., напр.: 1 Кор 7); в Евангелии Фомы (здесь, напротив, «Иисус, учитель мудрости, противопоставлен Иисусу, пророку апокалипсиса»); и в Евангелии Речений Q, где «два представления об Иисусе – учитель премудрости и пророк апокалипсиса – возникают на самом раннем этапе и развиваются наравне». Однако Кроссан, следуя стратификации Q, которую предложил Клоппенборг, отмечает, что в древнейшей страте, Q1, Иисус предстает только как учитель премудрости, а ожидание конца света и Страшного суда добавляются лишь в следующей страте, Q2, – то есть Иоанн Креститель и Иисус, возвещающий апокалипсис, появляются именно в страте Q2. «Иными словами, Иоанн и апокалиптика входят в Евангелие вместе»[1986].
Обращаясь к преданиям об Иоанне, Кроссан отмечает, что у Иосифа Флавия Иоанн «облагорожен»: Иосиф защищает его от подозрений в каком-либо общественном или политическом радикализме. Далее Кроссан уделяет внимание шести «комплексам», которые связаны с Иоанном и засвидетельствованы в ряде источников (общее число таких комплексов – восемнадцать). О комплексе «Иоанн крестит Иисуса» (Мк 1:9–11; Ин 1:32–34; Ев. эб § 4; и т. д.) он говорит так: «…крещение Иисуса, совершенное Иоанном, – это один из самых достоверных фактов, известных нам о них обоих»[1987]. Комплекс «Весть Иоанна» (Q 3:16–17; Ин 1:26–27, 29–31) сообщает, что «Иоанн провозвещал скорое и неминуемое вмешательство Бога, ведущее к концу света, и совершенно не говорил об Иисусе»[1988]. Третий комплекс, «Уход в пустыню» (Q 7:24–27; Мк 1:2–3; Ев. Фом 78), в котором Иоанн показан как пророк в пустыне – в противоположность богачу во дворце, – представляется исполнением пророчества Мал 3:1. Как полагает Кроссан, это сделано с целью «сравнить Иоанна с Антипой, и это сравнение, прямо и непосредственно, явилось из кризиса, вызванного среди последователей Иоанна после его ареста и казни. Оно читается как попытка утвердить веру в апокалиптические видения Иоанна, несмотря на его казнь». Кроссан считает это сообщение исторически достоверным и заключает: «Оно подтверждает уже известное, а именно то, что Иисус, крестившись у Иоанна, по всей видимости, перенял и его апокалиптические ожидания и принял Иоанна как Пророка Грядущего»[1989].
Четвертый комплекс, «Больше Иоанна» (Q 7:28; Ев. Фом 46), особенно важен и Кроссану, и нам. Кроссан также считает этот комплекс исторически достоверным, и в нем утверждается, что Иоанн «больше всех, рожденных женами», – однако это величие противоречит тому, что «меньший в Царстве Божьем больше его». И, согласно Кроссану, различие между третьим комплексом, «Уход в пустыню», и четвертым, «Больше Иоанна»…
…позволяет сделать только один вывод, а именно, что между этими двумя утверждениями Иисус изменил свой взгляд на миссию и весть Иоанна. Представление, направлявшее Крестителя – покаянное ожидание апокалиптического Бога и Грядущего, – представление, которое Иисус вначале принял и даже защищал во время кризиса, вызванного смертью Иоанна, – теперь перестало казаться ему адекватным[1990].
Здесь Кроссан прерывает перечисление шести комплексов, связанных с Иоанном, чтобы ответить на наиболее очевидное возражение своей гипотезе, согласно которой Иисус изменил отношение к апокалиптическим воззрениям Иоанна: в Евангелиях поздний Иисус говорит о Сыне Человеческом в однозначно апокалиптических выражениях, так что, «иными словами, Иисус столь же апокалиптичен, как и Иоанн Креститель»[1991]. Начинает Кроссан с определения понятия «эсхатологии». Процитировав определение Маркуса Борга[1992], он относит его лишь к одной из форм эсхатологии, а именно «эсхатологии апокалиптической»; поскольку, объясняет он далее, «термин эсхатология нужен мне как более широкое, родовое обозначение мировоззрения, отвергающего мир и вырастающего из апокалиптической эсхатологии, о которой мы только что говорили [ссылка на определение Борга], через мистические и утопические формы к возможностям аскезы, доктрины о свободе воли и анархии»[1993]. Говоря о термине «сын человеческий», Кроссан заключает, что во времена Иисуса это выражение не применялось ни как титул («Сын Человеческий»), ни как описание самого себя (вместо «Я»), но только в родовом («каждый») или неопределенном («какой-либо») значении «некоего человека», – или же как аллюзия на Дан 7:13 («как бы сын человеческий»). Обращаясь к речениям о Сыне Человеческом, Кроссан отмечает, что из восемнадцати апокалиптических речений о нем шесть засвидетельствованы более чем в одном источнике. Однако он подчеркивает, что ни в одном из этих шести случаев у нас нет множественного свидетельства о самом выражении «Сын Человеческий», – и делает вывод, согласно которому во всех этих шести случаях ни выражение «Сын Человеческий», ни апокалиптический смысл речений не восходят к самому Иисусу. Единственное выражение «сын человеческий», засвидетельствованное более чем в одном источнике (Q1 9:57–58; Ев. Фом 86), по мнению Кроссана, подлинно, и все же…
…его существование означает, что в Евангелии речений Q имеется по меньшей мере одно предание, в котором Иисус говорит о «сыне человеческом» – и это, в сочетании с другой традиционной темой Иисуса как апокалиптического судьи из Дан 7:13, способствовало возникновению предания о том, что Иисус называл себя апокалиптическим Сыном Человеческим[1994].
Ответив на возражение против гипотезы, что Иисус отверг апокалиптику Иоанна, тем, что речения об апокалиптическом Сыне Человеческом не восходят к Иисусу, Кроссан возвращается к пятому комплексу, связанному с Иоанном, – это комплекс «Пост и брак» (Мк 2:18–20; Ев. Фом 104). Однако, поскольку это уже не относится к эсхатологии, об этом мы поговорим чуть дальше.
Приведенный выше краткий пересказ главы из книги Кроссана показывает, что Кроссан усматривает расхождение между Иоанном и Иисусом в отношении к эсхатологии[1995]. Пока только отметим, что в следующей главе он определяет представление у Иисуса о Царстве Божьем как «царство премудрости Божьей», в отличие от «апокалиптического Царства Божьего»[1996]. «Царство премудрости Божьей» не апокалиптично, однако, на взгляд Кроссана, ничуть не менее «эсхатологично»:
Царство премудрости устремлено скорее в настоящее, а не в будущее, и рисует образ того, как можно было бы жить здесь и сейчас – при божественном владычестве, которое уже наступило или всегда доступно. В это Царство входят благодаря мудрости или великодушию, благодаря добродетели, справедливости или свободе. Речь идет о том, как жить в настоящем, а не о надежде на будущую жизнь. Итак, это Царство этическое; впрочем, необходимо с абсолютной решительностью настаивать на том, что оно может быть ничуть не менее эсхатологическим, чем апокалиптическое Царство. Например, его этика может бросать серьезнейший вызов господствующей морали. Грубой ошибкой будет заявлять, что Царство премудрости, по моей терминологии, отвергало мир в меньшей степени, чем апокалиптическое Царство[1997].
Это объяснение помогает понять, почему прежде Кроссан именно так определил «эсхатологию»[1998]. Порвав с пророчествами Иоанна о пришествии Грядущего (которые Кроссан считает «апокалиптической эсхатологией»), Иисус провозглашает в настоящем этическое Царство премудрости. Однако эта весть позднего Иисуса, хотя и рассмотренная «скорее как настоящее, а не будущее», – это «этическая эсхатология»[1999]. В более поздней своей работе Кроссан говорит о разнице между этической и апокалиптической эсхатологией подробнее:
Этическая эсхатология (или этицизм) отвергает мир, активно протестуя и бескомпромиссно сопротивляясь системе, в которую неотъемлемо встроены зло, несправедливость и насилие. Вопрос здесь не в том, что такая-то группа или такое-то правительство нуждаются в переменах и улучшениях. Этическая эсхатология направлена на неравноправие и насилие, эксплуатацию и угнетение, несправедливость и неправедность как нормальную ситуацию мира сего. Она смотрит на системное и структурное зло, которым окружены и в которое погружены все мы, – и во имя Бога отказывается содействовать этому злу или принимать в нем участие. Она призывает противостоять системному злу, но не впадать в свойственные системе злобу и насилие. В этицизме, в отличие от апокалиптизма, Бог ждет от нас действий – и Бог не жесток[2000].
Обратимся теперь ко второму ученому, ставшему предметом нашего исследования, Дейлу Эллисону, для которого этот вопрос стоит в центре его книги «Иисус из Назарета», особенно двух основных ее глав: «Иисус предания и Иисус истории: как найти пророка-милленария» и «Эсхатология Иисуса: после всех этих лет – по-прежнему ratlos»[2001]. Однако его способ анализа отличается от способа Кроссана, посвятившего Иисусу и Иоанну отдельную главу. В поисках сведений по этой теме нам придется прочесать весь труд Эллисона – хотя, как мы увидим, взгляды его по этому вопросу достаточно ясны и их легко сравнить со взглядами Кроссана. Стоит отметить также, что Эллисон пишет в 1998 году, уже после выхода в свет большого труда Кроссана Исторический Иисус (1991), и подвергает эту работу критике. Однако мы уделим основное внимание не тому, как Эллисон критикует Кроссана, а его собственным взглядам.
В первой главе Эллисон говорит о слабости апелляции Кроссана ко множественным свидетельствам и к стратификации источников, и в качестве примера обращается к эсхатологии. Начинает он так: «Со времен Иоганнеса Вайса и Альберта Швейцера многие из нас убеждены, что Иисус был эсхатологическим пророком с апокалиптическим сценарием»[2002]. Признавая, как и Кроссан, что это важно для определения терминологии, Эллисон объясняет: «В моей книге слово “эсхатология” указывает на окончание истории и связанные с этим события, такие как воскресение и Страшный суд». Особенно он отмечает, что другие авторы используют термин «эсхатология» иначе: «Иисус у Кроссана… эсхатологичен согласно его [Кроссана] пониманию эсхатологии… но не моему»[2003]. Далее Эллисон уточняет, что использует слово «“апокалиптический” для указания на группу эсхатологических тем и ожиданий, таких как космический катаклизм, воскресение мертвых, вселенский суд, образы небесных искупителей и так далее, – развившийся в иудаизме после Вавилонского пленения, часто в связке с верой в близость конца мира»[2004].
По словам Эллисона, начинать следует не с выяснения того, какие предания подлинны, а скорее…
…необходимо найти нечто близкое к тому, что Томас Кун называл «парадигмой», – объяснительную модель, позволяющую классифицировать данные… Начальная наша задача – создать первичную систему отсчета для преданий об Иисусе, контекст, способный помочь нам определить подлинность и самих преданий, и их истолкования[2005].
На протяжении последних ста лет или около того доминировала парадигма «Иисуса – эсхатологического пророка»[2006]. Хотя недавно в ней и усомнились те, кто предлагает нам образ Иисуса, не связанный с эсхатологией (здесь упоминаются Борг и Кроссан), далее Эллисон пишет: «Матрицей, запечатлевшей подлинные предания об Иисусе, должно остаться предположение, согласно которому Иисус – это эсхатологический пророк с апокалиптическим сценарием»[2007].
Далее Эллисон приводит пять причин, по которым эсхатологическую парадигму Иисуса необходимо сохранить[2008], – и первая из них имеет самое прямое отношение к нашей теме. Древняя Церковь в самых разных преданиях проявляет свою апокалиптическую направленность, а предания об Иоанне Крестителе, зафиксированные в Новом Завете, показывают, что его тревожит скорый и неминуемый эсхатологический суд. И, поскольку Иисус крестился у Иоанна…
…очевидно, их идеология должна быть достаточно близкой. Так что… если мы, воссоздав образ Иисуса, лишим его ясно выраженной эсхатологической направленности, мы неожиданно прервем все связи не только между ним и людьми, которые считали себя продолжателями его движения, но и между ним и Крестителем, иными словами – так устраняется его связь и с движением, из которого он вышел, и с движением, которое он основал. Это выглядит слишком маловероятным[2009].
С этим же связана и пятая причина, которую называет Эллисон: во многих новозаветных текстах Иисуса сравнивают с современниками, в том числе с Иоанном Крестителем (Q 7:33–34; Мк 6:14; 8:28), Февдой и Иудой Галилеянином (Деян 5:35–39). Во всех этих случаях для сравнения выбираются фигуры, «движимые эсхатологическими ожиданиями или надеждами на восстановление Израиля»[2010]. Далее в первой главе своей книги Эллисон подробно рассматривает основные темы преданий об Иисусе и возможность использования различных «указателей» (этот термин он предпочитает «критериям») для оценки подлинности той или иной традиции. Особую важность он придает тому, что «программа Иисуса представляет столь много разительных параллелей с движениями милленариев по всему миру»[2011].
Вторую главу Эллисон делит на две половины: в первой он критикует взгляды Маркуса Борга и Стивена Паттерсона, двух ученых, отстаивающих образ неэсхатологического Иисуса, а во второй обращается к исследованию некоторых ключевых элементов эсхатологической картины мира в представлении Иисуса.
Критикуя Борга, Эллисон противопоставляет его Эду Сандерсу, стороннику «эсхатологической парадигмы». Сандерс приводит в защиту своей позиции ряд оснований, включая и приведенное выше: Иисус стоит между эсхатологическим Иоанном и эсхатологической Древней Церковью, и это «наводит на мысль о том, что и самого Иисуса эсхатология, скорее всего, заботила»[2012]. Борг с этим не согласен[2013]. Оценивая их спор, Эллисон делает несколько важных замечаний. Некоторые речения, приписываемые Иисусу, говорят о том, что он глубоко уважал Иоанна (в том числе Q 7:26–28; 7:33–34; 16:16; Мк 11:27–33) и «ничто в них не отделяет Иисуса от Иоанновой эсхатологии»[2014]. Скорее, «развивая эсхатологию Иоанна, Иисус мог пойти по этому пути дальше его. Но это никоим образом не означает, что Иисус выпал из эсхатологического контекста Иоанна»[2015].
Эллисон отмечает зависимость Борга от взгляда Кроссана на вышеупомянутый четвертый комплекс, «Больше Иоанна» (Q 7:28; Ев. Фом 46). Как мы уже говорили, этот текст очень важен для представлений Кроссана об эсхатологии позднего Иисуса. Для Кроссана то, что «меньший в Царстве Божьем больше его» [т. е. Иоанна] означает, что Иисус впоследствии отверг прежде принятые миссию и весть Иоанна, связанные с апокалипсисом[2016]. Эллисон отвечает двумя аргументами:
Первая проблема в том, что многие приписывают Q 7:28b не Иисусу, а Древней Церкви. Вторая – та, что, даже если Иисус и произнес Q 7:28b, это едва ли отделяет его от эсхатологии Иоанна. Если Иисус сказал это при жизни Иоанна, возможно, это означало, что меньший в Царстве (когда оно наступит) будет больше, чем величайший (Иоанн Креститель) сейчас. Если же Иисус сказал это после смерти Иоанна, то, возможно, это означало, что ныне живущие, ощущающие присутствие Царства Божьего, блаженны более всех остальных, даже более высоко почитаемого Иоанна Крестителя. В том и в другом случае эсхатологическая проповедь Иоанна не отвергается. Напротив, в обоих случаях именно величие Иоанна делает его подходящим фоном для провозглашения наивысшего величия Царства[2017].
Затем Эллисон обращается к мнению Борга о том, что речения о Сыне Человеческом не восходят к Иисусу и что начиная с 1960-х годов это «признается все более широко и повсеместно»[2018]. Здесь в защиту своей позиции Борг вновь цитирует труд Кроссана. Эллисон отмечает множество проблем, связанных с этим анализом, а когда речь заходит о замечании Кроссана, согласно которому термин «Сын Человеческий» подтвержден множественными свидетельствами только в одном из многих комплексов, повествующих о грядущем Сыне Человеческом, Эллисон отмечает, что «то же можно сказать и о других христологических именованиях»[2019]. Впрочем, важнее то, что слова «Сын Человеческий» «засвидетельствованы в древнейшем источнике или древнейшей версии этого комплекса»[2020]. Более того: та же нестабильность выражения «Сын Человеческий» присутствует и в комплексах о «земном Сыне Человеческом» (например, и среди них лишь один засвидетельствован дважды – Q 9:58; Ев. Фом 86), однако пять из них Кроссан признает подлинными. Наконец, половина приведенных Кроссаном речений о «грядущем Сыне Человеческом» принадлежит к выделенной им же древнейшей страте, и лишь одно – к более поздней.
Кроссану приходится выйти за пределы собственной статистики и настаивать на том, что составители как Q, так и Марка независимо друг от друга добавили это выражение к полученным материалам… Но неужели независимое друг от друга сочинение речений об «апокалиптическом Сыне Человеческом» более вероятно, чем предположение, что эти речения независимо друг от друга вошли как в Q, так и в Евангелие от Марка, поскольку присутствовали в традиции уже при ее рождении – то есть исходили от самого Иисуса?[2021]
Затем Эллисон переходит к критике неэсхатологического Иисуса у Стивена Паттерсона, однако эта критика не связана с отношениями Иисуса и Иоанна, поэтому для наших нынешних целей она не представляет интереса. Во второй половине главы Эллисон рассматривает ряд тем эсхатологии Иисуса, в том числе Страшный суд, воскресение мертвых, восстановление Израиля, великие несчастья, а также близость и неизбежность конца света[2022]. В своем заключительном рассуждении о «языке эсхатологии милленариев» Эллисон исследует то, как Иисус опирался на традиционные элементы своего иудейского наследия – в духе милленариев – и применял их к своему времени и своей ситуации. «Идеи эти вряд ли были новыми. Скорее, они представляли собой часть иудейского наследия Иисуса – архетипически влекущего эсхатологического сценария, часть “местной традиции”, полученной им в родном селении»[2023]. Но в то же время Иисус преображал эти предания:
Связывая эсхатологические ожидания с людьми, окружавшими его, и с событиями, происходившими вокруг, он давал традиционным мифам новое, творческое применение… В своих импровизациях по мотивам иудейской эсхатологии Иисус создал новую религиозную идентичность, основанную на новом и прежде неведомом истолковании мира в свете иудейской традиции[2024].
Хотя здесь Эллисон этого не указывает, но более раннее его рассуждение о преемственности между Иоанном и Иисусом в вопросах эсхатологии подтверждает, что, по его мнению, Иоанн был для Иисуса частью этой «местной традиции» и оказал решающее влияние на то, как Иисус ее вновь истолковал и применил.
2.2. Аскетизм: разрыв или преемственность?
Быть может, самое значительное сходство (как и различие) заметно в эсхатологиях Иоанна и Иисуса, о которых мы только что говорили. Но и другой аспект преемственности (или расхождения) упоминается очень часто, поскольку сразу бросается в глаза, – о нем прямо говорит сам Иисус: «Пришел Иоанн, не ест и не пьет, и вы говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарей и грешников!» (Q: 7:34–35). Итак, это тема аскетического образа жизни.
Чуть выше, говоря о Кроссане, я отмечал, что, отвечая на возражения и доказывая, что апокалиптические речения о Сыне Человеческом не восходят к Иисусу, он возвращается к пятому комплексу об Иоанне, «Посту и браку» (Мк 2:18–20; Ев. Фом 104). Этот комплекс, вместе с «Оправданной премудростью» (Q 7:31–35), приводит Кроссана к заключению, что хотя сами тексты, противопоставляющие Иисуса и Иоанна, не подлинны, но зато подлинна их тема: «Иоанн жил жизнью аскета и ожидал конца света, а Иисус… поступал совершенно иначе»[2025]. Однако, чтобы прояснить, в чем именно состояла эта «инаковость», Кроссан говорит об «открытых совместных трапезах» Иисуса, объясняя этим «обвинения в обжорстве, пьянстве и дурной компании»[2026]. Таким образом, по контрасту с «апокалиптическим аскетизмом» Иоанна, Иисус…
…не особенно тревожился о ритуальных правилах [иудаизма] – не спорил с ними, но и не соблюдал. Он их просто игнорировал – и тем самым, разумеется, нападал на них на самом глубинном уровне… Открытые трапезы на деле отрицают все иерархические различия между мужчиной и женщиной, богатым и бедным, иудеем и язычником, – причем на таком уровне, который оскорбляет ритуальные правила любого цивилизованного сообщества. В этом и состоял вызов Иисуса[2027].
В заключение он связывает эгалитаризм открытых трапез Иисуса с традицией, повсеместной в крестьянских общинах и описанной в работе Джеймса Скотта, где идет речь о таких общинах, практикующих уравнивание в правах и общинное самоуправление в ответ на эксплуатацию и угнетение[2028]. Так Кроссан естественно переходит к следующей теме: этической эсхатологии Иисуса – его Царству премудрости Божьей (о чем мы также говорили выше).
Посреди своего рассуждения об эсхатологии Иисуса и ее соотношении с эсхатологией Иоанна Эллисон замечает:
Охотно признаю, что между Иисусом и Иоанном есть различия. Q 7:31–35 может подразумевать (хотя в следующей главе нам представится случай это уточнить), что Иоанн был большим аскетом, чем Иисус, что отражено и в Мк 2:18 (ученики Иоанна постятся по собственному желанию, ученики Иисуса – нет)[2029].
В следующей главе, «Иисус как аскет-милленарий: устранение единомыслия», он отмечает повсеместность мнения, согласно которому Иоанн был аскетом, а Иисус – «кем угодно, только не аскетом»[2030], и утверждает, что описание Иисуса, который «ест и пьет» (Q 7:31–35) – это не что иное, как «принятие полемического языка оппонентов. Иисус… принимает обидные слова, которыми награждают его противники, творчески переформулирует их и возвращает им»[2031]. Далее Эллисон говорит, что Мк 2:18–20 (противопоставление учеников Иоанна и Иисуса по признаку отношения к посту) не означает отказа от самих постов, – и указывает на две области, в которых Иисус проявляет явно аскетические взгляды и ведет себя как аскет: первая – отношение к богатству и материальным благам, вторая – отношение к воздержанию и сексуальному желанию[2032]. Эллисон прослеживает связь этой аскетической ориентации с эсхатологией, – связь, характерную не только для многих иудейских групп, делавших на эсхатологии акцент, но и вообще для движений милленариев[2033]. Придя к такому выводу, Эллисон заключает: «По всей видимости, с Иоанном Крестителем все обстояло так же»[2034]. Итак, вместо расхождения во взглядах Иоанна и Иисуса на аскетизм Эллисон видит преемственность.
2.3. Иные вопросы: разрыв, преемственность и влияние
Об эсхатологии и аскетизме говорят чаще и подробнее всего, когда заходит речь о сходстве и различии между Иоанном и Иисусом. Однако между ними есть и другие точки соприкосновения. Кое о чем можно говорить в свете сходства или несходства, а иногда – скорее в свете влияния.
Кроссан отмечает еще два пункта расхождений, однако говорит о них вскользь, без развития темы как таковой, упоминая лишь точку зрения Иисуса. Во-первых, Иоанн крестил – но Иисус не крестил, а исцелял. Этот контраст ведет Кроссана к пространным рассуждениям об Иисусе и магии[2035]. Во-вторых, Иоанн по большей части действовал в одном месте – а Иисус странствовал, являя собой истинный символ эгалитаризма без посредников[2036]. Хотя Кроссан и склонен обращать внимание в первую очередь на несходства и противоречия, отмечает он и по меньшей мере два аспекта, в которых Иоанн схож с поздним Иисусом или, возможно, даже на него повлиял. Во-первых, рассуждая о комплексе «Виноградарей» (Мк 12:1–9, 12; Ев. Фом 65), Кроссан размышляет о том, мог ли Иисус в данном случае «метафорически описывать собственную смерть». В конце Кроссан отвергает такую интерпретацию, однако допускает, что «после казни Иоанна и учитывая, чем занимался он сам, такое пророчество [т. е. о грядущей смерти, иносказательно представленное в притче] не требовало бы никакого озарения свыше. В самом деле, Иисус был весьма наивен, если такая мысль никогда не приходила ему в голову»[2037]. Во-вторых, и Иоанн, и Иисус противостояли Храму, хотя и по-разному. Иоанн, совершая свои крещения, «предлагал альтернативу Храму», а Иисус, олицетворяя своими странствиями «вызов во имя равноправия», «еще радикальнее ставил под вопрос локализованную однозначность Иерусалимского Храма»[2038].
Для Кроссана Иоанн становится прежде всего «фоном»[2039], оттеняющим этическую эсхатологию и открытые трапезы Иисуса своей апокалиптической эсхатологией и аскетизмом. Поэтому в поисках других пересечений и противоречий, упомянутых выше, нам приходится тщательно прочесывать труды Кроссана. Эллисон, однако, отмечает, что «в стремлении подчеркнуть несомненные и важные различия мы рискуем не заметить и важных пунктов сходства, иначе говоря, есть опасность недооценить, сколь многим обязан Иисус своему предшественнику»[2040]. Этому вопросу Эллисон посвящает свою более позднюю статью «Иоанн и Иисус: преемственность»[2041].
В первой части своей статьи Эллисон работает с пятью различиями между Иоанном и Иисусом, – эти различия предложили Герд Тайсен и Аннетт Мерц[2042]. Вот они: во-первых, Иоанн проповедовал суд, а Иисус, пусть и поступал так же, но все же больше внимания уделял спасению[2043]. Во-вторых, в своей «мессианской проповеди» Иоанн возвещал о «том, кто сильнее меня», а Иисус – о грядущем Сыне Человеческом[2044]. В-третьих, если говорить о «футуристической эсхатологии», то у Иоанна она была полностью отнесена в будущее, а Иисус, даже «разделяя эту эсхатологию будущего», говорил и об «эсхатологии настоящего»[2045]. В-четвертых, крещение Иоанна было «эсхатологическим таинством», связанным с покаянием, но Иисус не крестил и «отделяет представление о покаянии от крещения»[2046]. В-пятых, Иоанн был аскетом и жил в пустыне, а Иисус аскетом не был, ибо о нем говорили «вот человек, который любит есть и пить вино», и жил он в Галилее, среди людей[2047]. Говоря о первых четырех противопоставлениях, Эллисон неоднократно спрашивает, хватает ли нам сведений об Иоанне, чтобы хоть что-то уверенно утверждать, и заключает:
Необходимо подчеркнуть: я не утверждаю, будто все антитезы Тайсена ложны… Я не говорю, что он заблуждается – скорее следует сказать, что он не во всем прав, и причина его ошибок типична. В теориях о Крестителе и Иисусе снова и снова проявляется чрезмерность наших умозаключений: они неубедительны не потому, что противоречат свидетельствам, а потому, что выходят далеко за их пределы[2048].
Что же касается пятого противопоставления, связанного с аскетизмом, то, как отмечает Эллисон, в случае Иоанна это единственный аспект, о котором мы реально знаем. Но все же – и Эллисон уже об этом писал (см. выше), – последствия неимоверного контраста с «неаскетичным» Иисусом сильно преувеличены[2049].
Далее Эллисон обращается к тем областям, в которых для отношений Иоанна и Иисуса характерны преемственность и влияние. Он снова предупреждает о «скудости данных», которая «не позволяет нам делать далеко идущих выводов и здесь» – однако, несмотря на это, пункты сходства и влияния «неожиданно убедительны. По всей видимости, во всем своем служении Иисус был очень многим обязан Иоанну»[2050]. Эллисон разделяет свои наблюдения на три области. Первая – отказ от представления, согласно которому происхождение от Авраама спасает от Страшного суда. В иудаизме периода Второго Храма повсеместно царило убеждение, что спасется весь Израиль. Эта надежда, «номизм завета», стояла на том, что «все потомство Авраама, соблюдающее Тору, войдет в грядущий мир»[2051]. Однако из Q 3:8–9, 17 вполне очевидно, что Иоанн этого мнения не разделял – как и Иисус, что показывает Эллисон. Иисус призывал своих слушателей к покаянию (Мк 1:15) и предупреждал: «…кто не примет Царства Божия, как дитя, не войдет в него» (Мк 10:15). «Призыв Иисуса “стать как дети” родствен призыву Иоанна к покаянию и крещению: необходимо начать с нуля»[2052]. Итак, и Иоанн, и Иисус проповедовали скорый суд и призывали своих слушателей к нему готовиться «именно потому, что происхождение от Авраама ничего не гарантировало. По крайней мере в этом служение Иисуса продолжало служение Иоанна, и нет никаких оснований полагать, будто в этом фундаментальном пункте Иисус в чем-то отошел от Крестителя»[2053].
Во-вторых, многие образы, к которым обращался Иоанн, мы видим и в речениях Иисуса. Это, в числе прочего, призыв приносить добрые плоды (Иоанн: Q 3:8–9; Иисус: Q 6:43–45, и т. д.); срубание бесплодного дерева (Иоанн: Q 3:9; Иисус: Лк 13:6–9), сравнение эсхатологического суда с подобием огня, куда брошено дерево (Иоанн: Q 3:9; Иисус: Мф 7:19; Мк 9:47–50, и т. д.), противопоставление крещения водой и огнем (Иоанн: Q 3:16; Иисус Лк 12:49–50), сравнение эсхатологического суда с жатвой (Иоанн: Q 3:17; Иисус: Q 10:2; Мф 13:24–30, и т. д.). Рассуждение об этих образах Эллисон завершает замечанием:
Если мы не будем забывать, сколь мало дошло до нас от Крестителя, эти два или три случая, когда речения Иисуса обнаруживают в себе явное влияние Иоанна, приобретут особое значение. Вполне разумно предположить, что, если бы от учения Иоанна сохранилось больше, его влияние на Иисуса выглядело бы еще значительнее – и мы бы увидели, что очень многие «представления, идеи, тактики Иисуса сформированы Иоанном»[2054].
Третья и, быть может, наиболее значительная область сходства и влияния, которую выделил Эллисон, – это отношение Иисуса к пророчествам Иоанна о «Грядущем» (Q 3:16–17). Позднее, в Q 7:18–23, тексте, который Эллисон считает историчным, ответ Иисуса на вопрос Иоанна: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» – подразумевает не только то, что у Иоанна речь идет не о Боге, а о человеке-посреднике[2055], но и, что еще важнее, то…
…что сам Иисус отождествляет с этим посредником себя. Он – не просто тот, через кого совершаются чудеса: провозглашение «блажен, кто не соблазнится о мне», ставит его в центр всего. Иными словами… эсхатологические ожидания Иоанна отчасти сформировали представление Иисуса о самом себе[2056].
Такое самопонимание поддерживает и Лк 12:49–50, а возможно, также притча о связывании сильного (напр.: Мк 3:27)[2057]. Об этом третьем случае сходства и влияния Эллисон говорит так…
Недостаточно сказать, что эсхатологические ожидания Иисуса совпадали с ожиданиями Крестителя. На деле имелось нечто гораздо большее: представление Иисуса о себе сформировалось под влиянием проповеди его предшественника о том Грядущем, который будет крестить огнем. Более того, именно такой результат, на мой взгляд, до некоторой степени объясняет, почему в Евангелиях мы наблюдаем между Иисусом и Иоанном как значительное сходство, так и значительные различия. Если первый принял ожидания последнего и, в сущности, начал жить по ним, он также творчески их преобразил, применив к своей личности и своему служению, и стал для себя и своих последователей исполнением того, чего ожидал Иоанн. В его личности обрели воплощение эсхатологические пророчества Иоанна – и обнаружилось нечто грандиозное, столь грандиозное, что величайший из рожденных женами был умален до меньшего из всех в новом Царстве (Q 7.28) – по крайней мере, в риторическом смысле[2058].
2.4. Кроссан и Эллисон: о различиях воззрений
Завершив анализ мнений Кроссана и Эллисона, можно сделать несколько кратких замечаний. Во-первых, подведем итог: оба признают, что Иоанн – по крайней мере на первых порах – оказал на эсхатологические взгляды Иисуса немалое влияние. Впрочем, Кроссан полагает, что позднее Иисус отверг апокалиптическое мировоззрение Иоанна и создал альтернативу[2059]. Согласно Эллисону, Иисус остался верен эсхатологическому мировоззрению Иоанна, однако «прошел по эсхатологической временной шкале дальше, чем Иоанн»[2060]. Таким образом, реконструкция Кроссана предполагает решительное и достаточно радикальное разобщение между ранним Иисусом – и поздним Иисусом[2061]. Она требует этого, поскольку ранний Иисус, несомненно, был тесно связан с Иоанном[2062]. С другой стороны, Эллисон, отмечая различия между ранним и поздним Иисусом, подчеркивает связь между ними и то, что эти различия указывают скорее на развитие, а не на резкие перемены.
Во-вторых, Кроссан и Эллисон расходятся друг с другом в понимании термина эсхатология. У Кроссана поздний Иисус по-прежнему ориентирован эсхатологически (поскольку «эсхатология» для этого автора равнозначна «мироотверженности»), а взгляды позднего Иисуса – это «этическая эсхатология», в отличие от раннего периода, когда он под влиянием Иоанна придерживался «апокалиптической эсхатологии». Эллисон, напротив, определяет «эсхатологию» как завершение истории и отвергает определение Кроссана, считая, что «эсхатология» последнего – вовсе не эсхатологична.
В-третьих, для Кроссана и Эллисона особенно важны их разногласия по двум ключевым вопросам интерпретации: говорит ли Q 7:28 (меньший в Царстве Божьем больше Иоанна) о разрыве между Иоанном и Иисусом? Кроссан отвечает «да», Эллисон – «нет». Каждый подтверждает свое мнение собственной интерпретацией. И второй вопрос: принадлежит ли Иисусу хотя бы ядро речений о грядущем Сыне Человеческом? Кроссан отвечает «нет», Эллисон – «да». Каждый предлагает аргументы, отстаивая свою правоту.
В-четвертых, и Кроссан, и Эллисон признают значительный массив данных, свидетельствующих о том, что исторический Иисус занимал положение между апокалиптическим Иоанном и апокалиптической Древней Церковью. Кроссан полагает, что этот факт необходимо объяснить, – и в его представлении Иисус, в отличие от своего окружения, не разделяет апокалиптических взглядов. Для Эллисона эти данные – краеугольный камень в воссоздании Иисуса, который, как и все прочие, придерживается апокалиптических идей. Оба признают достоверность этих данных, однако выводы авторов совершенно противоположны.
В-пятых, и Кроссан, и Эллисон признают значимость Q 7:34–35 для решения вопроса об аскетизме Иисуса (или, напротив, отсутствии аскетизма). Однако само это речение они понимают по-разному и относят его к различным контекстам в жизни Иисуса.
Наконец, рассмотрев взгляды этих двух исследователей на сходство или различие Иоанна и Иисуса, – в самых разных сферах, будь то эсхатология, аскетизм или другие области, – настало время спросить: какое место занимает в их реконструкциях Иоанн? У Кроссана он – в первую очередь «фон», по контрасту с которым описывается неапокалиптическая эсхатология Иисуса; Иисус отходит от Иоанна, когда начинает практиковать открытые для всех совместные трапезы. У Эллисона, напротив, Иоанн – это основа апокалиптической эсхатологии Иисуса, а сам Иисус следует за Крестителем как пророк-вождь движения милленариев.
3. Влияние Иоанна Крестителя на Иисуса: методологические замечания
Из сказанного очевидно, что отношения между Иисусом и Иоанном очень важны для понимания исторического Иисуса. Я понимал это с конца 1980-х годов, когда защищал докторскую диссертацию. Наиболее сильно на меня повлияла только что вышедшая в то время (1985 год) книга Эда Сандерса «Иисус и иудаизм». На мой взгляд, Сандерс основывал свое представление об историческом Иисусе на последнем этапе его служения – действиях Иисуса в Храме. И я подумал: а что, если бы автор начал не с конца, а с самого начала – иначе говоря, с первого упомянутого им «почти неоспоримого факта»[2063], с крещения Иисуса? Поначалу я рассчитывал поговорить об «историческом Иоанне» в первой главе своей диссертации, а в последующих исследовать различные стороны отношений Иоанна с Иисусом и их значение для понимания Иисуса и его служения. Однако первая глава разрослась в 11 глав и 454 страницы, и в результате мне удалось исследовать лишь два аспекта деятельности Иоанна – крещение через погружение в воду и пророчества – а до отношений с Иисусом и влияния на Иисуса я даже не добрался! Об этих личных обстоятельствах я рассказываю, чтобы объяснить свою первую реакцию, которую ощутил, закончив предыдущий подраздел: я был очень разочарован. Разумеется, мне давно уже было известно, что Кроссан и Эллисон пришли к разным выводам и нарисовали очень разные портреты Иисуса. Однако никогда прежде я не пытался сравнивать их взгляды на предмет, дорогой моему сердцу, – на Иоанна Крестителя. И вот что я увидел: перед нами двое ярчайших, быть может, лучших представителей нынешнего поколения исследователей исторического Иисуса; Иоанн в их реконструкциях играет значительную роль – и что же? Их выводы не просто различны – в сущности, они противоположны! Это же просто обидно!
Куда же нам двигаться, какой нам выбрать метод? Я не пытаюсь рассудить Кроссана и Эллисона, однако хочу вывести из приведенных выше наблюдений несколько методологических предложений и советов. Из этого, быть может, станут очевидны мои собственные взгляды на отношения Иоанна с Иисусом – так что признаюсь сразу: я более солидарен с Эллисоном, однако для наших нынешних целей это неважно. Чему мы можем научиться у обоих авторов в аспекте методологии? Сделаем несколько замечаний.
Во-первых, к историческому Иоанну необходимо относиться серьезно. Да, исследование его роли, как правило, уступает масштабной задаче реконструкции исторического Иисуса. Однако если взаимоотношения Иоанна с Иисусом играют в этой реконструкции важную роль, значит, воссоздавать исторического Иоанна необходимо с той же тщательностью и вниманием. Как я уже упоминал, вопрос об их отношениях, в сущности, распадается на две части: вначале требуется воссоздать исторического Иоанна, а затем поговорить о сходствах и различиях между ним и Иисусом. Если реконструкция Иоанна неточна – все, что построено на ней, будь то представления о сходстве или о различиях, также пройдет мимо цели. Я не критикую ни Кроссана, ни Эллисона: оба они, по всей видимости, подходят к историческому Иоанну достаточно серьезно и хорошо его себе представляют. Однако, учитывая важную роль, которую играет Иоанн в их реконструкциях, полезно было бы уделить ему побольше внимания. Впрочем, другие ученые выстраивают свои теории на том или ином понимании Иоанна, не потрудившись вначале составить внятное представление об Иоанне как таковом[2064].
Во-вторых, парадигмы важны и излагать их следует прямо. Эллисон высказался об этом вполне ясно[2065] – и, на мой взгляд, он прав. Недостаточно при помощи критериев определить историчность тех или иных элементов предания, а затем сложить фрагменты. Парадигма дает контекст для понимания преданий, а также влияет на то, как мы используем критерии и как сводим элементы в единое целое. Кроссан в Историческом Иисусе не начинает свой труд с формулировки парадигмы – вместо этого он подчеркивает, что в интерпретации опирается на социальную антропологию, а предания оценивает при помощи множественных свидетельств и стратификации[2066] – впрочем, в более ранней работе он писал: «Всегда есть и всегда должна быть изначальная гипотеза, которая затем проверяется фактами»[2067]. Далее он кратко намечал точки соприкосновения его изначальной гипотезы с Иисусом[2068], и даже несмотря на то, что позднее он отверг этот подход как «чересчур субъективный»[2069], между ранними набросками его рабочей гипотезы и книгой Исторический Иисус, которая появилась позднее, заметно поразительное сходство. Подозреваю, что именно с такой парадигмой приходится иметь дело всем, кто занят серьезными историческими вопросами, нравится им это или нет[2070]. В работе Кроссана и Эллисона я вижу необходимость не только в парадигме, но и в откровенном объяснении того, какова эта парадигма и почему именно ее выбрали как наиболее вероятную и правдоподобную.
В-третьих, полезны кросс-культурные модели. И Кроссан, и Эллисон используют модели культурной антропологии и родственных ей дисциплин. Кроссан вводит много таких, в том числе, скажем, исследование крестьянских общин или модель социальной стратификации аграрных сообществ, предложенную Ленски[2071]. Эллисон чаще всего обращается к кросс-культурным исследованиям движений милленариев[2072]. Такое использование моделей кажется мне благотворным: оно помещает наши исторические свидетельства в более широкий контекст и иногда помогает их конкретизировать. Однако временами возникают сомнения в применимости той или иной модели к античному Средиземноморью или тем более к Иудее или Галилее I столетия. Вот почему я хотел бы предложить исследователям исторического Иисуса при обращении к подобным моделям всегда проверять их на уместность и применимость в той или иной обстановке. Говоря конкретнее, на примере взаимоотношений Иоанна и Иисуса – возможно, имело бы смысл применять эти модели не только к Иисусу, но и к Иоанну. Приведу два примера. Во-первых, с точки зрения Эллисона можно счесть Иоанна и его последователей движением милленариев – как и движение Иисуса[2073]. Что, если мы и правда посмотрим на дело с этой стороны? Какими предстанут перед нами взаимоотношения этих двух движений? Другой пример: часто можно услышать, что вначале Иисус был учеником Иоанна. Подходят ли к таким отношениям наши антропологические модели? Если да – то как нам, учитывая это, понимать сходство и различия между Иоанном и Иисусом?
В-четвертых, не следует пренебрегать вопросом: «Почему?» Наша задача, как историков, реконструировать – в рамках правдоподобия и вероятности – не только то, что произошло, но и то, почему это произошло. Мы не только изучаем разрозненные данные, но и связываем их друг с другом причинами и следствиями. Размышляя над реконструкциями, к каждой я задавал этот вопрос – «Почему?», хотя для Кроссана он серьезнее, чем для Эллисона, и ставит больше проблем. Мне понятны ход рассуждений Кроссана и его логика, приведшая к выводу о том, что «Иисус изменил свой взгляд на миссию и проповедь Иоанна»[2074], но я все же спрашиваю: почему? Кроссан утверждает, что представление Иоанна «перестало казаться адекватным» и Иисус развил «свою характерную весть»[2075]. Но почему? Какие факторы заставили его совершенно иначе оценить весть Иоанна – и создать свою? На мой взгляд, в теории Кроссана есть серьезный пробел: на этот вопрос он, по сути, так и не дает ответа[2076]. С другой стороны, с Эллисоном я согласен: Иисус крестился у Иоанна, стал его последователем, принял его эсхатологические воззрения. Но почему? Иоанна явно приняли далеко не все в Галилее. На «рынке идей» было немало альтернатив. Почему же Иисус решил присоединиться к его движению милленариев? Возможно, очевидного ответа здесь нет; но мне кажется, над этим вопросом стоит задуматься.
В-пятых, премудрость и апокалиптические воззрения находятся между собою не в примитивной вражде, а в сложном взаимодействии. В прошлом их обычно противопоставляли, однако сейчас признано, что их связь намного более многогранна[2077]. Если поместить их как две различные сферы на диаграмму Венна, мы увидим немало точек пересечения. В реконструкциях исторического Иисуса ученые часто ставят сферы друг против друга или выдвигают на первый план одну, пренебрегая второй, и у нас получается «одномерный» Иисус – и «одномерный» Иоанн. Я часто начинаю свой курс в университете, представляясь студентам так, чтобы они увидели меня с разных сторон: я – не просто ученый-новозаветник (это лишь один аспект), но и занимаюсь триатлоном, люблю наблюдать за птицами, люблю вкусно поесть, не говоря уже о ролях мужа, отца… Так же и нам, изучая исторического Иисуса, необходимо ввести в наши исследования «косую черту» – сводящую с ума издателей, когда те видят ее в заголовках – и видеть в Иисусе крестьянина-иудея / пророка-милленариста / мудреца-бунтаря – и так далее.
Иисус и Священное Писание
Герберн Угема
Вступление
К каким священным произведениям обращался Иисус? Как он их толковал? Эта тема во многом гипотетична. Нам не хватает свидетельств, которые бы позволили должным образом ответить на три вопроса: каким было «Писание» Иисуса, что оно для него означало и как повлияло на него. Мы можем предлагать лишь более или менее вероятные ответы на основе косвенных свидетельств, поверяя их историко-критическим анализом Евангелий и весьма неполной реконструкцией иудаизма I в. Кроме того, нам необходим методологически и герменевтически убедительный ответ на вопрос: какие отношения связывают Иисуса из Назарета с иудаизмом и с ранним христианством? Лишь после этого мы можем попытаться предположить, как он толковал ту или иную часть Писаний.
Первый вопрос, о Священном Писании Иисуса, возможно, не столь сложен, если предположить, что он знал и читал те же Писания, какие, по всей видимости, знали и читали и его собратья-иудеи: Тору, Пророков и, по крайней мере, некоторые книги Писаний, например Псалтирь. Но знал ли он также апокрифы или псевдэпиграфы, скажем, Первую книгу Еноха? А как насчет свитков Мертвого моря? К сожалению, нам известно об этом лишь то, что говорят евангелисты, и нам доступны лишь те версии библейских книг и их переводов, которые приведены в Евангелиях.
Итак, мы можем предположить, что Иисус знал и цитировал книги, известные нам как Еврейская Библия (в оригинале или в древнегреческом переводе), статус и содержание которых для иудаизма начала I в. известны, и что последователи Иисуса «помнили» об этом, приближая его учение и адаптируя его отсылки на Священное Писание согласно греческим версиям доступных им библейских книг. Помня об этом ограничении, мы можем заключить, что прежде всего Иисус читал и цитировал Второзаконие, Исаию, Псалтирь и, в меньшей степени, Книгу Даниила.
Как Иисус толковал отрывки и темы из этих (и других) библейских книг? Чем были для него «Писания»? Чтобы найти ответ, важно постараться понять Иисуса как в «родном» ему контексте древнего иудаизма, так и в зеркале раннехристианского восприятия. При этом мы можем сконструировать достаточно неоднородный образ, с одной стороны, учителя Торы, признанного мастера протораввинистической экзегетики, а с другой стороны, проповедника, склонного к обличениям в пророческом духе, что не только позволяет ему войти в традицию прежних израильских пророков, но и возвышает над «обычными» людьми.
Как влияли на него эти тексты? Ответ, в конечном счете, зависит от того, как мы определим представление Иисуса о себе самом; при этом требования научного анализа, не позволяющие нам подходить к этой теме с точки зрения веры, ставят определенные пределы нашей герменевтике. Когда дело доходит до источников, одни ученые полагают, что нам не следует пытаться выходить за пределы того, о чем сообщают Евангелия, другие же указывают на «критерии подлинности», следуя которым, возможно, нам удастся глубже понять слова, дела, цели Иисуса. Считал ли Иисус, что он – последний из пророков и авторитет Мессии дает ему толковать Священное Писание? Можем ли мы с уверенностью сказать, что сам он понимал себя и свои страдания, смерть и воскресение в свете иудейских Писаний, – так же, как их позднее понял апостол Павел?
Чем было Писание для Иисуса?
Исторический Иисус и иудаизм: методологическое исследование
Прежде чем продолжить разговор о том, как Иисус обращался к Священному Писанию, нам необходимо найти методологически и герменевтически убедительный ответ на вопрос о том, какие отношения связывают Иисуса из Назарета как с древним иудаизмом, так и с ранним христианством. Мы можем указать на важное изменение, произошедшее в изучении исторического Иисуса за последние сто лет: если прежде внимание ученых концентрировалось на различиях между Иисусом и древним иудаизмом, Иисусом и новорожденным христианством – теперь они обращают больше внимания на сходство.
Введение: первый поиск исторического Иисуса[2078]
Сто лет назад, в 1906 году, Альберт Швейцер завершил свою книгу о поиске Иисуса в XIX столетии, так называемом Первом поиске исторического Иисуса, такими пророческими словами:
Имена, которыми называли Иисуса – Мессия, Сын Человеческий, Сын Божий – в древности понятные в контексте иудейской религиозной веры, сейчас звучат для нас как отзвуки седой старины. Когда сам он применял к себе эти титулы, на языке тех дней это означало «я главный здесь», «я властитель». Но в наше время мы не можем подобрать ему адекватного определения[2079].
Для самого Швейцера особенно важны две темы: во-первых, понимать Иисуса необходимо в контексте иудейской эсхатологии I в.; во-вторых, суть его вести – это призыв следовать за ним.
Год спустя, в 1907 году, Иосиф Клаузнер, четырьмя годами ранее защитивший в Гейдельбергском университете диссертацию о мессианских ожиданиях в иудаизме[2080], опубликовал книгу Иисус из Назарета: его время, жизнь и учение[2081]. В своем magnum opus Клаузнер проанализировал все источники, известные в его время, и представил предположительный портрет исторического Иисуса в иудейском контексте. Эта книга стала вехой в новозаветных исследованиях, прототипом многочисленных попыток сделать акцент на иудействе Иисуса, предпринятых в 1970-х и 1980-х годах. Хотя в последующие годы многочисленные новые источники (например, открытие рукописей Кумрана и Наг-Хаммади), издания и методы обогатили наше знание Нового Завета, Клаузнер сумел представить наиболее полный и глубокий для своего времени обзор и анализ всех иудейских и христианских материалов, имеющих отношение к Иисусу, а именно таких как: 1а) Талмуд и Мидраш; 1б) Толедот Йешу; 2а) сочинения Иосифа Флавия; 2б) труды Тацита, Светония, Плиния Младшего; 3) послания апостола Павла; 4) произведения древнейших отцов Церкви; 5) апокрифические и неканонические Евангелия; 6) канонические Евангелия.
Как и Швейцер, Клаузнер считает большую часть авторов жизнеописаний Иисуса (со времен Эрнеста Ренана и Фердинанда Кристиана Баура) «либералами» и оценивает результаты их исследований так:
Они попытались преподнести людям современного Иисуса, поскольку исторический, иудейский Иисус периода Второго Храма был слишком чужд их арийским современникам. Поэтому на их либеральных портретах Иисус стал фигурой неисторической. В сущности, он перестал быть Мессией, оставшись лишь «высоконравственным человеком». Изгнана оказалась вся эсхатология – она ведь несовременна, и эсхатологический Иисус не мог оказаться близок сердцу обычного народа. Так Иисус сделался противником древнего иудаизма, носителем новых и совершенно неисторических моральных идей[2082].
Оценивая – в рамках богословия XIX века – то, как представлен Иисус в канонических Евангелиях, Клаузнер предвосхищает и результаты историко-критического метода последующих десятилетий:
Благодаря критическому подходу к Евангелиям, исследованию жизни Иисуса и изучению современного ему иудаизма мистический и догматический туман, скрывавший от нас Иисуса, рассеивается; теперь мы знаем, какие части Евангелий принимать и какие отвергать, какие их части древнее, а какие появились позже; мы знаем, какие черты евангелисты приписали Иисусу в контексте Церкви уже после времен апостола Павла, а какие элементы его национально-еврейского характера они, сами того не замечая, сохранили. Только так мы можем познать исторического Иисуса, Иисуса иудеев, такого, какой только и мог выйти из Израиля, – но Израиль, в силу определенных исторических и личных обстоятельств, не смог принять его как Мессию и не был способен признать его учение единственным путем к спасению[2083].
Второй поиск исторического Иисуса
После Первого поиска и отчасти в виде реакции на него приобрели (и сохранили) огромное влияние труды Рудольфа Бультмана, особенно его «История синоптической традиции» (первое издание 1921 год). В этом и последующих исследованиях он доказывает, что изучение «исторического Иисуса» герменевтически невозможно[2084] – по этой причине в книге Бультмана Теология Нового Завета, исторический Иисус не играет никакой роли:
Проповедь Иисуса принадлежит к исходным данным новозаветной теологии, однако не является его частью. Иначе говоря, теология Нового Завета покоится на постепенном раскрытии мыслей, составляющих основу христианской веры, на изучении их сути, смысла, оснований и следствий. Однако христианская вера существует лишь благодаря христианской керигме, – в керигме, которая провозглашает Иисуса Христа эсхатологическим Божьим деянием спасения, а именно, – Иисусом Христом, распятым и воскресшим. Это провозглашение родилось в керигме ранней [христианской] общины, но не в проповеди самого исторического Иисуса, хотя [христианская] община часто добавляла элементы своей керигмы в рассказы о нем. Таким образом, богословские рассуждения и в частности теология Нового Завета начинаются лишь с керигмы[2085].
В дальнейшем он развил программу развенчания мифов, согласно которой:
Ход истории… доказал, что мифология ошибочна. Представление о Царстве Божьем мифологично, как и понятие последних времен… Мы считаем это мировоззрение мифологическим, поскольку оно расходится с мировоззрением, развиваемым наукой со времен Древней Греции и принятым всеми современными людьми. В основе этого [современного] мировоззрения лежит связь между причиной и следствием[2086].
На основе этой новой герменевтики развенчания мифов, – которые, по Бультману, появились уже в посланиях апостола Павла и особенно в Евангелии от Иоанна – можно лишь заменить «мифологическое» мировоззрение Нового Завета научным взглядом на мир, понятным современному человеку. Однако лишь гораздо позже заметили, что Бультман совершенно устранил из образа Иисуса все характерно иудейские черты, а в вопросе о речениях исторического Иисуса отверг все их толкования, возникшие после Пасхи. Для Бультмана исторический Иисус по-прежнему принадлежал к миру древней иудейской религии, а раскрытие новой христианской веры, по его мнению, началось с Павла и Иоанна.
Так называемый Второй поиск исторического Иисуса начался в 1953 году, когда Эрнст Кеземан прочел бывшим ученикам Бультмана лекцию под названием «Проблема исторического Иисуса», в которой предложил критерии нового поиска[2087]. Тот метод, который он предложил применять к Новому Завету в поиске подлинных речений Иисуса, наиболее четко сформулирован в так называемом «критерии двойного несходства», вымостившем путь для Второго поиска в 1950–1960-х годах: «Исторической надежности можно достичь лишь в одном случае, а именно: если предание по каким-либо причинам нельзя ни вывести из иудаизма, ни приписать раннему христианству, особенно если иудеохристианство ослабило или перетолковало какое-либо предание»[2088].
Хотя ученые принимали критерий двойного несходства, уделяя внимание в первую очередь тому, как эти критерии несходства применяются к иудаизму и к христианству, изначальные намерения самого Кеземана были куда более позитивны и оптимистичны. В отличие от Бультмана, он полагал, что об историческом Иисусе мы можем узнать достаточно многое. Более того, на той же странице, где сформулирован столь часто используемый критерий двойного несходства, он предлагает и второй критерий, при помощи которого можно проследить, что общего у Иисуса одновременно с древним иудаизмом и ранним христианством[2089].
Третий поиск исторического Иисуса
После Второго поиска, инициированного и вдохновленного критерием двойного несходства и серьезно повлиявшего на работы немецких ученых (особенно подпали под это влияние Гюнтер Борнкамм, Херберт Браун, Иоахим Иеремиас, Курт Нидервиммер, Эдуард Швейцер и Этельберт Штауфер[2090]), в 1980-х – 1990-х годах начался Третий поиск, прежде всего в англоязычном мире (среди авторов – Джон Доминик Кроссан, Джеймс Чарлзворт, Маринус де Йонг, Бёртон Ли Мэк, Геза Вермеш, Николас Томас Райт и участники «Семинара по Иисусу»[2091]), в последние годы оказавший косвенное, но серьезное влияние и на научную мысль континентальной Европы[2092].
В последнее время, благодаря Герду Тайсену и Дагмар Уинтер, дискуссия достигла Германии, начавшись с вопросов о методе. В своей книге, посвященной критериям в исследовании исторического Иисуса, оба автора подвергают сомнению критерий двойного несходства – и рассматривают аргументы, высказанные против него в англоязычной литературе[2093]. Оценивая предшествующее изучение Иисуса, они приходят к следующему принципиальному выводу:
Критерий двойного несходства и мотивы, лежащие в его основе, определяют весь современный поиск исторического Иисуса. Мы показали, что имеем дело, в сущности, с двумя различными критериями, зачастую связанными с двумя различными заботами: полученный на основе анализа источников критерий несходства с христианством, часто подпадающий под влияние церковных и догматических интересов, и основанный на сравнении религий критерий несходства с иудаизмом, в котором господствуют антииудейские идеи, а также представления, заимствованные из философии истории… Новый поиск более благосклонен к критерию несходства с иудаизмом. Этот критерий теперь формулируется открыто и яростно отстаивается, в то время как критерий несходства с христианством отходит на второй план и используется очень осторожно, из-за церковного давления на критическую библеистику… В вопросе об инаковости и уникальности Иисуса Третий поиск расходится с Первым. Третий поиск в данном случае отвергает критерий несходства с иудаизмом, сознавая, что в истории богословия ясно видны антииудейские проявления, и с осторожностью использует критерий несходства с христианством[2094].
После этой методологической оценки критерия двойного несходства оба автора формулируют «критерий правдоподобия», в котором говорят о контекстуальном правдоподобии в связи с иудаизмом и о воспринимаемом правдоподобии в связи с христианством[2095], поскольку: «Представление об Иисусе полностью правдоподобно лишь тогда, когда мы рассматриваем и обстановку, в которой оно возникает, и то, как оно воспринято»[2096], а также:
Связь различных элементов жизни Иисуса, которые составляют уникальное созвездие в контексте иудаизма и в то же время выступают как исторически воспринимаемая связь с зарождением ранней христианской веры, находившейся в процессе отделения от иудаизма и в этом смысле поистине уникальной, – вот критерий историчности. По этой причине мы говорим о полном историческом правдоподобии[2097].
Заключение, сделанное в книге Тайсена и Уинтер об историческом Иисусе – это убедительная попытка перефразировать проблему преемственности и расхождения, которая, по сути, представляет более глубокий уровень методологической проблемы поиска. Даже для сторонников иного методологического подхода очевидно, что за минувшие два десятилетия мы отошли от критерия двойного несходства. Прежде чем мы сможем сказать, куда мы направимся, важно увидеть проблемную суть критериев, к которым мы обращались в прошлом.
Методы и данные: что нам внедрить?
Критерий двойного несходства: критика
Итак, присмотримся к критерию двойного несходства – к его сути, методологии, слабым местам, – а затем посмотрим, найдется ли ему альтернатива.
Если мы попытаемся, применяя критерий двойного несходства, воссоздать «богословие» Иисуса, то, по общему мнению многих ученых, для исследования нам представится довольно мало понятий и концепций – и вот они:
1. Его эсхатология, то есть Царство Божье (Рудольф Бультман, Мартин Дибелиус, Вернер Георг Кюммель, Гюнтер Борнкамм, Иоахим Гнилка, Эдуард Швейцер, Херберт Браун, Давид Флуссер).
2. Его представление о себе самом (Дибелиус, Кюммель, Борнкамм, Гнилка, Швейцер, Флуссер).
3. Его этика (Дибелиус, Кюммель, Борнкамм, Гнилка, Швейцер, Браун, Флуссер)[2098].
Хотя порядок освещения этих трех основных тем – эсхатологии, представления о себе и этики – у разных ученых-новозаветников может различаться в зависимости от их точки зрения, необходимо признать, что и эсхатология, и этика Иисуса должны были вытекать из его представления о себе, – а значит, именно его необходимо рассмотреть в первую очередь. А поскольку этика Иисуса, несомненно, зависит от его эсхатологии, то эсхатология должна стоять на втором месте, а этика – на третьем. Итак, порядок такой: представление Иисуса о себе, его эсхатология, его этика.
Проблема критерия двойного несходства в том, что чем больше мы узнаем о древнеиудейских традициях и о традициях раннего христианства, возникшего после Пасхи, тем меньше у нас остается пространства для воссоздания подлинных речений Иисуса, которые, по определению, должны отличаться и от традиций иудеев, и от традиций христиан[2099], – и, в конце концов, от исторического Иисуса попросту не остается ни следа.
Более того, если даже отвлечься от этого методологического тупика – куда заведет нас критерий двойного несходства, если говорить о богословии? Возможно ли вообразить учение Иисуса в полном отрыве от иудаизма? И разве христианство в ранней форме действительно было совершенно новой религией, никак не связанной с иудаизмом и ни в чем на него не похожей? Второй поиск зачастую дает ответ, основанный на догматических предрассудках, а у них мало общего с историческим Иисусом, если рассматривать его с точки зрения строгой методологии.
Итак, критерий двойного несходства по крайней мере в некоторых случаях производит впечатление догмы, слегка замаскированной под научный метод и «подрихтованной» согласно нуждам современной Церкви. Говоря прямее, это подход, ориентированный на читателя. Однако труды, например, Маринуса де Йонга показывают, что вполне оправдано изучение исторического Иисуса с применением критерия правдоподобия. Для де Йонга представление Иисуса о себе самом и его учение вовсе не обязательно должны отличаться от их иудейского «фона» или от того, как воспринимали их ранние христиане[2100].
Критерий двойного сходства
По этой и другим причинам я сформулирую ряд аргументов в защиту альтернативного метода, который назову критерием двойного сходства[2101].
Исследуя исторического Иисуса, нам необходимо соблюсти равновесие между историческим воссозданием и богословским восприятием и отдать должное четырем различным аспектам: методу, который предстоит применить; историческим данным о жизни Иисуса; подлинности речений и деяний Иисуса и теологической рецепции его слов и поступков.
Что особенного способна предложить моя область знаний?
Критерий двойного сходства
Что касается применяемого метода, то я бы предложил в поисках исторического Иисуса работать с критерием двойного сходства. Подлинными следует считать те слова и деяния, которые можно вывести из иудейского «фона» или определенных древнеиудейских традиций, а также проследить в истории их рецепции до Древней Церкви или отдельных раннехристианских традиций. Таким образом, будет отдана историческая справедливость как иудаизму Иисуса из Назарета, так и его влиянию на форму и содержание христианской веры, и более того, будет отдано должное способности его учеников понимать его учение и «верно» его передавать.
Исторические данные о жизни Иисуса
Что касается исторических данных о жизни Иисуса, то биографических сведений о его личности, как показал Геза Вермеш в первой главе своей книги Иисус-иудей, можно отыскать великое множество[2102]. Однако необходимо спросить, какие богословские ассоциации связаны у нас с этими данными[2103]. С одной стороны, эти сведения, несомненно, определяют собой рамки нашего исторического контекста (т. е. социального, религиозного и политического мира Палестины под властью Римской империи I в.), той отправной точки, от которой мы начнем задавать вопросы об Иисусе. С другой стороны, говоря богословски, эти исторические данные важны для нас по иной причине: они указывают на древний иудаизм как на «колыбель» Иисуса. И в любой реконструкции исторического Иисуса нам не обойтись без Иисуса-иудея, – он становится герменевтической необходимостью, поскольку – и в этом я твердо убежден, – не только керигматический Христос, но и жизнь и учение исторического Иисуса формируют основу христианской веры. Если мы руководствуемся критерием двойного несходства, то чем дальше продвигается изучение традиций, тем меньше остается у нас подлинных речений Иисуса, и тем меньше остается в Иисусе иудейских черт. А критерий двойного сходства отдает должное Иисусу-иудею как неотъемлемой части христианского богословия.
Подлинность речений и деяний Иисуса
Если бы подлинными были только те слова Иисуса, которые невозможно вывести из иудаизма, на вопросы об Иисусе-иудее или о его иудейском окружении едва ли можно было ответить. Если бы подлинными были только те слова Иисуса, которые можно вывести из иудаизма – мы не могли бы ответить на вопрос о связи между этим иудейским Иисусом и раннехристианской керигмой. Если приписывать все истинно христианское керигме, возникшей после Пасхи, то выйдет, что исторический Иисус вообще не нужен – и зачем тогда евангелисты описывали и подчеркивали именно этот аспект его жизни? Если же ядро христологических речений, играющих центральную роль, принадлежит самому Иисусу, значит, богословский вклад Евангелий и Древней Церкви неважен и ничего не стоит.
Иными словами, если мы хотим продолжать исследование на основе связи между древним иудаизмом, историческим Иисусом и раннехристианским его восприятием, герменевтически необходимо указать на эту связь – разумеется, со вниманием и к тем расхождениям, которые должны быть и, несомненно, есть между ними. Вопрос о критерии – не что иное, как попытка установить (или восстановить) эту связь и преемственность на аргументированной основе.
Итак, чтобы правильно подойти к этой теме, необходимо сочетать методы истории традиции и истории рецепции – и сосредоточиться на том богословском «мостике», который слова и деяния Иисуса перебрасывают между ранним иудаизмом и ранним христианством. Так поиск исторического Иисуса становится не только историческим, но и (даже в первую очередь) богословским.
Затем нам следует изучить законы и движущие силы, лежащие в основе этих процессов преемственности и расхождения – и для этого надлежит исследовать как основополагающий иудейский контекст, так и реакцию ранних христиан. Именно по этой причине я предпочитаю говорить о критерии двойного сходства.
Теперь, когда мы опознали эти герменевтические проблемы, вернемся к вопросам о том, что представляло собой то Священное Писание, к которому обращался Иисус, и что могло означать для него само понятие «Священного Писания». А в конце мы рассмотрим экзегетический пример, из которого сможем сделать определенные выводы о том, как эти тексты на него повлияли.
Иисус и его Священное Писание
Суть Священного Писания для Иисуса
Ли Мартин Макдональд провел исследование библейского канона и указал[2104], что в вопросе о священных текстах, к которым обращался Иисус, надлежит различать цитирование библейских отрывков (цитировать, разумеется, можно лишь ту книгу, которую знаешь) и то, могла ли эта книга вдохновлять Иисуса, быть для него священной или авторитетной. Итак, вопрос о том, каким было для Иисуса Священное Писание, в сущности, заключает в себе две проблемы: 1) какие книги или пассажи были для него авторитетны, и 2) какие книги или пассажи он просто знал и цитировал.
Учитывая наш критерий двойного сходства, на первый вопрос необходимо отвечать с учетом того, что мы знаем о древнеиудейских традициях, а вторую часть ответа выводить из раннехристианских источников. Иными словами, вполне возможно, что Иисус считал священными или авторитетными те же книги, какие причисляли к таковым некоторые его единоверцы-иудеи, а именно – двадцать две[2105], двадцать четыре[2106] или двадцать три[2107] книги, со временем составившие Ветхий Завет. Под вопросом были по меньшей мере одна или две книги, скорее всего – Песнь Песней и Плач Иеремии. Однако все источники по этому вопросу, кроме одного, созданы после 70 г. н. э. и, следовательно, не дают прямого ответа на вопрос о том, как обстояло дело в начале нашей эры[2108]. Не можем мы с уверенностью говорить и о форме, статусе и содержании отдельных библейских книг, подпадающих под обобщенное выражение «Закон, Пророки и другие Писания», известное как минимум со времен Пролога к Сираху.
Из раннехристианских источников (и следуя за Макдональдом, который ссылается на исследование Ричарда Томаса Франса[2109], а также на Дейла Эллисона[2110], приводящего обзор аллюзий и косвенных ссылок в Q) мы можем вывести некоторые заключения. В Евангелиях Иисус цитирует, перефразирует или ссылается на пять Книг Моисеевых (предпочитая Второзаконие) и Великих Пророков (Исаию, Иеремию, Иезекииля, предпочитая Исаию), а из числа «других Писаний» – Псалтирь и особенно часто цитируемого Даниила. Из Малых Пророков он, по-видимому, цитирует всех, кроме Авдия, Наума, Аввакума и Аггея. Из Писаний он использует Псалтирь, Притчи, Книгу Иова и Паралипоменон – и не использует Песнь Песней, Руфь, Плач Иеремии, Екклесиаста, Есфирь, Ездру и Неемию. Обращение к книгам, впоследствии составившим Ветхий Завет, в речениях Иисуса в источнике Q ограничено такими: Бытие, Исход, Левит, Второзаконие, Первая, Третья и Четвертая книги Царств, Исаия, Иеремия, Иезекииль, пять Малых Пророков (Амос, Иона, Михей, Аввакум и Малахия), а также Псалтирь, Притчи, Книга Даниила и Вторая книга Паралипоменон. Из библейских книг, входящих сейчас в канон, чаще всего и в Евангелиях, и в Q цитируются Второзаконие, Исаия и Псалтирь; реже, но также довольно часто – Бытие, Исход и Книга Даниила.
Что же касается писаний, в наше время не входящих в канон, можно предположить, что Иисус знал по крайней мере некоторые апокрифы и псевдэпиграфы, такие как Первая книга Еноха, а возможно, и Первая и Вторая книги Маккавейские: кажется, что они хорошо ему известны (и обращения к ним заметны в других раннехристианских источниках – Деяниях и Посланиях Павла). Далее, у новозаветных авторов встречается множество аллюзий на такие апокрифы и псевдэпиграфы, как Сирах, Премудрость Соломона, Вознесение Исаии, Апокалипсис Илии, Первая Книга Еноха, Житие Адама и Евы и Апокалипсис Моисея[2111]. К сожалению, никаких следов дискуссий о каноничности этих книг в источниках не сохранилось[2112].
С учетом этого мы можем заключить, что Иисус, представленный в Евангелиях и в Q, обращался к довольно специфической части (в основном это Второзаконие, Исаия, Псалтирь и Книга Даниила) того, что мы ныне называем Еврейской Библией (Ветхим Заветом), и не уделял особого внимания вопросу каноничности. Его «канон в каноне» содержит важные пророческие и апокалиптические пассажи, а также богословие Второзакония (если применить позднее выражение, в то время неизвестное).
«Канон» цитируемых текстов Иисуса явно отличается от «канонов» других иудейских групп – хасмонеев, саддукеев, фарисеев и ессеев. Этот выбор вполне может сообщить нам нечто о представлении Иисуса о себе, особенно если мы поймем, на чем строилась его экзегеза и намеренно ли он отбирал и толковал библейские пассажи так, как о том сообщают Евангелия.
Значение Писаний для Иисуса
В своем обзоре недавних исследований, посвященных тому, как Иисус применял и толковал Священное Писание и как понять это в контексте древнего иудаизма и раннего христианства, Брюс Чилтон и Крэйг Эванс делают следующие замечания. Прежде всего, большая часть учения Иисуса характеризуется частыми ссылками на Писание – не только в смысле цитируемых стихов, но и в смысле контекста этих цитат, причем последний в Евангелиях несколько затемнен, поскольку евангелисты склонны адаптировать цитаты и аллюзии к Септуагинте и вводить их вместе с цитатными формулами[2113].
Поэтому вопрос о том, как Иисус толковал Священное Писание, важно рассмотреть в контексте Древней Иудеи: под этим оба автора понимают в первую очередь контекст ранних раввинистических толкований Библии[2114]. В связи с последним они приводят ряд примеров, когда Иисус использует семь раввинистических миддот, основных герменевтических принципов раввинистической литературы[2115]. В таргумах также немало примеров, проясняющих то, как Иисус толкует Писание, особенно Книгу Исаии, к которой он обращается чаще всего; таргумы на нее датируются серединой I – серединой II вв. н. э. Наконец, необходимо упомянуть и кумранские тексты, хотя евангельские рассказы о том, как Иисус цитирует и толкует Писание, мешают проводить параллели: цитаты приводятся по-гречески, а не по-арамейски, и относятся к более позднему времени, чем кумранские свитки[2116].
К слову, то, как Иисус цитировал и толковал Писание, явно имеет параллели с тем, как его толковали харизматические учителя-раввины. Кроме того, можно указать на определенное сходство интерпретаций, которые дал Иисус, с пророческим обличением, которое Чилтон и Эванс (вслед за Дж. Сандерсом) определяют как «(божественный) вызов (человеческим) представлениям о природе Бога и о его отношении к человечеству», а также с герменевтикой, которая «ставит под вопрос популярное или господствующее понимание такой (святой) традиции». Возможно, это еще ярче проявляется в символических действиях Иисуса[2117].
Рассуждая о том, как именно Иисус толковал пассажи и темы библейских книг, также важно увидеть Иисуса в его древнеиудейском контексте и попытаться разглядеть его отражение в зеркале раннехристианской рецепции. При этом у нас может получиться достаточно сложный образ: с одной стороны – учитель Торы, сторонник принципов толкования, принятых в раннем раввинизме, а с другой – последователь традиции пророческих обличений, которая сделала его частью традиции израильских пророков и возвысила над обычными людьми[2118].
Влияние священных текстов на Иисуса
Исторический Иисус и заповедь любви
Представление Иисуса о себе, его эсхатология и этика яснее всего выражены в Нагорной проповеди. Для прояснения вопроса о его отношениях как с древним иудаизмом, так и с ранним христианством можно взять, например, призыв любить врагов своих в Мф 5:43–48 и Лк 6:27–37, за которым, возможно, стоит версия Q 6:27–35. Итак, взглянем на эти перикопы и на проблемы, с ними связанные.
На вопрос о том, был ли исторический Иисус автором заповеди любви, отвечали уже многие – и очень по-разному. Причин для таких различных ответов по меньшей мере четыре[2119].
1. Текст, на который ссылается Иисус, Лев 19:18b, в наше время представляет собой часть Еврейской Библии и уже в дохристианском эллинистическом иудаизме получил толкование с явно универсальной тенденцией, отчасти потому, что понимался в свете Золотого Правила[2120], отчасти потому, что заповедь о любви к ближнему сочеталась в нем с заповедью о любви к Богу (Арист. Фил 207; Тов 4:15; Юб 36:4; Сир 7:22; 31:17; Зав. Сим 4:6; Зав. Исс 5:2; 7:6; Зав. Зав 5:1; Зав. Вен 4:3)[2121].
2. Схожим образом и в раннем раввинистическом иудаизме истолкование заповеди любви тяготело к различным тенденциям: в ней видели суть всей Торы и призыв к подражанию Богу (imitatio Dei), помимо прочих интерпретаций (Тг Ер I на Лев 19:18b; м. Нед 9:4; м. Авот 1:12; т. Санх 9:11; Сифра Кдошим 4:12; Мидраш Раба Берешит 24:7; вав. Шаб 31a)[2122].
3. По всей видимости, лишь ессейский иудаизм отказался от этой тенденции и придерживался узкой интерпретации – с которой, по-видимому, и спорит Иисус. См., например, CD 6:20–7:1[2123]. Однако в наше время общее мнение ученых не принимает такой интерпретации ессейской литературы.
4. Все новозаветные отрывки, предлагающие истолкование заповеди любви (Мк 12:28–34; Лк 10:25–37; Мф 22:34–40 и Лк 6:32–35; Мф 5:43–48 и 19:16–26, а также Гал 5:14 и Рим 13:9–10) могут быть поняты в контексте раннего иудаизма[2124]. С точки зрения истории традиции в истолковании заповеди любви, которое дает Иисус, нет ничего нового. Даже у заповеди любви к врагам в древнем иудаизме имеются параллели (Зав. Вен 4:3).
Однако следует ли нам смотреть лишь на филологическую подоплеку заповеди любви, или и на различное богословие, лежащее в основе ее интерпретаций? Для объяснения, почему следует любить ближнего, в древнем иудаизме использовались различные богословские аргументы, как то: потому что верующие должны подражать Богу (imitatio Dei); потому что верующие должны быть святыми, как Бог свят; потому что люди созданы по образу Божьему, так что любовь к ближнему равна любви к Богу[2125]. В раннем христианстве также можно найти эти и подобные им аргументы. Например, заповедь любви рассматривалась как суть всего закона, а заповедь о любви к ближнему понималась в свете призыва подражать Христу (imitatio Christi)[2126].
А как могло обстоять дело в случае исторического Иисуса? Если исходить из того, что у Иисуса было свое «богословие», то мы должны спросить, какие из этих богословских аргументов могли принадлежать ему. Было ли у него ясное богословское обоснование необходимости любить ближних, в том числе врагов? Дошло ли оно до нас в подлинных речениях, как, например, в Лк 6:27–36? Дают ли нам Евангелия какой-то ключ к тому, что считать подлинно принадлежащим Иисусу?[2127]
Если мы, пытаясь определить, принадлежит ли Иисусу заповедь о любви к врагам, применим к ней критерий двойного сходства, то должны будем спросить, можно ли вывести ее как из древнеиудейской, так и из раннехристианской традиции. Из последней она выводится совершенно четко: все тексты, будь то Q, Лука, Матфей или апостольские отцы вплоть до Иустина, связывают ее с Иисусом, называют ее словами Иисуса, подробно излагают и реализуют, не придавая ей никакого нового значения. Но выводится ли она из традиции древнего иудаизма? Здесь нам необходимо спросить: 1) есть ли параллели для связи заповеди о любви к ближним с заповедью о любви к врагам; 2) есть ли параллели для связи одной или обеих этих заповедей с Золотым Правилом; и 3) откуда взялась сама формулировка «любите врагов ваших».
Отвечая на первый вопрос, можно указать на Зав. Вен 4:3 и м. Авот 1:12. Предположение, что Завет Вениамина написан христианами, не опровергает того, что в древнем иудаизме заповедь о любви к ближним могла применяться и к врагам, особенно если рассматривалась как призыв к imitatio Dei, ибо Бог любит всех[2128]. В Завете Вениамина 4:3 лучше всего выражена оригинальная иудейская идея о том, как следует поступать с человеком, замыслившим против тебя зло: сотворить ему добро. Тогда Бог защитит тебя и поможет победить любое зло[2129]. Именно это говорит Иисус в Лк 6:35–36: Бог благ и милосерд к неблагодарным и злым – и мы должны поступать так же.
Отвечая на второй вопрос, можно указать на Арист. Фил 207, Тов 4:15, Юб 36:4, Сир 7:22 и Тг Ер I на Лев 19:18b. Объяснение Лев 19:18b через Золотое Правило было прекрасно известно в эллинистическом иудаизме и перешло оттуда в иудаизм раввинистический.
Говоря о третьем вопросе, можно указать на само Лев 19:18b, где мы также находим выражение «любить» (ивр. ’āhab в Еврейской Библии и раввинистической литературе; ἀγαπᾶν в Септуагинте и Новом Завете)[2130]. Однако, если смотреть с точки зрения призыва к imitatio Dei, любовь к врагам – это правильная интерпретация любви к ближним! Таким образом, Лк 6:27–36 справедливо подчеркивает, что любовь к ближнему – это путь, позволяющий уподобиться Богу, и, следовательно, она неминуемо должна включать в себя и любовь к врагам. Лк 6:35–36 принимает точку зрения Бога: «…ибо Он благ и к неблагодарным и злым», и призывает к imitatio Dei: «Будьте и вы милосерды, как Отец ваш милосерд», в то время как Лк 6:31–33 предлагает человеческую точку зрения.
Однако в Лк 6:31–33 содержится и критика неверного истолкования или исполнения заповеди любви. Золотое Правило не следует понимать так, будто любви достойны лишь те, кто любит нас; напротив, необходимо любить и тех, кто не любит нас, чтобы в конце концов и они смогли нас полюбить. Таким образом, эгоистическая интерпретация Золотого Правила здесь критикуется с позиции заповеди о любви к врагам. Однако заповедь о любви к врагам имеет прямое и ясное еврейское происхождение – призыв к imitatio Dei. Если Бог любит неблагодарных и злых, к тому же должны стремиться и мы.
Итак, заповедь Иисуса о любви к врагам представляет собой призыв к imitatio Dei и восходит к Еврейской Библии и древнеиудейской традиции. В сущности, это не что иное, как интерпретация Законов Святости (Лев 17–26)[2131]. Истолкование ее Иисусом и позднейшие актуализации впоследствии были переняты раннехристианской традицией.
Мы можем заключить, что Иисус предлагает здесь интерпретацию Лев 19:18b, совпадающую с основной богословской идеей Законов Святости: будьте такими же и действуйте так же, как Отец ваш на небесах. Иисус указывает на Бога как на того, кому надо подражать и за кем надлежит следовать. Таким образом, представление Иисуса о самом себе в этой перикопе может быть самопониманием «пророка» и «учителя», который критикует общепринятые интерпретации, указывая на «истинный смысл» Писания. Однако его последователи поняли это речение двояко, сперва как призыв к imitatio Dei, а потом и к подражанию Христу – imitatio Christi[2132].
Новое представление Иисуса
Если мы захотим подвести итог и представить Иисуса на основе того, какие тексты Писания он цитировал и как их трактовал, – применив критерий двойного сходства, – и спросим себя, что в этом представлении выводится из древнего иудаизма, а что – из раннего христианства, то придем к следующим гипотетическим ответам.
Истоки в иудаизме
С помощью метода истории традиций мы можем вывести из иудаизма следующее. Иисус видел в себе не просто пророка, но «последнего из пророков», завершающего ряд тех, кто проповедовал грядущее Царство Божье и призывал к покаянию. В этом он отличается от более ранних пророков, в том числе от Иоанна Крестителя. К тому же он считал, что играет в приближении Царства Божьего некую особую роль, которую связывал с самоопределением «Сын Человеческий» и со своими ожидаемыми страданиями.
По всей видимости, Иисус сознавал и свои особые дары и задачи как «учителя». Об этом мы узнаем, например, из его чудес и проповедей. Чудеса исцеления – символические знаки начала Царства Божьего, в центре проповедей также стоит Царство. Значит, Иисус понимал, что Царство Божье не «свалится с неба» и не будет утверждено насилием, как полагали в некоторых апокалиптических и зилотских кругах. Тем не менее пришествие Царства Божьего произойдет в определенное время и будет сопровождаться определенными событиями, без которых Царство не начнется.
В промежутке между началом Царства Божьего и его эсхатологическим исполнением Иисус считал особенно важными две темы: этику и знамения последнего дня; и то, и другое сравнимо с учением кумранских ессеев. В центре этики Иисуса – истолкование заповеди любви; в центре эсхатологии – необходимость терпеливо ждать конца мира, не прибегая к насилию, и возложить все надежды на действующего в истории Бога. В качестве образца обоих типов поведения Иисус предлагал себя самого: своим примером он показывал, как любить ближнего и как вести себя перед лицом смерти, с твердой верой, что однажды Бог воскресит его из мертвых. Последнее характеризует его как «мученика», сравнимого с мучениками Второй книги Маккавеев.
Из этих замечаний очевидно, что в контексте древнего иудаизма Иисуса можно понимать как «пророка», «учителя» и «мученика», сознававшего свою близкую смерть[2133].
Истоки в христианстве
С помощью метода истории рецепции мы можем проследить то, что выводится из христианства. Представление Иисуса о себе самом строилось не столько на определении себя как царственного Мессии, сколько на мысли о себе как о «Сыне Человеческом», а может, и о «Сыне Божьем». По Евангелиям, цель его путешествия в Иерусалим была в том, чтобы войти в Храм, «дом Отца», взойти на престол как Сын Божий, там же встретить смерть и воскреснуть.
Однако самый важный вопрос состоит в том, считал ли Иисус свою грядущую смерть и воскресение средством искупления человеческого греха. Иными словами, как соотносится исторический Иисус с керигмой о распятом и воскресшем Христе?
На основе наших знаний о богословии древнего иудаизма можно сказать, что Иисус разделял следующий «минимум» богословских воззрений: он верил в воскресение, ибо верил в Бога, творца всяческой жизни и судию всего живого. В вопросе о воскресении он был ближе всего к фарисеям, которые, в отличие от некоторых других иудейских группировок, также верили в воскресение мертвых. Однако важнее то, что он выступал за веру в любовь Бога ко всему человечеству, в Тору как выражение воли Божьей, в призыв Бога стать святыми, как сам Бог свят, и в идею о том, что предельное выражение любви к ближнему – пострадать за него, как Бог страдает за человечество. Итак, в основном богословие Иисуса основывалось на богословии, которое можно найти в Еврейской Библии.
Сам Иисус считал себя «последним пророком» Бога Авраама, Исаака и Иакова: он видел себя достаточно близким к Богу, чтобы называть его Авва. Ради возвещенного им Царства Божьего он был готов пострадать как «мученик». Ради этого Бога готов был умереть – и верил, что Бог воскресит его из мертвых. Иными словами, в богословии Иисуса вполне могло присутствовать определенное сознание искупительного значения собственной смерти и грядущего воскресения.
Наконец, важнейшей стороной отношений между Иисусом и первыми христианами стало то, что он призывал их следовать за собой так же, как сам он следовал Богу. Таким образом, в Новом Завете уже прослеживается превращение imitatio Dei в imitatio Christi, – превращение, начавшее новый процесс и легшее в основу благой вести. Последствием как иудейской imitatio Dei, так и христианской imitatio Christi часто бывало мученичество, о чем сообщают, например, Лука, а также иудейские, греческие и римские историки[2134].
Поскольку сами первые христиане видели основания для своего поведения в смерти и воскресении Иисуса[2135], их imitatio Christi могло вдохновляться историческим Иисусом. Итак, слова и дела первых христиан прямо указывают на слова и дела исторического Иисуса, которому они стремились подражать[2136].
Вклад авторов Евангелий состоит в том, что они развили христологию, которая у Иисуса из Назарета лишь подразумевалась, и призвали людей следовать ему как Христу и Господу. При этом они ясно давали понять, что Иисус из Назарета для них – в первую очередь историческая фигура, реально живший иудей, словом и делом учивший Торе и являвший собой пример исполнения Торы. Новое понимание Еврейской Библии, христологическая интерпретация того, что со временем получило название «Ветхого» Завета, сложилось позднее[2137].
Подведем итоги наших изысканий. Основная методологическая проблема в поиске исторического Иисуса – вопрос о том, как сформулировать критерии для модели, объясняющей ту связь между древним иудаизмом и ранним христианством, воплощением которой стала жизнь Иисуса. Свой методологический подход я называю «критерием двойного сходства». Наша экзегетическая цель состоит в том, чтобы найти равновесие между исторической реконструкцией и богословской рецепцией и сформировать такие параметры изображения Иисуса, которые будут отдавать должное и преемственности, и новшествам. Наша богословская забота – найти объяснение тому кажущемуся парадоксу, что Иисус, будучи иудеем, в то же время определил собою содержание новой христианской веры. На мой взгляд, в представлении о себе, в своей эсхатологии и в своей этике Иисус стал мостиком между этими двумя религиями[2138].
Заключение
В заключение заметим, что Священное Писание Иисуса было примерно таким же, как и у его современников-иудеев: Тора, Пророки и некоторые Писания, с явным предпочтением Второзакония, Исаии, Псалтири и Даниила. Иисус цитировал и толковал эти тексты согласно двум основным принципам – идентификации и актуализации, однако хорошо владел и протораввинистическими методами истолкования Библии и проявлял немалую приверженность пророческим обличениям – возможно, под влиянием девтерономической теологии (хотя самого этого термина он, конечно, не знал). Его представление о себе в целом строилось на этой основе: в центре стояли роли «пророка», «учителя» и «мученика» – понятия, отраженные и в то же время христологически перетолкованные в восприятии ранних христиан.
Священное Писание Иисуса: был ли у него библейский канон?
Ли Мартин Макдональд
Вступление
Некоторые библеисты полагают, что еще задолго до эпохи Иисуса у иудеев сложился непреложный канон еврейского Священного Писания. Иные из них имеют даже смелость утверждать, что Иисус передал этот канон своим ученикам и что один и тот же канон признавали и фарисеи и другие иудеи – современники Иисуса, и ранние христиане, и позднейшие раввинистические иудеи. Роджер Беквит, например, пишет: «Новый Завет показывает нам, что канон Иисуса и его апостолов был шире самарянского и неотличим от фарисейского – того, который мы теперь считаем стандартным (а может, и единственным) иудейским каноном»[2139]. Однако странно, даже анахронично говорить о том, что у Иисуса и апостолов вообще был какой-то библейский канон[2140]. На сегодняшний день у нас нет четких свидетельств, поддерживающих эту точку зрения; напротив, факты говорят об обратном. Джеймс Вандеркам признает, что ни сами авторы библейских книг, ни их современники не говорили о «каноне» в более позднем, формальном смысле – как об окончательном или неизменном собрании священных текстов, и справедливо заключает:
Поскольку специализированное использование этого термина [канон] впервые появляется лишь у отцов Церкви, едва ли он может служить отправной точкой для решения той проблемы, которая волнует нас. По всей видимости, в иудейских текстах периода Второго Храма попросту не существует слова, которое бы выражало собой характерное чувство канона[2141].
Когда Иисус говорит о «Писании» или цитирует его, чаще всего он имеет в виду тексты, со временем вошедшие в иудейскую и христианскую Библию; однако, по-видимому, он был знаком и с другими религиозными текстами, которые никак специально не определял. Как я покажу далее, он цитирует не все книги современной Еврейской Библии; более того, ему лучше всего известны религиозные тексты, впоследствии в Еврейскую Библию не вошедшие – и он даже обращается к ним чаще. Вряд ли Иисус цитировал все книги, которые он и его ученики признавали Писанием; большая часть его учения была, по сути, спонтанной и касалась в основном особых проблем, с которыми ему приходилось сталкиваться в дни служения. Например, в Лк 4:1–12 и в Мф 4:1–11 Иисус цитирует священные тексты в ответ на каждый вызов определенного искушения[2142]. В других случаях он, по-видимому, обращался лишь к тем текстам, которые поддерживали или проясняли его учение. Это, конечно же, разумно – однако не дает нам возможности определить, какие еще тексты он мог признавать священными. Допустим, нам было бы известно все, что сказал Иисус, – хоть это и невозможно (Ин 20:30–31) – какие еще тексты он мог бы цитировать в качестве Священного Писания? Вполне возможно, что Иисус и его ученики признавали Писаниями и другие иудейские книги, имевшие хождение в Израиле I в.; однако это по большей части «аргумент от умолчания». Вряд ли мы сможем когда-либо составить список всех книг, которые включал в Священное Писание Иисус, ведь сам он такого списка никогда не приводил. Однако вполне возможно, исследуя его учение, показать, какие библейские книги оказали на него наибольшее влияние.
Первичные источники такого исследования – разумеется, канонические Евангелия. Из них мы видим, какие священные тексты повлияли на учение Иисуса, и какие он цитировал в качестве Писания. В некоторых случаях ученые расходятся во мнениях о том, принадлежат ли те или иные слова Иисусу или его позднейшим интерпретаторам; однако в целом все согласны в том, что канонические Евангелия – лучшая отправная точка для такого рода исследований. Однако создать общепринятую базу данных, в которой были бы учтены все случаи, когда Иисус обращался к священным текстам, и все тексты, с которыми он был знаком, нелегко. Многие ученые полагают, что некоторые речения, приписываемые Иисусу – например Мк 8:34–35 или Мф 28:19–20 – в своей нынешней форме неподлинны; однако большинство согласно с тем, что канонические Евангелия – наши первичные источники в изучении учения и проповеди Иисуса[2143]. Некоторые речения Иисуса, найденные вне канонических Евангелий (так называемые «аграфа»), также часто признаются подлинными; однако большинству из них ученые не доверяют, а кроме того, аграфа ничего или почти ничего не прибавляют к нашему пониманию Иисуса, так как в целом просто подтверждают и поддерживают его образ, представленный в канонических Евангелиях[2144].
Едва ли мы когда-нибудь сможем с уверенностью назвать все книги, которые Иисус считал Священным Писанием; однако некоторые предварительные замечания об этом сделать можем. Поставив перед собой такую задачу, я начну с описания подходящего для нас методологического подхода, а затем перейду к рассмотрению свидетельств, которые позволят нам ответить на вопросы, поставленные в начале этой главы.
Должный метод
Поскольку сам Иисус не писал книг, первичными источниками для нашего исследования становятся книги его ближайших современников, а именно авторов канонических Евангелий и остальных книг Нового Завета. Помимо этого, важно изучить труды ранних отцов Церкви, древнейших интерпретаторов истории Иисуса и новозаветных писаний. В этой связи полезно рассмотреть и современные Иисусу иудейские писания раннего иудаизма, в которых внимание уделено прежде всего иудейским верованиям и обычаям. Иисус был иудеем – но во всем ли он походил на современников-единоверцев? В своих поучениях и проповедях Иисус цитировал множество священных текстов – или ссылался на них; насколько обычно это было для его времени?
Канонические Евангелия, несомненно, сформированы ранними религиозными общинами последователей Иисуса – и, следовательно, помогут нам понять, какие писания оказали на него наибольшее влияние. Большинство ученых-новозаветников согласны с тем, что Матфей и Лука преобразили Евангелие от Марка и источник Q, приспособив тексты к потребностям своих раннехристианских общин. Порой они даже исправляют первоисточники: например, пророчество, провозглашаемое Иисусом, Марк приписывает пророку Исаии (Мк 1:2), однако этот текст частично принадлежит Малахии. И Лука, и Матфей исправили начало Евангелия от Марка и придали ему новую форму[2145]. Исторический фон многих поучений Иисуса в Евангелии от Иоанна схож с обстановкой в синоптических Евангелиях, однако не идентичен. Даже в тех событиях жизни Иисуса, которые во всех четырех Евангелиях описаны одинаково, часто различаются детали и последовательность изложения. Впрочем, признание этого не означает, будто общины, хранившие предания об Иисусе, выдумывали эти предания и вкладывали ему в уста или вписывали в обстоятельства его жизни, – пусть даже этим преданиям порой придавали иную форму, отвечая потребностям церквей, принявших роль хранителей. Если мы говорим о священных преданиях, то между приданием формы и вымыслом есть серьезная разница. Вымысел предполагает, что последователи Иисуса не столько стремились сохранить рассказы о том, кого проповедовали и за кого готовы были идти на смерть, сколько выдумывали о нем истории, отвечающие катехизическим и миссионерским потребностям последующих поколений[2146].
Во-вторых, вполне вероятно, что последователи Иисуса, ближайшие к нему и следовавшие за ним как за Господом, были наиболее склонны ссылаться именно на те тексты, к которым обращался в своей проповеди и в своем учении сам Иисус. Вот почему вторая по важности задача, стоящая перед нами – исследовать, какие тексты цитируют в качестве авторитетных новозаветные авторы и другие раннехристианские источники. Если наше предположение справедливо, мы можем заключить, что источники, сохранившиеся в Древней Церкви и в иудейских преданиях, предлагают нам более обширную и открытую подборку священных текстов, имевших хождение во времена Иисуса и вскоре после него. Опять-таки, у нас нет ни одного свидетельства о том, будто кто-либо во времена Иисуса даже заговаривал об определенном и жестко ограниченном «библейском каноне».
В-третьих, поскольку раннее христианство начиналось как иудейская секта, необходимо спросить, что говорят иудейские источники времен Иисуса о Писаниях, считавшихся тогда священными. К этой дискуссии будут привлечены сочинения Филона, Иосифа, кумранские свитки, ранние раввинистические тексты, а также религиозная литература I в. до н. э. – I в. н. э., часто называемая псевдэпиграфическими сочинениями или, по выражению Джеймса Сандерса, «немасоретскими» текстами[2147].
Когда древние авторы цитируют те или иные источники или ссылаются на них, само по себе это еще не дает нам повода предполагать, будто они считают их священной или боговдохновенной литературой или, тем более, частью какого-то неизменного и непреложного собрания книг, известного как Священное Писание. Например, согласно автору Деяний (Деян 17:28), апостол Павел, стоя перед Ареопагом на Аресовом холме, цитировал Эпименида, а также вступительные строки Явлений Арата. Никто, разумеется, не станет всерьез утверждать, что автор Деяний причислял эти книги к Священному Писанию апостола Павла: это свидетельствует лишь о его знакомстве с классическими авторами и готовности их цитировать в попытке заинтересовать своим учением жителей Афин. С другой стороны, не всегда можно отличить высокую оценку письменного источника какими-либо древними авторами от мнения о том, что этот источник имеет статус священной книги. Если источник цитируется «как Писание», с указанием на его авторитет и, как правило, с характерными вводными, скажем, «ибо так написано» или «как сказано в Писании», то, возможно, это указывает на веру автора в святость этого текста. Однако в отношении древних источников это не всегда ясно. Беквит справедливо отмечает, что очень сложно и, в сущности, невозможно делать выводы о составе библейского канона в древности исключительно по ссылкам на источники. Он перечисляет пять основных погрешностей метода, к которому обычно обращаются в этом вопросе:
1) неспособность отличить свидетельство о том, что книга известна, от свидетельства о том, что она входит в канон; 2) неспособность отличить споры о каноне между группами от сомнений в составе канона внутри самих этих групп; 3) неспособность различить то, какие книги добавлены в канон и какие из него изъяты; 4) неспособность отличить канон, признаваемый и используемый общиной, от эксцентричных воззрений на этот канон отдельных личностей; и 5) неспособность воспользоваться иудейскими свидетельствами о каноне, переданными через христиан, либо из-за отрицания его иудейских корней, либо из-за игнорирования христианских «посредников»[2148].
В принципе я согласен с каждым из этих пунктов и признаю, что существует большое искушение внести любой текст, упомянутый или процитированный религиозными авторами, в Писание или канон. Беквит полагает, однако, что дискуссии о составе канона шли уже задолго до времен Иисуса, и заявляет, что новозаветные авторы не упоминают и не цитируют в качестве Священного Писания никакой апокрифической или псевдэпиграфической литературы. Идею, будто Иуда цитирует 1 Ен 1:9 как Священное Писание, Беквит отрицает – и делает такой вывод: об использовании в Новом Завете внеканонических писаний мы можем сказать лишь, что «налицо случайное совпадение мыслей, указывающее на то, что эти мысли были известны»[2149]. Однако достаточно часто при обращении к этой литературе в Новом Завете мы видим не только «случайное совпадение мыслей» – перед нами, как мы проясним далее, значительные лексические параллели. В другом своем труде я утверждал, что Иуда явно цитирует 1 Ен 1:9 как пророческую или боговдохновенную литературу[2150].
Сейчас я хочу поговорить о текстах Писания, приписываемых Иисусу в Евангелиях и других новозаветных книгах, а также о религиозных текстах, имевших хождение среди его современников-иудеев. На мой взгляд, те, кто стоял ближе всего к Иисусу (его первые последователи), вернее всего отражают его взгляды на Писание и в своих ссылках на священные тексты следуют его примеру.
Писания Иисуса
Какие тексты Писаний цитировал Иисус, и какие из них – чаще всего? Согласно авторам синоптических Евангелий, он обращался ко многим книгам, сейчас входящим в Еврейскую Библию, но чаще других цитировал Исаию, Псалтирь, Второзаконие и Исход. Кроме того, он хорошо знал и другие иудейские писания, в том числе и те, которые мы сейчас называем неканоническими (апокрифы и псевдэпиграфы). Согласно синоптическим Евангелиям, Иисус часто цитировал четыре из книг Торы или ссылался на них, но на Книгу Чисел сослался лишь один раз (Чис 28:9–10; ср.: Мф 12:5). У Иоанна Иисус чаще всего цитирует Псалтирь, Исаию, Второзаконие и Исход, и в какой-то мере – другие книги Еврейской Библии. В конце данной статьи, в приложении, я собрал эти и некоторые другие тексты, в темах и лексиконе которых имеются параллели с учением Иисуса. По Иоанну, Иисус цитировал все пять книг Торы, но чаще всего Второзаконие. Согласно всем евангелистам, Иисус был хорошо знаком с Пророками, особенно с Книгой пророка Исаии. Также во всех четырех Евангелиях Иисус часто цитирует Псалтирь: например, Пс 21:2 и, возможно, даже весь этот псалом (см.: Мк 15:34)[2151], а также Пс 68:4–10 (слова о ревности звучат, когда Иисус изгоняет менял из храмового двора; Ин 2:17). Порой он ссылается на Книги Даниила и Захарии, однако цитирует не все книги Пророков, а также оставляет без внимания много других книг Еврейской Библии. Говоря точнее, вот книги, которые Иисус не цитирует и не упоминает: Иисус Навин, Судьи, Руфь, Вторая книга Царств, Первая книга Паралипоменон, Ездра, Неемия, Есфирь, Иов, Екклесиаст, Песнь Песней, Плач Иеремии, Авдий, Наум, Аввакум, Аггей. Ничто в Евангелиях не дает понять, что Иисус знал их или отвергал; он просто их не упоминает, не ссылается на них и не цитирует их в канонических Евангелиях. С другой стороны, ничто в канонических Евангелиях или в раннем христианстве в целом не говорит и о том, что Иисус ограничивал свое Писание тем набором книг, который впоследствии признали непреложным каноном в древнем иудаизме и в раннем христианстве.
Вопрос здесь не столько в том, признавал ли Иисус и его древнейшие последователи – или даже различные иудейские секты I века – книги, составляющие канон нынешней Еврейской Библии, как священную литературу. Вопрос в том, цитировались ли в I в. все книги Еврейской Библии, а если еще точнее, в том, принимал ли Иисус как Священное Писание меньше – или, напротив, больше – книг, чем содержится сейчас в Еврейской Библии и в протестантском Ветхом Завете? Любопытно: существуют указания на то, что некоторые раввинистические иудеи в поздние времена сомневались в святости нескольких книг из Еврейской Библии. Например, некоторые раввины исключали из публичного чтения следующие книги: Песнь Песней (м. Яд 3:5; вав. Мег 7а), Екклесиаст (м. Яд 3:5; вав. Шаб 100а; см. также толкование Иеронима на Еккл 12:14), Руфь (вав. Мег 7а), Есфирь (вав. Санх 100а; вав. Мег 7a), Притчи (вав. Шаб 30b) и Книгу пророка Иезекииля (вав. Шаб 13b; вав. Хаг 13а; вав. Менах 45а). С другой стороны, некоторые раввины причисляли к Писанию Сирах (вав. Хаг 13а; иер. Хаг 77с; вав. Иевам 63b; Бер. Раб 8:2b; вав. Б. Кам 92b)[2152].
Очевидно, что Иисус и ранние христиане подкрепляли свои воззвания и свою миссию различными текстами из Еврейской Библии; однако обращались ли они и к иной религиозной литературе? Очевидно, основу священных текстов, часто цитируемых Иисусом и его учениками, составляют Моисеев Закон (особенно Второзаконие), Псалтирь и Исаия; часто обращались и к Книгам Иеремии, Иезекииля и Даниила. Очевидно также, что они знали и использовали некоторые другие писания, ныне называемые неканоническими. Лексические и образные параллели с так называемой апокрифической или псевдэпиграфической литературой, заметные у Иисуса, примечательно схожи с аллюзиями и цитатами, которые появляются в других книгах Нового Завета и Древней Церкви. Эти аллюзии, цитаты и лексические параллели указывают на то, что Иисус испытал на себе некоторое влияние религиозной литературы, которая впоследствии не вошла в Еврейскую Библию, а также распространенной иудейской традиции «премудрости», хотя последнюю труднее опознать. Хотя некоторые из примеров, приведенных далее, могут просто отражать общие религиозные и богословские мотивы, имевшие хождение в Палестине во времена Иисуса, обилие таких параллелей указывает на прямое влияние и зависимость.
Помимо списков, приведенных в конце этой статьи, стоит отметить следующие примеры. Матфей, рассказывая историю Иисуса, по всей видимости, обращался к языку Премудрости Соломона. Например, в Прем 2:13 мы читаем: «…объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа». Отчасти совпадает с этим язык Мф 27:43: «…уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему; ибо Он сказал: Я Божий Сын» (см. также параллели с этой мыслью в Прем 2:18–20). Также слова Прем 3:7: «Во время посещения их они воссияют и побегут, как искры по жнивью», отчасти параллельны Лк 19:44, где Иисус говорит: «…ибо ты не узнал времени посещения твоего от Бога»[2153]. Как в Прем 5:22 («…вознегодует на них вода морская, и реки свирепо потопят их»), так и в Лк 21:25 («…на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится») суд Божий приходит на непокорных, как бурные воды.
Схожие примеры можно увидеть в следующих словесных и тематических параллелях:
1. Сравним 2 Мак 3:26: «Явились ему и еще другие два юноши, цветущие силою, прекрасные видом, благолепно одетые, которые, став с той и другой стороны, непрерывно бичевали его, налагая ему многие раны», с Лк 24:4: «Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих».
2. Сравним Тов 12:15: «Я Рафаил, один из семи святых ангелов, которые возносят молитву святых и восходят пред славу Святого», с Мф 18:10: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного», и Лк 1:19: «Ангел сказал ему в ответ: Я Гавриил, предстоящий перед Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие».
3. Сравним Тов 14:5: «Но опять Бог помилует их и возвратит их в землю; и воздвигнут дом Божий, не такой, как прежний, доколе не исполнятся времена века. И после того возвратятся из плена и построят Иерусалим великолепно, и дом Божий восстановлен будет в нем на все роды века, – здание величественное, как говорили о нем пророки», с Мк 1:15: «…и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» и с Лк 21:24: «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников».
4. Сравним Сир 9:8: «Отвращай око твое от женщины благообразной и не засматривайся на чужую красоту; многие совратились с пути чрез красоту женскую, от нее, как огонь, возгорается любовь», с Мф 5:28: «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем».
5. Сравним Сир 10:17: «Господь низвергает престолы властителей и посаждает кротких на место их» с Лк 1:52: «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных».
6. Сравним Сир 11:18–19: «Когда он скажет: я нашел покой и теперь наслаждаюсь моими благами! – и не знает, сколько пройдет времени до того, когда он оставит их другим и умрет», с Лк 12:19–20: «И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись! Но Бог сказал ему: безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?»
7. Сравним Сир 29:13–14: «Трать серебро для друга и брата своего, и не давай ему заржаветь под камнем на погибель; располагай сокровищем твоим по заповедям Всевышнего, и оно принесет тебе пользу более золота», с Мф 6:20: «…но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапываются и не крадут».
8. Сравним Сир 51:31: «Приблизьтесь ко мне, ненаученные, и водворитесь в доме учения», с Мф 11:28: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас».
9. Сравним Сир 51:34–35: «Подклоните выю вашу под иго ее, и пусть душа ваша принимает учение: его можно найти близко. Видите своими глазами: я немного потрудился – и нашел себе великое успокоение», с Мф 11:29: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня; ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим».
10. Сравним Прем 6:18: «Любовь же – хранение законов ее, а наблюдение законов – залог бессмертия», с Ин 14:15: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди».
11. Сравним Прем 16:26: «…дабы сыны Твои, которых Ты, Господи, возлюбил, познали, что не роды плодов питают человека, но слово Твое сохраняет верующих в Тебя», с Мф 4:4: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
12. Сравним Пс. Сол 5:4–5: «Ибо не возьмет добычи человек от мужа могучего — да и кто возьмет из всего, что сотворил Ты, если Ты не дашь?» с Мк 3:27: «Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его».
13. Сравним Пс. Сол 5:11–13: «Пернатых и рыб кормишь Ты, давая дождь в пустынях для взращения зелени, дабы уготовить пропитание в пустыне всякому живущему. И если взалчут они, к Тебе поднимут лица свои. Царей и начальников и народы Ты, Боже, питаешь; нищего и убогого кто надежда, если не Ты, Господи?» с Мф 6:26: «Взгляни на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?»
14. Сравним 1 Ен 15:6–7 [ср. рус.: Енох 3:46–47]: «Но вы были прежде духовны, имели вечную жизнь, бессмертны были во все роды мира. Потому прежде Я не сотворил для вас жен, ибо духовные имеют свое жилище на небе», с Мк 12:25: «Ибо, когда из мертвых воскреснут, не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы на небесах». Здесь налицо не столько словесная параллель, сколько сходство мысли: ангелы не женятся и не выходят замуж, – как и те, кто от этой жизни перешел к следующей.
15. Сравним 1 Ен 16:1 [ср. рус.: Енох 3:53]: «…развращать будут до дня великого завершения, пока не окончится великая эпоха, пока не завершится все для Стражей и для нечестивых», с Мф 13:39: «…и враг, посеявший их [плевелы = детей зла] есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы. Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего».
16. Сравним 1 Ен 22:9–10 [ср. рус.: Енох 5:9–11]: «Души умерших могут быть разделены. И подобно тому как души праведных отделяются этим источником воды, над которым свет, так и грешники отделяются, когда умирают и погребены», с Лк 16:26: «И сверх всего того между нами и вами учреждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят». Здесь сходство – в представлении о посмертном разделении душ.
17. Сравним 1 Ен 38:2 [ср. рус.: Енох 7:2–3]: «…и когда Праведный явится пред лицом избранных праведников, дела которых взвешены Господом Духов, откроет он свет праведным их и избранным, живущим на земле, – то где тогда будет жилище грешников и убежище тех, которые отвергли имя Господа Духов? Было бы лучше для них, если б они никогда не рождались», с Мф 26:24: «Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться».
18. Сравним 1 Ен 51:2 [ср. рус.: Енох 8:40]: «И Он изберет между ними [воскресшими из мертвых] праведных и святых, ибо пришел день, когда будут они избраны и спасены», с Лк 21:28: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше».
19. Сравним 1 Ен 62:2–3 [ср. рус.: Енох 10:38–39]: «И Господь Духов сел на престол славы своей, и дух правды изливался на Него. Слово уст Его умертвит всех грешников, и все угнетатели устранены будут от лица Его И в день суда все цари, и наместники, и высокие чином, и владеющие твердью и увидят Его и узнают – как Он сидит на престоле славы своей, и как судятся пред Ним праведные, и что никакая пустая речь не говорится пред Ним», с Мф 25:31: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы своей».
20. Сравним 1 Ен 69:27 [ср. рус.: Енох 11:61]: «И было для них великою радостью, и прославляли, и восхваляли, и превозносили Господа за то, что им было открыто имя того Сына Человеческого. Он никогда не погибнет и не исчезнет с лица земли», с Мф 26:64: «Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Параллель здесь – в прославлении Сына Человеческого.
21. Сравним 1 Ен 94:8 [ср. рус.: Енох 19:27]: «Горе вам, богатые! Ибо вы положились на ваше богатство. И вы лишитесь своего богатства, ибо не помните Всевышнего», с Лк 6:24: «Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение».
22. Сравним 1 Ен 97:8–10 [ср. рус.: Енох 19:54–55]: «Горе вам, приобретающим себе серебро и золото не по правде; скажете тогда: “Мы сделались богатыми и имеем сокровища, и владеем всем, чего желали; и теперь мы исполним все то, что нам думается, ибо мы собрали серебра и наполнили наши кладовые, как водой”. И много у нас работников в наших домах. И как вода, льется ваша ложь. Ибо богатство не сохранится у вас, но внезапно будет у вас отнято, так как вы все приобрели неправдою, и вы сами преданы будете великому проклятию», с Лк 12:19: «И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись!» Параллель – в описании богачей, которые полагают всю свою надежду на земные богатства и теряют все.
23. Сравним Сир 24:21–24: «Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими; ибо воспоминание обо мне слаще меда и обладание мною приятнее медового сота. Ядущие меня еще будут алкать, и пьющие меня еще будут жаждать. Слушающий меня не постыдится, и трудящиеся со мною не погрешат», а также Сир 51:31, 34: «Приблизьтесь ко мне, ненаученные, и водворитесь в доме учения… Подклоните выю вашу под иго ее, и пусть душа ваша принимает учение: его можно найти близко» с Мф 11:28–30: «Придите ко Мне, труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня; ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко»[2154]. Эти примеры схожи с примерами 8 и 9.
Можно найти также множество параллелей между «Книгой Притч» в 1 Ен 37–71 [ср. рус.: Енох 6–12] (ок. I в. до н. э.) и учением Иисуса в канонических Евангелиях, особенно в упоминаниях об апокалиптическом Сыне Человеческом. Они перечислены в конце нашей статьи. Некоторые считают Книгу Притч христианским документом, однако этому противоречит то, что в конце ее Сыном Человеческим признается не Иисус, а сам Енох (1 Ен 71:5–17, ср. рус.: Енох 12:5–17). Учитывая, что «Сын Человеческий» – наиболее частое самоопределение Иисуса, вряд ли какая-либо христианская группа создала бы книгу, в которой этот титул принадлежит другому герою[2155]. Стоит отметить, что собиратели и хранители кумранских свитков также питали большое уважение к традиции Еноха. Современный интерес к книгам Еноха, написанным, по-видимому, в период от конца IV–III вв. до н. э. до I в. до н. э., привел к появлению множества критических работ, исследующих влияние этих текстов на ранее христианство[2156]. Есть также несколько значительных лексических параллелей между Иосифом и Асенефой и каноническими Евангелиями, особенно Евангелием от Матфея[2157]. Книгу Иосиф и Асенефа трудно отнести ко времени, предшествующему началу христианской эры. Однако вряд ли ее написали христиане, поскольку христианские богословские темы в этом документе открыто не звучат, хотя христианские авторы охотно заимствовали из него отдельные пассажи[2158].
Некоторые замечают, что Иисус цитировал книги из всех трех разделов Еврейских Писаний, а именно, Закон (Тору), Пророков (Невиим) и Писания (Ктувим), т. е. Танах — и, следовательно, он, по всей видимости, знал и признавал все три части Еврейской Библии, а значит, во времена Иисуса она уже существовала в полном и ясно установленном виде[2159]. Древнейшее и единственное в Новом Завете упоминание обо всех трех собраниях Еврейских Писаний находится в Лк 24:44, где Иисус говорит о «законе Моисеевом, пророках и псалмах». Хотя Беквит и полагает, что это относится к четко определенным позднее корпусам книг Закона, Пророков и Писаний[2160], ничто в тексте не наводит на мысль, что слово «псалмы» означает здесь нечто большее, чем псалмы, имевшие хождение во времена Иисуса. О каких псалмах говорит здесь Иисус, неясно. Аналогично, ничто в Новом Завете или в иудейской литературе I в. не дает возможности точно определить состав книг под общим именованием «Пророки». Попытки отождествить «псалмы» с полным собранием книг, впоследствии получивших название «Писаний» (Ктувим, или Агиографы) и перечисленных в Б. Бат 14b и позднейших раввинистических преданиях, чисто спекулятивны. И в Новом Завете, и в раннехристианской литературе довольно часто случается – как я вскоре покажу, – что к разряду «Пророков» относятся книги, причисленные более поздней иудейской традицией к «Писаниям». Мнение, согласно которому «псалмы» в Лк 24:44 однозначно соответствуют третьему разделу Еврейской Библии, анахронично и бездоказательно. Лк 24:44 необходимо рассматривать в свете Лк 24:47, в свою очередь имеющего параллели в других новозаветных книгах[2161].
Ни в Новом Завете, ни в других источниках вплоть до середины II в. н. э. нет ни одного ясного указания на трехчастную Еврейскую Библию. Список из двадцати четырех священных книг Еврейской Библии впервые появляется лишь в вавилонской барайте, Б. Бат 14b, где они сгруппированы в три раздела (Тора – Невиим – Ктувим, или Агиографы). Хотя и Пролог к Сираху, и Филон (Созерц 3.25–26, 28), и Некоторые деяния Торы (4QMMT), и Иосиф Флавий (Пр. Ап 1.37–43) все предполагают существование, помимо Закона и Пророков, еще каких-то категорий еврейских писаний, – сами эти категории и книги, в них входящие, не были четко определены и перечислены вплоть до 140–150-х гг. н. э., когда появились в тексте, явно не выражавшем мнения всех иудеев Римской империи. Столетием раньше, во времена Иисуса, библейский канон, возможно, находился на ранних стадиях развития; однако никакой четкой традиции, с ним связанной, вплоть до середины II в. у нас попросту нет. Как я показал выше, нет никаких свидетельств, способных указать, будто большинство иудейских раввинов были согласны с этим делением даже столетия спустя.
Еще важнее другое: даже когда раввины Восточной диаспоры и Израиля наконец пришли к согласию по вопросу об объеме и составе священной литературы, нет никаких свидетельств того, что вплоть до VIII–IX вв. их взгляды оказывали заметное влияние на иудеев Западной диаспоры. С раввинами Востока (от Иерусалима до Вавилона) западные иудеи почти не контактировали – и на протяжении веков использовали, вместе с большинством книг, составляющих Еврейскую Библию, апокрифы и псевдэпиграфы, отвергнутые на Востоке[2162]. Далее, у нас очень мало свидетельств, говорящих о том, что пассаж Б. Бат 14b был хотя бы известен палестинским иудеям во II в. н. э., пусть даже Иосиф, испытавший на себе влияние Гиллеля из Вавилона, говорит, что иудеи считают священным собрание из двадцати двух книг (Пр. Ап 1.37–43). Если эта традиция была широко распространена и принималась повсеместно в иудейской общине Израиля, странно, что она не нашла отражения в Мишне, где сводились в кодекс иудейские религиозные традиции первых двух столетий нашей эры (традиции таннаев), или еще позже, в Тосефте. У нас нет никаких свидетельств того, что иудейская община Палестины в I–II вв. н. э. принимала эту вавилонскую традицию.
Есть мнение, что Иисус, поскольку он цитировал писания из всех трех собраний книг, впоследствии образовавших Еврейскую Библию, должен был признавать все книги, из которых она состоит, – но это не что иное, как анахронизм, не основанный ни на каких внятных свидетельствах. Если бы трехчастная Еврейская Библия уже существовала во времена Иисуса, странно, что Древняя Церковь не разделила свои Писания Ветхого Завета на те же три части, какие впоследствии образовали Танах. По всей видимости, и трехчастное деление канона, и точный список книг, его образующих, даже на Востоке сложились намного позднее Иисуса – а на Западе эта классификация стала известна лишь много столетий спустя.
Однако множество свидетельств в Новом Завете указывают на то, что Закон, Пророки, а также некоторые книги, позднее вошедшие в Писания, составляли ядро собрания Писаний в древнейших христианских церквях, несмотря даже на то, что некоторые книги Еврейской Библии/Ветхого Завета, по-видимому, не играли в жизни и служении Иисуса и Древней Церкви никакой или почти никакой роли. Иудейские писания в Новом Завете часто именуются «закон и пророки» или «Моисей и пророки» (напр.: Мф 5:17; 7:12; Рим 3:21), однако словом «закон» обозначается также Пс 81 в Ин 10:34. Павел также говорит о «законе», приводя серию ссылок на псалмы в Рим 3:10–19. Интересно, что Иоанн приводит Пс 81:6 как «закон», а Павел в 1 Кор 14:21 вводит цитату из Ис 28:11–12 словами «в законе написано». Определение «закон и пророки» часто применяется ко всем писаниям Церкви (напр.: Лк 4:17; Ин 1:45; Деян 13:27; 28:23). Во всех новозаветных случаях, кроме одного (Лк 24:44, где упоминаются «псалмы»), под «законом» или «законом и пророками» понимается совокупность всех писаний, принятых Древней Церковью. Согласно Деян 13:15, и Закон, и Пророки, по всей видимости, регулярно читались в синагогах: «После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им [Павлу и Варнаве]: мужи братия! если есть у вас слово наставления к народу, говорите!» Точный состав категорий «Закон» и «Пророки» ни во время Иисуса, ни даже более чем столетие спустя ни для иудеев, ни для христиан, по-видимому, не установлен. Кроме того, в эти две категории, по-видимому, входила большая часть книг, впоследствии выделенных в категорию «Писаний» (Ктувим), – а может, и все такие книги.
Большое количество новозаветных упоминаний о собрании священных книг из двух частей (Закон и Пророки) и лишь один новозаветный текст (Лк 24:44), в котором появляется третья категория, указывает на то, что во время создания Евангелия от Луки трехчастный библейский канон не имел широкого распространения. Скорее, вся священная литература была известна под общим названием «Закон и Пророки». Как мы увидим далее, «Пророки» могли включать в себя и те книги, что сейчас именуются неканоническими, а также и те, что сейчас составляют третью часть Библии, Писания. Это не отрицает того, что трехчастный библейский канон складывался в I в. до н. э. – I в. н. э., или того, что уже в то время возникали признаки новых категорий священных текстов, не укладывающихся в двухчастное деление, а именно: Пролог к Сираху (ок. 116–110 гг. до н. э.), 2 Мак 2:13–15 (ок. 105–95 гг. до н. э.), 4QMMT (или 4Q394–399; С, 6ab–12b; ок. 150 г. до н. э.), Филон, Созерц 3.25–36, 28 (ок. 20–40 гг. н. э.), Лк 24:44 (ок. 60–70 гг. н. э.) и Иосиф, Пр. Ап 1.37–43 (ок. 90–94 гг. н. э.). Впрочем, точного содержания означенных категорий для израильских иудеев не установлено. Большинство иудеев во время Иисуса и написания Евангелий считали Священным Писанием лишь Закон и Пророков, причем вторая категория была «сборной» для всех Писаний, не входивших в Тору. Третья часть Еврейской Библии начала складываться, по-видимому, в конце I в. н. э., однако содержание ее неясно и ни в иудейской, ни в христианской общинах она в то время не была определена. В Мишне нет о ней никаких свидетельств. Кроме того, христиане никогда не делили свой Ветхий Завет на три части, как раввинистические иудеи, и это немало значит. Если трехчастная Еврейская Библия была широко известна во времена Иисуса и раньше – почему тогда Древняя Церковь (возможно, за исключением Иеронима) никогда не следовала модели, принятой в Еврейских Писаниях, широко известной и используемой среди иудеев I столетия? Ничто в Новом Завете не указывает на то, что первые христиане в чем-то расходились с собратьями-иудеями, в особенности с фарисеями, касательно списка книг, признаваемых священными.
Мелитон (ум. ок. 170–180 гг. н. э.), древнейший христианский писатель, перечисливший заглавия книг, впоследствии составивших церковный Ветхий/Первый Завет, говорит обо всем собрании ветхозаветных писаний (кроме Книги Есфирь), включая «Агиографы», однако называет их «Закон и Пророки» и, по-видимому, включает туда Книгу Премудрости Соломона (Евсевий, Церк. ист 4.26.13–14). Перечисляя книги, помещаемые иудеями в раздел Писаний, он, по-видимому, не подозревает о существовании этой третьей категории и просто включает их (Даниил, Екклесиаст, Ездра – и, кроме того, Премудрость Соломона) в общий список «Закона и Пророков». У христиан, как у Мелитона, различение в Пророках (то есть разделение Пророков и Писаний) произошло намного позже, чем у иудеев, и христиане не приняли тех категорий Священного Писания, которые мы находим в Еврейской Библии.
Писания Нового Завета
Поскольку раннехристианская община признавала Иисуса Господом (Рим 10:9; Мф 28:19 и т. д.), весьма вероятно, что его ранние последователи принимали те же священные тексты, которым он сам отдавал предпочтение в своем учении и в своей миссии, – и обращались к ним. Какие же это книги? Стоит отметить, что ранние христиане цитируют их – или ссылаются на них – почти столь же часто, как и сам Иисус: это Псалтирь, Исаия, Второзаконие и ряд внеканонических произведений. Выходит, и другие новозаветные авторы, и сама Древняя Церковь в целом признавали Писанием некоторые из тех книг, которые мы сейчас считаем неканоническими? Петер Штульмахер перечисляет список параллелей с литературой, не внесенной в канон, и аллюзий на нее в новозаветных писаниях[2163]. Вот лишь несколько примеров:
1. Мк 10:19, по-видимому, обращается к Сир 4:1 наряду с Исх 20:12–16 и Втор 5:16–20.
2. 2 Тим 2:19, по-видимому – Сир 17:23 и Чис 16:5.
3. Апостол Павел в Рим 1:24–32, весьма вероятно – Прем 14:22–31.
4. В Рим 5:12–21 Павел, по всей видимости, использует идеи, высказанные в Прем 2:23–24. При этом его интересует не каноничность Премудрости Соломона, а приведенные в книге богословские аргументы[2164].
5. В 1 Кор 2:9 Павел, по-видимому, цитирует в качестве «Священного Писания» либо Возн. Ис 11:34, либо утраченный Апокалипсис Илии, восходящий к Ис 64:3.
6. Иуд 14 открыто упоминает Еноха, который «пророчествовал», и ссылается на 1 Ен 1:9 [ср. рус.: Енох 1:9].
7. Автор 2 Пет 2:4 и 3:6 показывает знание преданий 1 Ен 10:4 и 83:3–5 соответственно [ср. рус.: Енох 2:35; Енох 16:3–5].
8. Автор Евр 1:3 явно ссылается на Прем 7:25–26.
9. Иак 4:5, по-видимому, цитирует некое неизвестное писание.
Встречаются в Новом Завете и параллели с псевдэпиграфическими Житием Адама и Евы и Апокалипсисом Моисея. Вот ряд примеров:
1. Сравним Евр 1:6 – Адам и Ева 13–14, с акцентом на том, что ангелы служат человеку как образу Божьему.
2. Сравним Иак 1:17 – Адам и Ева 29:2 и Апок. Моис 36:3, с акцентом на «Отце светов»; Откр 22:2 говорит о древе жизни, а у апостола Павла есть параллели с этим текстом в отношении Евы как источника греха.
3. Рим 5:12–21; 2 Кор 11:3 и 1 Тим 2:14, как и Апокалипсис Моисея, говорят о том, что за грехом Адама и Евы следует смерть (Адам и Ева 44:1–5; Апок. Моис 24:1–26:4).
4. Сравним понимание смерти как разлучения души и тела в 2 Кор 5:1–5 и явление сатаны в ангельском сиянии в 2 Кор 11:14, с Адам и Ева 9:1; Апок. Моис 17:1.
5. Размещение рая на третьем небе в 2 Кор 12:2; ср.: Апок. Моис 37:5.
6. Упоминание Павла о ἐπιθυµία («возжелании») как корне всех грехов в Рим 7:7 схоже с Апок. Моис 19:3.
Сами по себе эти параллели не обязательно свидетельствует о том, что авторы Нового Завета знали эти неканонические писания или зависели от них. В них могут просто отражаться общие знания и воззрения, характерные для иудеев I века. Однако обилие подобных параллелей заставляет предположить, что между этими собраниями Священных Писаний существовала какая-то связь[2165]. Приведенные выше примеры – не обязательно знак того, что новозаветные авторы считали эту литературу священной, однако в них показана общность тем, а в некоторых случаях – слов и фраз, и это говорит о зависимости. Крайне маловероятно, что такие параллели возникли бы, если бы эта литература кем-то в то время отвергалась и осуждалась.
Закон, или Тора – вот что было сердцем Священного Писания как для Иисуса, так и для подавляющего большинства иудеев I столетия и для ранних христиан. Хотя Иисус непрестанно подкреплял свое учение цитатами из псалмов, основой Писания была для него, безусловно, Тора. Несомненно, большая часть книг Еврейской Библии, а также некоторые книги, впоследствии в нее не вошедшие, оказали влияние и на Иисуса, и на других авторов Нового Завета, и на Древнюю Церковь в целом. Так, большинство ссылок/цитат в Послании Климента Римского к коринфским христианам (1 Клим) относится к Еврейской Библии / Ветхому Завету, и лишь немногие – к писаниям Нового Завета. Апокрифы и псевдэпиграфы во многом были маргинальны – в том смысле, что ранние христиане мало их цитировали, хотя некоторые из этих книг, по всей видимости, повлияли на учение Иисуса и его ранних последователей.
Древняя Церковь и ее Священное Писание
У отцов апостольских (ок. 90–150 гг. н. э.), чьи писания хронологически ближе всего к новозаветным, мы найдем множество еще более разительных параллелей, цитат и аллюзий на внеканоническую литературу. Например, Климент Римский (ок. 90–95 гг.) цитирует Сир 2:11 в 1 Клим 60:1, Прем 12:10 в 1 Клим 7:5 и Прем 12:12 в 1 Клим 27:5, также ссылаясь на этот стих в 1 Клим 3:4 и 1 Клим 7:5. В 1 Клим 55:4–6 он цитирует в качестве «писания» – с указанием на авторитет – сразу Иудифь (Иудиф 8 и дал.) и Есфирь (Есф 7 и 4:16). Автор Второго послания Климента (ок. 150 г.) приводит множество цитат и ссылок на неизвестные или внебиблейские источники (см. 2 Клим 11:2–4, 7; 13:2), а также цитирует Книгу Товита (2 Клим 16:4). Варнава использует цитаты из Премудрости Соломона (Варнава 20:2), Первой книги Еноха (Варнава 16:5), Третьей книги Ездры (Варнава 12:1 – 3 Ездр 5:5), а также из некоего «Писания» (Варнава 7:3, 8 и 10:7). Дидахе (ок. 70–90 гг.) обращается к Премудрости Соломона (Дид 5:2; 10:3), а также цитирует неизвестный источник в Дид 1:6. Поликарп цитирует Тов 4:10 (см. также 12:9) в Муч. Пол 10:2.
Джеймс Вандеркам справедливо отмечает, что среди ранних христиан была широко распространена Первая книга Еноха, и указывает, что христиане, на которых иудейские представления о Священном Писании в то время влияли очень значительно, вряд ли могли проявить такое уважение к книге, не принятой иудейской общиной[2166]. Например, Первая Книга Еноха – помимо ссылки на нее в Послании Варнавы (16:5) – вместе с Книгой Юбилеев вошла в библейский канон поздней Абиссинской Церкви. В раннем христианстве Первую книгу Еноха принимали повсеместно – и, как показывает Вандеркам, ее признавали такие видные авторы, как создатель Послания Варнавы; Афинагор, Ириней, Тертуллиан, Климент Александрийский, Вардесан; автор псевдо-Климентовой литературы; Юлий Африкан, Ориген, Коммодиан, Зосим, Киприан, а также некоторые ранние гностики. Папирусы Честера Битти (ок. 200–350 гг.), открытые в долине Нила в Египте, содержат не только некоторые ветхозаветные (Бытие, Числа и Второзаконие, Исаия, Иеремия и Иезекииль, Есфирь и Даниил) и новозаветные книги, но также рукопись «Экклезиастика» (Сираха), и еще одну, с фрагментами Первой книги Еноха и гомилией Мелитона. Хотя библейские рукописи датируются III–V вв. н. э., найдены они в том же месте и, как обычно полагают ученые, имеют то же происхождение – скорее всего, их создали в какой-либо церкви или некоем монастыре[2167]. Ничто в этих рукописях не отделяет Первую книгу Еноха от другой священной литературы[2168]. Первым из известных церковных предводителей эту книгу решительно отверг как неканоническую, по-видимому, Августин. Впрочем, в IV–V вв. она была переведена на эфиопский (геэз) и по сей день остается каноническим текстом Абиссинской Церкви[2169].
Тертуллиан, писавший приблизительно в то же время, к которому относятся папирусы Честера Битти, цитирует Первую книгу Еноха, желая найти в Священном Писании поддержку своему мнению об идолопоклонстве (Идол 4). Он знает, что некоторые отцы Церкви отвергают Первую книгу Еноха, и защищает ее, указывая на то, что ее цитировал как Священное Писание апостол Иуда (Жен. убр 1.3). Схожим образом и Ориген защищает свои богословские мнения ссылками на Писание, вводя их так: «Но кто-нибудь, быть может, спросит, сможем ли мы из Писания извлечь какие-либо основы для понимания сего предмета». Далее он цитирует в свою поддержку Пс 138:16, а вслед за этим пишет: «Также и Енох в своей книге говорит…» – и цитирует 1 Ен 17 [ср. рус.: Енох 4]. Эту цитату он завершает комментарием: «При этом в той же книге записаны еще такие слова Еноха: “Я созерцал все вещество”» (ср. рус.: Нач IV, 1.35 [ET: 4.1.31])[2170]. Очевидно, он цитирует эту книгу как «Писание». Первая книга Еноха, несомненно, оказала серьезное влияние на многих значительных писателей и учителей Древней Церкви.
Иустин Мученик в своем Разговоре с Трифоном иудеем (ок. 160 г.), по-видимому, ссылается как на авторитетный текст (Писание) на Вознесение Исаии – см. 120:5; однако далее ищет подтверждения своим тезисам на основе священных книг, принятых у иудеев. Как и Мелитон, Иустин ссылается на Бытие, Исход, Левит, «Царства» (3–4 Цар, возможно, также 1–2 Цар), Псалтирь и Притчи, а также цитирует Книгу Иова. Он упоминает пророков Исаию, Иеремию, Иезекииля и Даниила, а также двенадцать Малых Пророков и Ездру (см.: Разг 72.1). Кроме того, он цитирует без упоминания названий книг Числа, Второзаконие и Вторую книгу Паралипоменон. И здесь все эти ссылки на библейскую литературу не обязательно отражают представления Иустина о Писаниях – в Разговоре они используются в конкретных ситуациях; однако в них отражается повсеместное представление о библейской литературе христиан середины II в. Во всех названных упоминаниях Иустин, несомненно, стоит на общих основаниях; однако он молчит о Екклесиасте, Песни Песней и Книге Есфири – что, возможно, отражает сомнения насчет этих книг, существовавшие во II в. и в раввинистическом, и в христианском сообществе[2171]. Весьма вероятно, что позднейшие христиане начали пользоваться этими книгами, только придав им аллегорическое значение, поскольку непосредственным задачам христианской общины эти (и некоторые другие) книги не отвечали[2172]. И снова, как мы уже отмечали, цитирование канонического или внеканонического текста само по себе еще не означает, что этот текст считался Писанием или был включен в фиксированный библейский канон. Каждую цитату необходимо рассматривать индивидуально и в контексте.
Ученые спорят о том, как цитируются в Новом Завете и у отцов Церкви II в. отрывки из неканонических книг – считаются ли эти документы «Священным Писанием», и если да, то в каких случаях, – однако, по мнению Штульмахера, приведенные выше ссылки показывают, что в первых двух столетиях «о содержании третьей части ветхозаветного канона, так называемых Писаний, четкого и однозначного представления не было»[2173]. Все это, разумеется, означает, что библейский канон христианской общины и во время служения Иисуса, и даже много позже, уже после того, как была создана большая часть Нового Завета, оставался гибким и «текучим».
То же показывают и дополнения к библейским книгам, возникшие в греческом Ветхом Завете (т. е. книги, не принятые иудеями во II в. и позднее). Роберт Грант показывает, что к Книге Даниила была добавлена Песнь трех отроков, что Климент Александрийский цитирует Книгу Сусанны, а Ириней, Тертуллиан и Ориген принимали как Священное Писание историю Бела и Дракона. Дополнения к Книге Есфири, упомянутые у Иосифа Флавия, цитируют Климент Римский, Климент Александрийский и Ориген. «Молитва Манассии» имеется в сирийской Дидаскалии III в. и в «Апостольских постановлениях», созданных в конце IV в. в Сирии (Ап. пост 2.22.12–14), а также в Александрийском Кодексе (V в. н. э.)[2174]. В другом месте я показал: внимательное чтение отцов апостольских убедительно показывает, что к апокрифам и псевдэпиграфам они порой обращались так же, как к Писаниям Еврейской Библии[2175]. Из этой широкой распространенности неканонической литературы Грант заключает, что «мы, разумеется, не можем отрицать того, что отцы апостольские пользовались апокрифическими документами. И действительно, единственная явная цитата в “Пастыре” Ерма исходит из утерянной “Книги Елдада и Модада” (Ерм, Вид 2, 3, 4; ср. Чис 11:26)»[2176].
Священные собрания книг, принятые церковными соборами, в целом отражают то, что одобряли и использовали в местных церквях, хотя и с некоторыми исключениями. В дошедших до нас церковных библейских манускриптах мы видим отражение действующих библейских канонов церквей, в которых имели хождение эти рукописи. Стоит понять это, и мы станем намного ближе к ответу на вопрос о том, был ли канон у Иисуса, Господа Церкви, и если да, то передал ли он этот канон своим последователям. При рассмотрении этого вопроса необходимо уделить должное внимание той литературе, которую цитировали и к которой обращались в своем учении, в своем богослужении, в своей миссионерской работе древние последователи Иисуса. Впрочем, ей нельзя придавать решающее значение: у нас есть серьезные свидетельства того, что во II в. и далее взгляды Церкви на многие вопросы развивались и расширялись.
Важнее всего для нас аллюзии Иисуса на неканонические писания, распространенные в Израиле I века. Для наших целей важно понимать, что Иисус и ранние церковные писатели, желая поддержать свое учение и проповедь авторитетными «писаниями», обращались для этого не только к крупным разделам Ветхого Завета / Еврейской Библии, но и к литературе, впоследствии получившей известность как апокрифическая или псевдэпиграфическая. Некоторые утверждают, что Иисус ни разу прямо не обращается к неканонической литературе, – а значит, он не знал ее или не ценил. Но пусть даже Иисус не оставил нам списка священных книг, произведения его последователей могут дать нам подсказку и показать, чему учил сам Иисус и какие писания более всего повлияли на него и на тех, кто пошел за ним.
Какие бы предания ни стояли за Пр. Ап 1.37–43, 3 Езд 14:44–47 и вав. Б. Бат. 14b, эти три текста отражают представление об установленном собрании священных книг, имевшемся у иудеев конца I – середины II вв. н. э. Однако эти предания, по-видимому, не имели никакого влияния на Иисуса, авторов Нового Завета и раннецерковных писателей. Штульмахер справедливо замечает: «Нигде в Новом Завете невозможно различить и следов какого-то особого интереса к определению и ограничению канонического списка Священных Писаний»[2177].
Кумран и библейский канон
Как для Иисуса, так и для иудеев I столетия и более поздних времен в центре всей библейской литературы всегда стоял Закон Моисеев. Тора была сердцем Священного Писания и для иудеев Кумрана; кроме того, они высоко ценили Книгу Исаии и Псалтирь. В Кумране нашлось примерно 215 библейских рукописей, и еще двенадцать подобных оказались в разных местах Иудейской пустыни. Интересно, что лучше всего в этих свитках представлены Псалтирь (37 свитков), Второзаконие (30 свитков) и Книга Исаии (21 свиток). Эти же книги, согласно каноническим Евангелиям, чаще всего цитировал Иисус. Крэйг Эванс отмечает параллели между тем, как цитируются библейские книги в неканонических текстах, найденных в Кумране, и тем, как те же библейские книги цитируются в Новом Завете[2178]. Он отмечает, что, согласно синоптическим Евангелиям, основное влияние на Иисуса оказали те же самые книги, которые часто упоминаются и становятся источниками цитат в кумранских свитках: пятнадцать (или шестнадцать) раз он ссылается на Второзаконие, примерно сорок раз на Исаию и где-то тринадцать раз на Псалтирь. К этим книгам Иисус явно благоволил – но он также часто цитировал Даниила и Захарию[2179]. Эванс заключает: «По-видимому, Иисус обращается к Священному Писанию подобно тому, как делали это в схожих кругах, – там, где очень серьезно относились к Закону, понимали Пророков эсхатологически и проявляли уважение к Писаниям, хотя и непросто понять, к каким именно»[2180]. Кроме того, в Кумране и других местах Иудейской пустыни были обнаружены более семисот небиблейских свитков и рукописей[2181]. Далее, в Новом Завете имеются интересные словесные параллели с Первой книгой Еноха, Книгой Юбилеев, возможно, с Апокалипсисом Моисея (2Q21), Заветом Левия, Товитом и Сирахом. Ряд находок в Иудейской пустыне – Храмовый Свиток, Некоторые деяния Торы (4QMMT) и Свиток войны – имеют параллели с новозаветной литературой[2182]. Многие современные специалисты по Кумрану считают Храмовый Свиток бесценным для понимания Иисуса, полагают, что 4QMMT впервые объяснил нам, как понимал Закон апостол Павел в Послании к Галатам, и что Свиток войны необходим для понимания Книги Откровения. Однако ни одна из этих параллелей, цитат или аллюзий все же не доказывает, будто Иисус признавал какой-либо закрытый библейский канон; с писаниями, которые он цитирует, как мы уже видели, есть параллели не только в книгах Еврейской Библии, но и в других, так называемых неканонических писаниях.
Вместе с тем мы не можем говорить, будто Иисус цитировал библейский текст в какой-либо конкретной его форме; как отмечает Эванс, он «обращался к словам, фразам, иногда к целым пассажам – каким бы ни было их текстуальное происхождение – спонтанно, эмпирически»[2183]. Собрания писаний из Кумрана помогли нам понять, что Иисус, цитируя священную литературу или обращаясь к ней, делал это в целом так же, как и другие иудеи того времени.
Раввинистическая традиция и установление библейского канона
В конце I в. Иосиф Флавий, выступая в защиту иудеев, говорит об ограниченном собрании из двадцати двух священных иудейских книг, по числу букв еврейского алфавита: «…у нас не великое множество книг, которые не согласовывались бы между собой и противоречили друг другу, а только двадцать две, содержащие летопись всех событий нашей истории, и они по справедливости почитаются [δικαίως πεπιστευµένα] боговдохновенными» (Пр. Ап 1.40 [ET: 1.37–38])[2184]. Слова «по справедливости почитаются» могут обозначать нечто близкое к установленному библейскому канону. Насколько широко признавалось такое или какое-либо иное собрание писаний в конце I в., остается неясным. В другом труде я говорил о том, что определить собрание, о котором упоминает Иосиф Флавий, трудно, поскольку он описывает лишь типы или жанры произведений, входящих в его свод, а конкретные книги, на которые он ссылается, были распространены далеко не так широко, как он это утверждает. Некоторые ученые полагают, что Иосиф, стремясь представить иудеев в выгодном свете, решил прибегнуть к преувеличениям[2185]. Нет никаких свидетельств того, что его взгляды были широко распространены среди единоверцев, – как современников, так и нескольких последующих поколений. Его заявления явно приукрашивают известные нам реалии того времени.
Критерии, сознательно или бессознательно использованные при составлении библейского канона, неясны, и среди ученых по этому вопросу нет единодушия. В некоторых древнеиудейских текстах сообщается, что исключались писания, составленные после того времени, когда, как считалось, пророчества в Израиле прекратились, – а именно после правления Артаксеркса (ок. 350–330 гг. до н. э.). Например, автор Первой книги Маккавейской сообщает, что в его время пророческого служения в Израиле не было (1 Мак 9:27; 14:41). Иосиф Флавий, добавляя книгу в канон или устраняя ее, обращал внимание еще и на датировку. Он полагал, что книги, написанные после Артаксеркса, а точнее во времена Ездры, в священное писание иудеев не входят (Пр. Ап 1.39–41). Сходным образом и раввинистическая традиция отвергала Сирах («Екклесиастик»), поскольку «…книга сына Сирахова и вообще книги, написанные начиная с этого времени, не оскверняют рук» (т. Яд 2:13; ср. также: т. Шаб 13:5)[2186]. В Тосефте мы читаем: «С тех пор как умерли Аггей, Захария и Малахия, последние пророки, удалился Дух Святой из Израиля» (т. Сота 13:3). Однако во времена Иисуса далеко не все считали, будто пророчества в Израиле прекратились, – и это видно из некоторых древних текстов[2187]. Здесь стоит вспомнить, что священность некоторых библейских книг позднее ставилась под сомнение; а другие религиозные книги, такие как Премудрость Соломона или Сирах, в конце концов не вошедшие в Еврейскую Библию, цитировались в раввинистической традиции как Священное Писание.
Некоторые древние иудейские писания, по всей видимости, были отвергнуты из-за их языка. Некоторые раввины считали, что принятия заслуживают лишь тексты, изначально написанные по-еврейски. Иные даже возражали против перевода Торы. Вот, например, негативное упоминание о переводе Торы на греческий: «Передают, что пятеро старцев записали Тору по-гречески для царя Птолемея. И день этот был так же нестерпим для Израиля, как день сотворения золотого тельца, ибо правильно перевести Тору невозможно» (Масехет Соферим 1). Во II в. н. э. не подобало обращаться ни к каким переводам книг Писания, кроме Пятикнижия. Например: «Сказал рабби Иехуда: даже когда учителя наши разрешали использовать греческий, они позволили это лишь для свитка Торы, и это случилось лишь из-за того, что сделал царь Птолемей» (вав. Мег 8b–9а; см. также Бер. Раб 36:8; Дв. Раб 1:1). Хотя Еврейские Писания разрешалось переводить на другие языки, предпочтение получали иврит и арамейский. Отметим, например, такое правило: «Священные писания, даже написанные на других языках, надлежит сохранять про запас должным образом [когда они более непригодны]… Даже если они написаны на любом языке, пусть и не разрешается читать их [публично], все же он [танна] учит, что их разрешается сохранить» (вав. Шаб 115а)[2188]. Такое предпочтение еврейского языка со временем изолировало иудеев Западной диаспоры от их собратьев из Восточной диаспоры.
Некоторые писания отвергались, поскольку их считали еретическими (см.: м. Санх 10:1; т. Яд 2:13; Шаб 13:5 А – F) или светскими (Песнь Песней и Книга Есфирь, две единственные библейские книги, в которых не упоминается имя Бога, и Екклесиаст; см.: м. Яд 3:5; 4:1–3). Согласно рабби Акибе, «кто читает апокрифические книги, как книга Бен-Сиры или книга Бен-Лаана, не имеет доли в мире грядущем» (иер. Санх 10:1, 28а).
Библеисты много спорят о том, когда «закрылся» канон Еврейской Библии и что к этому привело, поскольку дошедшие до нас свидетельства противоречивы. По всей видимости, среди иудеев во времена Иисуса по этому вопросу тоже не было единого мнения. Сам Иосиф писал о том, что пророчество в Израиле продолжалось и в его время: пророком был Иуда Ессей (И. Д. XIII, 11.2), было и «много пророков», сбивавшие с пути народ на протяжении I в. н. э. (И. В. VI, 5.2; ср.: VI, 5.3). Очевидно, для него вопрос заключался не в том, действуют ли еще пророки, а в том, хорошо ли они действуют, и прекратилось ли написание пророческих книг. Эдвард Эрл Эллис замечает верно: и Кумранская, и раннехристианская общины явно не согласились бы с тем, что пророчество в Израиле прекратилось[2189]. Тексты Кумранской общины, раннехристианской общины, автора Третьей книги Ездры 14:19–48 (ок. 100 г. н. э.) – все показывают нам: многие иудеи не верили в то, что пророческий Дух покинул Израиль.
Дэвид Оун предлагает множество примеров самых разных пророчествований, известных и практиковавшихся в иудейских сектах первых веков нашей эры, показывая широко распространенную веру в то, что Дух по-прежнему присутствовал и действовал через пророков в Израиле[2190]. Возможно, в I в. н. э. сложилось какое-то иное понимание пророчества, отличавшее вдохновение древних пророков от современных? Свидетельства этого найти трудно – в литературных произведениях порой отрицали, будто Дух покинул Израиль; впрочем, сама мысль о том, что Духа в Израиле больше нет, явно не была общепризнанной, а ранние христиане уж точно ее не разделяли (Деян 2:1–21)[2191] – и, по-видимому, находили в разных местах немало пророческих и боговдохновенных текстов, поддерживавших и развивавших их убеждения и миссию.
Хотя некоторые предполагают, что боговдохновенность текста служила для общины верующих критерием его ценности[2192], никаких четких древних «руководств» по распознаванию такой вдохновенности до нас не дошло. Есть искушение сказать, что принимались только книги с прямым указанием на откровение от Бога; однако во многих книгах, впоследствии вошедших в Еврейскую Библию (Руфь, Есфирь, Ездра, Неемия, Книги Царств и Паралипоменон), таких указаний нет. Среди авторов Нового Завета о боговдохновенности своей книги говорит лишь автор Откровения (Откр 22:18–19) и, возможно, Павел в 1 Кор 7:40. Древняя практика приписывания вдохновенности религиозным писаниям широко известна. Древние книги принимались как Писание и добавлялись в библейский канон, потому что отдельные люди и даже целые религиозные общины верили: эти тексты обладают божественным авторитетом в вопросах религиозных верований и практик[2193].
Иудеям, считавшим, что со времен Ездры пророчества в Израиле прекратились, было легче сформировать свой канон Писаний; однако такой взгляд во времена Иисуса разделяли далеко не все. Ни представление об окончании пророчеств, ни принятие тех или иных книг как Писания не было обязательным для иудеев как в I в. н. э., так и раньше. Некоторые библеисты склонны проецировать на древние тексты представления, которые сложились много позже. Вечное искушение – взять список книг, в какой-то момент признанных священными, и вообразить, что священными они считались и прежде. Джонатан Смит справедливо заключает, что канон – «почти всегда категория ретроспективная, а не потенциальная и не исходная»[2194]. Поскольку ни иудейские, ни христианские соборы не составляли списка канонических книг ни до эпохи Иисуса, ни в ее время, ни вскоре после нее, большая часть писаний, впоследствии получившая канонический статус у иудеев или христиан, в то время могла обладать лишь «квазиканоничностью»[2195] – благодаря своей широкой распространенности в различных религиозных общинах. Признание книг священными зачастую вытекало из того, что к ним обращалось большинство религиозных лидеров, уважаемых в общинах веры. Широкое использование в церквях – один из важных критериев, по которым многие церкви включали свои религиозные тексты в канон[2196].
В конце IV или начале V в. Иероним доказывал, что Послание Иуды необходимо принимать несмотря на то, что в нем цитируется Первая книга Еноха, и утверждал: «В силу древности и полезности оно завоевало авторитет и признается одним из Святых Писаний» (Знам. муж 4). Фредерик Файви Брюс также заключает: «Когда канон в должный час “закрывался” решением компетентной инстанции, – этим просто официально признавался обычай, уже сложившийся в общинах почитателей»[2197]. В определенном смысле я согласен с тем, что церковные соборы, как правило, лишь отражали – а не определяли, – то, какие книги уже получили признание в их географических регионах, несмотря на то, что реальные и действующие библейские каноны, о которых свидетельствуют древние кодексы, зачастую говорят совсем об ином[2198].
Заключение
Итак, что же мы можем сказать о библейском каноне Иисуса? Как уже отмечалось, представление о четко определенном библейском каноне во времена Иисуса не обсуждалось; насколько нам известно, со своими учениками он об этом также не говорил. Поскольку никакого «списка священных книг», составленного Иисусом, до нас не дошло, а его древнейшие последователи не были обязаны ограничивать себя сводом книг, ныне составивших Еврейскую Библию (или протестантский Ветхий Завет), вероятнее всего, что ни Иисуса, ни его последователей не волновал вопрос состава библейского канона, столь занимающий библеистов в наши дни, и им были известны – и влияли на них – не только книги нынешней Еврейской Библии. Неясно и то, все ли книги, составляющие Еврейскую Библию (или протестантский Ветхий Завет) сейчас, имели серьезное влияние на иудаизм времен Иисуса или на его последователей немногим позже. По всей видимости, Иисус и его первые последователи обращались к гораздо более широкому собранию писаний, содержавшему и кое-что из того, что мы сейчас называем апокрифической или псевдэпиграфической литературой.
Насколько мы можем судить, Иисус, как и его первые последователи, обращался не только к тем источникам, что дошли до нас. Вносил ли он все книги нынешнего ветхозаветного канона в какое-то собственное «Писание»? Считал ли он «Писанием» Первую книгу Еноха и, возможно, другие книги, не вошедшие в Еврейскую Библию и в христианский Ветхий Завет – скажем, такие как Книга Юбилеев, Премудрость Соломона, Сирах, Сирийский апокалипсис Варуха? Опять-таки, у нас нет свидетельств того, что в I в. такие вопросы вообще ставились; но очевидно, что древнейшие последователи Иисуса без колебаний использовали и цитировали эти и другие книги в качестве Писания. Ни Иисус, ни первые его последователи не цитируют все книги, составляющие ныне Еврейскую Библию и протестантский Ветхий Завет, однако в его учениях имеется немало параллелей не только со многими библейскими книгами, но и – пусть и в меньшей степени – с несколькими писаниями, позднее отнесенными к апокрифам или псевдэпиграфам.
То, что Иисус и его последователи не ограничивали себя ни нынешней Еврейской Библией, ни трехчастным библейским каноном, подсказывает нам, что Иисус не составлял и не передавал своим последователям списка книг Писания, которым они в дальнейшем могли бы руководствоваться в церквях. Если же он и передал ученикам четко определенный библейский канон, напоминающий Еврейскую Библию с ее тремя частями или протестантский Ветхий Завет, очевидно, что ученики быстро его утратили: у ранних отцов Церкви мы не встречаем ни указаний на то, что они ограничиваются этим каноном, ни попыток разделить ветхозаветные писания на три свода, как поступали иудеи со II в. и далее. С другой стороны, если бы Иисус передал своим ближайшим последователям библейский канон, было бы поистине странно, что такая важная информация оказалась так быстро и радикально утрачена. Скорее всего, такого канона просто никогда не было. Аргументы, к которым обращаются некоторые библеисты для защиты «канона Иисуса», грешат анахронизмами: эти ученые исходят из того, что понятие «канона» было в те времена некой данностью, – однако, судя по новозаветным свидетельствам, «каноническое мышление» было в те времена редким, а возможно, его и не существовало.
Что же касается использования некоторых неканонических писаний в раннем христианстве и их влияния, достаточно лишь обратить внимание на то, что гомилии, размышления и литургические формы зачастую были основаны именно на них, а кроме того, эти книги вдохновляли поэтов, писателей, композиторов и художников. Во вступлении к переводу апокрифических или второканонических книг в версии NRSV Брюс Мецгер отмечает, что даже Колумб смог открыть Новый Свет в XV в. благодаря тому, что читал Третью книгу Ездры (3 Езд 6:42). Колумб рассудил, что если водой покрыта всего одна седьмая часть земной поверхности, то от западного берега Европы до восточного берега Азии, должно быть, не слишком далеко. Он полагал, что при попутном ветре сможет достичь побережья Восточной Азии за несколько дней. Он прочел этот текст перед Фердинандом и Изабеллой Испанскими, – и получил от них деньги на свое историческое путешествие.
Рассказывает Мецгер и о том, как эти книги повлияли на англоязычную литературу, в том числе на Шекспира и Генри Уодсворта Лонгфелло. Что касается музыки, то некоторая часть текста возвышенного гимна «Благодарим Бога нашего» основана на лютеровском переводе Сираха, а некоторые идеи гимна «Свершилось в полночь ясную» исходят из новозаветных апокрифов (отметим, что в новозаветных писаниях ничего не говорится о точном времени рождества Иисуса). Отголоски апокрифических имен Сусанны (легендарная фигура времен Даниила), Иуды Маккавея (ок. 165–160 гг. до н. э.), Александра I Баласа (ок. 151–145 гг. до н. э.) звучат в знаменитых ораториях Генделя. Значительное число полотен Возрождения заимствовали сюжеты из апокрифов[2199]. На протяжении всей истории Церкви у многих христиан апокрифы пользовались некоторым каноническим авторитетом.
Если вернуться к вопросу, поставленному в начале, то очевидно, что у Иисуса не было библейского канона в традиционном понимании – по крайней мере такого, какой сложился впоследствии в раввинистическом иудаизме, а затем и в христианских церквях. Хотя учение его было укоренено в широко распространенных книгах Моисеевых и нескольких других из числа Пророков (прежде всего в Книге Исаии, Второзаконии и Псалтири), на него оказали влияние и другие иудейские религиозные писания, впоследствии отнесенные к неканоническим, особенно Первая книга Еноха, Премудрость Соломона, Сирах, Послание Иеремии, Первая, Вторая и Четвертая книги Маккавейские, а возможно, и ряд других. Некоторым из так называемых неканонических писаний он уделяет больше внимания, чем некоторым из так называемых библейских книг. Как уже отмечалось, нам неизвестны упоминания Иисуса о многих книгах Еврейской Библии; а ранние его последователи, по всей видимости, следовали его примеру и цитировали как авторитетные источники обе категории – и «каноническую», и «неканоническую» литературу. И исследователям Иисуса определенно стоило бы рассматривать эту дополнительную литературу как часть религиозного наследия, из которого обретал свои знания исторический Иисус.
Приложение: На какие книги Писания ссылался Иисус?
Приведенные ниже списки неполны, однако в них отражены некоторые из евангельских цитат, аллюзий и параллелей, как лексических, так и идейно-тематических, с Ветхим Заветом / Еврейской Библией и с так называемыми апокрифами. Все примеры приводятся по NA27 – 27-му изданию Нового Завета на греческом языке[2200]. [Нумерация псалмов – согласно Синодальному переводу. – Прим. ред.]
Иисус цитирует библейские книги (Синоптики)
Бытие 1:27 (Мк 10:6/Мф 19:4); 2:24 (Мк 10:7–8/Мф 19:5); 4:1 и далее (Мф 23:35/Лк 11:51); 4:24 (Мф 18:22); 6–7 (Мф 24:37–39/Лк 17:26–27); 19 (Мф 10:15/ 11:23–24/Лк 10:12); Исход 3:6 (Мк 12:26/Мф 22:32/Лк 20:37); 20:7 (Мф 5:33); 20:12 (Мк 7:10/Мф 15:4); 20:7 (Мф 5:33); 20:12–16 (Мк 10:19/Мф 19:18–19/Лк 18:20); 20:13 (Мф 5:21); 20:14 (Мф 5:27); 21:12 (Мф 5:21); 21:17 (Мк 7:10/Мф 15:4); 21:24 (Мф 5:38); 23:20 (Мк 1:2/Мф 11:10/Лк 7:27); 24:8 (Мк 14:24; Мф 26:28); 29:37 (Мф 23:17, 19); 30:29 (Мф 23:17, 19); Левит 13–14 (Лк 17:14); 14:2–32 (Мк 1:44/Мф 8:4/Лк 5:14); 19:2 (Мф 5:48/Лк 6:36); 19:12 (Мф 5:33); 19:18 (Мк 12:31/Мф 5:43; 19:18; 22:39/Лк 10:27); 24:9 (Мк 2:25–26/Мф 12:3–4/ Лк 6:3–4); 24:17 (Мф 5:21); 24:20 (Мф 5:38); Числа 28:9–10 (Мф 12:5); Второзаконие 5:16–20 (Мк 10:19/Мф 19:18–19/Лк 18:20); 5:17 (Мф 5:21); 5:18 (Мф 5:21); 6:4–5 (Мк 12:29–30/ Мф 22:37/Лк 10:27); 6:13 (Мф 4:10/Лк 4:8); 6:16 (Мф 4:7/Лк 4:12); 8:3 (Мф 4:4/Лк 4:4); 13:2 (Мф 24:24); 19:15 (Мф 18:16); 23:22 (Мф 5:33); 24:1 (Мк 10:5/Мф 5:31/19:8); 30:4 (Мф 24:31); 1 Царств 21:2–7 (Мк 2:25–26/Мф 12:4/Лк 6:3–4); 3 Царств 10:4 и далее (Мф 6:29/Лк 12:27); 10:13 (Мф 12:42/Лк 11:31); 17:1 и далее (Лк 4:25–26); 4 Царств 5 (Лк 4:27); 2 Паралипоменон 24:20–22 (Мф 23:35/Лк 11:51); Псалтирь 6:9 (Мф 7:23/Лк 13:27); 8:3 (Мф 21:16); 21:2 (Мк 15:34/Мф 27:46); 23:4 (Мф 5:8); 30:6 (Лк 23:46); 36:11 (Мф 5:5); 47:3 (Мф 5:35); 49:14 (Мф 5:33); 109:1 (Мк 12:36; 14:62/Мф 22:44; 26:64/Лк 20:42–43; 22:69); 117:22–23 (Мк 12:10–11/Мф 21:42/Лк 20:17); 117:26 (Мф 23:39/Лк 13:35); Исаия 5:1–2 (Мк 12:1/Мф 21:33/ Лк 20:9); 6:9–10 (Мк 4:12/Мф 12:4; 13:14–15/Лк 6:4); 8:14–15 (Мф 21:44/ Лк 20:18); 13:10 (Мк 13:24–25/Мф 24:39/Лк 21:25–26); 14:13, 15 (Мф 11:23/Лк 10:15); 23 (Мф 11:21–22/Лк 10:13–14); 29:13 (Мк 7:6–7/Мф 15:8–9); 32:15 (Лк 24:49); 34:4 (Мк 13:24–25/Мф 24:29/Лк 21:25–26); 35:5–6 (Мф 11:5/ Лк 7:27); 53:10–12 (Мк 10:45/Мф 20:28); 53:12 (Лк 22:37); 56:7 (Мк 11:17/ Мф 21:13/Лк 19:46); 58:6 (Лк 4:18); 66:1 (Мф 5:34–35; 11:5/Лк 7:22); 61:1–2 (Лк 4:18–19); Иеремия 6:16 (Мф 11:29); 7:11 (Мк 11:17); Иезекииль 26–28 (Мф 11:21–22; Лк 10:13–14); Даниил 7:13 (Мк 13:26; 14:62/Мф 24:30; 26:64/Лк 21:27; 22:69); 11:31 (Мк 13:14/Мф 24:15); 12:11; ср.: 9:27 (Мк 13:14/Мф 24:15); Осия 6:6 (Мф 9:13); Иоиль 3:13 (Мк 4:29); 3:19 (Мф 23:35); Иона (Мф 16:4; ср. 12:39); 2:1 (Мк 8:31); 3:5–9 (Мф 12:41/Лк 11:32); Михей 7:6 (Мф 10:35–36/Лк 12:53); Захария 9:9 (Мк 11:1 и далее/Мф 21:1 и далее/Лк 19:29 и далее); 12:10, 12, 14 (Мф 24:30); 13:7 (Мк 14:27/Мф 26:31); Малахия 3:1 (Мф 11:10/Лк 7:27); 4:5–6 [ET: 3:23–24] (Мк 9:12–13; 11:14/Мф 11:10/Лк 7:27; 17:11–12)[2201].
Иисус цитирует библейские книги (Иоанн)
В наше время общепризнано, что Евангелие от Иоанна, известное под этим названием со времен Иринея (Против ересей 3.11.1–9), содержит в себе больше археологических, топографических и хронологических данных, чем все три синоптических Евангелия вместе взятые[2202]. Хотя о богословии, которым пронизано это Евангелие, и по сей день идут значительные споры, в наше время ученые начинают заново оценивать его роль в восстановлении биографии Иисуса. На протяжении целого столетия его роль как достоверного свидетельства об историческом Иисусе сводилась к минимуму; однако в последнее время археологические находки, подтвердившие его точность, привели к новой оценке упомянутых в нем исторических деталей[2203]. Это не значит, что христологические заявления Иоанна стали для критической науки более приемлемы, чем прежде – но стало ясно, что нам необходимо серьезнее отнестись к исторической ценности Евангелия от Иоанна для реконструкции истории Иисуса. В тех цитатах из Писания, которые приводит Иисус в Евангелии от Иоанна, это Евангелие сходно с синоптическими; кроме того, здесь Иисус чаще других библейских книг цитирует Псалтирь, Второзаконие и Исаию, хотя, по Иоанну, он знаком и со многими другими книгами Еврейской Библии / Ветхого Завета.
Бытие 1:1 (Ин 1:1); 4:7 (Ин 8:34); 17:10–12 (Ин 7:22); 21:17 (Ин 12:29); 21:19 (Ин 4:11); 26:19 (Ин 4:10); 28:12 (Ин 1:51); 40:55 (Ин 2:5); 48:22 (Ин 4:5); Исход 7:1 (Ин 10:34); 12:10, 46 (Ин 19:36); 14:21 (Ин 14:1); 16:4, 15 (Ин 6:32); 22:27 (Ин 10:34; 18:22); 28:30 (Ин 11:51); 33:11 (Ин 15:15); 34:6 (Ин 1:17); Левит 17:10–14 (Ин 6:53); 20:10 (Ин 8:5); 23:34 (Ин 7:2); 23:36 (Ин 7:37); 23:40 (Ин 12:13); 24:16 (Ин 10:33); Числа 5:12 (Ин 8:3); 9:12 (Ин 19:36); 12:2 (Ин 9:29); 12:8 (Ин 9:29); 14:23 (Ин 6:49); 16:28 (Ин 5:30; 7:17); 21:8 (Ин 3:14); 27:21 (Ин 11:51); Второзаконие 1:16 (Ин 7:51); 1:35 (Ин 6:49); 2:14 (Ин 5:5); 4:12 (Ин 5:37); 11:29 (Ин 4:20); 12:5 (Ин 4:20); 17:7 (Ин 8:7); 18:15 (Ин 1:21; 5:46); 19:18 (Ин 7:51); 21:23 (Ин 19:31); 22:22–24 (Ин 8:5); 24:16 (Ин 8:21); 27:12 (Ин 4:20); 27:26 (Ин 7:49); 30:6 (Ин 3:13); Навин 7:19 (Ин 9:24); 2 Царств 7:12 (Ин 7:42); 13:25? (Ин 11:54); 4 Царств 5:7 (Ин 5:21); 10:16 (Ин 1:46); 14:25 (Ин 7:52); 19:15 (Ин 5:44); 19:19 (Ин 5:44); Неемия 12:39 (Ин 5:2); Иов 24:13–17 (Ин 3:20); 31:8 (Ин 4:37); 37:5 (Ин 12:29); Псалтирь 2:2 (Ин 1:41); 2:7 (Ин 1:49); 14:2 (Ин 8:40); 21:19 (Ин 19:24); 21:23 (Ин 20:17); 24:5 (Ин 16:13); 30:10 (Ин 12:27); 31:2 (Ин 1:47); 32:6 (Ин 1:3); 34:19 (Ин 15:25); 34:23 (Ин 20:28); 39:10 (Ин 1:17); 40:10 (Ин 13:18); 50:7 (Ин 9:34); 62:2 (Ин 19:28); 65:18 (Ин 9:31); 68:5 (Ин 15:25); 68:10 (Ин 2:17); 77:24 (Ин 6:31); 77:71 (Ин 21:16); 79:2 (Ин 10:4); 81:6 (Ин 10:34); 84:11 (Ин 1:17); 88:4 (Ин 7:42); 88:28 (Ин 12:34); 91:16 (Ин 7:18); 94:7 (Ин 10:3); 106:30 (Ин 6:21); 117:20 (Ин 10:9); 118:142, 160 (Ин 17:17); 121:1 и далее (Ин 4:20); 131:16 (Ин 5:35); 144:19 (Ин 9:31); Притчи 1:28 (Ин 7:34); 8:22 (Ин 1:2); 15:8 (Ин 9:31); 15:29 (Ин 9:31); 18:4 (Ин 7:38); 24:22 (Ин 17:12); 30:4 (Ин 3:13); Екклесиаст 11:5 (Ин 7:38); Исаия 2:3 (Ин 4:22); 6:1 (Ин 12:41); 6:10 (Ин 12:40); 8:6 (Ин 9:7); 8:23 [ET 9:1] (Ин 2:11); 9:2 (Ин 4:36); 11:2 (Ин 1:32); 12:3 (Ин 7:37); 26:17 (Ин 16:21); 35:4 (Ин 12:15); 37:20 (Ин 5:44); 40:3 (Ин 1:23); 40:9 (Ин 12:15); 42:8 (Ин 8:12); 43:10 (Ин 8:28, 58); 43:13 (Ин 8:58); 43:19 (Ин 7:38); 45:19 (Ин 18:20) 46:10 (Ин 13:19); 52:13 (Ин 12:38); 53:7 (Ин 8:32); 54:13 (Ин 6:45); 55:1 (Ин 7:37); 57:4 (Ин 17:12); 58:11 (Ин 4:14); 60:1, 3 (Ин 8:12); 66:14 (Ин 16:22); Иеремия 1:5 (Ин 10:36); 2:13 (Ин 4:10); 11:19 (Ин 1:29); 13:16 (Ин 9:4); 17:21 (Ин 5:10); Иезекииль 15:1–8 (Ин 15:6); 34:11–16 (Ин 10:11); 34:23 (Ин 10:11, 16); 36:25–27 (Ин 3:5); 37:24 (Ин 10:11, 16); 37:25 (Ин 12:34); 37:27 (Ин 1:14); 47:1–12 (Ин 7:38); Даниил 1:2 (Ин 3:35); Осия 6:2 (Ин 5:21); 4:18 (Ин 7:38); Авдий 12–14 (Ин 11:50); Михей 5:1 (Ин 7:42); 6:15 (Ин 4:37); Софония 3:13 (Ин 1:47); 3:14 (Ин 12:15); 3:15 (Ин 1:49); Аггей 2:9 (Ин 14:27); Захария 1:5 (Ин 8:52); 9:9 (Ин 12:15); 12:10 (Ин 19:37); 13:7 (Ин 16:32); 14:8 (Ин 4:10; 7:38); Малахия 1:6 (Ин 8:49); 4:5 [ET: 3:23] (Ин 1:21).
Аллюзии или лексические и тематические параллели с апокрифами и псевдэпиграфами, приписываемые Иисусу (Синоптики)
2 Ездры 1:4 [ET: 3 Ezra 1:3] (Мф 6:29); 3 Ездры 4:8 (Ин 3:13); 6:25 (Мф 10:22); 7:14 (Мф 5:1); 7:36 (Лк 16:26); 7:77 (Мф 6:20); 7:113 (Мф 13:39); 8:3 (Мф 22:14); 8:41 (Мф 13:3; 22:14); 1 Маккавейская 1:54 (Мф 24:15); 2:21 (Мф 16:22); 2:28 (Мф 24:16); 3:6 (Лк 13:27); 3:60 (Мф 6:10); 4:59 (Ин 10:22); 5:15 (Мф 4:15); 9:39 (Ин 3:29); 10:29 (Лк 15:12); 12:17 (Мф 9:38); 2 Маккавейская 3:26 (Лк 24:4); 8:17 (Мф 24:15); 10:3 (Мф 12:4); 4 Маккавейская 3:13–19 (Лк 6:12); 7:19 (Мф 22:32/Лк 20:37); 13:14 (Мф 10:28); 13:15 (Лк 16:23); 13:17 (Мф 8:11); 16:25 (Мф 22:32/Лк 20:37); Товит 2:2 (Лк 14:13); 3:17 (Лк 15:12); 4:3 (Мф 8:21); 4:6 (Ин 3:21); 4:15 (Мф 7:12); 4:17 (Мф 25:35); 5:15 (Мф 20:2); 7:10 (Лк 12:19); 7:17 (Мф 11:25/Лк 10:17); 11:9 (Лк 2:29); 12:15 (Мф 18:10/Лк 1:19); 14:4 (Мф 23:38/Лк 21:24); Иудифь 11:19 (Мф 9:36); 13:18 (Лк 1:42); 16:17 (Мф 11:22); Сусанна 46 (Мф 27:24); Варух 4:1 (Мф 5:18); 4:37 (Мф 8:11/Лк 13:29); Послание Иеремии 6:24, 28 (Мф 11:29); Сирах 7:14 (Мф 6:7); 7:32–35 (Мф 25:36); 9:8 (Мф 5:28); 10:14 (Лк 1:52); 11:19 (Лк 10:19); 13:17 (Мф 10:16); 14:10 (Мф 6:23); 20:30 (Мф 13:44); 23:1, 4 (Мф 6:9); 24:19 (Мф 11:28); 24:21 (Ин 6:35); 24:40, 43 (Ин 7:38); 25:7–12 (Мф 5:2); 27:6 (Мф 6:12); 28:18 (Лк 21:24); 29:10 (Мф 6:20); 31:15 (Мф 7:12); 33:1 (Мф 6:13); 35:22 (Мф 16:27/Лк 18:7); 37:2 (Мф 26:38); 40:15 (Мф 13:5); 44:19 (Ин 8:53); 48:5 (Лк 7:22); 48:10 (Мф 11:14; 17:11/Лк 1:17; 9:8); 48:24 (Мф 5:4); 50:20 (Лк 24:50); 50:22 (Лк 24:53); 50:25 (Ин 4:9); 51:1 (Мф 11:25/Лк 10:21); 51:23 (Мф 11:28); 51:26 (Мф 11:29); Премудрость Соломона 2:13 (Мф 27:43); 2:16 (Ин 5:18); 2:18–20 (Мф 27:43); 2:24 (Ин 8:44); 3:7 (Лк 19:44); 3:9 (Ин 15:19); 5:22 (Лк 21:25); 6:18 (Ин 14:15); 7:11 (Мф 6:33); 8:8 (Ин 4:48); 9:1 (Ин 1:3); 15:1 (Лк 6:35); 15:3 (Ин 17:3); 15:8 (Лк 12:20); 15:11 (Ин 20:22); 16:13 (Мф 16:18); 16:26 (Мф 4:4); 17:2 (Мф 22:13); 18:15 (Ин 3:12); Псалмы Соломона 1:5 (Мф 11:23); 5:3 (Ин 3:27); 5:9 (Мф 6:26); 7:1 (Ин 15:25); 7:6 (Ин 1:14); 16:5 (Лк 22:37); 17:21 (Ин 7:42); 17:25 (Лк 21:24); 17:26, 29 (Мф 19:28); 17:30 (Мф 21:12); 17:32 (Лк 2:11); 18:6 (Мф 13:6); 18:10 (Лк 2:14); 1 Еноха 5:7 (Мф 5:5); 16:1 (Мф 13:39); 22:9 (Лк 16:26); 38:2 (Мф 26:24); 39:4 (Лк 16:9); 51:2 (Лк 21:28); 61:8 (Мф 25:31); 62:2 (Мф 25:31); 63:10 (Лк 16:9); 69:27 (Мф 25:31/26:64/Ин 5:22); 94:8 (Лк 6:24); 97:8–10 (Лк 12:19); 103:4 (Мф 26:13)[2204].
Аллюзии или лексические и тематические параллели с апокрифами и псевдэпиграфами, приписываемые Иисусу (Иоанн)
3 Ездры [ET: 4 Ezra] 1:37 (Ин 20:29); 4:8 (Ин 3:13); 1 Маккавейская 4:59 (Ин 10:22); 9:39 (Ин 3:29); 10:7 (Ин 12:13); 4 Маккавейская 17:20 (Ин 12:26); Товит 4:6 (Ин 3:21); Варух 3:29 (Ин 3:13); Сирийский апокалипсис Варуха 18:9 (Ин 1:9; 3:19; 5:35); 39:7 (Ин 15:1); Сирах 16:21 (Ин 3:8); 24:21 (Ин 6:35); 24:40, 43 (Ин 7:38); 44:19 (Ин 8:53); 50:25–26 (Ин 4:9); Премудрость Соломона 2:16 (Ин 5:18); 2:24 (Ин 8:44); 3:9 (Ин 15:9–10); 5:4 (Ин 10:20); 6:18 (Ин 14:15); 8:8 (Ин 4:48); 9:1 (Ин 1:3); 9:16 (Ин 3:12); 15:3 (Ин 17:3); 15:11 (Ин 20:22); 18:14–16 (Ин 3:12); Псалмы Соломона 5:3 (Ин 3:27); 7:1 (Ин 15:25); 7:6 (Ин 1:14); 17:21 (Ин 7:42); 1 Еноха 69:27 (Ин 5:22).
Св. Иоанн Златоуст об Ин 4: Иисус истории и божественная адаптивность
Джордж Парсениос
Я подхожу к жизненному пути Иисуса несколько иначе, чем другие авторы. Моя тема – не столько исторический Иисус в обычном понимании этих слов, сколько то, как деяния Иисуса в истории понимал св. Иоанн Златоуст. Пастырскую позицию Иисуса в Четвертом Евангелии Златоуст интерпретирует как выражение адаптивности пастыря – и мы рассмотрим эту адаптивность на примере беседы Иисуса с самаритянкой в Ин 4. Поскольку статья моя посвящена не столько поиску исторического Иисуса, сколько богословию Евангелия от Иоанна, в этом сборнике она может показаться белой вороной. Однако в завершение я сделаю ряд замечаний о возможном применении моей работы к историческому Иисусу.
Определение и обсуждение пастырской адаптивности в Евангелии от Иоанна мы начнем с краткого обращения к апостолу Павлу, который в Послании к Коринфянам (1 Кор 9:19–23) описывал свой труд так:
Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его.
Этот отрывок разные люди понимают по-разному, однако господствует мнение, что в нем отражается адаптивность психагога[2205]. Что это такое? Отличное объяснение этому дает Сенека, сравнивая труд наставника со схожей работой врача:
Но пусть даже все открыто древними – всегда будет ново и применение открытого другими, и его познание и упорядоченье. Представь, что нам достались в наследство лекарства, чтобы лечить глаза; мне уже нет нужды искать новых, следует только приспособить каждое к своей болезни и применить в срок… Нужно только растереть их и выбрать время, и еще найти меру для каждого. Лекарства для души найдены древними, но наше дело отыскать, как их применять и когда[2206].
Сенека говорит о том, что две болезни невозможно исцелить одним и тем же способом, поскольку у двух пациентов не может быть болезни на одной и той же стадии. Великие учителя прошлого нашли необходимое лекарство для той или иной болезни; однако каждому врачу необходимо знать, когда и как применять это лекарство для исцеления конкретного пациента. Лечение требует проницательной диагностики, чтобы предлагать лекарства в самое благоприятное время и в должных пропорциях. По-видимому, это имеет в виду Павел, когда говорит, что адаптировал свою весть и свое отношение к разным людям в разных местах и в разное время. Чтобы поместить работу Павла в верный контекст и понять, насколько он полагается – или не полагается – на методы, описанные Сенекой, Маргарет Митчелл связала 1 Кор 9 с несколькими утверждениями Филона Александрийского о снисхождении Бога к людям и икономии Божьей. Начинает она с той дилеммы, которую ставит перед Филоном Септуагинта, утверждающая, что Бог «снисходит» (καταβαίνειν) к народу своему. Для платоника Филона «такой антропоморфизм был явно неприемлем»[2207]. В ответ на это, желая исправить недопонимание, Филон пишет так (Смеш 134–135):
А слова: «Сошел Господь [κατέβη κύριος] посмотреть город и башню» (Быт 11:5) – не стоит понимать буквально, ибо это нечестие, превосходящее, если можно так выразиться, размеры Океана и Вселенной, – предполагать, что Бог подходит, отходит, спускается или, напротив, поднимается [κατιέναι ἤ τοὐναντίον ἀνέχεσθαι], или вообще принимает те же позы и совершает те же движения, что и живые существа. Этот доступный человеку язык Законодатель использует в рассказе о Том, Кто не имеет человеческого облика, ради нашего с вами, как я не раз уже говорил, воспитания[2208].
Филон объясняет, что таким образом Бог приспосабливается к человеческой слабости:
Душам, которые бестелесны и заняты поклонением Ему, Он, вероятно, открывается таким, какой Он есть, беседуя с ними, как друг с друзьями; но душам, которые все еще в теле, Он является, придавая себе облик ангелов, не меняя Своей собственной природы, ибо Он неизменен, но передавая тем, кто обретает впечатление Его присутствия, видимость в иной форме, так, что они принимают образ не за копию, а за саму изначальную форму (О снах 1.232)[2209].
Кроме того, Бог идет навстречу человеческой слабости, являясь человеку через посредников, скажем, его Λόγος и λόγοι[2210]. Филон пишет, например:
На всем протяжении беспрестанно движутся вверх и вниз «слова» Божьи (οἱ του θεοῦ λόγοι), вознося ее [душу] вместе с собой, когда восходят, и разлучая ее с тем, что смертно, и показывая ей зрелище единственных вещей, достойных нашего взгляда; а когда сходят, не отбрасывают ее, ибо ни Бог, ни божественное Слово не наносят вреда; но снисходят из любви к человеку и сострадания к роду нашему, становясь нам помощниками и товарищами (О снах 1.147)[2211].
Митчелл так объясняет значение замечаний Филона для Нового Завета:
В центре внимания здесь – необходимость снисходить к слабым, чтобы принести им пользу, а не навредить. Эта мысль и выражение ее словом συγκαταβαίνειν становятся очень важными для раннехристианской христологии воплощения, применяющей ту же логику к Логосу, Христу[2212].
То, что Митчелл находит важным для раннехристианской литературы в целом и в особенности для Павла, имеет еще более очевидную важность при изучении Евангелия от Иоанна, в котором Иисус прямо назван Логосом (Ин 1:1), и более того, о нем говорится, что он восходит и сходит. Так, например, Иисус говорит Никодиму: «Никто не восходил на небо, как только сшедший [καταβάς] с небес Сын Человеческий» (Ин 3:13).
Этот мотив у Иоанна заметен и далее, однако нам нет необходимости его прослеживать[2213]. Стоит только отметить связь между языком восхождения/схождения и деятельностью Логоса на земле, выраженную в его Евангелии. Между Иоанном и Филоном в этом аспекте наблюдается очевидное и основополагающее терминологическое сходство, хотя Иоанн развил учение Филона о Логосе Божьем и применил его лично к Иисусу так, как явно никогда бы не применил Филон[2214]. Однако, учитывая эту связь, я хотел бы подробнее исследовать мысль о том, что схождение Логоса – это акт божественного снисхождения к человеческой слабости, подразумевающий, помимо прочего, и ту пастырскую адаптивность, которую Сенека пояснял через аналогию с лечением глазной болезни. Предполагает ли сошествие Логоса в Евангелии от Иоанна такое же снисхождение пастыря навстречу пастве?
Святой Иоанн Златоуст, несомненно, полагает, что да, и подробно исследует, как действует адаптивное Слово Божье в Евангелии от Иоанна. Божественная адаптивность – особая тема, о которой не раз пишет Златоуст; он постоянно говорит о трудах Бога в мире как о συγκατάβασις. Дэвид Риларсдам переводит термин συγκατάβασις на английский как «адаптивность» вместо более традиционного «снисхождения», и здесь я поступлю так же[2215]. Кроме того, Риларсдам показывает, как Златоуст понимает деяния Бога в Ветхом Завете, дела Иисуса и апостола Павла в Новом Завете – и даже действия всего христианского священства – согласно принципам адаптивности. Адаптивность – это метод, и Бог обращается к ней, чтобы возрастить в человечестве более великую добродетель и приблизить его к себе. Бог – учитель, отец и врач, но в первую очередь – учитель, искусно адаптирующий свои наставления к уровню понимания учеников.
Риларсдам намечает четыре качества адаптивности и три метода, при помощи которых она проявляет себя у Златоуста. Вот ее черты: 1) Бог знает свой народ и знает, что нужно народу в данный момент; 2) Бог убеждает, а не принуждает; 3) Бог проявляет достаточное смирение и готов «умалить» себя и свою весть до того уровня, на котором способны воспринимать слушатели; 4) Бог – учитель, движимый любовью к своим ученикам[2216]. Вот три метода: 1) Бог использует материальные знаки – такие как человеческий язык или человеческие образцы – чтобы возвести народ свой от физических, чувственно воспринимаемых реалий к реалиям духовным, невидимым; 2) Бог варьирует свое взаимодействие с людьми и приспосабливает свою весть к разному уровню понимания у своих собеседников или к различным обстоятельствам; 3) кроме того, Бог развивает свою весть согласно тому, как возрастает уровень понимания у собеседников[2217].
Теперь, помня об этом, мы можем обратиться к беседе Иисуса с самаритянкой в Ин 4. Эта самаритянка с Античности до наших дней удостаивается самых разных ярлыков и трактовок. То она святая, то грешница – не говоря уже обо всех стадиях этого спектра[2218]. Свою роль в истории истолкований этого эпизода сыграл и Златоуст, однако в его трудах интересно не то, что он говорит об этой женщине, а те «рамки» адаптивности, в котором он толкует этот эпизод в целом[2219]. Сперва Златоуст описывает характер женщины в общих чертах, в сравнении с другими персонажами Евангелия, в особенности с Никодимом и иудеями. Сравнение – обычный способ обрисовки характера в античной риторике и нравственной философии; можно вспомнить, как Плутарх в своих Жизнеописаниях сопоставляет попарно греков и римлян, зачастую выбирая пары именно на основе сходства характеров[2220]. Литературное прочтение Евангелия от Иоанна в современной науке также часто уделяет внимание исследованию характеров, однако характер обычно определяется в соответствии с принципами современной нарративной критики[2221]. За этими сравнительными описаниями характеров стоит теория, весьма отличная от теории Златоуста, исходящей из риторических, философских и драматических представлений об этосе. Однако любопытно отметить, что современные критики не в меньшей степени, чем Златоуст, определяют характер самаритянки, сравнивая ее с Никодимом и иудеями. Скажем, Калпеппер начинает дискуссию о самаритянке с упоминания о Никодиме и иудеях:
Следующий персонаж, с которым Иисус вступает в диалог, введен по принципу резкого противопоставления и не обладает ни одной из положительных сторон Никодима. Никодим – мужчина, учитель, израильтянин; здесь перед нами женщина из Самарии. Он знатен, хорошего рода; у нее – постыдное прошлое. Он видел чудеса и признает, что Иисус «от Бога»; для нее Иисус – абсолютный незнакомец[2222].
Для Златоуста эту женщину отделяет от Никодима и иудеев и это, и многое другое. В сравнении с иудеями и Никодимом самаритянка иначе себя ведет, и Златоуст подчеркивает, что она другая:
И жена тотчас уверовала, показав себя разумнее Никодима, и не только разумнее, но и мужественнее. Он, услышав много подобного, никого не призвал ко Христу, да и сам оставался в нерешимости, а она совершает дело апостольское, всем благовествуя (Гом. Ин 32.75–79).
Что же, однако, делает Никодим, когда Иисус упоминает о духе? Златоуст говорит об этом:
Никодим, услышав слова Спасителя, сказал: «Как это может быть?» (Ин 3:9). Даже когда Христос показал ему ясный пример от ветра, и тогда Никодим не принял слова Его. А жена не так; сначала она недоумевает, но потом, принимая слово Христово без предубеждения, а как прямую истину, тотчас склоняется к вере. Как только сказал Христос: «Вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную», жена тотчас говорит: «Господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать» (Ин 4:14–15) (Гом. Ин 32.80–87).
И в этом самаритянка несхожа с Никодимом. Не похожа она и на иудеев в Ин 2. Когда Иисус предлагает ей воды, она спрашивает, не больше ли он Иакова, вырывшего для народа ее колодец, у которого они беседуют. Однако Златоуст отмечает, что и о праотце, и о Христе она судит без предубеждения, лишь по их делам:
Видишь ли беспристрастное суждение жены, которая произносит суд о праотце и о Христе по делам их? Но не так поступали иудеи. Даже видя, что Он бесов изгоняет, они не только не считали Его выше праотца, но еще называли беснующимся. А жена именно на том основывает свое суждение, на чем хочет Христос, то есть на доказательстве из Его дел (Гом. Ин 32.45–50).
Таким же образом, после того как Иисус говорит женщине, что у нее было пять мужей и тот, с кем она живет сейчас, ей не муж, она, говорит Златоуст, демонстрирует великую мудрость, признавая в нем пророка (Гом. Ин 32.129). Иисус просто говорит женщине об известном в обществе факте – ее многочисленных браках, – и она потрясена; а иудеи совсем не удивляются, когда Иисус раскрывает им не какие-либо публичные действия, а их тайные мысли, что гораздо более заслуживает удивления (Гом. Ин 32.130–147). Можно привести еще много примеров, но смысл ясен. Выше мы упоминали аналогию с диагнозом, приведенную Сенекой: можно сказать, что встреча с Иисусом поставила женщине иной диагноз, чем Никодиму и иудеям. Ее отношение к Иисусу иное, чем у других. Как же обращается к ней Иисус? Обнаружив, что у нее другой «диагноз», назначает ли ей другое «лечение»? О пастырском труде Иисуса Златоуст пишет так:
Но заметь мудрость Христа, как Он мало-помалу возводит жену. Он не сказал ей с самого начала: «если бы ты знала… Кто говорит тебе: дай Мне пить»; но когда подал ей повод назвать Его иудеем и вызвал на упрек, тогда, отражая укоризну, сказал это. Сказав еще: «если бы ты знала… Кто говорит тебе: дай Мне пить…» (Гом. Ин 32.25–30).
Итак, Иисус выжидает подходящего момента, чтобы преподать женщине свое учение тогда, когда она будет наиболее расположена его услышать. А когда она спрашивает Иисуса (4:12): «Неужели ты больше отца нашего Иакова?», Златоуст пишет: «Он не сказал: да, Я больше его, потому что это могло бы показаться ей одним тщеславием, когда еще не видно было на то доказательства» (Гом. Ин 32.31–34).
Более того: наставляя женщину, Иисус постепенно возводит ее мысль от физической, телесной реальности к духовной:
Видишь ли, как она мало-помалу восходит на высоту догматов? Сначала она почитала Христа за иудея, преступающего свой закон; потом, когда Он опроверг это обвинение (потому что лицу, имевшему сообщить ей такое учение, не следовало оставаться в подозрении), она, услышав о воде живой, подумала, что Он говорит о чувственной воде. Далее, узнав, что слова Его имеют духовный смысл, она верит (Гом. Ин 32.88–93).
Так Иисус поучает женщину постепенно, шаг за шагом возвышая ее мысль и восприятие. В то же время он обращается с ней иначе, поскольку она отличается от иудеев – именно поэтому он предлагает ей менее загадочное и более конкретное учение. В пример этого Златоуст приводит речения Иисуса о жажде и особенно о том, как он превозмогает жажду:
…останавливается еще на чувственных изображениях, потому что она не могла еще в точности постигать духовных предметов. Если бы Он сказал: уверуй в Меня – и ты не вжаждешь, то она не поняла бы сказанного, еще не зная, кто беседует с нею и о какой жажде говорит Он. Почему же Он не поступал так с иудеями? Потому что они уже видели много чудес; а жена еще не видела ни одного знамения и только в первый раз слышала такие слова (Гом. Ин 32.114–122).
Итак, знамения Иисуса (гл. 2) уже подготовили иудеев к тому, чтобы те могли узнать о нем нечто более возвышенное. Действительно, Никодим, придя к Иисусу, указывает на то, что был привлечен чудесами (Ин 3:2). Однако он все еще не понимает того, что говорит ему Иисус. Но женщине, хоть она и не видела никаких чудес, преподается более конкретное учение. Эта перемена отношения – не что иное, как божественная адаптивность, понимаемая в том же смысле, в каком говорил о ней Сенека. Иисус обращается с женщиной по-другому, потому что и сама она другая. Итак, Иисус – Пастырь Добрый, способный поставить «диагноз» стоящему перед ним человеку и преподать ему ровно столько, сколько тот может воспринять; вспомним, как он постепенно возводит женщину от смутного понимания к более ясному.
Ту же божественную адаптивность, которую Златоуст видит в Евангелии от Иоанна, он, разумеется, обнаруживает и в других местах. И это богословское предположение свойственно не только ему[2223]. Кто-то может сказать, что из-за этого аргументы Златоуста лишаются силы и что мы не можем предполагать в Евангелии от Иоанна действие божественной адаптивности. Однако против такого можно и возразить. Во-первых, у Иоанна, как и у Филона, мы встречаем комплекс идей о Слове Божьем, которое сходит на землю, чтобы быть со своим народом. Далее, не только Златоуст видит в истории самаритянки пастырскую адаптивность Иисуса. То же наблюдение делает и Ефрем Сирин. Приведем последнюю строфу его Гимна 22, «О девстве»:
Ибо в желании своем сказала она: «Мессия грядет!», Он с любовью открылся ей: «Я есть Он». Уже верила в то, что пророком он был; вскоре после – и в то, что был Он Мессией. О, как мудр Он, явившийся жаждущим, [и] названный вскоре пророком, а затем поняла она: Он есть Мессия; и она – образ рода людского, шаг за шагом ведомого Им[2224].
Постепенное просвещение людей, подобных самаритянке, так, как описывают это Ефрем и Златоуст, неоднократно отмечалось комментаторами. Например, самаритянка сначала называет Иисуса иудеем (Ин 4:9), затем обращается к нему как к «Господу» (точнее, «господину» – κύριε, 4:15), а затем – как к пророку (4:19). Наконец она начинает говорить о Мессии (4:25) и спрашивает, не Мессия ли Иисус (4:29). Позднее она свидетельствует об Иисусе (4:39), и самаритяне, веря ее свидетельству, провозглашают его Спасителем мира (4:42). Представление о способности к адаптации может объяснить эту постепенную эволюцию самаритянки и других самаритян, не говоря уж о других персонажах, например слепом из Ин 9[2225]. Кроме того, мы видели, что и современные комментаторы, такие как Калпеппер, признают отличие самаритянки от иудеев и Никодима. Возможно, модель адаптивности предоставит нам концептуальную основу для объяснения этого различия с опорой скорее на древние представления о характере, а не на современные идеи, связанные с искусством создания литературных образов.
Однако все эти вопросы не имеют отношения к нашей теме. Я начал с замечания, что статья имеет мало общего с историческим Иисусом; однако сейчас могу несколько пересмотреть это утверждение. В последнее время некоторые ученые начали переоценивать историческую достоверность Евангелия от Иоанна. Например, Дуайт Муди Смит утверждает, что в представлении Страстей Иисусовых у Иоанна есть ряд факторов, которые, как кажется, более исторически надежны, чем рассказы о Страстях у синоптиков. Особенно верно это для разбирательства в Синедрионе у Марка – которое, согласно Иоанну, было не судебным процессом, а простой встречей[2226]. Многие ученые считают, что Иоанн, сократив рассказ Марка о суде Синедриона, преследовал богословские цели. Однако Смит полагает, что в этом эпизоде Иоанн не перекраивает историю ради богословия, а напротив, более точно следует исторической реальности[2227]. Иоанн, по мнению Смита, в описании суда Синедриона более исторически достоверен, чем Марк. Возможно ли, по аналогии, предположить, что и рассказы о том, как Иисус проявляет адаптивность в наставничестве – вроде того, какой приведен выше, – сообщают нам нечто о пастырском труде исторического Иисуса? Современные попытки понять Иисуса в контексте античной философии сосредоточены в основном на синоптическом портрете Иисуса и желании понять Иисуса из Q как странствующего киника[2228]. Быть может, модель пастырского труда Иисуса, представленная у Иоанна, сможет привести нас к иным философским контекстам для понимания Иисуса – с акцентом не столько на киниках или какой-либо иной школе, сколько на том, как пастырь идет навстречу своей пастве? Это сможет прояснить лишь дальнейшая работа, но первым шагом к ней станет эта статья.
Иисус как чудотворец: историография и достоверность
Ян Росковец
Вступление
Большую проблему для поиска исторического Иисуса всегда представляли чудеса. Это отражено в огромном количестве литературы, вышедшей (и продолжающей выходить) по этой проблематике. Я не намерен браться за ее обзор – ни всей, ни даже только современной[2229]. Мои намерения куда скромнее: очертив то, что представляется мне общепринятой позицией по вопросу о чудесах Иисуса, я предложу некоторые мысли о дальнейшем исследовании и прояснении этого вопроса.
То, с чем все согласны
Историчность чудес Иисуса
Одна из важнейших характеристик Третьего поиска – подобающее внимание, которое уделяют ученые той части преданий об Иисусе, что рассказывает о совершенных им чудесах[2230]. Если в Первом поиске, еще до Швейцера, ученые стремились отделить образ Иисуса от рассказов о чудесах, либо давая им рациональные объяснения, либо приписывая их позднейшему, послепасхальному богословскому творчеству[2231], а в Новом поиске, после Бультмана, чудесами по большей части просто пренебрегали[2232], среди участников Третьего поиска, по-видимому, существует явное согласие относительно того, что, если мы стремимся воссоздать облик Иисуса, применяя к преданиям о нем исторические методы, чудеса должны занять в нашем исследовании важное место[2233]. В некоторых портретах Иисуса, созданных в русле этого довольно обширного течения, чудеса играют даже решающую роль[2234].
Смена воззрений
Если кто-нибудь попросит нас определить, какие главные силы ответственны за возвращение чудес в «оптический прицел» историков, изучающих Иисуса, ответом, по-видимому, будет двойное измерение наших герменевтических предпосылок. Во-первых, сегодня мы уже не так уверены в том, что является возможным или рационально вообразимым, и, соответственно, мы менее склонны радикально оценивать исторические источники по своей шкале «возможного-невозможного». А во-вторых, теперь мы куда трезвее смотрим на свои попытки проникнуть «за пределы текста» и на их реальные результаты.
Нет, мы не отвергли рационалистический взгляд на мир, развившийся из импульсов, заданных Просвещением, он все еще в силе; однако он – по крайней мере, в сравнении с самыми простыми и прямолинейными своими версиями – заметно расширился, усложнился и тем самым приобрел более относительный характер. И у этого, опять же, есть два аспекта. Один в том, что развитие естественных наук, особенно физики, показало нам, что ньютоновское механистическое описание реальности хоть и не то чтобы неверно – но способно охватить лишь часть[2235]. Конечно, современная наука не утратила своей основополагающей убежденности в том, что методическое изучение мира вокруг нас может дать нам лучшие, более точные его описания и даже объяснения. Однако сейчас мы яснее, чем когда-либо, понимаем, что ответы порождают все новые вопросы, и за ближайшим поворотом вовсе нет никаких окончательных объяснений. Реальность сложна, и в ее восприятии главная роль по-прежнему отведена понятию тайны – или, точнее, неожиданности.
Расширяют наши представления о реальности и социальные науки, скажем, культурная антропология. Они помогают нам лучше познакомиться с другими культурами, где порой происходят необъяснимые феномены[2236], и привлекают наше внимание к подобным же феноменам, описанным в исторических источниках нашей культуры[2237]. Так создается, по меньшей мере, более «доброжелательный» контекст для разговора о чудесах.
Но, быть может, и важнее, и ближе к нашей теме то, что под влиянием герменевтических и литературоведческих исследований мы начали более внимательно и критически относиться к источникам. Теперь мы серьезнее относимся к тому, что рассказы о чудесах и упоминания чудес составляют значительную часть не только повествований об Иисусе, но и традиции его речений, а кроме того, во многих случаях эти предания вполне отвечают как критерию множественных свидетельств, так и другим критериям («соблазна», непротиворечивости)[2238]. В то же время сейчас становится все яснее, что, прежде чем задаваться вопросами, выходящими за пределы источников, первейшими и важнейшими задачами историка остаются критическая и внимательная оценка и изучение самих источников как таковых[2239].
Методологически, на мой взгляд, такое внимание к источникам выглядит надежнее, чем указания на враждебные (и оттого причисляемые к независимым) тексты иудейской и языческой антихристианской полемики, в которых Иисус изображен колдуном[2240]. Если мы действительно решим заняться поиском косвенных подтверждений основополагающей исторической подлинности преданий о чудесах Иисуса, то не сможем не отметить того важного факта, что для ранних христиан чудеса, по-видимому, играли заметно более важную роль, чем для большей части их современников[2241].
Традиция речений
Пусть исследователи вроде как согласны в том, что «Иисус без чудес» – насколько это отражено в наших источниках – это попросту не исторический Иисус, нам по-прежнему не очень-то ясно, что же означает «Иисус с чудесами». Какие чудеса внести в историческую картину? Какую роль играли они в служении Иисуса? Основные аргументы исходят здесь, с одной стороны, от традиционного анализа текстов при помощи методов критики форм, и с другой – от исследования древнего «фона» или, точнее, концептуальной основы.
Особое внимание – а может быть, даже первостепенное – необходимо уделить традиции речений, в повествованиях об Иисусе стоящей особняком: некоторые ученые полагают, что эта традиция в целом ближе к историческому Иисусу[2242]. В речениях Иисуса мы встречаем по меньшей мере три пассажа, из которых: 1) следует, что он творил чудеса; 2) можно понять, как он сам относился к этому аспекту своей миссии. Историческая достоверность всех трех пассажей подтверждается критерием «смущения».
Спор о Вельзевуле
На обвинение: Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων ἐκβάλλει τὰ δαιµόνια[2243] […Он изгоняет бесов силою князя бесовского] Иисус, согласно Марку и Марковой традиции, отвечает двухчастным метафорическим речением – о том, что любое сообщество должно быть внутренне едино, иначе ему не достичь своих целей, и о расхищении «дома сильного». Вторая часть речения явно развивает мотив из Ис 49:24 (и, возможно, также Ис 53:12а). Лука и Матфей добавляют к этому еще одно, более сильное речение, взятое из традиции Q: εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ [Мф: ἐν Πνεύµατι Θεοῦ ἐγὼ] ἐκβάλλω τὰ δαιµόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑµᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ [2244] [Если же Я перстом Божиим (Мф. – Духом Божиим) изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие].
Обвинение это, по всей видимости, исторически подлинно; трудно понять, кому и зачем могло бы понадобиться выдумать его позже. Оно показывает, что деяния Иисуса хотя и проявляли некую необычайную силу и власть, не воспринимались как самоочевидные[2245]. Возможно, в первой части своего ответа, похожего на притчу, Иисус требует именно такого понимания, показывая, что обвинение противоречит само себе; изгнание бесов должно в любом случае быть знаком ослабления власти сатаны, ведь если бы сатана восстал против сатаны, это означало бы внутреннее разделение и гибель. Однако применение логики этого рассуждения к обвинению не слишком убедительно: Иисус, по-видимому, требует некоего однозначного восприятия там, где оно вовсе не однозначно. Вторая часть речения ясно показывает, каким в его глазах представляется единственно верное понимание, намеренно сформулированное как парафраз пророчества. Матфей и Лука подкрепляют это речением из Q: Иисус хочет, чтобы изгнания бесов воспринимались как зарницы реального присутствия Царства Божьего, понятия, стоящего в центре всей его деятельности. Здесь, как и в притчах, Царство Божье не очевидно, не понятно «всем и сразу»: его необходимо раскрывать, пояснять, нужно указывать на него.
Не следует считать случайностью то, что именно с этим преданием ранняя традиция (а может, и сам Иисус) связала логию о «непростительном грехе»[2246]. Каково бы ни было ее точное значение, к какой бы части спора она ни относилась[2247], она явно играет здесь роль «красного света», указания на то, что вопрос этот очень серьезен и многое поставлено на карту. Здесь подчеркивается, что исцеляющие и освобождающие деяния Иисуса – это репрезентации Царства Божьего в целом.
Ответ Иоанну Крестителю
История из Q о сомнениях Иоанна Крестителя в том, кто такой Иисус, и об ответе Иисуса на его сомнения[2248], также, быть может, объясняется лучше всего, если предположить, что это – память об историческом событии[2249]. В обеих версиях вопрос Иоанна подан как реакция на чудесные деяния Иисуса, а ответ, по-видимому, не так много прибавляет к тому, что вызвало вопрос: Иисус указывает на то, что все «видят и слышат». Единственный «дополнительный смысл», призванный убедить Иоанна – это, по всей видимости, слова, которыми Иисус описывает свои деяния: подборка цитат и аллюзий на пророчество Исаии (Ис 29:18; 35:5–6; 42:18; 26:19; 61:1). Эти слова явно предполагают эсхатологическую интерпретацию и некоторую перемену в воззрениях по сравнению с вопросом Иоанна.
Вопрос насчет ὁ ἐρχοµενός сам по себе звучит эсхатологично; однако Иисус изменяет его направленность, переводя фокус с конкретного человека на новую ситуацию, созданную его деяниями. Важно отметить, что, придавая своей речи ветхозаветный колорит, Иисус обращается к пророку Исаии, а не к истории Илии/Елисея[2250] – хотя именно она, казалось бы, куда более подходит к ситуации и, вполне возможно, играла немалую роль в размышлениях Иисуса о своей личности[2251]. Помимо того, что здесь избегнут акцент на Божьем суде как части последних дней «грядущего»[2252], такое косвенное указание на себя самого, по-видимому, сродни реакции Иисуса на обвинение в изгнании бесов силой князя бесовского: именно в таких «малых делах», в ограниченной и «неоднозначной» помощи конкретным людям – и нигде более – можно найти знамения Царства Божьего. И снова: чудеса, сотворенные Иисусом, однозначными не были, – но Иисус толковал их так, словно они однозначны.
Знамение с небес
Чем еще объяснить, что от Иисуса требовали «узаконить» его личность и притязания – если не тем, что его «чудеса» не воспринимались как самоочевидные «знамения»?[2253] Историческая подлинность этого требования и реакции Иисуса на него весьма вероятна: об этом есть много свидетельств[2254], это вполне сочетается с ситуациями, упомянутыми выше, – и даже при этом явно не вписывается в общий уклон христианской традиции. Хотя мы можем смело предполагать, что исцеления и изгнания бесов воспринимались как проявление необычайной силы и власти Иисуса и многих привлекали к нему – для того чтобы доказать божественность его миссии, этого не хватало[2255]. Они не указывали на явную связь с небесами: хоть и экстраординарные, они были вполне земными, а не небесными делами земного человека[2256].
Иисус отклонял это требование, отказываясь от любых «демонстраций», направленных лишь на то, чтобы убедить других; иначе говоря, он отказывался совершать какие-либо чудеса, помимо реальной помощи конкретным людям. Это не значит, что он хотел оставить вопрос открытым и нерешенным: возможно, Иисус считал свои чудеса проявлениями все более близкого Царства Божьего. Однако он отказывался предъявлять какие-либо свидетельства, кроме конкретной помощи другим[2257]. Кто не способен различить в этих событиях действие Бога – тот не способен увидеть Бога вообще. Очевидное следствие этих чудес – демонстрация силы Иисуса – не имело особого значения ни для него, ни для его противников. Спор шел не о силе, а об авторитете, – и этот вопрос должен был решаться иначе.
Возможно, в этом контексте нам следует искать изначальное значение мотива веры, часто звучащего в рассказах о чудесах. Однако вера лишь в исключительных случаях становится результатом события; чаще она – его необходимое условие[2258]. В послепасхальный период вера становится одним из центральных понятий нового христианского языка; этим понятием выражается отношение правильное, но далеко не «естественное» и не самоочевидное, – так, по-видимому, понимал это и сам Иисус.
Смущение
В преданиях о чудесах Иисуса явственно звучит тема «смущения» – и это говорит в пользу их исторической подлинности[2259]. Будь эти рассказы порождением позднейшего народного интереса к проявлениям божественной сущности Иисуса, скорее всего, они звучали бы по-другому[2260]. В то же время во всех трех случаях мы видим общее базовое понимание чудес Иисуса, и это сходство – также косвенный аргумент в пользу исторической достоверности рассказов.
Во всех этих случаях Иисус творит дела, несомненно, чудесные, однако неоднозначные по смыслу[2261]. Если Иисус утверждал, что его чудесные деяния должны пониматься однозначно, как явные и достаточные знамения приближения Царства Божьего, это не отличалось от других его утверждений, – то есть было приемлемо и даже понятно лишь для тех, кто принимал его представление о Царстве Божьем.
По единому образцу?
Если принять необычайные исцеляющие и освобождающие деяния Иисуса как важную, даже характерную черту его служения, сразу возникает необходимость точнее и подробнее их описать. Каково изначальное историческое ядро этих преданий? Как охарактеризовать их современным языком? А кроме того, за попытками выделить «ядро» чудес Иисуса часто скрыто желание лучше понять, что он думал о себе и как себя воспринимал.
Экзорцист или целитель?
С точки зрения критики форм большая и лучше всего засвидетельствованная часть традиции, связанной с чудесами Иисуса, поддается четкой и ясной классификации. То несчастье, от которого избавляет страждущего Иисус, иногда описывается как «одержимость» некоей внешней силой, от которой страдает больной[2262], и избавление от нее обретает форму победы над врагом; в других же случаях речь идет о болезни в медицинском смысле и об исцелении или выздоровлении. Экзорцизм и исцеление[2263] – несомненно, разные модели изъяснения истории, и они представляют собой две различные концепции «спасения»: в первой помощь приходит как дарование свободы после схватки двух сил, во второй это скорее восстановление того, что было повреждено или ослабло. Это различие знакомо даже евангельской традиции[2264].
Верно ли, что одна из двух моделей стоит ближе к «историческому Иисусу» (а вторая, соответственно, дальше от него)? В изгнаниях бесов чувствуется больше иудейского колорита[2265] и меньше аналогий с другими источниками, поэтому их порой считают более аутентичными[2266]. Однако предания об «исцелениях» также хорошо засвидетельствованы, и граница между этими двумя категориями достаточно проницаема и подвижна[2267]. Такая неоднозначность может значить очень много. Вполне возможно, эти различия впервые возникли не в восприятии тех, кто рассказывал эти истории, а были заключены уже в самих событиях. Очень вероятно, что Иисус сталкивался с людьми, пораженными разными (или различно понимаемыми) недугами – и, соответственно, по-разному им помогал.
Эта неопределенность не позволяет считать, что в Иисусе видели специалиста по исцелению или изгнанию злых духов. Он занимался и тем, и другим, но ни то, ни другое не было его основной задачей.
Чудо или магия?
Еще одно возможное различие связано с воззрениями социологии религии. Эту противоречивую проблему ввел в недавние споры Мортон Смит[2268]. Хотя в целом его взгляд весьма эксцентричен и с ним почти никто не соглашается, дискуссия позволила прояснить некоторые важные вопросы. Сама альтернатива «чудо или магия?» доказала свою крайнюю субъективность: термины «чудо» (нейтральный или даже позитивный) и «магия» (скорее негативный) не описывают разные виды деятельности – это лишь оценочные ярлыки, которые могут прилагаться к одному и тому же событию или деятельности, в зависимости от того, чью сторону занимает наблюдатель[2269].
Это – разумеется, далеко не новое – наблюдение помогает нам понять, какой «опасный» потенциал скрывался в этих деяниях Иисуса. Едва ли его распяли только за «подрывное» учение; по всей видимости, в действиях его чувствовалась некая общественная опасность. Вполне возможно, главную роль сыграли здесь толпы, привлеченные необычайными способностями Иисуса[2270]. В то же время, именно потому, что термин «магия» имеет сильную ценностную окраску, стоит делать между этими двумя терминами различие и описывать действия Иисуса более нейтральным словом «чудеса»[2271].
Древние параллели
Разумеется, Иисуса сравнивали и с другими известными чудотворцами– современниками. Параллели искали и среди иудеев, и в эллинистическом мире[2272]. Иудейскими «аналогиями» становились харизматические раввины[2273] и пророки, упоминаемые у Иосифа Флавия и в Талмуде; с эллинистической стороны некоторые ученые указывают на типаж θεῖος ἁνήρ[2274], или, говоря конкретнее, проводят параллель с Аполлонием Тианским[2275]. Эти религиозно-исторические сравнения дают нам немало интересных деталей, – но в них нет убедительного общего ключа, позволяющего понять и объяснить чудеса Иисуса.
Личность, а не схема
В конце концов, нет ничего удивительного в том, что найти единую схему действий Иисуса или единый ключ к ним не удается. Нет никаких указаний на то, что Иисус планировал или понимал свою задачу по какому-то определенному образцу – и было бы очень странно, окажись все иначе. Жизнь и решения человека часто включают в себя нечто новое, оригинальное, непредсказуемое; и дошедшие до нас предания об Иисусе, быть может, лучше всего объяснить, предположив, что в его случае этот элемент новизны был особенно значителен. Образцы или схемы обыкновенно применяются уже позже, на уровне восприятия и интерпретации. Разумеется, все наши сведения об Иисусе затронуты размышлениями и истолкованиями; однако они остаются очень сложными, поскольку отражают множество различных точек зрения, принадлежащих непосредственным свидетелям. Кроме того, применение схем и образцов легче всего дается (и оказывает наибольшее влияние) там, где «реального» знания (памяти) недостает. А сложность преданий об Иисусе отражает, помимо всего прочего, изобилие воспоминаний о нем.
И вполне вероятно, что Иисус был и экзорцистом, и целителем, а в каком-то смысле его можно назвать и «магом». Возможно, действия его имели нечто общее с действиями харизматических учителей-чудотворцев; однако, быть может, куда более заметной была близость к типу пророка (легко узнаваемая и народом)[2276]. Скорее всего, Иисуса воспринимали не как «специалиста» по исцелению или изгнанию бесов, но как «власть имеющего», человека, чьи необычайные способности могут проявляться в различных формах и ситуациях. Как мы уже видели, люди чувствовали, что между этими необычайными способностями и притязаниями Иисуса на авторитет есть некая связь; однако этот вопрос еще необходимо прояснять.
Во всяком случае можно отметить, что у нас явно недостаточно оснований утверждать[2277], будто предания склонны подчеркивать и усиливать элементы чудесного – и будто такие черты по определению следует трактовать как позднейшие. На самом деле, возможно, все совершенно наоборот![2278]
Неисторические чудеса?
Конечно, то, что чудеса составляют неотъемлемую часть любого исторического портрета Иисуса, не означает, будто всякий рассказ о чуде, сохранившийся в предании, необходимо принимать на веру. Помимо основной части традиции, представленной исцелениями и изгнаниями бесов[2279], есть и другие истории о чудесах, которым рассудок историка сопротивляется куда более упорно. Они составляют две различные группы: это истории о воскрешении мертвых и так называемые природные чудеса. Но неужели они и правда не имеют никакого значения для поиска исторического Иисуса?
Воскрешение мертвых
В каждом из четырех Евангелий рассказывается по крайней мере об одном случае, когда Иисус будто бы возвратил к жизни человека, уже умершего[2280]. Помимо этого сюжетного материала, в ответе Иисуса, данном Иоанну Крестителю, звучит обобщенное утверждение: «Мертвые воскресают».
Оценить этот материал довольно сложно, в том смысле, что нелегко найти какое-либо удовлетворительное объяснение его происхождению. Разумеется, основной его мотив – воскрешение мертвеца – побуждает нас искать связь с основным элементом послепасхального богословия: воскресением Иисуса. Уже отмечалось, что рассказы о воскрешении мертвых – по параметрам критики форм – относятся к той же группе, что и рассказы об исцелениях[2281]. Быть может, логично воспринимать истории о воскрешениях как «развитие» историй об исцелениях и их новую интерпретацию в свете пасхального опыта и богословия. Нечто подобное можно сказать и о речении из Q: перед нами позднейшая вставка, усиливающая эсхатологические нотки в ответе Иисуса, данном Иоанну Крестителю. Хотя влияние послепасхальной ситуации на большую часть новозаветных текстов – а может, и на все – более чем вероятно, среди историй о воскрешениях лишь в Ин 11 мы встречаем явную отсылку к воскресению Иисуса. Рассказ о дочери Иаира смоделирован скорее по образцу ветхозаветной истории Илии/Елисея[2282], а эта ассоциация указывает скорее на время до Пасхи. Более того, в своей древнейшей версии, у Марка, эта история содержит признаки очень раннего ее возникновения[2283].
Разумеется, это ничего не говорит нам о том, какие события послужили отправными точками для возникновения этих историй. Но это вполне позволяет предположить, что уже в земной своей жизни Иисус пользовался славой чудотворца, воскрешающего мертвых. Это четко укладывается в образ воскресшего Илии, с которым, возможно, некоторые отождествляли Иисуса[2284].
И снова отметим: и в этой части преданий о чудесах Иисуса отсутствует тенденция к «умножению чудес»[2285].
«Природные» чудеса
Влияние послепасхальных богословских поисков, быть может, яснее заметно в группе восьми так называемых природных чудес. Эту категорию в старой литературе[2286] критикуют, и справедливо, поскольку с литературной точки зрения у этих чудес трудно найти какой-то единый общий признак. Тайсен предложил рассортировать их по «целям»: чудеса дарования; чудеса спасения; богоявления; чудеса, устанавливающие нормы и правила[2287]. Впрочем, вопрос в том, можно ли говорить о классах (Gattung) чудес там, где некоторые «классы» представлены единичными примерами[2288].
Хотя разнообразие форм этих рассказов отрицать нельзя, все же есть одна черта, которая отделяет их от других повествований о чудесах и соединяет их, при всей разнородности, в единую группу. Основные адресаты действий Иисуса в «природных» чудесах – всегда ученики[2289], в то время как при исцелениях, изгнании бесов (и воскрешениях) участники, как правило, не принадлежат к ближнему кругу приверженцев Иисуса[2290]. Эта черта особенно заметна, когда рядом присутствуют другие люди, однако активной или важной роли в повествовании не играют (как на свадьбе в Кане Галилейской или в историях о насыщении множества народа)[2291] – и в то же время в этих историях всегда заметен акцент на христологии и/или экклезиологии.
Этим вниманием к ученикам, а также формой и некоторыми специфическими деталями эти истории напоминают послепасхальные сюжеты, в особенности рассказы о явлениях Иисуса:
• Как в рассказах о насыщении толпы, так и в истории о свадьбе в Кане Галилейской звучат символические, евхаристические мотивы (мотив вина и эсхатологического свадебного пира). Общая трапеза с тем же подтекстом появляется также в Лк 24:30, 41–43 и Ин 21:9–13 (ср.: Деян 10:41).
• История чудесного улова изложена в двух формах: Лука отводит для нее дни земного служения Иисуса (Лк 5:1–11), а у Иоанна она образует часть более обширной композиции, связанной с явлением Иисуса воскресшего (Ин 21).
• Еще одна история о чуде, связанном с рыбной ловлей, Мф 17:24–27, затрагивает проблему свободы сынов и начинается с вопроса об отношении к Иисусу, обращенного к Петру. Вторая из них явно отражает послепасхальную точку зрения[2292], – как, возможно, и первая.
• Один из постоянных элементов в историях о насыщении множества народа – число участников: это соответствует склонности называть точное число участников первых христианских собраний (как в 1 Кор 15:6 или в Деян 2:41).
В обоих морских чудесах присутствуют элементы богоявления. В хождении по воде (Мк 6:45–52 и пар.) есть и другие элементы, возможно, аллюзии на послепасхальную ситуацию: время перед рассветом («в четвертую же стражу»)[2293], изначальное желание Иисуса «идти далее»[2294] и неспособность учеников узнать Иисуса, пока он с ними не заговаривает[2295].
Хотя эти черты, на мой взгляд, ясно указывают на сильное влияние послепасхальной ситуации на окончательное оформление историй, едва ли они позволяют полностью объяснить «природные чудеса» как ретроспективное привнесение в земную историю Иисуса последующего послепасхального опыта[2296]. Ясные и подробные истории о явлениях Иисуса после Пасхи показывают нам, что в целом такой тенденции не было. И кроме того, большая часть «природных» чудес содержит элементы, по-видимому, лишенные любого символического значения, – и лучше всего они объясняются как детали воспоминаний, легших в основу истории[2297].
Лишь небольшой части послепасхального опыта дозволялось – и, может быть, не без содействия – ретроспективно проникать в земную историю Иисуса. Возможно, при отборе таких эпизодов важную роль играли воспоминания. Я думаю, что в послепасхальном опыте имелись элементы, однократные или повторяющиеся, которые оживляли воспоминания о событии или о ряде событий в земной жизни Иисуса. Возможно, «природные» чудеса действовали как своего рода «мостики», утверждавшие тождество земного Иисуса и Иисуса воскресшего, а также единство сложившейся вокруг него общины. В этих историях звучат две основные темы – и интересно, что обе они отражаются и в Молитве Господней: пропитание и защита[2298].
Общие соображения
Одна из характерных черт Третьего поиска – пристальное внимание к методам, и некоторые прояснения, сделанные Третьим поиском в этом вопросе, прямо относятся к проблеме чудес Иисуса.
Рассказ и событие
Прежде всего, необходимо различать само событие – и историю, которая о нем повествует. Между рассказом о чуде и самим чудом никак нельзя ставить знак равенства. Историческую достоверность рассказа можно оценивать с двух точек зрения. Одна из них – априорное общее представление о том, что в принципе может и что не может произойти; вторая рассматривает внутреннюю целостность и связность текста. Сейчас мы замечаем смену акцентов: первый подход, по меньшей мере, утратил свое абсолютное господство, а внимание к самому тексту и тому, о чем он рассказывает, восстановило свои права. Это не означает, что мы бросили задаваться историческими вопросами – но, во всяком случае, начали более трезво относиться к возможным ответам[2299].
Безусловно, кроме этого, в Третьем поиске, с одной стороны, возродился интерес к данным социологии, антропологии и даже психологии, а с другой – к дальнейшему исследованию возможных религиозных параллелей. Эти подходы внесли немалый вклад в уточнение наших представлений о том, что (и почему) исторически возможно и вероятно, – ведь эти представления всегда основаны на аналогии с нашими знаниями о постоянных и неизменных характеристиках человеческого бытия. Однако все, что мы можем сказать об Иисусе, мы можем сказать лишь на основе текстов, где есть свидетельства о нем.
Кроссан верно описывает два основных пути или способа создания историй: история может сложиться в движении или от события к процессу (дальнейшей интерпретации), или от процесса к событию[2300]. Мы уже видели, что для большей части чудес Иисуса решающее значение имел первый путь: иначе говоря, отправной точкой было некое историческое событие, о котором повествует тот или иной рассказ и о котором можно вынести историческое суждение[2301].
Второй путь, безусловно, сложнее описать и оценить. Многие вопросы здесь остаются открытыми. Насколько ясно способны мы распознать тексты, созданные таким образом? Можем ли сказать об этом процессе что-то более конкретное? Как связаны (и связаны ли вообще) такого рода тексты с историческим исследованием? Несомненно, их невозможно использовать для исторической реконструкции в строгом смысле слова; однако, анализируя их позднейшее развитие, мы, возможно, сумеем понять что-то об их изначальном образе. Как мы уже отмечали, то, что некоторые части более поздних христианских впечатлений были ретроспективно спроецированы на дни земной жизни Иисуса, не объяснить общей тенденцией.
Методологическая убежденность Кроссана в том, что в основании любой реконструкции исторического портрета Иисуса должна присутствовать литературная история преданий о нем, по-видимому, верна[2302]. Нам необходим новый синтез, способный заменить классическую критику форм Бультмана и Дибелиуса. Потребность точно понять природу наших источников, которая чувствовалась еще в самом начале поиска исторического Иисуса, до сих пор не нашла адекватного отражения[2303]. Новый синтез должен включать в себя по меньшей мере три важных аспекта: прояснение отношений между Иоанном и синоптической традицией, новые размышления о функциях и влиянии устной традиции в преданиях об Иисусе и внимательное исследование и оценку внеканонических преданий.
Достоверность и удивление
Ряд давних вопросов по-прежнему не дает нам покоя – и, как прежде, нас беспокоит противоречие между чудесным и историческим. И пусть сейчас на первый план вышла важность интерпретации текстов[2304], проблема общих представлений об исторически возможном и невозможном не утратила актуальности.
Суждение – это часть интерпретации. Хотя в истолковании рассказов о чудесах мы должны в первую очередь полагаться на то, как воспринимали эти события их современники, это не снимает вопроса о нашем собственном отношении. Готовы ли мы признавать историческими лишь те события, (изначально воспринятые и описанные как чудеса), которые объяснимы в рамках нашего современного знания? Мы много говорим о герменевтическом сдвиге, все еще остается неясным, сумели ли мы отойти от базовой предпосылки, согласно которой чудесное не может быть историческим – и наоборот[2305]. Иными словами, можем ли мы спрашивать о значении события, не спрашивая о самом событии? Что останется от истории о чуде, если объяснить ее как не основанную на реальных событиях – или же как основанную на событии с «естественным» объяснением?
Рассуждения, основанные на аналогии (иными словами, на предположении, согласно которому мир всегда функционировал в целом так же, как сейчас), несомненно, имеют свое значение в интерпретации истории. В этом контексте мы часто оперируем понятием возможности. Однако это понятие подчеркивает контекст модернистского (или постмодернистского) мировоззрения, в рамках которого мы интерпретируем историю: нечто возможно, если оно укладывается в наш критически осмысленный опыт взаимоотношений с миром. В качестве альтернативы можно рассмотреть понятие вероятности. На мой взгляд, оно здесь больше подходит, поскольку способно выражать как критическое отношение, так и открытость для чего-то непредвиденного.
Многие воспринимают веру – даже в светском, философском смысле слова – как противоположность критическому рассуждению. Однако верить – это не значит принимать без критики. В сравнении с понятием возможности понятие вероятности не обязательно требует менее критического (иными словами, менее вдумчивого) отношения – скорее, оно предполагает большую открытость к рассуждению, способному двигаться в обе стороны. Безусловно, критерии вероятного четко определить сложнее; один из возможных путей – идти от представления о надежности свидетельства[2306].
Если же мы считаем вероятным, что Иисус совершал действия, которые можно назвать только «чудесами», – что это сообщает нам о нашем мире и как это влияет на наше мировоззрение? Или же, говоря богословски: если мы видим, что эти чудеса играют неопределенную, но важную роль в представлении Иисуса о Царстве Божьем и его свидетельстве о нем, – как это повлияет на наше понимание мира, его структуры и его будущего? Быть может, здесь отчасти поможет нам понятие удивления. На поверхностном уровне оно относится к нашему повседневному опыту. Но если перейти к более глубинному уровню – готовы ли мы принять мировоззрение, в котором есть место удивлению – перед неожиданным, непредвиденным, тем, что нельзя рассчитать?[2307] Способно ли нечто уникальное, не имеющее себе параллелей, «явить» нам в себе некую истину, верную и важную не только сейчас, но и во все времена?
Эти вопросы выходят за пределы нашего исследования; однако о них необходимо по крайней мере упомянуть, поскольку экзегеза и историческое исследование – в конечном счете лишь предварительная работа для интерпретации.
Смерть Иисуса на Кресте: литературно-критические, богословские и исторические замечания
Петр Покорны
Методологические проблемы
Постпозитивистская историческая критика при анализе древних текстов обращается к современным критическим методам – с целью понять, какую функцию выполняли эти тексты в то время, когда они только возникли. Поскольку большая часть библейских текстов связана с историческими событиями (их функция – об этих событиях рассказать), отправной точкой для любой нашей работы с ними становится понимание фактов.
В том, что касается критических методов, ключевую роль по-прежнему играет критерий несходства[2308]: подлинны те речения, которые не удается вывести ни из идей иудаизма, ни из раннего христианства. Этот подход подвергается справедливой критике, ведь если бы Иисус высказывал лишь оригинальные и совершенно новые идеи, окружающим было бы очень трудно его понять, а нам – счесть его реальным живым человеком. Однако важнейшие мысли и деяния личности действительно уникальны и нетипичны. И в «Исследовании Иисуса» мы также должны начинать с уникального – и лишь затем спрашивать о том, какие части оставшихся свидетельств совместимы с уникальными и образуют вместе с ними целостную картину.
Критерий достоверности, особенно продвигаемый Гердом Тайсеном[2309], с первого взгляда кажется альтернативной версией критерия несходства, однако по сути являет собой полную его противоположность. Воссоздание жизни и идей любого человека из прошлого должно сочетаться с миром, в котором он жил. В нашем случае это означает, что мы должны уметь объяснить, в каком смысле деяния и слова (лексические коды, метафоры) Иисуса были уникальны для его современников. «Достоверность» в данном случае означает, что и типичные черты, и даже черты уникальные можно распознать, лишь поместив их в изначальный контекст и сопоставив с окружающей обстановкой.
Литературный обзор и деконструкция
С литературоведческой точки зрения рассказ о Страстях Иисусовых – кульминация всех канонических Евангелий[2310]. Несмотря на все свои великие деяния, Иисус «предан» в руки врагов и умирает как распятый Мессия или Царь Иудейский. И, как это ни парадоксально, распятие можно понять как его инаугурацию и коронование.
Попытки разложить историю Страстей на составные части и воссоздать тот процесс, посредством которого она развивалась в известные нам версии – их четыре, или пять, если добавить Евангелие Петра, – имеют для «Исследования Иисуса» косвенное, но немаловажное значение. Несколько десятилетий тому назад авторы ряда важных исследований, посвященных евангельским историям Страстей, высказывали сомнение в существовании более древнего рассказа о Страстях, возникшего еще прежде Евангелия от Марка[2311]. И более того, в древнейшем пласте преданий об Иисусе мы находим несколько независимых текстовых единиц, наделенных самостоятельным смыслом, – но все же вскоре они начинают сочетаться друг с другом, и Марк первым сводит их в общий литературный «каркас». Однако существование письменного ядра рассказа о Страстях, возникшего еще до посланий апостола Павла, по мнению некоторых современных ученых[2312], вполне вероятно[2313]. Что же касается Евангелия Петра, возможно, оно сохранило ценные детали древних преданий, однако в целом оно – и в том числе слова на кресте – несомненно, появилось позднее. И его самый очевидный поздний элемент в нем – это представленная в форме рассказа история о воскресении, которая в христианской литературе I в. отсутствует[2314].
Согласно 1 Кор 11:23, во времена апостола Павла предания об установлении Вечери Господней и о предательстве Иисуса были связаны друг с другом в один цикл. Должно быть, предательство, что вполне логично, связывалось с арестом и допросом. История распятия – семантически отдельная текстуальная единица, и даже исторически она вполне могла быть независимым преданием[2315], ядром позднейшего рассказа о Страстях. Мы видим здесь сюжетные единицы, известные апостолу Павлу – скорее всего, благодаря устной традиции, – как группа текстов, повествующих о последних днях Иисуса[2316]. Марк придал им письменную форму; Лука и Матфей позаимствовали их у Марка, а возможно, знали о них и из каких-то иных письменных источников[2317]. О письменном характере рассказа о предательстве Иуды можно судить по тому, что в Евангелии от Марка (Мк 14:10) Иуда назван одним из двенадцати апостолов – для читателей Марка (см.: Мк 3:19) информация излишняя. С этой группой историй Марк сочетал историю об отречении Петра, которую рассказывает поразительным образом: отречение Петра противопоставлено исповеданию и пророческим словам Иисуса в Мк 14:62. Литературное значение этого повествования для современного литературоведения раскрыл Эрих Ауэрбах в своей книге «Мимесис»[2318].
Мы не знаем, где и как сложились отдельные части рассказа о Страстях – установление Тайной Вечери, Гефсимания, предательство и арест, допрос, отречение Петра, распятие[2319], – и можем прийти лишь к самым общим выводам о связи повествований о Страстях у синоптиков и Иоанна. Вполне возможно, что Иоанн читал рассказ Марка, добавил к нему сведения из собственных источников и дал всему в целом совершенно новую интерпретацию в свете собственного богословия.
Богословие
Следующим нашим шагом должен стать богословский анализ основных мотивов и структуры рассказа о Страстях, а также комментарии, связанные с богословием этих повествований в каждом конкретном Евангелии. Какие намерения удерживают всю структуру воедино, и как они друг с другом соотносятся?
Мы уже упоминали, что повествование о Страстях связано с другими текстами. Нам известно, что оно начинается с рассказа о пасхальной трапезе Иисуса с учениками (Мк 14:22–25 и пар.). Об этом же свидетельствует в 50-х гг. н. э. апостол Павел (1 Кор 11:23–25). Иисус говорит, что смерть его многим послужит во благо[2320]. Эту библейскую модель мы обнаруживаем в образе Пасхального агнца (Исх 12) и в гимне о Рабе Господнем[2321] в Ис 52:13–53:12. Она легла в основу сотериологической интерпретации смерти Иисуса, часто расцениваемой как жертва.
Адела Коллинз полагает, что у нас нет возможности различить самый ранний пласт рассказа о Страстях, не затронутый христианской пасхальной верой, и приходится предполагать, что с самого начала история Страстей содержала «некие указания на доказательство правоты Иисуса»[2322]. И более того, мы видим, что уже Евангелие от Марка заканчивается провозглашением воскресения Иисуса. Ориентация рассказов о Страстях на керигму в каждом из Евангелий становится еще более очевидной в контексте. Здесь мы не можем обсуждать эту проблему подробно и уделим внимание лишь одному мотиву с важным богословским значением: словам Иисуса, произнесенным на кресте. При их анализе и литературные, и богословские идеи неразрывно связаны.
В Мк 15:34 и Мф 27:46 мы слышим отчаянный крик: «Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил?». Лишь благочестивый иудей мог различить в этих словах цитату из вступительной строки Пс 21, который в переводе Септуагинты вполне может быть понят как аллюзия на распятие (ст. 16), однако во второй части которого (ст. 22–31) звучит радость освобождения[2323]. Это вторичная межтекстовая связь. Она не может облегчить кризис Иисуса, однако читателю, знающему Писание, предлагает возможность с ним смириться. Схожий косвенный намек на богословский контекст, в котором можно рассматривать сцену умирания и смерти Иисуса – это громкий крик (Мк 15:37; Мф 24:50; ср.: Лк 23:46 – «великий глас», φωνήσας φωνῇ µεγάλῃ), Иисуса перед смертью. Его следует понимать как аллюзию на эсхатологический возглас самого Бога, упоминаемый в Иоил 3:16. Он возвещает суд и спасение от Бога всему миру (см.: Ис 58:1–2; Откр 1:10; 4:1)[2324].
У Луки громкий голос воспроизведен как слова Иисуса: «Отче, в руки Твои предаю дух мой!» (Лк 23:46; ср.: Мф 27:50 – «испустил дух»). Вместо отчаяния и богооставленности Иисус общается с Богом, и создается впечатление, что его смерть – часть известного ему сценария. В некоторых рукописях мы читаем в Лк 23:34а[2325]: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», – фраза, явно входившая в изначальный текст, ярчайшее выражение сокровенной вести Иисуса. Однако, поскольку в других Евангелиях она отсутствует и полностью соответствует богословию Луки, согласно которому грех есть следствие незнания (Деян 3:27), а прощение грехов (Деян 2:38; ср.: Лк 11:4; 15:11–32[2326]) – проявление человеколюбия Божьего (Лк 2:14), приходится заключить, что эта фраза выражает авторскую позицию Луки. То же применимо и к другой фразе распятого Иисуса, которую приводит Лука, – к ответу на просьбу разбойника, распятого на соседнем кресте: «Помяни меня, Господи, когда приидешь во царствие свое». Согласно Лк 23:43, Иисус ответил ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». И здесь чувствуется явное влияние богословия Луки. «Ныне» (σήµερον) у Луки всегда относится ко времени присутствия Иисуса на земле, к его воплощению (Лк 2:11; 4:21; 19:9)[2327], как к периоду, во время которого спасение не только провозглашалось, но и воистину осуществлялось на земле. В отличие от апокалиптической эсхатологии, в Лк 16:19–31 выражено представление о рае как о существующем месте, в котором находятся спасенные. Это не означает, будто все эти речения не восходят к древним преданиям об Иисусе; однако это невозможно доказать – и вполне вероятно, что каждый евангелист адаптировал эти речения к своему богословию. То же относится и к фразе: «Отче, в руки твои предаю дух мой» (Лк 23:46) – это реплика Марка «испустил дух» (Мк 15:37), видоизмененная в прямую речь. Иисус предстает здесь как хрестоматийная фигура, чье поведение – это образец «достойного умирания» для всякого благочестивого человека.
В Ин 19:30 страшная весть о смерти Иисуса смягчена его словом: «Совершилось!» (τετέλεσται, что может также означать «это исполнено»). Обсуждать вторую фразу распятого Иисуса, приведенную у Иоанна, нам незачем. Рассказ Иоанна полон взаимосвязанных представлений, согласно которым Иисус мог являться на земле и как земной человек, совершенно такой же, как все прочие люди, и как воскресший Господь, и как небесное существо, посредник между людьми и самим Богом.
Этот богословский обзор различных версий истории Страстей показывает нам, насколько подробными и вдохновенными были разнообразные идеи, призванные найти смысл в шокирующей смерти Иисуса. К сожалению, мы также поняли, что в качестве исторических документов эти сообщения ценности не имеют.
Богословская несообразность и отзвуки ранних идей
Теперь нам предстоит выйти за рамки выводов Коллинз[2328]: мы попытаемся проанализировать несообразность и противоречия в массе прямых и косвенных аргументов, поддерживающих образ Иисуса как страдающего Мессии. В рассказе о Тайной Вечере мы встречаем две богословские интерпретации смерти Иисуса: эсхатологическую, согласно которой Тайная Вечеря предвещает грядущее Царство Божье (Мк 14:25 и пар.; Лк 22:15–16; 1 Кор 11:26)[2329], и христологическую, согласно которой Тайная Вечеря предвосхищает смерть Иисуса «за многих».
Смерть «за многих» более всего подтверждает сравнение Иисуса с пасхальным агнцем. Однако в 1 Кор 11 отсутствуют всякие упоминания о Пасхе, хотя в 1 Кор 5:6–8 есть аллюзии на историю Исхода и на опресноки. В Книге Исхода (Исх 12) пасхальный агнец, смерть которого (согласно Мф 26:28 и раннехристианской традиции, отраженной в 1 Кор 15:3) связана с прощением грехов, защитил первенцев народа Божьего от ангела-губителя, посланного против противников Израиля, а не от их собственных прегрешений. Что же до пассажа из Книги Исаии (Ис 53) – вроде бы решительного свидетельства в пользу того, что смерть Иисуса имела возможность стать заместительной, – то он цитируется лишь для того, чтобы объяснить молчание Иисуса (Мк 14:61 и пар.) и показать, что предание (παραδίδωµι)[2330]. Иисуса Пилату как представителю Рима имеет аналогии в Библии (Мк 15:1; Ис 53:6, 12 LXX), а не как аргумент, способный свидетельствовать о том, будто смерть Иисуса носила жертвенный характер.
Все это не ставит под вопрос мессианский и сотериологический фон истории Страстей. Однако противоречивые элементы показывают, что у сотериологической концепции была своя предыстория и что некоторые фрагменты воспоминаний и отзвуки преданий изначально не принадлежали к послепасхальным идеям Древней Церкви: это Царство Божье как горизонт миссии Иисуса; это борьба Иисуса с силами зла и защита людей; это ожидание Сына Человеческого как небесной фигуры, которая ознаменует начало будущего века. Эти отзвуки и намеки не позволяют нам воссоздать древнейшее богословие Страстей, однако мы знаем, что: 1) история Страстей не создавалась по заданному сценарию – в ее основе лежали факты и рассказы, адаптированные согласно идеям и потребностям древнейшего христианского богословия; и 2) мы можем воссоздать по крайней мере некоторые события и идеи, фрагменты которых дошли до нас.
В этой связи нам необходимо обратить внимание на сцену в Гефсимании (Мк 14:32–42 и пар.) и на крик богооставленности (Мк 15:34 и пар.; Ев. Пет 5:19). Гефсиманская молитва и литературно, и богословски адаптирована к сотериологической теории, в соответствии с которой сочинена история Страстей[2331]. Однако аллюзии на этот рассказ в других канонических текстах[2332] и особенно его внутренняя связь с криком богооставленности не сочетаются с идеей о спасительной смерти Мессии и продолжают смущать[2333]. Ни один из этих двух текстов не восходит к группам последователей Иисуса, возникшим после Пасхи. Возможно, тексты отражают некие последние выражения чувств Иисуса и исторически связаны с неким событием последних дней или часов его земной жизни. Он понял, что личная его судьба должна стать частью грядущего Царства Божьего – того, которое он прежде провозгласил[2334]. Он полагал, что смерть его должна принести другим благо – однако судя по тому, что он молил пронести чашу страданий мимо него, он мог допускать и другое развитие событий. Возможно, он ожидал, что будет вознесен на небеса, как случилось с Енохом (Быт 5) и Илией (4 Цар 2); возможно, думал, что Царство Божье явится во всей славе своей еще до его смерти. Он явно отвергал возможность вооруженной борьбы (Мф 26:51–53) и ненависти (QЛк 6:27 и пар.) – а именно так заканчивались все общественные движения вплоть до недавнего прошлого. Однако ясно, что он прошел через внутреннюю борьбу и кризис. И вовсе не физические страдания на кресте, но опыт богооставленности – кризис его представлений о Царстве Божьем – стал кульминацией его Страстей в истинном смысле этого слова. Этот кризис невозможно «отмести», объяснив крик богооставленности лишь как цитату из Пс 21; то, что он звучит в Евангелиях от Марка, Матфея и Евангелии Петра («Сила моя, сила, ты оставила меня!» – 5:19), подтверждает, что перед нами древнейший пласт преданий об Иисусе. Единственная «светлая сторона» его отчаяния – в том, что и в отчаянии он обращается к Богу. В своей интерпретации мы не должны забывать об этом смущающем моменте, ибо иначе от нас ускользнет истинный смысл Страстей: «Он воскрес» (ἠγέρθη, Мк 16:6; ср.: ἐγήγερται, 1 Кор 15:4). Это свидетельство не героического мужества Иисуса, но деяния Бога. В данном случае страдательный залог – это иудейский перифраз имени Божьего (passivum divinum; ср.: 1 Кор 15:15). Воскресение понимается как ответ Бога на крик богооставленности Иисуса. Оно становится «благой вестью» не только из-за сотериологического значения его смерти, но и потому, что воскрес тот самый Иисус, который проповедовал Царство Божье, благословлял бедных и прощал грехи.
После Пасхи мы можем видеть, как нарастает склонность по-новому толковать и крик богооставленности, и эпизод в Гефсимании. В описании последней сцены Лука пропустил слова о скорбящей душе Иисуса, Иоанн расположил их по-иному и внес слова о возмущенной душе в Ин 12:27, а в Евр 5:7b мы читаем, что Бог услышал Иисуса, – и это, несомненно, исходит от пасхального благовестия. Крик богооставленности также был преображен так, чтобы смягчить кризис. Версия Марка понимает его как цитату из Псалтири (Пс 21), Лука его не приводит – и вместо этого добавляет, что Иисус предал дух свой в руки Отца, а Иоанн заменяет крик примечанием об исполнении Писания. Такие интерпретации, вносящие гармонию, «приручают» рассказ о Страстях и делают его частью обычной религиозной жизни[2335].
Здесь мы подходим к обобщенному и притом наиболее очевидному отголоску преданий об Иисусе в истории Страстей: вся она в целом не вполне соответствует часто цитируемым библейским пророчествам. Они предполагают всеобщее, вселенское их исполнение – однако в истории Страстей, даже если внести в нее перикопу о воскресении, исполнение пророчеств расколото на два полюса. Из пасхального благовестия читатель может сделать вывод, что Бог не забыл Иисуса. Бог оправдал его и доказал его правоту – однако лишь за гранью земной жизни. Эсхатологическое же исполнение – явление Сына Человеческого и наступление Царства Божьего – по-прежнему дело эсхатологического будущего. У христиан, в отличие от иудеев и мусульман, эсхатология оказывается двойной или расколотой – или, в лучшем случае, события и времена, которых она касается, столь далеки, что рассмотреть их можно лишь в телескоп[2336].
В следующем подразделе мы попробуем указать те элементы образа Иисуса, которые, возможно, соответствуют древним элементам, найденным нами в истории Страстей.
История
Первым обвинением, прозвучавшим на суде над Иисусом (Мк 14:58 и пар.), было обвинение в его словах (Мк 11:17 и пар.; 13:2 и пар.) и действиях (11:15–16 и пар.) против Храма. Прежде Храм порицал от имени Бога пророк Иеремия (Иер 26), избежавший смерти лишь благодаря своему влиятельному покровителю Ахикаму (Иер 26:24). Во времена Иисуса Иерусалимский Храм и совет (συνέδριον) были единственными учреждениями иудейской администрации. Территория Храма официально пользовалась автономией и потому была важна для римских властей как инструмент политической стабильности[2337]. Вот почему обвинение в оскорблении авторитета Храма было в то же время политическим преступлением. Реплика Иисуса о скором конце Иродова Храма (Мк 13:2 и пар.), очевидно, была вызвана тем, что он ожидал эсхатологического храма, принадлежащего Царству Божьему, описанного в Иез 40–48 (1 Ен 90:28 [ср. рус.: Енох 17:128] и дал.; 4QFlor I, 10), или даже непосредственного присутствия Бога среди людей, как в Откр 21:22. «Лжесвидетельство» (Мк 14:56)[2338] против Иисуса было ложным, поскольку интерпретировало апокалиптические ожидания Иисуса как его собственное желание разрушить Храм. Именно «нападение на Храм», скорее всего, было первым и основным обвинением[2339], поскольку не так-то просто было юридически сделать основой обвинения представление Иисуса о себе самом как об особом посреднике Бога[2340].
Обвинение в подготовке к разрушению Храма смущает христианскую традицию. Христиане либо истолковали его иначе – как пророчество о разрушении Храма в ходе Иудейской войны 70 г., либо превратили в аллегорию, связанную с иным, нерукотворным храмом. Все эти попытки избежать проблем, вызванных проповедью Иисуса о близости Царства Божьего, подтверждают подлинность обвинения, связанного с Храмом[2341], а также косвенно – то, что Иисус в своей проповеди говорил обо всей вселенной.
Христианская традиция подчеркивала и развивала косвенные свидетельства представлений Иисуса о себе как о Мессии, так что в истории Страстей оно выглядит основной причиной его казни. Мы по умолчанию принимаем, что надпись на кресте (titulus) «Царь Иудейский» и сцена с воинами, насмехавшимися над Иисусом (Мк 15:16–20 и пар.), отражают историческую реальность[2342]. Этот титул не был типичен ни для приверженцев Иисуса, ни для Церкви во времена евангелистов, однако он косвенно отражает то, что Иисус провозглашал Царство, и вполне возможно, что Пилат мог использовать этот титул для унижения иудеев.
Кроме того, сцена, в которой воины делят одежды Иисуса, связана с Пс 21 (Мк 15:24), и Марк, представляя читателям и слушателям своего Евангелия насмешки священников (15:31b) как парадоксальное выражение истины – «других спасал, а Себя не может спасти», – указывает, что это явно новые интерпретации того, что было известно и прежде о смерти Иисуса на кресте. Христиане по-прежнему считали распятие постыдным (pudendum), видя в нем унижение их Господа.
Провокационным элементом в учении Иисуса было прежде всего ожидание Царства Божьего как новой социальной структуры, в которой будет воплощена справедливость Бога, а также как космического преображения (пришествие Сына Человеческого: QЛк 17:23–24, 37; 12:8; Мк 14:62 и пар.), связанного с судом Божьим (QЛк 12:8–10). Эта общая черта объединяла учение Иисуса с учением Иоанна Крестителя[2343]. Очевидно, к этому же контексту принадлежат и другие речения, уходящие в глубь времен, – те, которые Церковь не смогла истолковать в рамках своего позднейшего учения: фразы о разделении (QЛк 12:51–52 и пар.), о конфликтах, связанных с пришествием Царства Божьего (QЛк 16:16 и пар.), а также таинственное речение об огне: «Огонь пришел Я низвести на землю!» (Лк 12:49). Это явная аллюзия на суд Божий (Ам 1:4)[2344]. Параллели в Евангелии Фомы (лог. 10, 16 и 82) и в Евангелии Спасителя (12)[2345] косвенно свидетельствуют о повсеместной и изначально признанной авторитетности этого речения.
Коллинз справедливо определила, что фраза Иисуса о Сыне Человеческом в Мк 14:62 призвана стать пророческим предупреждением и кратким свидетельством умирающего мученика[2346]. Однако, возможно, богословие Марка в этом случае совпадает с исторической истиной. Утверждение Иисуса не сочетается с послепасхальными христологическими тенденциями. В Мк 14:62 «Сын Человеческий» – не парафраз «Я» в устах Иисуса, как в QЛк 9:58. Сын Человеческий здесь – небесный посредник Бога, как и в Лк 12:8, и, следовательно, Иисус здесь взывает к высшему суду, суду Божьему (2 Пар 24:20–22). В сравнении с этим торжественным речением крик богооставленности знаменует резкую перемену в психологическом отношении Иисуса к Богу как к его Господу и судье. Однако «структура послушания» в обоих случаях одна и та же.
Несмотря на то что и Иисус, и Иоанн Креститель проповедовали суд Божий, учение Иисуса – это шаг вперед в сравнении с учением Иоанна. У Иисуса призыв к покаянию мотивирован позитивно, обетованиями блага, а не угрозами (см. QЛк 7:31–35 и пар.): согласно его учению, суд Божий означает проклятие для тех, кто не хочет принять безусловного милосердия Божьего для других (Мф 18:21–35). В этом смысле его проповедь Царства Божьего связана с проповедью новой этики[2347]. Звучало это провокационно – так же, как тогда, когда Иисус ставил под сомнение законы о ритуальной чистоте (Мк 7:14–23)[2348], когда благословлял бедных, говоря, что им будет принадлежать власть в Царстве Божьем (QЛк 6:20; Рим 14:10) или когда предостерегал богатых (например, Мк 10:23 и пар.). Приверженцы Иисуса называли себя «народом без царя» – это название рассеяно по всей неортодоксальной раннехристианской литературе, и, скорее всего, оно довольно древнее и появилось еще до развития христологии[2349]. Возможно, гностики понимали его в смысле их духовного самовластия, но изначально оно, по-видимому, было связано с проповедью Царства Божьего, в котором не будет земных правителей, люди будут сами управлять собою и жить в мире и согласии, поскольку будут направляемы Духом Божьим (QЛк 6:20b и пар.; 22:28–30 и пар.; Откр 3:21; однако ср.: 1 Кор 4:8). У Иисуса было глобальное представление о новом обществе, построенном на совершенно иных началах; однако, в отличие от политических революционеров, он полностью полагался на Бога и считал, что предвестием Его Царства являются изгнания бесов и другие подвиги милосердия (QЛк 11:20 и пар.)[2350].
Эти наблюдения соответствуют – или, по крайней мере, не противоречат, – тем древним фрагментам, которые мы находим в послепасхальной истории Страстей. Возможно, это следы допасхальных пророческих учений Иисуса – о совместной трапезе как предвосхищении Царства Божьего и о смерти самого Иисуса как истинном кризисе его деяний и ожиданий. Мы все еще видим и чувствуем, как справлялся Иисус с тем риском, который несло в себе его служение: он утешал себя тем, что рискует жизнью ради блага других, ибо Бог мог доказать его правоту (традиция Тайной Вечери), а с другой стороны, понимал, что бегство от опасности станет для него истинным поражением (QЛк 17:33 и пар.; Мк 8:35 и пар.; Ин 12:25). Он не придерживался двойной эсхатологии – он ждал пришествия Сына Человеческого и наступления Царства Божьего.
Последние исторически значимые сведения в этой истории – слова, повествующие о смерти Иисуса: Мк 15:37; Лк 23:46 (ἐξέπνευσεν); Мф 27:50 (ἀφῆκεν τὸ πνεῦµα); Ин 19:30 (παρέδωκεν τὸ πνεῦµα). Гностики старались отделаться от этих слов. Они полагали, что Иисус сумел бежать от своего земного тела, как говорится о Керинфе (Ириней, Против ересей 1.26.1) или о Василиде (Против ересей 1.24.3–5), а впоследствии сочинили целую историю о том, как Иисус сидел на дереве и смеялся над всем происходящим (Апок. Пет 81, 7–24). Однако авраамические религии принимают смерть всерьез, видя в ней часть уникальности человеческой жизни, закодированной в памяти Бога.
Пасхальная проповедь является как новый акт драмы, в котором свидетель, подобно кериксу – глашатаю античной трагедии – провозглашает о том, что произошло за сценой, вдали от глаз зрителя: «Он воскрес» – с указанием на деяние Бога. Это свидетельство связывает историю Иисуса с исповеданием веры и литургической жизнью христианской общины.
Заключение
Я постарался описать фрагменты древнего рассказа о Страстях. Это рассказ с открытым финалом, и в истории человечества он остается неоднозначным. В Мк 16:6–7 мы слышим свидетельство о воскресении Иисуса, которое требует от христианской общины лишь несомненного принятия и исповедания Пасхи. А кроме того, это означает, что с христианской точки зрения история и учение Иисуса – это исходная точка всей послепасхальной христологии.
Воскресение Иисуса и историография
Лидия Новакович
Вступление
Современное понимание историографии – написание истории, основанное на критическом изучении источников – базируется на трех фундаментальных принципах исторического исследования, сформулированных Эрнстом Трёльчем. Исторические суждения: 1) могут обладать лишь большей или меньшей степенью вероятности, которая зависит от 2) использования принципа аналогии (т. е. сравнения событий прошлого с обычным, повседневным опытом нашего настоящего), и 3) взаимосвязанности всех исторических феноменов[2351].
Историк, желающий применить эти критерии к истории воскресения Иисуса, сталкивается с двумя основными сложностями. Во-первых, нам неизвестны сообщения от очевидцев (или об очевидцах), которые бы непосредственно наблюдали, как мертвое тело Иисуса превращается в тело живое. Даже Евангелие Петра, вдохновленное желанием рассказать нам о самом процессе воскресения[2352], повествует только о том, как стражник увидел двух мужей, которые спустились с небес, открыли гробницу и некоторое время спустя вышли вместе с третьим мужем. Что произошло в гробнице – остается скрытым. В этом отношении Евангелие Петра не отличается от канонических текстов: между тем моментом, когда свидетели видели мертвое тело Иисуса, и тем, когда увидели Иисуса живым, существует разрыв и во времени, и в восприятии[2353]. В отличие от рассказов о чудесах, в которых обычно изображаются наблюдатели, видевшие и болезнь или иное несчастье жертвы, и его/ее чудесное исцеление, для повествований о воскресении характерен этот разрыв во впечатлениях. Утверждение о воскресении Иисуса в Новом Завете – всегда умозаключение, основанное на встречах с живым Иисусом, а не утверждение наблюдаемого факта.
Вторая сложность в том, что воскресение Иисуса не имеет аналогов в истории человечества. Хотя многие иудеи I столетия и ожидали всеобщего воскресения в конце времен, заявление христиан о том, что это уже сейчас, в ходе истории человечества, произошло с одним конкретным человеком, не имело себе прецедентов. Дополнительная сложность связана с тем, что перед нами не просто событие, уникальное в том же смысле, что и каждое событие истории, но уникальность par excellence: утверждение о телесном воскресении Иисуса противоречит известным нам законам природы. Значимость этой проблемы иногда преуменьшается. Вольфхарт Панненберг снова и снова повторяет, что воскресение Иисуса – историческое событие, особое лишь по своей функции, но не по существу. Поскольку каждое историческое событие связано с другими, то и воскресение по сути ничем не отличается от других событий человеческой истории[2354]. Другие авторы, однако, указывают, что воскресение Иисуса радикально отличается от всех прочих исторических событий. Юрген Мольтман, например, пишет:
…воскресение Христа затрагивает не категорию «случайно нового», а ожидаемую категорию эсхатологически нового. Впрочем, эсхатологически новое событие – воскресение Христа – оказывается novum ultimum [в высшей степени новым] как по на фоне сходства в вечно повторяющейся реальности, так и на фоне относительного различия новых возможностей, возникающих в истории[2355].
Рассуждая о том, как можно применить к воскресению Иисуса исторические аналогии, Сара Коукли отличает воскресение Иисуса от событий уникальных в самом строгом смысле слова (т. е. событий абсолютно для нас непостижимых, которые невозможно даже описать) и от тех событий, которые не имеют себе параллелей в нашем текущем опыте, но могут быть воссозданы при помощи исторического воображения. Хотя воскресение Иисуса можно описать словами и вообразить, оно уникально в том смысле, что «предполагает нарушение общепризнанных в наше время естественнонаучных законов (которые, как мы считаем, пока не доказано обратное, представляют собой закономерности самой природы)»[2356]. По мнению Коукли, Панненберг совершает ошибку, затушевывая различие между необычными событиями, не нарушающими законов природы, – и необычными событиями, которые их нарушают.
В современной дискуссии о воскресении порой пытаются умалить значимость этого возражения, принимая концепцию открытой вселенной вместо закрытой системы, управляемой неизменными законами[2357]. Впрочем, эта модификация не делает легче проблему, связанную с тем, что воскресение Иисуса не имеет никаких аналогий в обычном человеческом опыте. Конечно, если учесть неполноту наших знаний о естественных законах, у нас нет оснований отвергать такую возможность априори, – но бремя доказательства лежит все же на тех, кто настаивает, что в этом случае действительно имело место нарушение известных нам законов природы[2358] и что, следовательно, это событие можно назвать «историческим».
Если мы утверждаем, что воскресение Иисуса можно проверить и подтвердить историческими методами, то требуется либо выбрать иной термин, более подходящий к предмету исследования, либо по-иному сформулировать цели и границы историографии. Неудивительно, что и то, и другое предпринимается крайне редко[2359]. Сама мысль отбросить термин исторический для многих интерпретаторов равна отказу от веры в то, что воскресение Иисуса произошло «на самом деле», – и, следовательно, от возможности доказать истину христианства[2360]. Для других понимание истории, не связанное с принципами аналогии и причинно-следственной связи, вообще не имеет отношения к научной дисциплине и открывает двери для субъективизма всех возможных видов. В результате консервативные интерпретаторы обвиняют так называемых скептиков в том, что те навязывают библейским свидетелям свое натуралистическое мировоззрение и таким образом с самого начала исключают из картины Бога[2361], – а скептики, в свою очередь, обвиняют консерваторов в том, что у тех христианская вера влияет на исторические заключения[2362]. Об этом остается только пожалеть, поскольку такая методологическая путаница может лишь сослужить историографии дурную службу[2363]. Вера историка-христианина, несомненно, играет свою роль в том, как он оценивает исторические свидетельства; однако этими априорными представлениями нельзя заменить тщательно продуманные исторические суждения, которые могут разделить все, кто занимается той или иной дисциплиной, независимо от своих мировоззрений и религиозных взглядов.
Я приведу и примеры такой путаницы, и краткий обзор основных проблем, обсуждаемых в исторических исследованиях воскресения Иисуса, а потом предложу несколько направлений дальнейшей работы, учитывающих и сущность историографии, и фрагментарность и разноречивость наших источников. И вот мой главный вопрос: до какой степени способен историк – именно как историк – воссоздать события, последовавшие за распятием Иисуса, и проверить утверждение, что Иисус воскрес из мертвых?
Обзор современных исследований
Помимо нескольких признанных работ, посвященных воскресению Иисуса (их авторами, помимо прочих, стали Джон Доминик Кроссан[2364], Герд Людеман[2365], Уильям Лейн Крэйг[2366], Николас Томас Райт[2367] и Дейл Эллисон[2368]) и привлекших внимание широкой публики[2369], есть и множество других публикаций на эту тему[2370]. Даже самый краткий их обзор неизбежно бы вышел далеко за пределы объема нашей статьи, а потому здесь мы отметим и обсудим лишь некоторые общие тенденции.
Исторические труды, посвященные воскресению Иисуса, как правило, содержат критические исследования рассказов о явлениях Иисуса после воскресения и о пустой гробнице. Те, кто признает историческую достоверность первых сообщений, настаивают на том, что речь идет о реальных – объективно реальных – явлениях воскресшего Иисуса, а не о субъективных видениях или галлюцинациях. Иначе говоря, эти явления свидетельствуют о том, что нечто необычное произошло с самим Иисусом, а не с его учениками. В то же время резкий переход учеников от отчаяния к триумфу, от боязливости к отваге – вплоть до готовности умереть за свою веру – сам по себе оказывается ярчайшим свидетельством того, что с ними произошло нечто экстраординарное, и это следует принять во внимание. Хронологически первым свидетельством об этом, как признают все, становится свидетельство апостола Павла. Его рассуждение о воскресшем теле как σῶµα πνευµατικόν в 1 Кор 15:35–57 принимается как доказательство того, что он видел воскресшего Иисуса в телесной форме. Более того, список других очевидцев в 1 Кор 15:5–7, многие из которых в то время, когда писал Павел, были еще живы, принимается как дополнительное свидетельство о том, что явления Иисуса были объективными событиями и что их подтверждали свидетели, достойные доверия. Поскольку время от времени Иисус являлся и большим группам людей – скажем, двенадцати апостолам и пятистам ученикам, – крайне маловероятно, что эти видения были галлюцинациями[2371]. Апостол Павел сравнивает свой опыт с их опытом, и в этом видят указания на то, что явления эти были одного рода: людям являлся воскресший Иисус в телесной форме. В словах Павла: «А после всех явился и мне, как некоему извергу» (1 Кор 15:8) усматривают подтверждение того, что явления Иисуса были ограничены неким временным отрезком и что после того, как Иисус явился Павлу, о других подобных явлениях апостол не знал[2372].
Другую сторону спектра занимают исследователи, более склонные расценивать эти явления как субъективные видения[2373], рожденные горем и чувством вины, которые овладели последователями Иисуса после его смерти[2374], и питаемые ожиданием того, что Бог докажет его правоту[2375]. Такие исследователи отмечают многочисленные несоответствия между списком очевидцев в 1 Кор 15:5–7 и евангельскими повествованиями – скажем, указывают на то, что Павел совсем не упоминает женщин, или на то, что его слова о «пятистах братиях» нигде больше в Новом Завете не появляются.
Стандартные аргументы в пользу историчности сообщений о пустой гробнице[2376] звучат так: эти сообщения не приукрашены и в них нет цитат из Писания, что доказывает их древность[2377]; в них не звучит эсхатологическая надежда последователей Иисуса, что указывает на очень раннюю форму, еще не затронутую богословскими интересами Церкви[2378]; свидетельство женщин в иудаизме не имело большого юридического значения – и это доказывает, что истории подлинны, а не выдуманы[2379]. Важную роль играют и аргументы в пользу историчности того, что погребение Иисуса устроил Иосиф Аримафейский: они подтверждают предание о местонахождении гробницы Иисуса и, следовательно, историчность рассказов о пустой гробнице[2380].
Ученые, ставящие историчность пустой гробницы под сомнение, указывают, что у нас нет никаких свидетельств того, будто эти рассказы существовали еще прежде Евангелия от Марка, которое обрело форму более чем через тридцать лет после смерти Иисуса. Апостол Павел не упоминает о пустой гробнице, в чем видят знак того, что ему эта история была неизвестна[2381]. Свидетельство женщин понимается как литературный прием, изобретенный Марком, чтобы объяснить, почему об этой истории не знали в Древней Церкви: женщины никому об этом не рассказали[2382]. Историчность погребения тела Иисуса Иосифом Аримафейским ставится под вопрос на основании широко распространенной римской практики оставлять тела казненных без погребения или сваливать их в общую могилу[2383]. Сообщение о том, что женщины нашли пустую гробницу, интерпретируется как легендарный вымысел и как дальнейшее развитие веры в воскресение, сложившейся на основе рассказов о явлениях Иисуса[2384]. Есть и альтернативные гипотезы: говорят, что гробница, о которой сообщают Евангелия, была лишь временной, а потом, по окончании субботы, Иосиф Аримафейский забрал оттуда тело и похоронил его как полагается[2385], – а еще говорят, будто женщины пришли не к той гробнице[2386]. В этих случаях сообщение о том, что женщины обнаружили пустую гробницу, рассматривается как исторически достоверное, однако с иными последствиями для веры в воскресение[2387].
Исследователи, которые предполагают, что рассказы о явлениях Иисуса после воскресения и о пустой гробнице повествуют об исторических фактах, как правило, делают и следующий шаг – на их взгляд, при таких свидетельствах необходимый. Наилучшим объяснением обоих преданий, поддерживающих друг друга, они считают предположение, согласно которому Иисус на самом деле телесно воскрес. По их утверждениям, никакие иные исторические объяснения, на их взгляд, не могут соперничать с тем, что воскресение Иисуса – исторический факт. Воскресение Иисуса, по их мнению, было не только предметом веры его последователей, но и историческим событием. Самые известные представители этой позиции – Вольфхарт Панненберг[2388], Уильям Лейн Крэйг[2389] и, в последнее время, Николас Томас Райт[2390]. Желая избежать возражения, что их выводы обусловлены религиозными взглядами, некоторые интерпретаторы сознательно отказываются от упоминаний о Боге: вместо того чтобы говорить – как новозаветные авторы – что Бог воскресил Иисуса из мертвых, они говорят просто, что Иисус телесно воскрес из мертвых[2391]. Другие объяснения – скажем, понимание воскресения Иисуса как метафоры, призванной выразить его постоянное присутствие в Церкви, или, говоря христологическим языком, его вознесение «одесную Бога» и превращение его земной жизни в жизнь небесную – кажутся недостаточными. Воскресение необходимо понимать буквально и телесно, если христианская проповедь воскресения Иисуса хочет обрести хоть какое-то значение в современном мире.
Выше мы указывали: такое представление о воскресении Иисуса как об историческом факте вносит путаницу в наши методики[2392]. Да, историки регулярно пытаются объяснить свидетельства, найденные в источниках, однако в этом случае интерпретаторы явно переступают границы своей дисциплины. Они сужают термин «воскресение» лишь до одного значения: буквального превращения трупа Иисуса в живое тело. В то же время ученые, считающие воскресение Иисуса историческим событием, часто подчеркивают, что с Иисусом произошло не «оживление», а именно воскресение[2393]. Они утверждают, что его воскресшее тело более не подвержено смерти, что оно может по мановению мысли менять свое положение в пространстве, в том числе проходить через твердые тела, и так далее. Это не только расширение исторического воображения за пределы научной дисциплины, но и предположение, не основанное на нормальных эмпирических свидетельствах. Павел, наш древнейший и наиболее надежный источник, описывает воскресшее тело как нетленное, славное, мощное, приводимое в движение Духом, в отличие от физического тела, приводимого в движение душой, что характерно для нашего нынешнего существования. Канонические Евангелия приписывают воскресшему телу Иисуса свойства, которыми не обладает ни один иной человек: Иисус появляется из ниоткуда и исчезает внезапно. Такие утверждения эмпирически не проверить[2394], и неудивительно, что древнейшие пласты новозаветных преданий о воскресении снова и снова описывают воскресение как деяние Бога. Как правило, эти утверждения звучат в двух формах: как исповедание веры в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых[2395], и как часть описаний Бога, о котором, помимо прочего, говорится, что он воскресил Иисуса из мертвых[2396]. Эти вероисповедные формулы[2397] не сообщают нам никакого исторического содержания и не исходят из исторических умозаключений. Они описывают божественное деяние, которое соприкоснулось с человеческой историей, – «словно касательная к окружности»[2398], если вспомнить известные слова Карла Барта, – и оставило в человеческом опыте лишь отголоски, отдельные моменты встреч с воскресшим Иисусом. Однако и эти моменты и могут, и должны быть предметом исторического исследования. Они описаны в наших источниках, и их можно исторически изучить. Далее мы предложим некоторые направления работы по этой теме.
Дальнейшие направления
Воскресение в иудаизме и христианстве: расхождение концепций
Общая ошибка многих исследований о воскресении Иисуса – предположение, согласно которому христианские источники дают нам относительно целостную и непротиворечивую картину того, что имели в виду последователи Иисуса, говоря, что он воскрес из мертвых[2399]. Такое заявление едва ли оправдано, если вспомнить разнообразие идей, надежд и ожиданий, связанных с воскресением как в иудаизме периода Второго Храма, так и в раннем христианстве[2400]. Хотя воскресение, как подчеркивает Николас Томас Райт[2401], не было просто метафорой «жизни после смерти», а означало некое восстановление жизни во плоти после «жизни после смерти» – эта жизнь во плоти воображалась очень по-разному. Например, Дан 12:2–3 декларирует, что праведники воссияют, как звезды; 2 Мак 7:9–23, 2 Вар 50:2–4 и Ор. Сив 4:179–191 ожидают, что к усопшим вернутся плоть, дух и жизнь; Мк 12:25 говорит, что воскрешенные из мертвых будут жить, как ангелы; Мк 6:14 свидетельствует о вере в воскресение как новое воплощение. Более того, по-разному мыслятся и взаимоотношения между мертвым и воскрешенным телом. Если, например, Иез 37:1–14 и Дан 12:2–3 исходят из того, что кости и мертвая плоть умерших составят «материю», которая будет использована при воскресении, 2 Мак 7:22–23 и 7:28 сравнивают воскресение мучеников с творением ex nihilo: даже если от земной жизни мученика ничего не осталось, Бог властен воскресить его из ничего[2402]. В отношении к воскресению Иисуса в Новом Завете это разнообразие мнений, насколько мы можем судить, заметно сужается, однако не исчезает полностью. Некоторые древнейшие тексты, скажем, Флп 2:9–11[2403], говорят о воскресении Иисуса как о вознесении на небеса[2404]; другие, такие как 1 Кор 15:35–50, проявляют интерес к отличительным особенностям жизни по воскресении; третьи, например Ин 20:25, подчеркивают ее неразрывную связь с земным существованием[2405]. В то же время гностические писания либо отрицают, либо решительно переосмысляют телесный характер воскресения Иисуса[2406]. Это неудивительно, учитывая характерное для гностической мысли отрицательное отношение к тварному миру. Гностические диалоги, связанные с периодом после воскресения, изображают, как воскресший Иисус преподает немногим избранным эзотерическое учение[2407]. Как бы ни объяснять такое развитие предания[2408], оно, несомненно, представляет собой одну из ветвей христианской традиции. Такое разнообразие должно бы предостеречь интерпретаторов, слишком быстро приходящих к выводу о том, что у ранних христиан, в отличие от их современников-иудеев, имелась единая и четкая концепция воскресения, основанная на опыте общения с воскресшим Иисусом.
С этим же вопросом связана проблема языка. Дейл Эллисон отмечает, что «значение видения определяется психическим миром того или тех, кто его видит»[2409]. Глаголы ἀνίστηµι и ἐγείρω и соответствующее им существительное ἀναστάσις лучше всего выражали то представление, которое сложилось в рамках апокалиптического мировоззрения последователей Иисуса. «Восстание» буквально означает пробуждение от сна; таким образом, эта терминология носит метафорический характер[2410]. Метафора сравнивает два относительно несвязанных предмета – и тем самым создает между ними одновременно и связь, и противоречие[2411], и интерпретатор не должен заранее считать, будто он знает, в чем сходство, а в чем различие. Независимо то того, как влияют иудейские эсхатологические надежды на истолкование новозаветных упоминаний о воскресении Иисуса, – все же эти надежды не полностью определяют смысл упоминаний. И в дальнейшем очень желательно увидеть исследования, посвященные взаимосвязи того языка, на котором говорится о воскресении, и тех впечатлений и переживаний, благодаря которым возник этот язык.
Явления воскресшего Иисуса
Едва ли стоит сомневаться, что последователи Иисуса были твердо убеждены: они видели Иисуса живым. Более того, они были убеждены, что видели именно некую форму телесной жизни и что человек, представший перед ними, был тем самым, недавно распятым Иисусом. Однако можно долго спорить о том, насколько психология, медицина, кросс-культурная антропология способны восстановить для нас ситуацию, породившую это убеждение[2412]. Древнейшие известные нам сообщения не только скудны, но и разноречивы.
Древнейший и наиболее ценный материал для историка, желающего воссоздать пасхальные события, находится в Первом послании к Коринфянам (1 Кор 15:3–9). Автобиографическое замечание Павла о его встрече с воскресшим Иисусом в 1 Кор 15:8–9 – единственное свидетельство очевидца о явлении Иисуса после воскресения. Столь же важен список других свидетелей, который мы находим в предании, сохраненном в 1 Кор 15:3–7. Специалисты, по большей части, прослеживают ядро предания, сохраненного в стихах 3–5, вплоть до первых лет после самих событий. Этот отрывок обычно исследуется в сравнении с другими новозаветными сообщениями, в попытках опознать тех, кому являлся Иисус, и определить порядок явлений. Явления в 1 Кор 15:3–7 можно разделить на две группы: явления отдельным людям (Кифа, Иаков) и группам людей (двенадцать апостолов, пятьсот братий, все апостолы). Первая категория явлений особенно интересна: и традиция, предшествующая посланиям апостола Павла, и Евангелия отдают предпочтение первому роду явлений. Нетрудно заметить, что традиция, переданная Павлу, подчеркивает первостепенную роль апостола Петра – как первого свидетеля явлений Иисуса – и в этом согласуется с преданием, сохраненным в Лк 24:24[2413]. До-Павлова традиция схожа с повествованием Луки и еще в одном отношении: она не упоминает о том, что Иисус являлся женщинам, – и в этом расходится с рассказами Матфея и Иоанна. Согласно Мф 28:9–10, Иисус сперва явился Марии Магдалине и другой Марии, нашедшим пустую гробницу. Согласно Ин 20:11–18, первым увидела Иисуса Мария Магдалина, плакавшая возле гробницы[2414]. Эти упоминания показывают, что о первом явлении Иисуса было два основных представления: в одном на первый план выходил Петр, во втором – Мария Магдалина. Критическая оценка этого материала требует не только оценить, сколь вероятно подавление одного предания другим или создание рассказа «с нуля»[2415], – требуется еще и воссоздать динамику власти в Древней Церкви, а также соперничающие традиции, связанные с вопросами лидерства, апостольского авторитета и роли женщин[2416].
У 1 Кор 15:3–9 есть и другая сторона, которую тоже нужно исследовать. Павел сравнивает собственную встречу с воскресшим Христом с тем, как воскресший Иисус прежде являлся другим свидетелям, хотя его собственный опыт отстоит от их опыта примерно на три года. В каждом случае он использует одно и то же слово ὤφθη, пассивную форму ὁράω; это заставляет предположить, что все эти случаи, включая и его собственный, носили визуальный характер. Риторический вопрос Павла в 1 Кор 9:1: «Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» (οὐχὶ Ἰησοῦν τὸν Κύριον ἡµῶν ἑόρακα) до странности напоминает Ин 20:18 («Возвещает ученикам, что видела Господа» [“Ἑώρακα τὸν Κύριον”]) и Ин 20:25 («Мы видели Господа» [“Ἑωράκαµεν τὸν Κύριον”]). Это, однако, не означает, будто все разделяли убежденность Павла в том, что Иисус явился ему именно так же, как и остальным. У нас есть по меньшей мере одно сообщение, в котором случай Павла четко отделен от других, произошедших непосредственно после распятия. Лука разносит по времени явления Иисуса ученикам (Деян 1:3) и явление Павлу (Деян 9:1–9), ставя между ними вознесение Иисуса (Деян 1:6–11; Лк 24:50–51). Затем Лука описывает, как Иисус явился Павлу на пути в Дамаск – как осиявший Павла свет с небес и говоривший с ним голос. Впечатления попутчиков Павла еще более «туманны»: по одной версии, они слышали голос, но ничего не видели (Деян 9:7), по другой – видели свет, но не слышали голоса (Деян 22:9).
Хотя христологический контекст Луки, отличающего воскресение от вознесения, подчеркивает разницу между тем, как Иисус явился Павлу, и тем, как он явился всем остальным, рассуждения самого Павла о природе воскресшего тела верующих – и, можно предположить, тела самого Иисуса – также содержат ряд элементов, противоречащих новозаветным сообщениям. Например, рассказывая о том, как некоторые персонажи не могли (Мф 28:17; Лк 24:16, 37; Ин 20:14; 21:4) или не желали (Ин 20:25) узнать Иисуса с первого взгляда, Матфей, Лука и Иоанн стремятся установить соотношение между Иисусом земным и Иисусом воскресшим[2417]. Павла, напротив, интересует различие между нынешним телом душевным, σῶµα ψυχικόν, и будущим телом духовным, σῶµα πνευµατικόν, почти что до устранения какой-либо преемственности между ними[2418]. Кроме того, его концепция «тела духовного» и утверждение, согласно которому «плоть и кровь не могут наследовать Царства Божия» (1 Кор 15:50), противоречат словам Иисуса у Луки: «…дух плоти и костей не имеет, как видите у меня» (Лк 24:39) и доказательству этих слов – тому, что Иисус на глазах у учеников съел рыбу (Лк 24:42–43). В Деяниях Петр сообщает, что свидетели явлений Иисуса «с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых» (Деян 10:41). Также и у Иоанна до Иисуса можно дотронуться (Ин 20:17, 27) и, по всей видимости, он ест вместе с учениками хлеб и рыбу (Ин 21:13)[2419].
Многие интерпретаторы начиная с XIX в. доказывали, что акцент Луки и Иоанна на материальности тела воскресшего Иисуса был частью полемики, с докетами[2420]. Сходная тенденция заметна и в других раннехристианских писаниях, направленных на борьбу с возникшим и распространившимся в то время докетизмом. Например, Игнатий Антиохийский часто упоминает о воскресении Иисуса, подчеркивая – вопреки докетам, – что Иисус в самом деле был, а не казался человеком. В своем послании в Смирну Игнатий настаивает на том, что Иисус пребывал во плоти не только в земной жизни, но и в жизни по воскресении[2421]. Иустин Мученик в своем трактате О воскресении также говорит о воскресении во плоти. Схожим образом расставлены акценты и в трактате Тертуллиана О воскресении плоти. Значение этих текстов для исторического исследования воскресения Иисуса порой умаляют – из-за поздней датировки и явно полемического содержания, – однако в них куда больше сходства с повествованиями Луки и Иоанна, чем у Евангелий от Луки и Иоанна с посланиями Павла. Это позволяет предположить, что сами события, переживаемые как явления Иисуса и положившие начало древнейшим преданиям, несмотря на их общие элементы, были достаточно разнообразны и что развитие непротиворечивой традиции, подчеркивающей телесность Иисуса, было вызвано определенными внешними факторами, такими как возникновение докетизма.
Связь явлений и пустой гробницы
Исследователи предания о пустой гробнице не должны пренебрегать тем, что раннехристианская традиция, сохраненная в 1 Кор 15:3–7, о ней не упоминает. Предположение, согласно которому фраза «и погребен был» ([καὶ ὅτι ἐτάφη]) в 1 Кор 15:4 указывает на знание о пустой гробнице, – это не что иное, как внесение в текст смысла, которого там нет. Хотя аргументы Павла в этой главе предполагают преображение физического тела в тело духовное, он, очевидно, пришел к этому выводу, поскольку был богословски убежден в том, что мертвые воскресают, – а не потому, будто знал о пустой гробнице[2422]. Сказать, что фарисейское воспитание Павла привело его к вере в пустую гробницу, – это совсем не то же, что сказать: «Он знал, что гробница пуста»[2423]. Ни в одном источнике до Марка мы не встречаем свидетельств о том, что история пустой гробницы была общеизвестна. Однако не стоит заключать из этого и обратное – будто всю эту историю выдумали позже: такой вывод и неубедителен, и не подтверждается источниками. Эта гипотеза основана на «аргументе от молчания», который в данном случае может сообщить нам кое-что об апостоле Павле и о древнейших христианских общинах, но о самой пустой гробнице – почти ничего. Поскольку во время распятия Иисуса Иудея не находилась в состоянии открытого мятежа против Рима, не было ничего невозможного в том, что некто, входивший в состав Синедриона, забрал тело Иисуса и похоронил его хоть и поспешно, но вполне достойно[2424]. Если так, то сообщения Марка и Иоанна, согласно которым пустую гробницу обнаружили Мария Магдалина (Иоанн) и две другие женщины (Марк), можно рассматривать как два независимых предания[2425] с общей основой. То, что во всех канонических Евангелиях первыми открывают пустую гробницу женщины-последовательницы Иисуса, говорит в пользу исторической достоверности этого рассказа. В то же время молчание о нем в ранних источниках стоит воспринять очень серьезно[2426]. Если мы и признаём за повествованиями о пустой гробнице какое-то историческое ядро – что, на мой взгляд, справедливо, – то дошедшие до нас источники показывают, что эти сообщения не оказали заметного влияния на ранние пласты традиции. Одной из причин могут оказаться патриархальные предрассудки и склонность игнорировать, а возможно, даже замалчивать свидетельство женщин[2427]. Еще одна возможная причина – неоднозначность истории о пустой гробнице: не случайно все канонические Евангелия рассказывают о том, как персонажи были поражены и потрясены тем, что гробница оказалась пустой. Более того, им сразу же приходило в голову типичное объяснение: тело куда-то перенесли (Мф 28:12–15; Ин 20:13, 15). Неудивительно, что во всех евангельских рассказах появляются ангелы (один или двое), чья задача – рассеять недоумение и объяснить, что произошло. Присутствие этого легендарного мотива ясно показывает, что проблема, которую рассказчики пытались так решить, чувствовалась уже в самых первых версиях повествований о пустой гробнице.
Евангелие от Марка предлагает нам еще одно странное свидетельство: в нем говорится о пустой гробнице, однако нет никаких сообщений о явлениях Иисуса. Более того, оканчивается оно не только внезапно, но и необычно: женщины, услышав от юноши в белых одеждах весть о воскресении, в страхе и трепете убегают. Марк подчеркивает, что они «никому ничего не сказали, потому что боялись» (Мк 16:8). Теория, согласно которой настоящее, авторское окончание Евангелия утеряно[2428], не пользуется особой поддержкой. Хотя само присутствие этого сообщения в Евангелии от Марка доказывает, что рано или поздно секрет был раскрыт, нет никаких свидетельств того, что это произошло «рано», а не «поздно»[2429]. Учитывая молчание источников, приходится заключить, что знание о пустой гробнице, даже если его не выдумали позже[2430], было доступно лишь узкому кругу. Модификации рассказа о пустой гробнице у Матфея и Луки показывают, что оба они не сохраняют вторую часть стиха 8 («…и ничего никому не сказали, потому что боялись»), а продолжают историю. Матфей заменяет эту часть на «…побежали возвестить ученикам Его» (Мф 28:8b), а Лука – на «…возвестили все это одиннадцати и всем прочим» (Лк 24:9b). Так оба евангелиста убирают звучащий у Марка мотив секретности. Мог ли Марк продолжить свой рассказ, объяснив, каким образом секрет был раскрыт? А может, он и в самом деле его продолжил? Если сравнить его текст с другими синоптиками – вряд ли. Окончание Евангелия от Марка, пусть даже странное и загадочное, обладает некоей завершенностью, которую не так легко преодолеть.
В свете этих двух феноменов – гробницы без явлений и явлений без гробницы – их взаимосвязь явно стоит пересмотреть. Да, принято говорить, что эти два предания поддерживали друг друга, когда ученики Иисуса начали провозглашать в Иерусалиме о его воскресении[2431], – но этот довод не выдерживает исторического исследования. Аргумент, согласно которому гробница должна была быть пустой, поскольку иначе противники христианства предъявили бы народу тело Иисуса[2432], сомнителен. Сложно сказать, возможно ли было опознать тело спустя несколько недель после погребения, когда началась публичная проповедь христианской благой вести[2433]. И даже если кто-то возразит, что для опознания хватило бы и указания на место, где лежит тело, без учета его состояния[2434], – о том, будто такого рода расследование предпринимали иудейские вожди, нам ничего не известно. В этом случае молчание источников – учитывая, какой апологетический эффект могла бы иметь такая неудачная попытка, – служит сильным доводом в пользу того, что ничего подобного не было[2435]. А если так, то предположение, что противники христианства явили бы всем труп Иисуса, если бы располагали им, теряет свою аргументативную привлекательность.
Более того, нет никаких ранних свидетельств того, будто именно благодаря пустой гробнице те, кому являлся воскресший Иисус, осознали, что он воскрес – и нам нечем подтвердить, будто они использовали знание о пустой гробнице в своей проповеди. Евангелия от Матфея, Луки и Иоанна, соединив эти изначально независимые предания, ясно показывают, что слияние их произошло не раньше 80 г. н. э.[2436]. Если у Марка мы видим историческое воспоминание о смятении, вызванном обнаружением пустой гробницы, то сочетание обоих преданий в следующих Евангелиях показывает, что «явления после Пасхи придали исчезновению тела из гробницы, сперва загадочному, определенную интерпретацию»[2437]. Каждый евангелист выполнил эту задачу по-своему. У Матфея Иисус впервые является женщинам, которые обнаружили пустую гробницу. У Луки – ученикам, которым женщины прежде сообщили о том, что гробница пуста. У Иоанна мы находим обе версии: сперва Иисус является Марии Магдалине, которая первой нашла пустую гробницу, а затем ученикам, узнавшим об этом от Марии. Этим противоречиям не стоит удивляться. По-видимому, до Матфея, Луки и Иоанна общего предания, в котором обнаружение пустой гробницы объединялось бы с явлениями Иисуса, просто не было. Поэтому остается спорным утверждение Райта, согласно которому явления и пустая гробница – это необходимые и достаточные условия для трезвого исторического суждения о том, что воскресение Иисуса произошло как исторический факт[2438]. В логическом плане его аргументация определенно ценна: действительно, для того, кто уверен в историчности явлений и пустой гробницы, их наилучшим объяснением становится именно воскресение. Однако исторически эта аргументация сомнительна: у нас нет свидетельств о том, будто такой ход рассуждений вообще имел место в первом поколении учеников Иисуса. Они верили, что Бог воскресил Иисуса из мертвых – и верили в это благодаря тому, что лично встречали Иисуса, а не потому, что к тому же знали о пустой гробнице[2439]. Возможно, позднейшие попытки связать воедино явления и гробницу были вызваны желанием получить дополнительные доказательства воскресения Иисуса для новых поколений верующих – впрочем, современными историками движет то же самое.
Заключение
Мы предложили ряд областей, в которых историография может внести свой вклад в изучение воскресения Иисуса. Это расходящиеся концепции воскресения в иудаизме и христианстве; различные предания о явлениях воскресшего Иисуса; сложная взаимосвязь между рассказами о явлениях и о пустой гробнице. Может быть, мои предложения покажутся скромными тем интерпретаторам, кто верит, что историография способна на большее. Однако к такому оптимизму я отношусь сдержанно – по двум причинам. Во-первых, в наших источниках сохранились лишь фрагментарные воспоминания, и для полной исторической реконструкции событий воскресения нам попросту недостает данных. У нас есть лишь апостольские свидетельства – иначе говоря, свидетели ограничены кругом верующих. Эти свидетельства не только отражают точку зрения древних авторов, но и выражают экстраординарную сущность пасхальных событий. Все свидетели согласны друг с другом в том, что Иисус воскрес из мертвых, однако различаются в рассказах о том, кто видел его живым и какова была природа его воскресшего тела; точно так же мы не знаем, была ли пустая гробница общеизвестным фактом – или лишь предположением, выстроенным постфактум на основе уже имевшихся эсхатологических верований. Историк должен стремиться к тому, чтобы выстроить на основе источников целостную картину, даже если кажется, будто они друг с другом не согласуются. Это не означает, что утверждения источников необходимо принимать без критики – или что необходимо искусственно навязывать им гармонию. Но, впрочем, это равно так же не значит, будто их утверждения необходимо отбрасывать ради некоей априорной «объективности». Пусть говорят так, как хотят, и столько, сколько хотят: наша задача – оценить их слова с открытым разумом и без предубеждений.
Во-вторых, в упоминаниях о воскресении Иисуса более всего поражает изобилие образов и богословских рассуждений, причем все они объединены исповеданием, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. Это утверждение – не только постоянная, но и, по-видимому, древнейшая черта разнообразных идей и представлений о воскресении. Кроме того, в древнейших пластах предания мы встречаем связь воскресения Иисуса с его сыновством Богу (Рим 1:4), вознесением одесную Бога (Деян 2:34–35; Евр 1:3), новым положением и господством (Флп 2:9–11), а также возвращением в конце времен (1 Кор 15:22–28). Те же исповеднические мотивы можно различить и в нескольких евангельских повествованиях. У Матфея обе группы, которым является Иисус, – женщины в Иерусалиме и одиннадцать учеников в Галилее, – тут же поклоняются ему (Мф 28:9, 17). Согласно Евангелию от Иоанна, Фома Близнец, узнав воскресшего Иисуса, немедленно исповедал его: «Господь мой и Бог мой!» ([ὁ κύριός µου καὶ ὁ θεός µου], Ин 20:28). Настаивать на том, что Иисус телесно встал из гробницы, как часто поступают современные защитники историчности воскресения Иисуса, – этого, по смыслу новозаветных писаний, недостаточно: так огромный и многозначный опыт воскресения низводится к нескольким вполне умопостигаемым деталям. Раннехристианские писания решительно утверждают, что невозможно говорить о воскресении Иисуса и при этом не говорить о Боге, воскресившем его из мертвых. Однако это утверждение не проверить историческими методами, поскольку конечная его цель – провозгласить воскресение Иисуса деянием Бога, выходящим за пределы человеческой истории. А это уже предмет не историографии, а богословия – совершенно другой дисциплины.

Примечания
1
См. особенно вступление к сборнику трудов Первого симпозиума Принстон-Прага в кн.: Jesus Research: An International Perspective (ed. J. H. Charlesworth and P. Pokorný; Grand Rapids: Eerdmans, 2009), с. 2–4; Charlesworth, Historical Jesus: An Essential Guide (Nashville: Abingdon, 2008).
(обратно)
2
Не следует путать второе немецкое издание со вторым английским, которое было основано на первом немецком.
(обратно)
3
Знаменитое высказывание Тиррелла приводится в его рецензии на книгу «Сущность христианства» либерального протестанта Адольфа Гарнака: «Христос, которого видит Гарнак, проницая взором в прошлое, сквозь девятнадцать столетий католической тьмы – это лишь отражение лица либерального протестанта, заметное на дне глубокого колодца». В этой эмоциональной реплике проявились и напряженные отношения между католиками и протестантами, и пламенный дух самого Тиррелла. См.: Tyrrel, Christianity at the Cross-Roads (1909; repr., London: Allen & Unwin, 1963), с. 49–50.
(обратно)
4
См.: H. Anderson, Jesus (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1967). Это одно из лучших исследований, посвященное тому, как Барт и Бультман стремились очернить историзм.
(обратно)
5
В недавних исследованиях есть попытки показать, что Павел, возможно, знал не только о Страстях и воскресении Иисуса, но и о его жизни и учении; см.: D. Wenham «The Story of Jesus Known to Paul», в кн.: Jesus of Nazareth: Lord and Christ – Essays on the Historical Jesus and New Testament Christology (ed. J. B. Green and M. Turner; Grand Rapids: Eerdmans, 1994), с. 297–311.
(обратно)
6
Термин «Движение Иисуса», придуманный мной, призван обозначить эпоху Иисуса и последующие десятилетия существования общины после Пасхи.
(обратно)
7
Барнс Тэйтум справедливо описывает это как переход от «Поиска», исполненного богословских аспектов, к новому подходу в изучении исторического Иисуса. Он называет это явление «Пост-поиском» и считает его началом 1985 год по двум причинам: в то время вышла книга Эда Сандерса «Иисус и иудаизм» (Sanders, Jesus and Judaism, 1985) и состоялась первая сессия «Семинара по Иисусу». И хотя ни Сандерс, ни участники семинара не думали начинать новое движение, они стали его частью. См.: Tatum, In Quest of Jesus (2nd ed.; Nashville: Abingdon, 1999). Естественно, в первом издании книги (Atlanta: John Knox, 1982) такой фразы появиться не могло, но в книге, которую издал сам автор, ясно говорится о том, что в изучении исторического Иисуса началось нечто новое.
(обратно)
8
См.: D. Flusser, R. S. Notley, The Sage from Galilee: Rediscovering Jesus’ Genius (Grand Rapids: Eerdmans, 2007).
(обратно)
9
É. Nodet, The Historical Jesus? Necessity and Limits of an Inquiry (trans. J. E. Crowley; JCTCRS 3; New York: T&T Clark, 2008); ср. ниже: Этьен Нодэ, «Акцент на человеческой природе Иисуса в изначальной керигме».
(обратно)
10
J. Murphy-O’Connor, Paul: A Critical Life (Oxford: Clarendon, 1996); idem, Paul: His Story (Oxford: Oxford University Press, 2004).
(обратно)
11
Для тех, кто не готов потратить месяцы на знакомство с учеными и обстоятельными трудами Джона Майера (John Meier, 1991–2009, работы продолжают выходить), можно рекомендовать следующую небольшую книгу: James H. Charlesworth, W. P. Weaver, ed., Jesus Two Thousand Years Later (FSC; Harrisburg: Trinity Press International, 2000). В ней приведены статьи, написанные для широкой публики пятью известными учеными: это Уолтер Уивер, Джон Доминик Кроссан, Эд Пэриш Сандерс, Эми-Джилл Левин и Джеймс Чарлзворт.
(обратно)
12
Геза Вермеш отметил, что о «книге папы Бенедикта XVI об Иисусе» он впервые услышал в 2007 году, именно на Втором симпозиуме Принстон-Прага; см.: Vermes, The Real Jesus (Minneapolis: Fortress, 2010), с. 47.
(обратно)
13
Во многом книга Гезы Вермеша «Иисус-иудей: Евангелие глазами историка» (Vermes, G. Jesus the Jew: A Historian’s Reading of the Gospels, London: Collins, 1973) стала одной из важнейших монографий для «Исследования Иисуса» – и предвестницей радикальной перемены в этой сфере, и проявлением этой перемены.
(обратно)
14
См. также: «A Dead End or a New Beginning? Examining the Criteria for Authenticity in Light of Albert Schweitzer», в кн.: Jesus Research, ed. Charlesworth and Pokorný, с. 16–35, где подробнее говорится о критериях подлинности в исторической перспективе.
(обратно)
15
Подробнее об этом см. обширную монографию: Moore, Jesus, an Emerging Jewish Mosaic: Jewish Perspectives, Post-Holocaust (JCTCRS 2; New York: T&T Clark, 2008).
(обратно)
16
J. Klausner, From Jesus to Paul (trans. W. F. Stinespring; New York: Macmillan, 1943), с. 4; E. P. Sanders, Jesus and Judaism (Philadelphia: Fortress, 1985), с. 3, 18.
(обратно)
17
Вклад Холмена в Первый симпозиум Принстон-Прага дает конкретный пример: в его исследовании отношение Иисуса к ритуальной чистоте представлено в контексте раннего иудаизма, но намечены многообещающие пути, позволяющие увидеть, как это отношение выражалось в Церкви в раннехристианскую эпоху; см.: Holmen, «A Contagious Purity: Jesus’ Inverse Strategy for Eschatological Cleanliness», в кн.: Jesus Research, ed. Charlesworth and Pokorný, с. 199–229, особ. с. 227–229.
(обратно)
18
Другой пример того, как Тайсен использует социологические методики – его статья в сборнике трудов Первого симпозиума Принстон-Прага: Theissen, «Jesus as an Itinerant Teacher: Reflections from Social History on Jesus’ Roles», в кн.: Jesus Research, ed. Charlesworth and Pokorný, с. 98–122.
(обратно)
19
См.: Charlesworth, «The Historical Jesus in the Fourth Gospel: A Paradigm Shift?» JSHJ 8 (2010): 3–46. Чарлзворт утверждает, что исследование Иисуса не должно игнорировать Четвертое Евангелие, и высказывает предположения о том, где именно текст может содержать исторически достоверную информацию.
(обратно)
20
John P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, vol. 2: Mentor, Message, and Miracles (ABRL; New York: Doubleday, 1994), с. 14–15, прим. 7.
(обратно)
21
Vermes, «Jewish Literature and New Testament Exegesis: Reflections on Methodology», JJS 33 (1982): 361–376; репринт в кн.: Jesus in His Jewish Context (Minneapolis: Fortress, 2003), с. 68–80, 168–170.
(обратно)
22
Geza Vermes, The Religion of Jesus the Jew (Minneapolis: Fortress, 1993), с. 7.
(обратно)
23
См.: Vermes, Jesus in His Jewish Context, с. vii – x, 141–142.
(обратно)
24
J. H. Charlesworth, Jesus within Judaism (ABRL; New York: Doubleday, 1988); idem, ed., Jesus’ Jewishness (New York: Crossroad, 1991).
(обратно)
25
Hermann Strack and Paul Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch (4 vols.; Munich: Beck, 1922–1928).
(обратно)
26
G. Kittel and G. Friedrich, Theological Dictionary of the New Testament (trans. G. W. Bromiley; 10 vols.; Grand Rapids: Eerdmans, 1964–1976).
(обратно)
27
Geza Vermes, «New Light on the Sacrifice of Isaac from Qumran», JJS 47 (1996): 140–146; репринт в кн.: G. Vermes, Jesus and His Jewish Context, с. 109–113, 181–184. См. также: Moshe Bernstein, «Angels at the Aqedah: A Study in the Development of a Midrashic Motif», DSD 7 (2000): 263–291, цит. с. 278–283.
(обратно)
28
Gustaf Dalman, Jesus-Jeschua (Leipzig: Hinrichs, 1922); Die Worte Jesu (2nd ed.; Leipzig: Hinrichs, 1930).
(обратно)
29
Matthew Black, An Aramaic Approach to the Gospels and Acts (3rd ed.; Oxford: Oxford University Press, 1967).
(обратно)
30
«Appendix E: The Use of / in Jewish Aramaic», в кн.: Black, Aramaic Approach, с. 310–328. Ср. также: G. Vermes, Post-Biblical Jewish Studies (Leiden: Brill, 1975), с. 147–165. См. также статью Брюса Чилтона в данной книге.
(обратно)
31
N. Perrin, Rediscovering the Sayings of Jesus (New York: Harper & Row, 1967), с. 39–47.
(обратно)
32
E. P. Sanders and M. Davies, Studying the Synoptic Gospels (London: SCM, 1989), с. 301–334.
(обратно)
33
R. Bultmann, History of the Synoptic Tradition (trans. J. Marsh; rev. ed.; New York: Harper & Row, 1963), с. 205.
(обратно)
34
См. также статьи Стэнли Портера и Тома Холмена в данной книге.
(обратно)
35
Относительно разных представлений о том, как передавалась устная традиция, см. статьи Ричарда Бокэма и Вернера Кельбера в данной книге.
(обратно)
36
См. особенно: J. H. Charlesworth, «The Historical Jesus in the Fourth Gospel: A Paradigm Shift?» JSHJ 8 (2010): 2–46.
(обратно)
37
Geza Vermes, The Authentic Gospel of Jesus (London: Allen Lane/Penguin, 2003).
(обратно)
38
См. статью Дейла Эллисона в данной книге.
(обратно)
39
Перевод согласно англ. “in the midst”. В Синодальном переводе эти слова переданы как «внутрь вас есть». – Прим. ред.
(обратно)
40
Перевод согласно англ. “…folly for the Gentiles”. В Синодальном переводе: «…для Еллинов безумие». – Прим. ред.
(обратно)
41
Англ. “problem of multiple Jesuses”. – Прим. ред.
(обратно)
42
George Tyrrell, Christianity at the Cross-Roads (London: Longmans, Green, 1909), с. 44; переиздание с предисловием Александра Видлера (London: Allen & Unwin, 1963), с. 49. Цит. в кн.: Weaver, Historical Jesus in the Twentieth Century, 1900–1950 (Harrisburg: Trinity Press International, 1999), с. 16.
(обратно)
43
A. C. Headlam, The Life and Teaching of Jesus the Christ (London: John Murray, 1923), с. 165; Weaver, Historical Jesus, с. 110.
(обратно)
44
Henry J. Cadbury, The Peril of Modernizing Jesus (New York: Macmillan, 1937); Weaver, Historical Jesus, с. 184–185.
(обратно)
45
Я добавил два последних примера. См.: Weaver, Historical Jesus, с. 343–345, 351–353.
(обратно)
46
Латинские выражения: ad infinitum – бесконечно, ad nauseam – до тошноты. – Прим. ред.
(обратно)
47
David McCullough, John Adams (New York: Simon & Schuster, 2001).
(обратно)
48
Латинское выражение: ipso facto – в силу самого факта. – Прим. ред.
(обратно)
49
Латинское выражение: sui generis — редкий, редкостный, уникальный. – Прим. ред.
(обратно)
50
О вкладе Монтефиоре см.: Weaver, Historical Jesus, с. 232–239.
(обратно)
51
В. Шекспир. Юлий Цезарь. Пер. М. Зенкевича.
(обратно)
52
Уолт Келли; см.: http://www.bpib.com/kelly.htm.
(обратно)
53
Труды Локка широко доступны. «Опыт» можно найти в Интернете на сайте Google, где собраны оцифрованные старинные книги. О Локке см.: http://books.google.com/books?id= 2qV-5lIBYfIC&printsec=frontcover&dq=john+locke. Там же доступно множество книг на другие темы.
(обратно)
54
John Locke, The Reasonableness of Christianity with A Discourse of Miracles and Part of A Third Letter Concerning Toleration (ed. I. T. Ramsey; Library of Modern Religious Thought; Stanford: Stanford University Press, 1958). Биографические сведения взяты из вводной статьи Рэмси к данной книге, см.: Reasonableness, с. 7–8.
(обратно)
55
Reasonableness, с. 9–10 (Вступление Рэмси).
(обратно)
56
Locke, Reasonableness, с. 65.
(обратно)
57
Locke, Reasonableness, с. 73.
(обратно)
58
John Toland, Christianity Not Mysterious (ed. P. McGuinness, A. Harrison, and R. Kearney; Dublin: Lilliput, 1997).
(обратно)
59
John Toland, Christianity Not Mysterious, с. 17; курсив автора. Я немного отредактировал данный отрывок, чтобы сделать высокопарный и цветистый английский язык того времени более современным. Так нередко делают с подобными текстами, и я последовал этим же путем, чтобы сделать язык понятнее. Хотя в этих старых текстах, которые сохраняют вежливость даже при самой яростной полемике, есть свое очарование.
(обратно)
60
Matthew Tindal, Christianity as Old as the Creation: or, The Gospel, a Republication of the Religion of Nature (London: no publisher, 1731).
(обратно)
61
Там же, с. 139.
(обратно)
62
Там же, с. 315.
(обратно)
63
Thomas Chubb, The True Gospel of Jesus Christ Asserted (London: Tho. Cox, 1738). Книга доступна на сайте Google. Источник биографических сведений: National Dictionary of Biography.
(обратно)
64
Там же, с. 18.
(обратно)
65
Там же, с. 19.
(обратно)
66
Там же, с. 49–50.
(обратно)
67
Thomas Paine, Age of Reason (Luxemburg: no publisher, 1792). Весь этот труд доступен на сайте http//www.ushistory.org/paine/reason/singlehtml.htm.
(обратно)
68
Paine, Age of Reason, с. 2.
(обратно)
69
Там же.
(обратно)
70
Там же, с. 3.
(обратно)
71
Там же, с. 45.
(обратно)
72
Там же, с. 9.
(обратно)
73
Джефферсон – ярчайший пример; возможно, к деистам можно отнести также Джона Адамса; Бенджамин Франклин какое-то время был деистом, но потом заявил, что деизм оказался не слишком практичным. См. автобиографию Франклина: http://www.earlyamerica.com/lives/franklin/. Кто-то считал деистом Вашингтона, хотя споры об этом продолжаются.
(обратно)
74
Цит. по: Forrest Church, «The Gospel according to Thomas Jefferson», в кн.: Thomas Jefferson, The Jefferson Bible: The Life and Morals of Jesus of Nazareth (Boston: Beacon, 1989), с. 1–32, цит. с. 5.
(обратно)
75
Там же, с. 7.
(обратно)
76
Там же, с. 17.
(обратно)
77
См. также: Werner Georg Kummel, The New Testament: The History of the Investigation of Its Problems (trans. S. McLean Gilmour and Howard C. Kee; Nashville: Abingdon, 1972), с. 51–53.
(обратно)
78
Albert Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus: First Complete Edition (ed. J. Bowden; trans. J. Bowden et al.; foreword by D. Nineham; Minneapolis: Fortress, 2001), с. 16.
(обратно)
79
D. F. Strauss, «Hermann Samuel Reimarus and His Apology», в кн.: Reimarus: Fragments (ed. C. H. Talbert; trans. R. S. Fraser; LJS; Philadelphia: Fortress, 1970), с. 44–57, цит. с. 51.
(обратно)
80
Schweitzer, Quest, с. 65.
(обратно)
81
Там же, с. 75.
(обратно)
82
Там же, с. 84.
(обратно)
83
Там же, с. 80.
(обратно)
84
На английском языке труд Штрауса доступен в переводе, который выполнила с четвертого немецкого издания Джордж Элиот (Мэри Энн Эванс). См.: Peter Hodgson, «Editor’s Introduction», в кн.: David Friedrich Strauss, The Life of Jesus Critically Examined (trans. G. Eliot; LJS; Philadelphia: Fortress, 1972), xlvii – xlix.
(обратно)
85
Издание Вреде, которым я располагаю, носит более краткий заголовок «Мессианский секрет»: The Messianic Secret (trans. J. C. G. Greig; Cambridge: James Clarke, 1971).
(обратно)
86
См. также замечания Швейцера о Луке в издании: Quest, с. 522, прим. 5; а также в предисловии Денниса Найнхэма: Schweizer, Quest, с. xiii – xxxii, цит. с. xxi.
(обратно)
87
Schweitzer, Quest, с. 316.
(обратно)
88
Похоже, в литературе тема связи Мессии с Сыном Человеческим трактуется по-разному. См.: Matthew Black, «The Messianism of the Parables of Enoch», в кн.: The Messiah: Developments in Earliest Judaism and Christianity (ed. J. H. Charlesworth et al.; Minneapolis: Fortress, 1992), с. 145–168. См. там же содержательное вступление: Charlesworth, «From Messianology to Christology: Problems and Prospects», с. 3–35. Чарлзворт указывает на проблемы поиска связи между двумя этими титулами. Другие авторы поднимают вопрос о самой идее Мессии, показывая, что одного-единственного представления о Мессии просто не существовало. В статье: Richard Horsley, «‘Messianic’ Figures and Movements in First-Century Palestine», с. 276–295, сделан следующий вывод: у нас мало указаний на то, что во времена Иисуса существовали представления о «четко определенном» Мессии.
(обратно)
89
Примеры приведены по источнику: Schweitzer, Quest, с. 316–317.
(обратно)
90
Там же, с. 319.
(обратно)
91
Там же, с. 323.
(обратно)
92
Там же, с. 338.
(обратно)
93
Там же, с. 345.
(обратно)
94
Там же, с. 347.
(обратно)
95
Там же, с. 353.
(обратно)
96
Там же, с. 354.
(обратно)
97
Там же.
(обратно)
98
M. J. Borg, «An Appreciation of Albert Schweitzer», в кн.: Schweitzer, Quest, с. vii – ix. Эта же работа Борга приводится в полном английском издании книги Швейцера Geschichte der Leben Jesu, которое, по сути, представляет собой второе издание Von Reimarus zu Wrede, но заметно расширенное за счет многих добавок к оригинальным работам. И, разумеется, пришлось поменять заголовок, поскольку история доходила уже не до Вреде, но до 1913 года. Так подзаголовок книги 1906 года стал основным заголовком издания 1913 года.
(обратно)
99
Borg, «Appreciation», с. ix.
(обратно)
100
Schweitzer, Quest, с. 480.
(обратно)
101
См. также утверждение давнего друга Швейцера: «…ему [Швейцеру] никогда не приходило в голову, что можно перестать искать эту личность». Цит. по: Werner Picht, The Life and Thought of Albert Schweitzer (trans. Edward Fitzgerald; New York: Harper, 1964), с. 243. См. также слова Швейцера в предисловии к шестому изданию его труда, где он заявляет, что уже не будет ничего менять в своей работе и предоставляет другим внести «порядок в хаос, царящий ныне в жизнеописаниях Иисуса – иными словами, сделать то, что сделано мною для биографий, вышедших прежде» (Quest, с. xliii). Непохоже, чтобы он тут думал, будто благодаря его трудам уже нет необходимости в дальнейших исследованиях исторического Иисуса.
(обратно)
102
Albert Schweitzer, The Psychiatric Study of Jesus (trans. Charles R. Joy; Boston: Beacon, 1948). Главный аргумент Швейцера заключается в том, что Иисус, если его рассматривать в его собственном историческом контексте, был психически здоров.
(обратно)
103
Black, An Aramaic Approach to the Gospels and Acts (3rd ed.; Oxford: Oxford University Press, 1967; repr., Peabody, Mass.: Hendrickson, 1998). Первое издание появилось в 1946 году, второе – в 1954-м.
(обратно)
104
D. F. Moore, Jesus, an Emerging Jewish Mosaic: Jewish Perspectives, Post-Holocaust (JCTCRS 2; New York: T&T Clark, 2008). Публикуется с разрешения правообладателя: Continuum International Publishing Group, Inc.
(обратно)
105
J. D. G. Dunn, Jesus Remembered (CM 1; Grand Rapids: Eerdmans, 2003), с. 885.
(обратно)
106
G. Vermes, Jesus the Jew: A Historian’s Reading of the Gospels (1973; repr., Philadelphia: Fortress, 1981).
(обратно)
107
Dunn, Jesus Remembered, с. 88. Данн называет Вермеша «Иоанном Крестителем Третьего поиска». В своей рецензии на книгу Вермеша: G. Vermes, Changing Faces of Jesus (New York: Viking, 2001) Эд Пэриш Сандерс, соглашаясь с Данном, идет еще дальше и говорит: «В лице Гезы Вермеша Иисус обрел своего лучшего толкователя из иудеев» (E. P. Sanders, «In Quest of the Historical Jesus», The New York Review of Books 48, no. 18 [Nov. 15, 2001]: 8, http://www.nybooks.com/articles/14789, с. 8.
(обратно)
108
G. Vermes, Jesus in His Jewish Context (Minneapolis: Fortress, 2003), с. 1. Заметим, что данный текст призван заменить и обогатить предыдущую работу Вермеша: G. Vermes, Jesus and the World of Judaism (Philadelphia: Fortress, 1983). Чтобы лучше понять, что евреи думали об Иисусе до того, как появились нынешние благосклонные взгляды, см.: S. Sandmel, We Jews and You Christians: An Inquiry into Attitudes (New York: Lippincott, 1967), с. 66–67. Чтобы оценить «первоначальные преимущества иудейских спорщиков» с учетом исторического подхода к Иисусу, см.: E. Borowitz, Contemporary Christologies: A Jewish Response (New York: Paulist Press, 1981), с. 4.
(обратно)
109
D. Flusser, «Jesus and Judaism: Jewish Perspectives», в кн.: Eusebius, Christianity, and Judaism (ed. H. Attridge and G. Hata; StPB 42; Detroit: Wayne State University Press, 1992), с. 80–109, цит. с. 103.
(обратно)
110
Vermes, Jesus in His Jewish Context, с. 60.
(обратно)
111
Карл Бротен, вступление к книге: P. Lapide, The Resurrection of Jesus (trans. W. C. Linss; Minneapolis: Augsburg, 1983), с. 7.
(обратно)
112
R. E. Brown, Jesus, God and Man: Modern Biblical Reflections (New York: Macmillan, 1967), с. ix – x.
(обратно)
113
L. W. Hurtado, «A Taxonomy of Recent Historical-Jesus Work», в кн.: Whose Historical Jesus? (ed. W. E. Arnal and M. R. Desjardins; SCJ 7; Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 1997), с. 272–295, цит. с. 272–273.
(обратно)
114
S. Ben-Chorin, «The Image of Jesus in Modern Judaism», JES 11 (1974): 401–430, цит. с. 402.
(обратно)
115
P. Lapide and H. Kung, Brother or Lord? A Jew and a Christian Talk Together about Jesus (trans. E. Quinn; London: Fount, 1977), с. 21.
(обратно)
116
Там же, с. 44. О такой «беспрецедентной» возможности «учиться вместе» см. также: J. Neusner, Judaism in the Beginning of Christianity (Philadelphia: Fortress, 1984), с. 10–11.
(обратно)
117
См.: Hurtado, «Taxonomy», с. 279.
(обратно)
118
S. Sandmel, We Jews and Jesus (New York: Oxford University Press, 1965).
(обратно)
119
S. Sandmel, A Jewish Understanding of the New Testament (2nd ed.; London: SPCK, 1977).
(обратно)
120
S. Ben-Chorin, Bruder Jesus: Der Nazarener in jüdischer Sicht (Munich: List, 1967).
(обратно)
121
S. Ben-Chorin, Brother Jesus: The Nazarene through Jewish Eyes (trans. and ed. J. S. Klein and M. Reinhart; Athens: University of Georgia Press, 2001).
(обратно)
122
D. Flusser, Jesus in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten (Hamburg: Rowohlt, 1968); idem, R. S. Notley, Jesus (3rd ed.; Jerusalem: Magnes, 2001).
(обратно)
123
D. Flusser, Judaism and the Origins of Christianity (Jerusalem: Magnes, 1988).
(обратно)
124
G. Vermes, Jesus the Jew: A Historian’s Reading of the Gospels (London: Collins, 1973); idem, Jesus and the World of Judaism (Philadelphia: Fortress, 1983); idem, The Religion of Jesus the Jew (Minneapolis: Fortress, 1993).
(обратно)
125
G. Vermes, The Changing Faces of Jesus (New York: Viking, 2001); idem, The Authentic Gospel of Jesus (London: Allen Lane, 2003).
(обратно)
126
J. Neusner, A Rabbi Talks with Jesus: An Intermillennial, Interfaith Exchange (New York: Doubleday, 1993); idem, A Rabbi Talks with Jesus (2nd ed.; Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2000).
(обратно)
127
Сэндмел ведет долгую борьбу со своим все более подозрительным отношением к критике форм и разочарованием в ней из-за ее склонности к чрезмерной ясности и субъективизму. См.: Sandmel, The First Christian Century in Judaism and Christianity: Certainties and Uncertainties (New York: Oxford University Press, 1969), с. 143–158.
(обратно)
128
Sandmel, We Jews and Jesus, с. 121–122.
(обратно)
129
Там же, с. 112.
(обратно)
130
Flusser, Jesus, с. 33. Кроме того, Флуссер отмечает, что Лука не упоминает о профессии плотника, говоря об Иисусе или Иосифе. Еврейское использование слова naggar никак не связано с Евангелием от Луки. Достойно внимания то, что у Матфея Иисус представлен как сын плотника (Мф 13:55), и в этом может таиться неявный намек на то, что Иисус в первый сокровенный период своей жизни также занимался этим ремеслом. Хотя нельзя слишком многое строить на этом основании, метафорический подтекст слова «плотник» направляет ход наших мыслей. См. также: Vermes, Jesus the Jew, с. 21–22.
(обратно)
131
Vermes, Changing Faces of Jesus, с. 271.
(обратно)
132
Vermes, Jesus the Jew, с. 224–225.
(обратно)
133
Ben-Chorin, Brother Jesus, с. 10. Этим он отличается от Флуссера, который видел в Иисусе молодого талмудиста. Вермеш в этом плане не столь оптимистичен: да, он прославляет Иисуса как великого учителя, но не считает его знатоком иудейского закона.
(обратно)
134
Цит. по: Ben-Chorin, Brother Jesus, с. 73. См. также: Ben-Chorin, «Image of Jesus», с. 412.
(обратно)
135
P. Lapide, The Sermon on the Mount: Utopia or Program for Action? (trans. Arlene Swidler; Maryknoll, N. Y.: Orbis, 1986), с. 103–104.
(обратно)
136
P. Lapide, Israelis, Jews, and Jesus (trans. P. Heinegg; Garden City, N. Y.: Doubleday, 1979), с. 33. Образ этого пятого Иисуса – Иисуса-иудея – Лапид заимствовал у юного израильского поэта, имени которого он не называет. Слова, приписываемые этому безымянному поэту, приведены в книге: P. Lapide, Israelis, Jews, and Jesus, с. 33. Именно этот «пятый» Иисус был предметом исследования и реконструкции Лапида.
(обратно)
137
Lapide, Resurrection of Jesus, с. 144. Говоря о возникающем христианстве, он говорит: «Как событие воскресение Иисуса несет в себе неопределенность, но в истории последствий воскресения никакой неопределенности нет».
(обратно)
138
P. Lapide and U. Luz, Jesus in Two Perspectives: A Jewish-Christian Dialog (trans. L. W. Denef; Minneapolis: Augsburg, 1985), с. 54.
(обратно)
139
Neusner, Rabbi Talks with Jesus, 2nd ed., с. 22.
(обратно)
140
Там же, с. 10. Важно отметить, что Нойзнер относится к Иисусу как религиозный еврей, а не как ученый; он сам считает себя практикующим иудеем, который ведет диалог с учителем Торы. Тем самым он, оставаясь верным выбранной схеме, решает не ставить под вопрос историческую достоверность текста Матфея.
(обратно)
141
Borowitz, «Jesus the Jew in the Light of the Jewish-Christian Dialogue», Proceedings of the Center for Jewish-Christian Learning 2 (1987): 17.
(обратно)
142
Для ознакомления с различными критическими отзывами см.: Moore, Jesus, an Emerging Jewish Mosaic, с. 204–235.
(обратно)
143
J. Klausner, Jesus of Nazareth (trans. H. Danby; New York: Macmillan, 1925), с. 11.
(обратно)
144
Там же.
(обратно)
145
Lapide, Israelis, Jews, and Jesus, с. 8.
(обратно)
146
Там же.
(обратно)
147
S. Shalom, Galilean Journal (German ed., Heidelberg, 1954), цит. по: Lapide, Israelis, Jews, and Jesus, с. 9.
(обратно)
148
Кто или что есть исторический Иисус? См.: Dunn, Jesus Remembered, с. 126. «Исторический Иисус – это, строго говоря, конструкция XIX–XX веков, созданная на основе данных, предоставленных синоптической традицией, и это не Иисус прошлых эпох и не исторический образ, на основе которого мы могли бы реалистично критиковать то, как Иисус изображен в синоптической традиции». См. также: J. P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, vol. 1: The Roots of the Problem and the Person (New York: Doubleday, 1991), с. 21–31.
(обратно)
149
Meier, Marginal Jew, 1:25.
(обратно)
150
Dunn, Jesus Remembered, с. 125–126. См. также: Meier, Marginal Jew, 1:21–26; T. Merrigan, «The Historical Jesus in the Pluralist Theology of Religions», в кн.: The Myriad Christ: Plurality and the Quest for Unity in Contemporary Christology (ed. T. Merrigan and J. Haers; BETL 152; Leuven: Leuven University Press, 2000), с. 61–82, цит. с. 61–62. Данн указывает еще и на то, что «идеал исторической объективности, возникший в эпоху Просвещения, также способствовал появлению ложной цели в поиске исторического Иисуса», поскольку косвенно предполагал наличие «исторического Иисуса», объективно достоверного, «который будет отличаться и от Христа догматов, и от евангельского Иисуса – и даст нам право их критиковать» (Dunn, Jesus Remembered, с. 125).
(обратно)
151
См.: M. Kahler, The So-Called Historical Jesus and the Historic Biblical Christ (trans. and ed. C. E. Braaten; Philadelphia: Fortress, 1964).
(обратно)
152
Dunn, Jesus Remembered, с. 126–127.
(обратно)
153
Там же, с. 142. Данн признает ценность внешних источников как свидетельства о том, что Иисус реально существовал в истории – вопреки заверениям в том, будто его никогда не было.
(обратно)
154
О критике Вермеша со стороны Мейера см.: Meier, A Marginal Jew, vol. 2: Mentor, Message, and Miracles (New York: Doubleday, 1994), с. 6, также с. 14, прим. 7.
(обратно)
155
Любопытно, что Вермеш, Данн и Мейер – впрочем, именно как историки – единодушно верили в обоснованность поиска исторического Иисуса. Однако ни Мейер, ни Данн, несомненно, не одобряют того, что Вермеш использовал раввинистические тексты как источники для своего исследования, посвященного Иисусу. И ни тот, ни другой не пытались выявить подлинного Иисуса из текстов синоптиков – их интересовал лишь исторический Иисус, образ, воссозданный с помощью историко-критического исследования источников. Более того, Мейер «снимает шляпу» экзегета и «облачается в одежды» верующего, заявляя о том, что поиск исторического Иисуса есть благо для христианского богословия, и выделяет четыре аспекта этого блага. См.: Meier, Marginal Jew, 1:199.
(обратно)
156
В арамейском языке времен Иисуса, воссозданном нами, нет такого употребления, какое выводит из поздних раввинистических текстов Вермеш, стремясь поддержать свое утверждение.
(обратно)
157
E. P. Sanders, Jesus and Judaism (Philadelphia: Fortress, 1985).
(обратно)
158
J. H. Charlesworth, ed., Jesus’ Jewishness: Exploring the Place of Jesus in Early Judaism (New York: Crossroad, 1991).
(обратно)
159
N. T. Wright, Jesus and the Victory of God (COQG 2; Minneapolis: Fortress, 1990).
(обратно)
160
См.: Moore, Jesus, an Emerging Jewish Mosaic, с. 243–247. Nostra Aetate (1965), Bible et Christologie (1984), Dabru Emet (2000), Christianity in Jewish Terms (2000) указаны в числе прилагаемых документов.
(обратно)
161
Об этой «драматичной и беспрецедентной перемене» см.: Dabru Emet, A Jewish Statement on Christians and Christianity. Это заявление первоначально появилось как полностраничная реклама в газете New York Times, Sunday, Sept. 10, 2000, с. 23, New England edition. Текст доступен по ссылке: icjs.org/dabru-emet-text.
(обратно)
162
Vermes, Changing Faces of Jesus, с. 286.
(обратно)
163
Данная статья отражает информацию, в более развернутом виде представленную в книге: Stanley E. Porter, The Criteria for Authenticity in Historical-Jesus Research: Previous Discussion and New Proposals (JSNTSup 191; Sheffield: Sheffield Academic Press, 2000) и в нескольких статьях, таких как: «Luke 17.11–19 and the Criteria for Authenticity Revisited», JSHJ 1.2 (2003): 201–224; «Reading the Gospels and the Quest for the Historical Jesus», в кн.: Reading the Gospels Today (ed. Porter; MNTS; Grand Rapids: Eerdmans, 2004), с. 27–55; кроме того, в ряде аспектов эта статья расширяет и развивает идеи указанных работ.
(обратно)
164
Об историзме см.: D. Bebbington, Patterns in History: A Christian View (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1979), с. 92–116, особ. с. 92–94; ср. также: D. Banks, Writing the History of Israel (LHB/OTS 438; London: T&T Clark, 2006), ch. 2.
(обратно)
165
Историзм напрямую связан с лингвистическим релятивизмом, о чем говорили такие мыслители, как Гумбольдт; см.: W. von Humboldt, On Language: On the Diversity of Human Language Construction and Its Influence on the Mental Development of the Human Species (ed. M. Losonsky; trans. P. Heath; Cambridge: Cambridge University Press, 1999), а также вступление Кристофера Хаттона к немецкому оригиналу: W. von Humboldt, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues (repr., London: Routledge, 1995), c. v – xii. Кроме того, вопрос языка и культуры можно усмотреть за подъемом национал-социализма в Германии в XX веке.
(обратно)
166
См.: A. Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus: A Critical Study of Its Progress from Reimarus to Wrede (trans. W. Montgomery; New York: Macmillan, 1910; orig. 1906), с. 270–293, где прослеживается это развитие. Ср.: S. E. Porter, «A Dead End or a New Beginning? Examining Criteria for Authenticity in Historical Jesus Research in Light of Albert Schweitzer», в кн.: Jesus Research: An International Perspective (ed. J. H. Charlesworth and P. Pokorný; Grand Rapids: Eerdmans, 2009), с. 16–35.
(обратно)
167
См.: D. H. Fischer, Historians’ Fallacies: Toward a Logic of Historical Thought (New York: Harper & Row, 1970), с. 9–12.
(обратно)
168
G. Theissen and D. Winter, The Quest for the Plausible Jesus: The Question of Criteria (trans. M. E. Boring; Louisville: Westminster John Knox, 2002), с. 261–316.
(обратно)
169
S. McKnight, Jesus and His Death: Historiography, the Historical Jesus, and Atonement Theory (Waco, Tex.: Baylor University Press, 2005), с. 42–43.
(обратно)
170
J. D. G. Dunn, Jesus Remembered (CM 1; Grand Rapids: Eerdmans, 2003), с. 82, где цитируются, помимо прочих, и упомянутые авторы.
(обратно)
171
См.: N. Perrin, What Is Redaction Criticism? (GBS; Philadelphia: Fortress; 1970), с. 71; idem, Rediscovering the Teaching of Jesus (New York: Harper & Row, 1967), с. 39–43, 45–57. Брюс Чилтон указал на то, что критерий несходства, по мнению Перрина, помогает нам воссоздать историю преданий об Иисусе (см.: Perrin, Rediscovering the Teaching of Jesus, с. 15–49). Возникает законный вопрос: была ли проведена такая реконструкция и насколько она завершена? Я призываю обратить на него внимание, выбрав для решения непроторенные пути.
(обратно)
172
D. G. A. Calvert, «An Examination of the Criteria for Distinguishing the Authentic Words of Jesus», NTS 18 (1971–1972): 209–219; R. H. Stein, «The ‘Criteria’ for Authenticity», в кн.: Studies of History and Tradition in the Four Gospels (ed. R. T. France and D. Wenham; Gospel Perspectives 1; Sheffield: JSOT Press, 1980), с. 225–263; C. A. Evans, «Authenticity Criteria in Life of Jesus Research», CSR 19 (1989): 6–31; idem, Life of Jesus Research: An Annotated Bibliography (rev. ed.; NTTS 24; Leiden: Brill, 1996), с. 127–146; idem, Jesus and His Contemporaries: Comparative Studies (AGJU 25; Leiden: Brill, 1995), с. 13–26; J. P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus (4 vols. to date; ABRL; New York: Doubleday, 1991–2009), 1:167–195.
(обратно)
173
См.: Meier, Marginal Jew, 1:178–183.
(обратно)
174
См. также: E. Schillebeeckx, Jesus: An Experiment in Christology (trans. H. Hoskins; New York: Seabury, 1979), с. 88–100.
(обратно)
175
Meier, Marginal Jew, 1:168–177, 178–183.
(обратно)
176
Theissen and Winter, Quest for a Plausible Jesus, с. 172–211. Оценку их труда см. в издании: Porter, Criteria for Authenticity, с. 113–122; а также ниже в данной книге.
(обратно)
177
Porter, Criteria for Authenticity, с. 126–237; ср.: idem, «The Criterion of Greek Language and Its Context: A Further Response», JSHJ 4.1 (2006): 69–74.
(обратно)
178
Dunn, Jesus Remembered, с. 83.
(обратно)
179
История изучения вопроса о том, владел ли Иисус греческим, явно приводит нас к выводу, что он знал этот язык. Это подтверждают исследования последних лет. См., напр.: M. J. McClymond, Familiar Stranger: An Introduction to Jesus of Nazareth (Grand Rapids: Eerdmans, 2004), с. 51–52.
(обратно)
180
См.: B. F. Meyer, Critical Realism and the New Testament (Allison Park, Pa.: Pickwick, 1989); N. T. Wright, The New Testament and the People of God (COQG 1; Minneapolis: Fortress, 1992), с. 32–46; J. D. G. Dunn, Jesus Remembered, с. 110–111; McKnight, Jesus and His Death, с. 20–21.
(обратно)
181
McKnight, Jesus and His Death, с. 20.
(обратно)
182
M. Grant, Jesus: An Historian’s Review of the Gospels (New York: Scribner, 1977), с. 201–203.
(обратно)
183
При написании данного раздела я многим обязан источнику: Bebbington, Patterns, с. 1–20.
(обратно)
184
B. W. Jones and R. D. Milns, The Use of Documentary Evidence in the Study of Roman Imperial History (Sydney: Sydney University Press, 1984), c. xi.
(обратно)
185
C. P. T. Naudé, «An Aspect of Early Roman Historiography», Acta Classica 4 (1960): 53–64, особ. с. 54.
(обратно)
186
Fischer, Historians’ Fallacies, с. 4. См. также критику «зонтичной гипотезы» в работе: W. Dray, Laws and Explanation in History (Oxford: Oxford University Press, 1957).
(обратно)
187
См.: Banks, Writing the History of Israel, с. 205–218. Сказанное можно проиллюстрировать с помощью такого примера. Джеймс Чарлзворт относит «чудеса исцелений» Иисуса «в прямом смысле к bruta facta», иными словами, к необъяснимым деяниям Иисуса. Это заключение, на первый взгляд максималистское, основано на том, что все доступные нам источники единодушно говорят о таких исцелениях. В то же время некоторые исследователи, изучая источники, «предполагают, что какие-то их элементы “неизбежно” были придуманы» или же априори предполагают, что «события некоторого рода не могли произойти, особенно те, которые касаются чудес». Это минималистский вывод. См.: J. H. Charlesworth, «The Historical Jesus and Exegetical Theology», PSB 22 (2001): 45–63, особ. 49, 56–57; R. Wallace and W. Williams, The Acts of the Apostles: A Companion (London: Bristol Classics, 1993), с. 28.
(обратно)
188
R. Harris, The Linguistics of History (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004), с. 3–6.
(обратно)
189
См.: McKnight, Jesus and His Death, с. 20; Dunn, Jesus Remembered, с. 102–104.
(обратно)
190
См.: Harris, Linguistics of History, особ. с. 1–33. Книга Харриса – это содержательное исследование лингвистических проблем, связанных с созданием исторического нарратива, и аргументированное обоснование авторского подхода, названного интеграционистским. См. также: R. Harris, Introduction to Integrational Linguistics (Oxford: Pergamon, 1998).
(обратно)
191
Harris, Linguistics of History, с. 170.
(обратно)
192
См.: Porter, Criteria for Authenticity, с. 70–76.
(обратно)
193
Существует стандартное разделение поиска на три периода, но, хотя оно пользуется широкой популярностью, я полагаю, что оно неудачно описывает развитие поиска исторического Иисуса, о чем я еще расскажу в заключении. См.: Porter, Criteria for Authenticity, с. 28–62; W. P. Weaver, The Historical Jesus in the Twentieth Century, 1900–1950 (Harrisburg: Trinity Press International, 1999).
(обратно)
194
R. Bultmann, History of the Synoptic Tradition (trans. J. Marsh; 2nd ed.; Oxford: Blackwell, 1968), с. 205.
(обратно)
195
E. Käsemann, «The Problem of the Historical Jesus», в кн.: Essays on New Testament Themes (trans. W. J. Montague; SBT 1/41; London: SCM, 1964), с. 15–47, особ. с. 37.
(обратно)
196
Fischer, Historians’ Fallacies, с. 8, 34. Николас Томас Райт вводит критерий двойного правдоподобия, это попытка сделать шаг в противоположном направлении; см.: N. T. Wright, Jesus and the Victory of God (COQG 2; Minneapolis: Fortress, 1996), с. 131–133.
(обратно)
197
См.: Porter, Criteria for Authenticity, с. 79.
(обратно)
198
Общеизвестно, что трое основоположников расходились во мнениях, но результаты их трудов привели к возникновению критики форм. См.: K. L. Schmidt, Der Rahmen der Geschichte Jesu: Literarkritische Untersuchungen zur ältesten Jesusüberlieferung (Berlin: Trowitzsch, 1919); idem, «Formgeschichte», RGG (2nd ed.), 2:638–640; M. Dibelius, From Tradition to Gospel (trans. B. L. Woolf; London: Nicholson &Watson, 1934 [оригинал: 1919; 2-е изд.: 1933, издания по-прежнему выходят в печати]); Bultmann, History of the Synoptic Tradition.
(обратно)
199
Расцвет критики форм в Германии пришелся на период, предшествовавший Второй мировой войне, когда немецкий историзм с его представлениями о языке и культуре был неотъемлемой частью подъема национал-социализма. Об историзме см. выше.
(обратно)
200
Fischer, Historians’ Fallacies, с. 172–175.
(обратно)
201
E. P. Sanders, The Tendencies of the Synoptic Tradition (SNTSMS 9; Cambridge: Cambridge University Press, 1969). Сандерс указывает на многие недостатки прошлых исследований, основанных на критике форм. О недостатках склонности к обобщению см.: Fischer, Historians’ Fallacies, с. 104–130.
(обратно)
202
См.: Porter, Criteria for Authenticity, с. 79–82.
(обратно)
203
См. там же, с. 79–80, прим. 39.
(обратно)
204
M. D. Hooker, «Christology and Methodology», NTS 17 (1970): 480–487, особ. 482–483; idem, «On Using the Wrong Tool», Theology 75 (1972): 570–581, особ. 576–577.
(обратно)
205
См.: Porter, Criteria for Authenticity, с. 82–89.
(обратно)
206
Родоначальники данного подхода: F. C. Burkitt, The Gospel History and Its Transmission (Edinburgh: Clark, 1906; 3rd ed., 1911); C. H. Dodd, The Parables of the Kingdom (London: Nisbet, 1935), с. 26–29; idem, History and the Gospel (London: Nisbet, 1938), с. 91–102.
(обратно)
207
Напр.: A. N. Sherwin-White, Roman Society and Roman Law in the New Testament (Oxford: Clarendon, 1963), passim. Я благодарен Дэвиду Дангану, поставившему вопрос об отношениях библеистов и историков Античности. Исследования Нового Завета – это крайне сложная многосоставная дисциплина, и тут работы разных направлений обогащают одна другую: скажем, сюда внесли свой вклад историки и лингвисты, исследовавшие такие сложные темы, как историография и лингвистический метод.
(обратно)
208
Porter, Criteria for Authenticity, с. 89–99.
(обратно)
209
См.: S. E. Porter, «The Greek Language of the New Testament», в кн.: Handbook to Exegesis of the New Testament (ed. Porter; NTTS 25; Leiden: Brill, 1997), с. 99–130, особ. с. 124–129; ср.: Harris, Linguistics of History, особ. с. 160–167. Гипотеза Сепира-Уорфа связана с ранними мыслями Гумбольдта и его школы.
(обратно)
210
Fischer, Historians’ Fallacies, с. 8–12. Мне кажется, на протяжении XX столетия использование этого критерия сильно изменилось. Несомненно, это отчасти объясняется тем, что важнейшие сторонники гипотезы греческого койне достаточно быстро сошли со сцены (Albert Thumb, 1915; James Hope Moulton, 1917; Adolf Deissmann, 1937; см.: M. Reiser, Syntax und Stil des Markusevangeliums im Licht der hellenistischen Volksliteratur [WUNT 2/11; Tübingen: Mohr Siebeck, 1984], с. 2). В результате на протяжении всего XX века, почти до самого его конца, важные эллинистические свидетельства просто не принимались во внимание.
(обратно)
211
См.: Porter, Criteria for Authenticity, ch. 4.
(обратно)
212
К концу XX века на защиту этого критерия встали трое ученых: во-первых, Морис Кейси, который попытался дать обратный перевод некоторых евангельских отрывков на арамейский (Maurice Casey, Aramaic Sources of Mark’s Gospel [SNTSMS 102; Cambridge: Cambridge University Press, 1998]); во-вторых, Брюс Чилтон, обратившийся к таргумам для создания речевой и тематической когерентности (возможно, лучше все-таки говорить о когезии) (Bruce Chilton, A Galilean Rabbi and His Bible: Jesus’ Use of the Interpreted Scripture of His Time [GNS 8; Wilmington, Del.: Glazier, 1984]); и, наконец, это Крэйг Эванс с его попыткой достичь когерентности в экзегезе (напр.: Craig Evans, «Introduction: An Aramaic Approach Thirty Years Later», в кн.: M. Black, An Aramaic Approach to the Gospels and Acts [Oxford: Clarendon; repr., Peabody, Mass.: Hendrickson, 1998], c. v – xxv, особ. с. xii – xiii, xv – xvii). Однако даже Чилтон не считает, будто эти изменения исправляют ошибки данного критерия, поскольку закономерности, найденные в ходе исследований, могли быть частью традиции почитания Иисуса как Господа (Galilean Rabbi, с. 70).
(обратно)
213
См.: Porter, Criteria for Authenticity, с. 106–110.
(обратно)
214
Käsemann, «Problem of the Historical Jesus», с. 37; ср.: P. W. Schmiedel, «Gospels», в кн.: Encyclopaedia Biblica (ed. T. K. Cheyne and J. S. Black; 4 vols.; London: A&C Black, 1899–1907), 2:1761–1898, особ. 1881–1883.
(обратно)
215
См.: Porter, Criteria for Authenticity, с. 110–112.
(обратно)
216
Напр.: Meier, Marginal Jew, 1:177; Evans, Jesus and His Contemporaries, с. 13–15.
(обратно)
217
См.: Porter, Criteria for Authenticity, с. 116–124.
(обратно)
218
См., в частности: Theissen and Winter, Quest for the Plausible Jesus, с. 172–211.
(обратно)
219
Поскольку очерк адресован тем, кто не знаком с археологией Галилеи ни на практике, ни в теории, он не является подробным отчетом о публикациях последних лет.
(обратно)
220
Джеймс Чарлзворт подготовил черновик статьи и десять вопросов; Мордехай Авиам предоставил археологический материал и топографическую информацию, а после Чарлзворт довел до совершенства итоговую версию. Такая работа в команде – прекрасный способ улучшить исследование.
(обратно)
221
См. особ.: J. H. Charlesworth, «Jesus Research and Near Eastern Archaeology: Reflections on Recent Developments», в кн.: Neotestamentica et Philonica: Studies in Honor of Peder Borgen (ed. D. E. Aune et al.; NovTSup 106; Leiden: Brill, 2003), с. 37–70; и три статьи в кн.: Jesus and Archaeology (ed. J. H. Charlesworth; Grand Rapids: Eerdmans, 2006): «The Historical Jesus and Biblical Archaeology: Questions», c. xxii – xxv; «Jesus Research and Archaeology: A New Perspective», с. 11–63; «The Historical Jesus and Biblical Archaeology: Reflections on New Methodologies and Perspectives», с. 692–695.
(обратно)
222
См. особ.: M. Aviam, «Yodefat: The Excavation of a Galilean Jewish Town from the Second Temple Period and the Second Revolt», Qad 118 (2000): 92–101 [Hebrew]; idem, «The Galilee: The Hellenistic to Byzantine Periods», NEAEHL 2:453–458; idem, Peter Richardson, «Appendix A: Josephus’ Galilee in Archaeological Perspective», в кн.: Flavius Josephus: Translation and Commentary, vol. 9: Life of Josephus (ed. S. Mason; 10 vols.; Leiden: Brill, 2001), с. 177–209; Aviam, «First-Century Jewish Galilee: An Archaeological Perspective», в кн.: Religion and Society in Roman Palestine: Old Questions, New Approaches (ed. D. R. Edwards; New York: Routledge, 2004), с. 7–27; idem, Jews, Pagans, and Christians in the Galilee (LG 1; Rochester, N. Y.: University of Rochester Press, 2004).
(обратно)
223
Этот метод превосходно продемонстрирован в кн.: U. Leibner, Settlement and History in Hellenistic, Roman, and Byzantine Galilee: An Archaeological Survey of the Eastern Galilee (TSAJ 127; Tübingen: Mohr Siebeck, 2009). Книга содержит и ценную библиографию, с. 429–453.
(обратно)
224
Среди недавних примеров методологически сложной работы в Галилее следует назвать исследование Джонатана Рида, основанное на исторической демографии: Jonathan L. Reed, «Instability in Jesus’ Galilee: A Demographic Perspective», JBL 129 (2010): 343–365.
(обратно)
225
См. изображение в кн.: Charlesworth, The Millennium Guide for Pilgrims to the Holy Land (North Richland Hills, Tex.: BIBAL, 2000) с. 204.
(обратно)
226
C. L. Meyers, E. M. Meyers, «Sepphoris», OEANE 4:527–536, цит. с. 530.
(обратно)
227
J. F. Strange, «Sepphoris», ABD 5:1090–1093, цит. с. 1091. См. также: Strange, «Six Campaigns at Sepphoris: The University of South Florida Excavations, 1983–1989», в кн.: The Galilee in Late Antiquity (ed. L. I. Levine; New York: Jewish Theological Seminary of America, 1992), с. 339–355.
(обратно)
228
См.: M. H. Jensen, Herod Antipas in Galilee (WUNT 2/215; Tьbingen: Mohr Siebeck, 2006).
(обратно)
229
См.: Batey, «Did Antipas Build the Sepphoris Theater?», в кн.: Jesus and Archaeology, ed. Charlesworth, с. 111–119. Бэйти подчеркивает именно этот вариант датировки в своем популярном труде: Batey, Richard A. Jesus and the Forgotten City (Grand Rapids: Baker, 1991), с. 93–100.
(обратно)
230
См.: G. Mazor, W. Atrash, Nisa Scythopolis: The Theater, Final Report (Bet Shean III), 2007.
(обратно)
231
Ирод Великий был не только искусным строителем, но и талантливым архитектором, и внес немалый вклад в грандиозные по масштабам строительные проекты. См.: E. Netzer, The Architecture of Herod, the Great Builder (TSAJ 117; Tübingen: Mohr Siebeck, 2006; repr., Grand Rapids: Baker Academic, 2008).
(обратно)
232
Мортен Йенсен (Jensen, Herod Antipas) анализирует то, как правление Ирода Антипы повлияло на Галилею в социальном и экономическом плане, и приходит к выводу о том, что это влияние не было столь значительным, как полагали ученые, исследующие жизнь Иисуса.
(обратно)
233
См.: в особенности: E. M. Meyers, A. T. Kraabel, and J. F. Strange, Ancient Synagogue Excavations at Khirbet Shema, Upper Galilee, Israel 1970–1972 (AASOR 42; Durham, N. C.: Duke University Press, 1976).
(обратно)
234
J. Magness, «Synagogue Typology and Earthquake Chronology at Khirbet Shema’, Israel», JFA 24.2 (1997): 211–220; idem, «The Question of the Synagogue: The Problem of Typology», в кн.: Judaism in Late Antiquity, part 3: Where We Stand: Issues and Debates in Ancient Judaism, vol. 4: The Special Problem of the Synagogue (ed. A. J. Avery-Peck and J. Neusner; HO 1/55.3.4; Leiden: Brill, 2001), с. 1–48.
(обратно)
235
Галилейская грубая керамика (Galilean Coarse Ware, GCW) – особый тип керамики, свидетельствующий об эллинистической, «языческой», оккупации территории Галилеи до 63 г. до н. э., когда Помпей и Рим начали менять образ жизни Древней Палестины.
(обратно)
236
См.: Aviam, «The Hasmonean Dynasty’s Activities in the Galilee», в Jews, Pagans, and Christians, с. 41–50. См. также: Leibner, Settlement and History, особ. с. 329.
(обратно)
237
См.: Leibner, Settlement and History, с. 315–328.
(обратно)
238
См.: прекрасные статьи в сборнике: The Great Revolt in the Galilee (ed. O. Guri-Rimon; Haifa: Hecht Museum and the University of Haifa, 2008 [иврит]). В особенности обратите внимание на вид Йодфата с высоты птичьего полета на с. 38.
(обратно)
239
M. Aviam, «Some Notes on the Roman Temple at Qedesh», в кн.: Jews, Pagans, and Christians, с. 139–146.
(обратно)
240
См.: J. Magness, «Some Observations on the Roman Temple at Qedesh», IEJ 40 (1990): 173–181.
(обратно)
241
Т. Шеб 4:11, м. Эр 9:6.
(обратно)
242
Кристфрид Бёттрих убежден, что История Мелхиседека могла быть еврейским псевдэпиграфом I в. Он обсудил это с Чарлзвортом и готовит свое исследование к публикации. В этом псевдэпиграфе Мелхиседек связан с горой Фавор. Также в таргумах Фавор переводится как tōr ram, «высокая гора» (ср.: F. Manns, «Mount Tabor», в кн.: Jesus and Archaeology, ed. Charlesworth, с. 167–177, цит. с. 172).
(обратно)
243
См.: M. Aviam, «Tabor, Mount», OEANE 5:152.
(обратно)
244
На большом камне, недавно найденном в синагоге в Магдале, имеются изображения, свидетельствующие о связи поселения с Иудеей и особенно с Храмом.
(обратно)
245
Доказательства еще не опубликованы полностью.
(обратно)
246
Бесцеремонное отношение к итуреям и предположение, согласно которому они принадлежали к одной из арабских племенных групп, известных своим разбоем и бандитскими выходками, успешно оспорены Мейерсом: E. A. Myers, The Ituraeans and the Roman Near East: Reassessing the Sources (SNTSMS 147; Cambridge: Cambridge University Press, 2010).
(обратно)
247
См.: Aviam, «The Hellenistic and Hasmonaean Fortress and Herodian Siege Complex at Qeren Naftali», в кн.: Jews, Pagans, and Christians, с. 59–88.
(обратно)
248
См.: Charlesworth, «Can We Discern the Composition Date of the Parables of Enoch?» в кн.: Enoch and the Messiah Son of Man: Revisiting the Book of Parables (ed. G. Boccaccini; Grand Rapids: Eerdmans, 2007), с. 450–468.
(обратно)
249
См.: Aviam, «Two Roman Roads in the Galilee», в кн.: Jews, Pagans, and Christians, с. 133–138.
(обратно)
250
См. там же.
(обратно)
251
См. особ.: Aviam and Richardson, «Appendix A: Josephus’s Galilee».
(обратно)
252
Одна из интереснейших особенностей работы Кроссана и Рида (J. D. Crossan and J. L. Reed, Excavating Jesus: Beneath the Stones, Behind the Texts, San Francisco: HarperSanFrancisco, 2001) – разработка гипотезы, согласно которой система налогообложения, возникшая в результате строительства Тивериады, могла повлиять на жизнь и служение Иисуса.
(обратно)
253
Мы в долгу перед Ицхаром Хиршфельдом за множество бесед и визитов в современную Тверию (так теперь называется древняя Тивериада). Многие из его догадок относительно Тивериады времен Антипы подтвердились. См. особ.: Y. Hirschfeld, «Tiberias – Preview of Coming Attractions», BAR 17.2 (1991): 44–51.
(обратно)
254
См.: Leibner, «Migdal/el-Mejdel», в кн.: Settlement and History, с. 214–237.
(обратно)
255
См. особ. следующие греческие манускрипты: Θ IX века и D. V века. Обратите внимание и на то, что mgdn, «Магадан» (скорее всего, Мигдаль) упоминается в Синайском кодексе IV века, самой важной версии древних сирийских Евангелий (в Пешитте – «Далмануфа»). См. также: E. J. Wilson, The Old Syriac Gospels: Studies and Comparative Translations, vol. 1: Matthew and Mark (2nd ed.; Eastern Christian Studies 1; Piscataway, N. J.: Gorgias, 2003), с. 312–313.
(обратно)
256
См.: Aviam, «Magdala», OEANE 3:399–400.
(обратно)
257
Мы исключили из описания Гамлу, поскольку это в строгом смысле слова не Галилея. Гамла – город I в. н. э. Он стоит на Голанских высотах, на холме, похожем на верблюжий горб (отсюда название). Жители Гамлы защищали границу Галилеи с востока. Лишь здесь могли найти поддержку зелоты, Гамла была их родным городом, и потому из четырех городов Веспасиан и Тит в 67 г. уничтожили только ее одну. Можно увидеть останки восточной башни, разрушенной во время осады. Как и в Йодфате, стены этого города были вызовом имперской мощи Рима. Некоторые римские предводители полагали, что возведение таких стен, как в Йодфате – это вызов Риму или даже открытое противостояние.
(обратно)
258
Группа в «Институте библейских исследований» (Institute for Biblical Research, IBR), более десяти лет занимается исследованиями основных событий в жизни Иисуса. Они совершенно справедливо установили, что его учение необходимо понимать лишь в контексте культуры и мировоззрения иудаизма эпохи Второго Храма и повсеместной веры в скорейшее наступление Царства Божьего. См.: D. L. Bock, «Key Events in the Life of the Historical Jesus: A Summary», в кн.: Key Events in the Life of the Historical Jesus: A Collaborative Exploration of Context and Coherence (ed. D. L. Bock and R. L. Webb; WUNT 247; Tübingen: Mohr Siebeck, 2009), с. 825–853.
(обратно)
259
B. L. Mack, A Myth of Innocence: Mark and Christian Origins (Philadelphia: Fortress, 1988).
(обратно)
260
Церемония возлияния воды проводилась во время еврейского праздника Суккот. – Прим. пер.
(обратно)
261
Озимандия – греческое имя египетского фараона Рамсеса II. Перевод сонета на русский язык К. Бальмонта. – Прим. пер.
(обратно)
262
Уже много десятков лет мы знаем о синагогах, построенных до 67 г. н. э. в Иудее и Галилее (если определять границы Галилеи по Флавию) в Масаде, Иродионе и Гамле. См.: Charlesworth, Jesus within Judaism: New Light from Exciting Archaeological Discoveries (ABRL; New York: Doubleday, 1988), карта III и с. 103–130, особ. с. 108–109. Сейчас у нас есть доказательства существования синагог в Модиине, Кирьят-Сефере и, возможно, в Иерихоне. Более подробное (но устаревшее) исследование древних синагог: L. I. Levine, The Ancient Synagogue: The First Thousand Years (2nd ed.; New Haven: Yale University Press, 2005).
(обратно)
263
См., напр.: Aviam and W. S. Green, «The Ancient Synagogue: Public Space in Judaism», в кн.: Judaism from Moses to Muhammad: An Interpretation (ed. J. Neusner, Green, and A. J. Avery-Peck; BRLJ 23; Leiden: Brill, 2005), с. 183–200.
(обратно)
264
См. особ.: C. Claussen, Versammlung, Gemeinde, Synagoge (SUNT 27; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2002). См. также: B. Olsson and M. Zetterholm, eds., The Ancient Synagogue from Its Origins until 20 °C.Е. (ConBNT 39; Stockholm: Almqvist &Wiksell International, 2003); Levine, Ancient Synagogue.
(обратно)
265
См. особ.: J. S. Kloppenborg, «The Theodotus Synagogue Inscription and the Problem of First-Century Synagogue Buildings», в кн.: Jesus and Archaeology, ed. Charlesworth, с. 236–282.
(обратно)
266
Мы убеждены, что здание, которое францисканцы провозгласили синагогой, с большей степенью вероятности является общественной уборной, поскольку ряд архитектурных черт сближает ее с уборными в Бейт-Шеане.
(обратно)
267
Авторы благодарят минорита Стефано де Луку за предоставленную возможность посетить Магдалу летом 2006 года, после того как территория была очищена, а пальмы выкорчеваны. См. также: Charlesworth, «Migdala», в кн.: Millennium Guide, с. 166–169.
(обратно)
268
Дина Авшалом-Горни показала Чарлзворту ее раскопки в Магдале. См. предварительные публикации «Проекта Магдала» на http://www.magdalaproject.org/WP/: «Archaeology and Historical Jesus», «Ancient Ports of Galilee», «Joseph Ben Matthias», «Magdala: Discovered a Synagogue from the Time of Jesus», «IAA-Meqorot 2006 Excavation at Migdal: Preliminary Report», «The Galilean Fishing Economy and the Jesus Tradition», «Magdala Home of Mary Magdalene», «One of the Oldest Synagogues in the World Was Exposed in the IAA Excavation at Magdala», «Urban Development of the City of Magdala/Tarichaeae in the Light of the New Excavations: Remains, Problems and Perspectives», «Earliest Known Depiction of Second Temple Lamp Uncovered».
(обратно)
269
Чарлзворт ответственен за иконографию, а Авиам – за представление о том, что камень служил подставкой дли чтения Торы.
(обратно)
270
См.: Charlesworth, «Capernaum», в кн.: Millennium Guide, с. 70–74.
(обратно)
271
Информацию об этой и других недавно найденных монетах опубликует Стефано де Лука. Мы благодарны ему за разрешение упомянуть датировку монет, которая позволяет точно определить время постройки мраморной синагоги.
(обратно)
272
Все карты подготовлены Авиамом; см.: М. Aviam, «Yodefat: A Case Study in the Development of the Jewish Settlement in Galilee during the Second Temple Period» [иврит] (докторская диссертация, защищенная в Университете Бар Илана в 2005).
(обратно)
273
См.: Aviam, Jews, Pagans, and Christians, с. 277.
(обратно)
274
В особенности см. комментарии Ричардсона: P. Richardson, «Khirbet Qana (and Other Villages) as a Context for Jesus», Jesus and Archaeology, ed. Charlesworth, с. 120–144, здесь с. 128.
(обратно)
275
См.: Aviam, «Kapernaum: A Jewish or Christian Village?» в Book of the Kinnereth [иврит] (ed. M. Gophen and Y. Gal; Tel Aviv, 1992), с. 278–286.
(обратно)
276
См.: J. A. Overman, J. Olive, and M. Nelson, «Discovering Herod’s Shrine to Augustus», BAR 29.2 (2003): 41–49, 67.
(обратно)
277
См.: Charlesworth, «Capernaum», Millennium Guide, с. 70–74.
(обратно)
278
Фотографию «дома Петра» см. в кн.: Charlesworth, Millennium Guide, с. 75.
(обратно)
279
Чарлзворт благодарит францисканцев, предоставивших ему цифровые изображения надписей для изучения и публикации. Некоторые из них на сирийском.
(обратно)
280
J. D. Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: Harper San Francisco, 1991), с. xxix.
(обратно)
281
Gerhard E. Lenski, Power and Privilege: A Theory of Social Stratification (New York: McGraw-Hill, 1966).
(обратно)
282
Роберт Брюс Хитчнер отмечает высокий уровень экономического роста, который начался в период правления Октавиана Августа и продолжался в течение двух столетий: «…сложилась большая часть благоприятных факторов – а возможно, даже и все предпосылки, – для реального экономического роста, который происходил в Римской империи с конца I в. до н. э. до начала III в. н. э. («The Advantages of Wealth and Luxury», The Ancient Economy [ed. J. G. Manning and I. Morris; Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2005], с. 207–242, цит. с. 207).
(обратно)
283
Джон Доминик Кроссан – один из немногих современных исследователей Нового Завета, который ныне признает, что «должен читать» публикации археологов. Доводы в защиту его взглядов, а также определение «крестьянина», приводятся в издании: J. D. Crossan, «The Relationship Between Galilean Archaeology and Historical Jesus Research», The Archaeology of Difference: Gender, Ethnicity, Class and the «Other» in Antiquity: Studies in Honor of Eric M. Meyers (ed. D. R. Edwards and C. T. McCollough; AASOR 60–61; Boston: ASOR, 2007), с. 151–161, особенно с. 154.
(обратно)
284
См.: Leibner, Settlement and History, с. 319.
(обратно)
285
См. снимок каменной башни, части виноградника и каменные террасы раннеримского периода, обнаруженные при раскопках в Назарете, в кн.: Charlesworth, Millennium Guide, с. 188–191. Джеймс Стрэндж предполагает, что под церковью в Назарете находится «цистерна» довизантийской эпохи, но это не винный чан, а ритуальная ванна, поскольку чану не требуются ступени, а мозаику могли добавить позже. См.: Strange, «Archaeological Evidence of Jewish Believers?», в кн.: Jewish Believers in Jesus: The Early Centuries (ed. O. Skarsaune and R. Hvalvik; Peabody, Mass.: Hendrickson, 2007), с. 710–741, цит. с. 726.
(обратно)
286
См. особ.: Leibner, Settlement and History, с. 345–351. См. также: A. Oppenheimer, «The Rehabilitation of the Jewish Settlement in Galilee», Eretz-Israel from the Destruction of the Second Temple to the Muslim Conquest, vol. 1: Political, Social, and Cultural History [на иврите] (ed. Z. Baras et al.; Jerusalem: Ha-Merkaz, 1982), с. 75–93.
(обратно)
287
J. P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, vol. 1: Origins of the Problem and the Person (ABRL; New York: Doubleday, 1991), с. 56.
(обратно)
288
См. также вопросы для дальнейшего изучения, приведенные Чарлзвортом в кн.: Jesus and Archaeology, с. xxiv.
(обратно)
289
См.: Charlesworth, «Bethsaida», Millennium Guide, с. 54–56; Charlesworth, «Tzer, Bethsaida, and Julias», Bethsaida (ed. R. Arav and R. A. Freund; Bethsaida Excavations Project 3; Kirksville, Mo.: Truman State University Press, 2004), с. xi – xiii.
(обратно)
290
См. описание «комплекса укрытий» в Йодфате, сделанное Авиамом, в кн.: Guri-Rimon, ed., Great Revolt in the Galilee, с. 45.
(обратно)
291
Мы с нетерпением ждем публикации доказательства того, что эти данные надежны.
(обратно)
292
Вероятно, именно Авиам первым понял, что останки здания когда-то были синагогой. Цистерну, которая датируется, вероятно, I в. н. э., скрыли под полом синагоги – но через двести лет. И хотя Эдвардс датировал синагогу по штукатурке, вероятно, для датировки более важны архитектурные особенности и фрагменты, а они появились после II в. н. э. Поэтому мы не принимаем во внимание синагогу в Хирбет-Кане при воссоздании мира Иисуса или Иосифа Флавия.
(обратно)
293
См. особ. статьи в кн.: Hillel and Jesus: Comparisons of Two Major Religious Leaders (ed. J. H. Charlesworth and L. L. Johns; Minneapolis: Fortress, 1997).
(обратно)
294
Эту точку зрения разделяет большинство специалистов по Книгам Еноха.
(обратно)
295
См. также: Meier, «Palestine in the Time of Jesus», карта в кн.: Marginal Jew, vol. 4: Law and Love (ABRL; New Haven: Yale University Press, 2009), с. 664.
(обратно)
296
E. Regev, «Ritual Baths of Jewish Groups and Sects in the Second Temple Period» [иврит], Cathedra 79 (1996): 3–21.
(обратно)
297
В Назарете найдены фундаменты, предшествующие 70 г. н. э. Возможно, в юности Иисус видел эти стены и заходил в эти здания: он жил здесь двадцать с лишним лет. См. обзор новостей Израильского управления древностями от 8 февраля 2010 г. Мы посетили раскопки и были поражены обилием найденной керамики эпохи Иродиадов. Дома довольно бедные, детство и юность Иисуса проходили среди простого народа Нижней Галилеи. Раскопки в Назарете ведет Ярдена Александер.
(обратно)
298
Более того, Евангелия клеймятся как «неисторические», а Первая книга Маккавейская, напротив, получает статус исторического труда; впрочем, Дорон Мендельс справедливо отмечает, что Первая и Вторая книги Маккавейские – это «идеологические произведения». См.: D. Mendels, «Memory and Memories: The Attitude of 1–2 Maccabees toward Hellenization and Hellenism», Jewish Identities in Antiquity: Studies in Memory of Menahem Stern (ed. L. I. Levine and D. R. Schwartz; TSAJ 130; Tübingen: Mohr Siebeck, 2009), с. 41–54.
(обратно)
299
См. особ.: Charlesworth, «The Historical Jesus in the Fourth Gospel: A Paradigm Shift?» JSHJ 8 (2010): 3–26.
(обратно)
300
В данном списке представлены важнейшие публикации на эту тему с начала нового тысячелетия: J. Zangenberg, H. W. Attridge, and D. B. Martin, eds., Religions, Ethnicity and Identity in Ancient Galilee (WUNT 210; Tübingen: Mohr Siebeck, 2007); J. H. Charlesworth, ed., Jesus and Archaeology (Grand Rapids: Eerdmans, 2006); M. A. Chancey, Greco-Roman Culture and the Galilee of Jesus (SNTSMS 134; Cambridge: Cambridge University Press, 2005); M. H. Jensen, Herod Antipas (WUNT 2/215; Tübingen: Mohr Siebeck, 2006); M. Aviam, Jews, Pagans, and Christians in Galilee (LG 1; Rochester, N. Y.: University of Rochester Press, 2004); R. Frankel et al., Settlement Dynamics and Regional Diversity in Ancient Upper Galilee (IAA Reports 14; Jerusalem: Israel Antiquities Authority, 2001). Из недавних исследований: S. Freyne, «Galilee, Jesus and Archaeology», ExpTim 119 (2008): 573–581.
(обратно)
301
E. M. Meyers, J. F. Strange, and D. E. Groh, «The Meiron Excavation Project: Archaeological Survey in Galilee and Golan, 1976», BASOR 230 (1978): 1–24; E. M. Meyers and J. F. Strange, Archaeology, the Rabbis, and Early Christianity (London: SCM, 1981).
(обратно)
302
M. A. Chancey, The Myth of a Gentile Galilee (SNTSMS 118; Cambridge: Cambridge University Press, 2002), с. 69–83; Jensen, Herod Antipas, с. 149–160; J. H. Charlesworth, «Jesus and Archaeology: A New Perspective», Jesus and Archaeology, ed. Charlesworth, с. 11–63, особ. с. 51–55.
(обратно)
303
E. M. Meyers, «Sepphoris: City of Peace», The First Jewish Revolt: Archaeology, History, and Ideology (ed. A. Berlin and J. A. Overman; London: Routledge, 2002), с. 110–120; R. Batey, Jesus and the Forgotten City: New Light on Sepphoris and the Urban Culture of Galilee (Grand Rapids: Baker, 1991); S. Freyne, «Jesus and the Urban Culture of Galilee», Galilee and Gospel: Collected Essays (WUNT 125; Tübingen: Mohr Siebeck, 2000), с. 183–207.
(обратно)
304
R. A. Horsley, Archaeology, History, and Society in Galilee: The Social Context of Jesus and the Rabbis (Valley Forge, Pa.: Trinity Press International, 1996); M. Sawicki, Crossing Galilee: Architectures in Contact in the Occupied Land of Jesus (Harrisburg: Trinity Press International, 2000).
(обратно)
305
S. Freyne, «Town and Country Once More: The Case of Roman Galilee», Archaeology and the Galilee: Texts and Contexts in the Greco-Roman and Byzantine Periods (ed. D. R. Edwards and C. T. McCollough; SFSHJ 143; Atlanta: Scholars Press, 1997), с. 49–56.
(обратно)
306
A. Berlin, Gamla I: The Pottery of the Second Temple Period (IAA Reports 29; Jerusalem: Israel Antiquities Authority, 2006); A. Segal and M. Eisenberg, «The Spade Hits Sussita», BAR 32.3 (2006): 40–51, 78.
(обратно)
307
D. A. Bayewitz and I. Perlman, «The Local Trade of Sepphoris in the Roman Period», IEJ 40 (1990): 153–172; D. A. Bayewitz and M. Aviam, «Iotapata, Josephus and the Siege of 67: Preliminary Report», JRA 10 (1997): 131–165; D. Edwards, «Khirbet Qana: From Jewish Village to Christian Pilgrim Site», The Roman and Byzantine Near East (ed. J. H. Humphrey; 3 vols.; JRASS 14, 31, 49; Ann Arbor, Mich., and Portsmouth, R. I.: Journal of Roman Archaeology, 1995–2002), 3:101–132.
(обратно)
308
F. G. Downing, «In Quest of First-Century С. Е. Galilee», CBQ 66 (2004): 78–97, цит. с. 81.
(обратно)
309
Там же, с. 84.
(обратно)
310
J. L. Reed, Archaeology and the Historical Jesus: A Re-examination of the Evidence (Harrisburg: Trinity Press International, 2002), с. 23–61.
(обратно)
311
M. Aviam, «The Beginning of Mass Production of Olive Oil in the Galilee», M. Aviam, «Viticulture and Olive Growing in Ancient Upper Galilee», Jews, Pagans, and Christians, с. 51–59, 170–180; M. Nun, Ancient Anchorages and Harbours around the Sea of Galilee (Kibbuz Ein Gev: Kinnereth Sailing, 1988).
(обратно)
312
R. T. Fortna and T. Thatcher, eds., Jesus in Johannine Tradition (Louisville: Westminster John Knox, 2001); P. N. Anderson, F. Just, S. J., and T. Thatcher, eds., John, Jesus, and History, vol. 1: Critical Appraisals of Critical Views (SBLSymS 44; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2007); vol. 2: Aspects of Historicity in the Fourth Gospel (SBLECL 2; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2009).
(обратно)
313
M. Hengel, Die johanneische Frage: Ein Lösungsversuch (WUNT 67; Tübingen: Mohr Siebeck, 1996).
(обратно)
314
N. Avigad, «Jerusalem: The Second Temple Period», NEAEHL 2:717–735, особ. 732–735.
(обратно)
315
S. Gibson, «The Pool of Bethesda in Jerusalem and Jewish Purification Practices of the Second Temple Period», POC 55 (2005): 270–293; U. C. von Wahlde, «The Importance of the New Discoveries for Our Understanding of Ritual Immersion in Late Second Temple Judaism and the Gospel of John», John, Jesus, and History, ed. Anderson, Just, and Thatcher, 2:155–174.
(обратно)
316
Y. Magen, D. Ariel, G. Bijovsky, Y. Tzionit, and O. Sirkis, The Land of Benjamin (JPS 3; Jerusalem: Israel Antiquities Authority, 2004).
(обратно)
317
S. Freyne, «Galileans, Phoenicians and Ituraeans: A Study of Regional Contrasts in the Hellenistic Age», Hellenism in the Land of Israel (ed. J. J. Collins and G. E. Sterling; CJA 13; Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2001), с. 184–217.
(обратно)
318
J. Ratzinger, Jesus of Nazareth (trans. A. J. Walker; New York: Doubleday, 2007), с. 218–238; M. Hengel and A. M. Schwemer, Jesus und das Judentum (GfC 1; Tübingen: Mohr Siebeck, 2007), с. 237–240. Ср.: S. Freyne, «Jesus and the Galilean Am ha-‘Arets: Fact, Johannine Irony or Both?» John, Jesus, and History, ed. Anderson, Just, and Thatcher, 2:139–154.
(обратно)
319
Tout court (фр.) – просто-напросто. – Прим. ред.
(обратно)
320
S. Byrskog, Story as History – History as Story: The Gospel Tradition in the Context of Ancient Oral History (WUNT 123; Tübingen: Mohr Siebeck, 2000), с. 186–190.
(обратно)
321
S. Mason, «Contradiction or Counterpoint? Josephus and Historical Method», RRJ 6 (2003): 145–188; ср.: Z. Rodgers, ed., Making History: Josephus and Historical Method (JSJSup 110; Leiden: Brill, 2007).
(обратно)
322
S. Freyne, «Die soziale Welt Galiläas aus der Sicht des Josephus» в кн.: Jesus und die Archäologie Galiläas (ed. C. Claussen and J. Frey; BThSt 87; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2008), с. 75–92.
(обратно)
323
E. P. Sanders, Judaism: Practice and Belief, 63 BCE–66 CE (Philadelphia: Trinity Press International, 1992); ср.: S. Freyne, Jesus a Jewish Galilean: A New Reading of the Jesus Story (London: T&T Clark, 2005), с. 1–23.
(обратно)
324
G. W. E. Nickelsburg, Jewish Literature between the Bible and the Mishnah (2nd ed.; Minneapolis: Fortress, 2005).
(обратно)
325
B. G. Wright III and L. M. Wills, eds., Conflicted Boundaries in Wisdom and Apocalypticism (SBLSymS 35; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2005).
(обратно)
326
Peter B. Machinist, «Outsiders or Insiders: The Biblical View of Emergent Israel and Its Contexts», The Other in Jewish Thought and History: Constructions of Jewish Culture and Identity (ed. L. J. Silberstein and R. L. Cohn; New York: New York University Press, 1994), с. 35–60.
(обратно)
327
Albrecht Alt, Die Landnahme der Israeliten in Palästina (Reformationsprogramm der Universität Leipzig; Leipzig: Druckerei der Werkgemeinschaft, 1925); repr.: Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel (3 vols.; Munich: Beck, 1953–1959), 1:89–125; ET: «The Settlement of the Israelites in Palestine», Essays in Old Testament History and Religion (trans. R. A. Wilson; Garden City, N. Y.: Doubleday, 1968), с. 178–221; idem, «Erwägungen über die Landnahme der Israeliten in Palästina», PJB 35 (1939): 8–63, repr.: Kleine Schriften, 1:126–175; Martin Noth, The History of Israel (trans. rev. Peter R. Ackroyd; 2nd ed.; London: Adam & Charles Black, 1960), с. 68–84.
(обратно)
328
George Mendenhall, «The Hebrew Conquest of Palestine», BA 25 (1962): 66–87; Norman K. Gottwald, The Tribes of Yahweh: A Sociology of the Religion of Liberated Israel, 1250–1050 BCE (Maryknoll, N. Y.: Orbis, 1979; repr., Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999).
(обратно)
329
Lawrence E. Stager, «Response», Biblical Archaeology Today: Proceedings of the International Congress on Biblical Archaeology, Jerusalem, April 1984 (Jerusalem: Israel Exploration Society, 1985), с. 83–87; «The Archaeology of the Family in Ancient Israel», BASOR 260 (1985): 1–35; idem, «Forging an Identity: The Emergence of Ancient Israel», The Oxford History of the Biblical World (ed. M. D. Coogan; New York: Oxford University Press, 1998), с. 123–175.
(обратно)
330
Примечательное исключение – труд Рэйчел Хэверлок: Rachel S. Havrelock, «The Jordan River: Crossing a Biblical Boundary» (Ph.D. diss., University of California, Berkeley, 2004); впоследствии диссертация опубликована в виде книги: Rachel S. Havrelock, River Jordan: The Mythology of a Dividing Line (Chicago: University of Chicago Press, 2011). Здесь все отсылки – к диссертации.
(обратно)
331
В качестве наиболее интересных и актуальных примеров из библеистики см.: Harold Brodsky, «The Jordan – Symbol of Spiritual Transition», BRev 8.3 (1992): 34–43, 52; David Jobling, «‘The Jordan a Boundary’: Transjordan in Israel’s Ideological Geography», в кн.: The Sense of Biblical Narrative II: Structural Analyses in the Hebrew Bible (JSOTSup 39; Sheffield: JSOT Press, 1986), с. 88–133, 142–147; Moshe Weinfeld, «The Extent of the Promised Land – the Status of Transjordan», Das Land Israel in biblischer Zeit (ed. G. Strecker; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983), с. 59–75; John A. Beck, «Geography as Irony: The Narrative-Geographical Shaping of Elijah’s Duel with the Prophets of Baal (1 Kings 18)», SJOT 17 (2003): 291–302; Susan Tower Hollis, «Ancient Israel as the Land of Exile and the ‘Otherworld’ in Ancient Egyptian Folktales and Narratives», Boundaries of the Ancient Near Eastern World: A Tribute to Cyrus H. Gordon (ed. M. Lubetski, C. Gottlieb, and S. Keller; JSOTSup 273; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998), с. 320–337.
(обратно)
332
Rainer Riesner, «Bethany Beyond the Jordan (John 1:28): Topography, Theology and History in the Fourth Gospel», TynBul 38 (1987): 29–63, цит. с. 32–34; idem, Bethanien jenseits des Jordan: Topographie und Theologie im Johannes-Evangelium (SBAZ 12; Giessen: Brunnen, 2002).
(обратно)
333
Такое прочтение принято в большинстве англоязычных редакций Библии. – Прим. ред.
(обратно)
334
Jeremy M. Hutton, «‘Bethany Beyond the Jordan’ in Text, Tradition, and Historical Geography», Bib 89 (2008): 305–328.
(обратно)
335
Толк. Ин 6.40.204.
(обратно)
336
Lectio difficilior (лат. «трудное чтение») – принцип текстологического анализа, по которому из нескольких сохранившихся вариантов подлинным считается наиболее трудный для понимания, поскольку переписчики, как правило, упрощали текст. – Прим. ред.
(обратно)
337
Riesner, «Bethany», с. 33–34; idem, Bethanien, с. 14; поддержка: Michele Piccirillo, «The Sanctuaries of the Baptism on the East Bank of the Jordan River», Jesus and Archaeology (ed. J. H. Charlesworth; Grand Rapids: Eerdmans, 2006), с. 433–443, цит. с. 438.
(обратно)
338
Инклюзио – литературный прием, при котором конец фрагмента текста делается похожим на его начало. – Прим. ред.
(обратно)
339
Hutton, «Bethany», с. 307; см. также: Robert T. Fortna, «Theological Use of Locale in the Fourth Gospel», Gospel Studies in Honor of Sherman Elbridge Johnson (ed. M. H. Shepherd Jr. and E. C. Hobbs; AThRSupp 3; London: SCM, 1974), с. 58–95, цит. с. 67–68; idem, The Gospel of Signs: A Reconstruction of the Narrative Source Underlying the Fourth Gospel (SNTSMS 11; Cambridge: Cambridge University Press, 1970), с. 174. В качестве критики гипотезы см.: Hartwig Thyen, «Liegt dem Johannesevangelium eine Semeia-Quelle zugrunde?», в кн.: Studien zum Corpus Iohanneum (WUNT 214; Tübingen: Mohr Siebeck, 2007), с. 443–452; G. van Belle, The Signs Source in the Fourth Gospel: Historical Survey and Critical Evaluation of the Semeia Hypothesis (BETL 116; Leuven: Peeters, 1994), особ. с. 370–377.
(обратно)
340
Толк. Ин 6.40.206.
(обратно)
341
Cécile Blanc, Origène: Commentaire sur Saint Jean (5 vols.; SC 157; Paris: Cerf, 1970), 2:286, прим. 3; Raymond G. Clapp, «A Study of the Place-names Gergesa and Bethabara», JBL 26 (1907): 62–83, особ. 79–80 и прим. 61–62; M. J. Lagrange, «Origène, la critique textuelle et la tradition topographique», RB 4 (1895): 502–512, особ. 504–505; Wolfgang Wiefel, «Bethabara jenseits des Jordan (Joh. 1,28)», ZDPV 83 (1967): 72–81, особ. 72–73; Riesner, Bethanien, с. 35 и прим. 77.
(обратно)
342
G. W. H. Lampe, ed., A Patristic Greek Lexicon (Oxford: Clarendon, 1961), см.: «κατασκευάζω» и «κατασκευή».
(обратно)
343
Hutton, «Bethany», с. 311.
(обратно)
344
См., напр.: Fortna, «Locale», с. 67–68; idem, Gospel of Signs, с. 174, 179–180.
(обратно)
345
См., напр.: Morris M. Faierstein, «Why Do the Scribes Say that Elijah Must Come First?» JBL 100 (1981): 75–86; Dale C. Allison, «Elijah Must Come First», JBL 103 (1984): 256–258; Joseph Fitzmyer, «More about Elijah Coming First», JBL 104 (1985): 295–296; Colin Brown, «What Was John the Baptist Doing?» BBR 7 (1997): 37–49; Brian Francis Byron, «Bethany Across the Jordan or Simply: Across the Jordan», ABR 46 (1998): 36–54; Craig A. Evans, «The Baptism of John in Typological Context», Dimensions of Baptism (ed. S. E. Porter and A. R. Cross; JSNTSup 234; London: Sheffield Academic Press, 2002), с. 45–71
(обратно)
346
Havrelock, «Jordan River», с. 3.
(обратно)
347
Название «Фесвия» встречается в Еврейской Библии лишь в форме nisbe в слове (3 Цар 17:1, 21:17, 28; 4 Цар 1:3, 8; 9:36). Первый из этих стихов определяет Илию как «фесвитянина, из жителей Галаадских []». Винфрид Тиль (W. Thiel, «Zur Lage von Tischbe in Gilead» ZDPV 106 (1990): 119–134, см.: с. 119; см. также: Mordechai Cogan, I Kings: A New Translation with Introduction and Commentary [AB 10; New York: Doubleday, 2000], с. 425; ср.: Marvin A. Sweeney, I and II Kings: A Commentary [OTL; Louisville: Westminster John Knox, 2007], с. 210–211; Jerome T. Walsh, 1 Kings [Berit Olam; Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1996], с. 226; John Gray, I and II Kings [2nd ed.; OTL; Philadelphia: Westminster, 1970], с. 377 n. a) счел это ошибкой в вокализации оригинального названия Фесвии Галаадской (возможно, в оригинале). Можно сопоставить это название с известным по сочинениям Иосифа Флавия (Фесбона – И. Д. VIII, 13.2) и Евсевия Кесарийского (Ономастикон, № 517), Θεσβά; ср.: с городом, известным под таким же названием (Фисва) в уделе Неффалимовом (Тов 1:2). Наиболее удобные переводы Евсевия: G. S. P. Freeman-Grenville, The Onomasticon by Eusebius of Caesarea: Palestine in the Fourth Century A.D. (Jerusalem: Carta, 2003), с. 59; Eusebius, Onomasticon: The Place Names of Divine Scripture (ed. R. Steven Notley and Ze’ev Safrai; JCP 9; Boston: Brill, 2005), с. 98.
(обратно)
348
См., напр.: Martin Noth, «Das Land Gilead als Siedlungsgebiet israelitischer Sippen», PJB 37 (1941): 50–101 (репринт в издании: Aufsätze zur biblischen Landes– und Altertumskunde [ed. H. W. Wolff; 2 vols.; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1971], 1:347–390); idem, «Gilead und Gad», ZDPV 75 (1959): 14–73 (repr.: Augsätze, 1:489–583); Roland de Vaux, «Notes d’histoire et de topographie transjordaniennes», Vivre et Penser I: Recherches d’exégèse et d’histoire I (= RB 50; Paris: Gabalda, 1941), с. 16–47, особ. с. 27–29; Siegfried Mittmann, Beiträge zur Siedlungs– und Territorial-geschichte des nördlichen Ostjordanlandes (ADPV 2; Wiesbaden: Harrassowitz, 1970), с. 208–246, особ. с. 212; André Lemaire, «Galaad et Makîr: Remarques sur la tribu de Manassé à l’est du Jourdain», VT 31 (1981): 39–61.
(обратно)
349
Itinerarium Egeriae 16.1–3; латинский текст см.: Itineraria et alia geographica (СCSL 175; Tournhout: Brepols, 1965), с. 56–57. В этой статье использован перевод: John Wilkinson, Egeria’s Travels to the Holy Land (Warminster: Aris & Phillips, 1981), цит. с. 111.
(обратно)
350
Обратите внимание на метатезу зубного фрикативного и сибилянта в арабском.
(обратно)
351
Nelson Glueck, Explorations in Eastern Palestine, vol. 4, pt. 1: Text (AASOR 25–28; New Haven: ASOR, 1951), с. 226.
(обратно)
352
Там же, с. 226–227. Из описания Глюка создается впечатление, что Мар Ильяс не предполагает более ранней датировки. См. также: Mittmann, Beiträge. Миттман, судя по всему, не считал ни одно из этих мест достаточно древним для включения его в свой обзор.
(обратно)
353
Mittmann, Beiträge, с. 68–69, № 161; см. также: Wolfgang Zwickel, Eisenzeitliche Ortslagen im Ostjordanland (BTAVO 81; Wiesbaden: Reichert, 1990), с. 280.
(обратно)
354
Несмотря на то что Джонатан Мабри, Гаэтано Палумбо и Айан Кёйт сначала не смогли подтвердить наличие керамических черепков периода железного века, это позже сделал Палумбо в независимом исследовании. Jonathan Mabry, Gaetano Palumbo, and Ian Kuijt, «Environmental, Economic and Political Constraints on Ancient Settlement Patterns in the Wadi al-Yabis Region», Studies in the History and Archaeology of Jordan IV (ed. A. Hadidi; Amman: Department of Antiquities, 1988): табл. 1, № 70; ср.: Gaetano Palumbo, «The 1990 Wadi el-Yabis Survey Project and Soundings at Khirbet Um el-Hedemus», ADAJ 36 (1992): 25–41, цит. с. 25.
(обратно)
355
Palumbo, «1990 Wadi el-Yabis Survey», с. 32.
(обратно)
356
О самом месте и текстологических свидетельствах в его пользу, см.: Erasmus Gass, Die Ortsnamen des Richterbuchs in historischer und redaktioneller Perspektive (ADPV 35; Wiesbaden: Harrassowitz, 2005), с. 287–293; and H.-J. Zobel, «Abel-Mehola», ZDPV 82 (1966): 83–108; также: Yohanan Aharoni, The Land of the Bible: A Historical Geography (trans. Anson Rainey; rev. ed.; Philadelphia: Westminster, 1979), с. 313, 429 (но ср.: с. 284 прим. 222); впрочем, ср.: Glueck, Explorations, с. 215–222.
(обратно)
357
Zobel, «Abel-Mehola», 98, рис. 2; David A. Dorsey, The Roads and Highways of Ancient Israel (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991), с. 114.
(обратно)
358
См., напр.: Евсевий Кесарийский, Ономастикон, 40.1–4, no. 190; Эгерия, Itinerarium Egeriae 15.1–6 (CCSL 175, 55–56); ET: Onomasticon, ed. Notley and Safrai, с. 42; Wilkinson, Egeria’s Travels, с. 110–111.
(обратно)
359
В отношении первого Енона см.: Michael Avi-Yonah, The Madaba Mosaic Map with Introduction and Commentary (Jerusalem: Israel Exploration Society, 1954), с. 35–36, № 1, илл. 1; в отношении второго: с. 37, № 6, илл. 1–2. А также, что странно (хотя, возможно, и неудивительно), можно взглянуть на карту Иордана № 3154 IV, подготовленную Армейской картографической службой США, серия К737, 1:50 000, версия 1-AMS, на которой изображены Эйн эс-Сафсафа, а также одноименный кяриз, или канат, в непосредственной близости от Телль-Абу-Шуша.
(обратно)
360
Itinerarium 9 (CCSL 175, 134): «in ipsa valle Helias inventus est, quando ei portabat corvus panem et carnes».
(обратно)
361
Rami Khouri, «Where John Baptized: Bethany beyond the Jordan», BAR 31.1 (2005): 34–43, особ. с. 39. См. также иллюстрации к статье.
(обратно)
362
Pratum Spirituale 1 (PG 87/3, 2851, 2854): Τούτου ἐξ εὐωνύµων προπαράκειται ὁ χείµαρρος Χωρὰθ, εἰς ὅν ἀπεστάλη Ήλίας ὁ θεσβίτης ἐν καιρῷ τῆς ἀβροχίας ὁ ἐπὶ πρόσωπον τοῦ Ἰορδάνου. Перевод по изданию: John Moschus, The Spiritual Meadow (Pratum Spirituale) (trans. J. Wortley; CSS 139; Kalamazoo, Mich.: Cistercian Publications, 1992), с. 4–5. См. также: Riesner, Bethanien, с. 32. С картами можно ознакомиться по изданию: Shimon Gibson, The Cave of John the Baptist (New York: Doubleday, 2004), с. 219, рис. 8.1; Khouri, «Where John Baptized», с. 38–39.
(обратно)
363
Herbert Donner, «Das Deutsche Evangelische Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes: Lehrkursus 1963», ZDPV 81 (1965): 3–55, особ. 27–28.
(обратно)
364
Robert L. Cohn, 2 Kings (Berit Olam; Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 2000), с. 10.
(обратно)
365
О Галгале (Гилгале), расположенном к востоку от Иерихона, см.: Yoel Elitzur, Ancient Place Names in the Holy Land: Preservation and History (Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 2004), с. 146, 221, прим. 21; Gass, Ortsnamen, с. 185–194. Некоторые топографические данные указывают на присутствие второго места с тем же названием в высокогорном районе возле Сихема (Шхема), а третьего – севернее Сарона (Шарона). См.: F.-M. Abel, Géographie de la Palestine (3rd ed.; EBib; Paris: Gabalda, 1967), 2:336–338; William F. Albright, «Some Archaeological and Topographical Results of a Trip through Palestine», BASOR 11 (1923): 3–14, особ. 7–9.
(обратно)
366
Ср.: Richard D. Nelson, First and Second Kings (IBC; Atlanta: John Knox, 1987), с. 158, автор находит в этой странности один из аспектов таинственности нарратива.
(обратно)
367
См., напр.: James A. Montgomery, A Critical and Exegetical Commentary on the Books of Kings (ICC; Edinburgh: T&T Clark, 1951), с. 353–354.
(обратно)
368
См., напр.: Abel, Géographie, 2:336–337; Montgomery, Kings, с. 353; Gray, I and II Kings, с. 474; ср.: Nelson, First and Second Kings, с. 158; Volkmar Fritz, 1 and 2 Kings (trans. A. Hagedorn; CC; Minneapolis: Fortress, 2003), с. 233–235; Sweeney, I and II Kings, с. 272.
(обратно)
369
Эль-Горанийя находится у главной дороги, соединявшей Иерихон с Раввой Аммонитской (т. е. Филадельфией Декаполиса) в железном веке (Dorsey, Roads and Highways, с. 205, J32b), что ранее связывалось с местом вознесения Илии: L. Federlin, Béthanie au delà du Jourdain (Tell Medesch): Le théatre de l’action du Saint Précurseur en Pérée méridionale (Paris: Paul Feron-Vrau, 1908), согласно Ризнеру (Riesner, «Bethany», с. 38). Тем не менее этот брод не может соответствовать всему многообразию ранних еврейских и христианских традиций, связанных с системой бродов Эль-Махтас/Хаджла.
(обратно)
370
Ср.: Donner, «Lehrkursus 1963», с. 27.
(обратно)
371
Itinerarium Burdigalense 598.3 (CCSL 175, 19): «monticulus… ubi raptus est Helias in caelum».
(обратно)
372
De situ terrae sanctae 20 (CCSL 175, с. 122): «mons modicus, qui appellatur Armona… ibi sanctus Helias raptus est». См. также: Wilkinson, Egeria’s Travels, с. 161, прим. 7; Wiefel, «Bethanien», с. 75; Riesner, Bethanien, с. 25–29; и из недавнего: Khouri, «Where John Baptized», с. 41.
(обратно)
373
Itinerarium 9 (CCSL 175, c. 133): «in ipso loco est mons Hermon modicus, qui legitur in psalmo».
(обратно)
374
Здесь прежде всего имею в виду дискуссию между Файерштайном (Faierstein, «Scribes», с. 75–86), Эллисоном (Allison, «Elijah», с. 256–258) и Фицмайером (Fitzmyer, «More about Elijah», с. 295–296), имевшую место в 1980-х годах.
(обратно)
375
Robert L. Webb, John the Baptizer and Prophet: A Socio-Historical Study (JSNTSup 62; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1992), с. 72, 89.
(обратно)
376
Evans, «Baptism of John», с. 48–52, особ. с. 48; Webb, John the Baptizer, с. 54–55, 60, 70, особ. с. 72, 86.
(обратно)
377
J. A. Trumbower, «The Role of Malachi in the Career of John the Baptist», The Gospels and the Scriptures of Israel (ed. C. A. Evans and W. R. Stegner; JSNTSup 104; SSEJC 3; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1994), с. 28–41; Evans, «Baptism of John», с. 49, прим. 5.
(обратно)
378
Jerome Murphy-O’Connor, «John the Baptist and Jesus: History and Hypotheses», NTS 36 (1990): 359–374, цит. с. 360, 361, прим. 7.
(обратно)
379
За – Файерштайн (Faierstein, «Scribes», с. 75–86) и Фицмайер (Fitzmyer, «More about Elijah», с. 295–296), против – Эллисон (Allison, «Elijah», с. 256–258).
(обратно)
380
Evans, «Baptism of John», с. 47; см. также: Walter Wink, John the Baptist in the Gospel Tradition (SNTSMS 7; Cambridge: Cambridge University Press, 1968), с. 3.
(обратно)
381
Webb, John the Baptizer, с. 307–348; см. также с. 250–254
(обратно)
382
Современный обзор: Evans, «Baptism of John».
(обратно)
383
Там же, с. 45; см. также: Webb, John the Baptizer, с. 184–189, 194–196; Havrelock, «Jordan River», с. 172–184; ср.: Brown («What Was John», особ. с. 41–42), где автор подвергает критике несколько аспектов довода о ритуальном очищении.
(обратно)
384
Brown, «What Was John», с. 45, прим. 25; ср.: Jürgen Becker, Johannes der Täufer und Jesus von Nazareth (BibS[N] 63; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1972), с. 39–40; см. также: Webb, John the Baptizer, с. 103–104, 197–202, 206.
(обратно)
385
Это, тем не менее, не указывает на то, что воды реки Иордан считались неподходящими для ритуала очищения. Brown, «What Was John», с. 40–42; ср.: Webb, John the Baptizer, с. 131, прим. 126. Уэбб в качестве примеров литературных и исторических произведений эпохи Второго Храма, в которых упоминается погружение в Иордан, приводит свидетельство Иосифа Флавия (Жизнь 11–12) и апокриф «Житие Адама и Евы» (с. 112, 122).
(обратно)
386
Havrelock, «Jordan River», с. 171; см. также с. 192. Хэверлок лишь подчеркивает это, утверждая, что «в Еврейской Библии отсутствует представление об утрате изначальной идентичности или прошлого после признания Бога Израиля» (с. 201).
(обратно)
387
О «ритуализации через нарратив» см. ниже.
(обратно)
388
См. также: Havrelock, «Jordan River», с. 197–200; ср.: Fritz, 1 and 2 Kings, с. 259–260.
(обратно)
389
См., напр.: Federlin, Béthanie, цит. по: Riesner, «Bethany», с. 38.
(обратно)
390
Itinerarium Egeriae 10.3 (CCSL 175, с. 50): «pervenimus ergo usque ad eum locum Iordanis ubi filii Israhel transierant»; Wilkinson, Egeria’s Travels, с. 105.
(обратно)
391
Itinerarium 9 (CCSL 175, с. 133): «in ipso loco transierunt filii Israhel». Несколько сохранившихся свидетельств пронесли это коллективное воспоминание через историю, см.: Abbot Daniel (John Wilkinson with Joyce Hill and W. F. Ryan, eds., Jerusalem Pilgrimage 1099–1185 [London: Hakluyt Society, 1988], с. 136–137); W. F. Lynch, Narrative of the United States’ Expedition to the River Jordan and the Dead Sea (6th ed.; Philadelphia: Lea & Blanchard, 1849), с. 255. Другое название монастыря св. Иоанна, Каср аль-Йехуд, также хранит в себе воспоминания о переходе евреев через Иордан в районе брода Эль-Махтас. См.: Riesner, Bethanien, с. 26.
(обратно)
392
Webb, John the Baptizer, с. 364. С исторической и социологической точки зрения для Уэбба остается открытой возможность того, что Иордан не был единственным местом Иоаннова служения (с. 365: мое собственное согласие с этим утверждением см. выше), но, когда Иордан упоминается, он становится важным символическим компонентом повествования. Он продолжает: «А подобное изменение в местоположении может означать лишь, что его служение в этом месте не охватывало все элементы упомянутого символизма» (с. 365, курсив добавлен).
(обратно)
393
Gray, I and II Kings, с. 465–466; Marsha C. White, The Elijah Legends and Jehu’s Coup (BJS 311; Atlanta: Scholars Press, 1997), с. 32–33, 41–42; Antony F. Campbell and Mark A. O’Brien, Unfolding the Deuteronomistic History: Origins, Upgrades, Present Text (Minneapolis: Fortress, 2000), с. 411–412. Более поздним периодом пассаж датируют: Alexander Rofé, The Prophetical Stories: The Narratives about the Prophets in the Hebrew Bible: Their Literary Types and History (Jerusalem: Magnes, 1988), с. 45; Susanne Otto, «The Composition of the Elijah-Elisha Stories and the Deuteronomistic History», JSOT 27.4 (2003): 487–508, особ. 506; есть также исследователи, которые не называют конкретной датировки: Burke O. Long, 2 Kings (FOTL 10; Grand Rapids: Eerdmans, 1991), с. 30; Antony F. Campbell, Of Prophets and Kings: A Late Ninth-Century Document (1 Samuel 1–2 Kings 10) (CBQMS 17; Washington, D. C.: Catholic Biblical Association of America, 1986), с. 103.
(обратно)
394
О Нав 3–4 см.: Thomas B. Dozeman, «The yam-sûp in the Exodus and the Crossing of the Jordan River», CBQ 58 (1996): 407–416; J. Alberto Soggin, Joshua: A Commentary (OTL; Philadelphia: Westminster, 1972), с. 43–67, особ. с. 54; Volkmar Fritz, Das Buch Josua (HAT I/7; Tübingen: Mohr Siebeck, 1994), с. 41–56.
(обратно)
395
Я все же полагаю, что девтерономическая история развивалась значительно сложнее, чем изложено здесь (см., напр.: Jeremy M. Hutton, The Transjordanian Palimpsest: The Overwritten Texts of Personal Exile and Transformation in the Deuteronomistic History [BZAW 396; Berlin: de Gruyter, 2009]), представленная здесь концепция учитывает лишь модель двойной редакции девтерономической истории Кросса; см.: Frank M. Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of Israel (Cambridge: Harvard University Press, 1973), с. 274–289; Richard D. Nelson, The Double Redaction of the Deuteronomistic History (JSOTSup 18; Sheffield: JSOT Press, 1981); Richard E. Friedman, The Exile and Biblical Narrative: The Formation of the Deuteronomic and Priestly Works (HSM 22; Chico, Calif.: Scholars Press, 1981); Baruch Halpern, The Constitution of the Monarchy in Israel (HSM 25; Chico, Calif.: Scholars Press, 1981) и работы нескольких других учеников Кросса.
(обратно)
396
См., напр.: Dozeman, «yam-sûp in the Exodus»; см. также: Hans-Joachim Kraus, «Gilgal: Ein Beitrag zur Kultgeschichte Israels», VT 1 (1951): 181–199; ET: «Gilgal: A Contribution to the History Of Worship in Israel», Reconsidering Israel and Judah: Recent Studies on the Deuteronomistic History (ed. G. N. Knoppers and J. G. McConville; SBTS 8; Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 2000), с. 163–178; Soggin, Joshua, с. 51–54; David Daube, The Exodus Pattern in the Bible (All Souls Studies 2; London: Faber & Faber, 1963), 11; ср.: Jan Wagenaar, «Crossing the Sea of Reeds (Exod 13–14) and the Jordan (Josh 3–4): A Priestly Framework for the Wilderness Wandering», Studies in the Book of Exodus: Redaction – Reception – Interpretation (ed. M. Vervenne; BETL 126; Leuven: Peeters, 1996), с. 461–470. Следует отметить, что ханаанское происхождение этого мифологического сюжета не доказывает неизраильский характер мифемы. Как убедительно доказывает Марк Смит, различия в израильской и ханаанской культурах были результатом процесса дифференциации общего ханаанского субстрата, а не принципиального и изначального различия (The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel [2nd ed.; Grand Rapids: Eerdmans, 2002]).
(обратно)
397
Недавний обзор деления на основные источники: Robert D. Miller, «Crossing the Sea: A Reassessment of the Exodus», ZABR 13 (2007): 187–193. Точные формулировки, естественно, варьируются, см.: Brevard S. Childs, The Book of Exodus: A Critical, Theological Commentary (OTL; Philadelphia: Westminster, 1974), с. 218–221; William H. C. Propp, Exodus 1–18: A New Translation with Introduction and Commentary (AB 2; New York: Doubleday, 1999), с. 461–464, 476–484; Richard E. Friedman, Who Wrote the Bible? (San Francisco: Harper & Row, 1987, с. 251 [На русском: Ричард Фридман, Как создавалась Библия? М.: Эксмо, 2011].
(обратно)
398
Bernard Batto, Slaying the Dragon: Mythmaking in the Biblical Tradition (Louisville: Westminster John Knox, 1992), с. 128–152, особ. с. 136–144; см. также: Childs, Exodus, с. 223–234; Cross, Canaanite Myth, с. 103–105.
(обратно)
399
Jeremy M. Hutton, «Jordan River», NIDB 3:385–392; см. также: Propp, Exodus 1–18, с. 510.
(обратно)
400
Cross, Canaanite Myth, с. 112–144; ср.: Childs, Exodus, с. 251. Утверждение о «мифическом происхождении» Исх 15 не должно порождать утверждение, что песнь полностью мифологична. Как показал Кросс, при своеобразном использовании Израилем ханаанских тропов происходила значительная демифологизация.
(обратно)
401
Против – Batto, Slaying the Dragon, с. 144.
(обратно)
402
Там же, c. 136.
(обратно)
403
В издании: Miller, «Crossing the Sea» разграничена вездесущая «морская» традиция (Исх 13–14, Чис 33, Ис 43:16–17, Ис 63:11–12; Пс 65:6; Пс 76:19–20; Пс 77:13) и, по-видимому, девтерономическая традиция «Тростникового моря» (Втор 11:4–5; Нав 2:10; 4:23–24; 24:6–7; Суд 11:16; Пс 105:7, 9, 22; 135:13, 15; ср.: Исх 15, Неем 9:9, 11), которая используется и в Священническом кодексе («источнике P»).
(обратно)
404
См., напр.: Hutton, «Jordan River», с. 391.
(обратно)
405
См., напр.: Gray, I and II Kings, с. 365; Burke O. Long, 1 Kings with an Introduction to Historical Literature (FOTL 9; Grand Rapids: Eerdmans, 1984), с. 199–200, и упомянутую литературу.
(обратно)
406
Stephan Bekaert, «Multiple Levels of Meaning and the Tension of Consciousness: How to Interpret Iron Technology in Bantua Africa», Archaeological Dialogues 5 (1998): 6–29.
(обратно)
407
См., напр.: Jeremy M. Hutton, «The Left Bank of the Jordan and the Rites of Passage: An Anthropological Interpretation of 2 Samuel XIX», VT 56 (2006): 470–484.
(обратно)
408
Brown, «What Was John», с. 44; см. также: Weinfeld, «Extent of the Promised Land»; Jobling, «Jordan».
(обратно)
409
Brown, «What Was John», с. 45. В этой связи он предполагает: «Действие было обрядом перехода в более чем метафорическом смысле» (р. 46). И Браун, и Доузман («yam-sûp in the Exodus», с. 414) называют пересечение Иордана «обрядом перехода», но ни одни из них не анализирует этот акт в рамках теории Арнольда ван Геннепа.
(обратно)
410
В качестве примера ранних работ, посвященных связи 2 Цар 19 с этим метафорическим образом, см.: John Lightfoot, Horae Hebraicae et Talmudicae in Quattuor Evangelistas (ed. J. B. Carpzov; Leipzig, 1670); позднее опубликовано на английском: Horae Hebraicae et Talmudicae: Hebrew and Talmudical Exercitations (4 vols.; Oxford: Oxford University Press, 1859), 1:327–333, особ. 330.
(обратно)
411
Hutton, «Left Bank».
(обратно)
412
Там же, с. 473, прим. 10.
(обратно)
413
Там же, с. 473–474.
(обратно)
414
Там же, с. 474.
(обратно)
415
Arnold van Gennep, The Rites of Passage (trans. M. B. Vizedom and G. L. Caffee; Chicago: University of Chicago Press, 1960) [На русском: Арнольд ван Геннеп. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М., 1999]; Victor Turner, The Ritual Process: Structure and Anti-Structure (1969; repr., Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1977);); Max Gluckman, «Les Rites de Passage», Essays on the Ritual of Social Relations (Manchester: Manchester University Press, 1962), с. 20–25; Mary Catherine Bateson, «Ritualization: A Study in Texture and Texture Change», Religious Movements in Contemporary America (ed. I. I. Zaretsky and M. P. Leone; Princeton: Princeton University Press, 1974), с. 150–165; Catherine Bell, Ritual Theory, Ritual Practice (New York: Oxford University Press, 1992), с. 88–93; David P. Wright, Ritual in Narrative: The Dynamics of Feasting, Mourning, and Retaliation Rites in the Ugaritic Tale of Aqhat (Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 2001), с. 11–13; Bruce Lincoln, Emerging from the Chrysalis: Rituals of Women’s Initiation (New York: Oxford University Press, 1981), с. 99–101; Carol W. Bynum, «Women’s Stories, Women’s Symbols: A Critique of Victor Turner’s Theory of Liminality», Anthropology and the Study of Religion (ed. R. L. Moore and F. E. Reynolds; Chicago: Center for the Scientific Study of Religion, 1984), с. 105–125; Terence S. Turner, «Transformation, Hierarchy and Transcendence: A Reformulation of van Gennep’s Model of the Structure of Rites of Passage», Secular Ritual (ed. S. F. Moore and B. G. Meyerhoff; Assen: Van Gorcum, 1977), с. 53–70, цит. с. 60–64; W. S. F. Pickering, «The Persistence of Rites of Passage: Towards an Explanation», British Journal of Sociology 25 (1974): 63–78; Louise Carus Mahdi, Nancy Geyer Christopher, and Michael Meade, eds., Crossroads: The Quest for Contemporary Rites of Passage (Chicago: Open Court, 1996); R. L. Grimes, Deeply into the Bone: Re-Inventing the Rites of Passage (Berkeley: University of California Press, 2000); R. A. Segal, «Victor Turner’s Theory of Ritual», Zygon 18 (1983): 327–335.
(обратно)
416
Впервые я сформулировал данную интерпретацию перехода через Иордан в следующей работе: Transjordanian Palimpsest, см. особ. с. 364–377.
(обратно)
417
О том, что в 4 Цар 2 под угрозой был статус Илии, см. также: Havrelock, «Jordan River», с. 163–166, особ. с. 165; Long, 2 Kings, с. 28, 31; Rofé, Prophetical Stories, с. 44–48; White, Elijah Legends, с. 3, 8–11, и см. библиографию в третьем источнике, прим. 1; Mordechai Cogan and Hayim Tadmor, II Kings: A New Translation with Introduction and Commentary (AB 11; Garden City, N. Y.: Doubleday, 1988), с. 34; Sweeney, I and II Kings, с. 273–274.
(обратно)
418
Pars pro toto (лат. – «часть вместо целого») – прием речи, когда называется часть предмета вместо целого предмета. – Прим. ред.
(обратно)
419
В кн.: Avi-Yonah, Madaba Mosaic Map, с. 38, отмечено: «Обычный путь из Галилеи к низовьям Иордана должен был проходить от Генисаретского озера к Парее, иудейской провинции у Иордана, и таким образом обходить территорию самаритян. Эта идентификация [Бейт ха-Арава на Карте из Мадабы] согласуется с версией апостола Иоанна, где место крещения находится (Ин 1:28)… ‘за Иорданом’».
(обратно)
420
О других пророках см.: И. Д. XVIII, 4.1–3; ХХ, 8.5–6, 10; И. В. II, 13.4; P. W. Barnett, «The Jewish Sign Prophets – A.D. 40–70: Their Intentions and Origin», NTS 27 (1981): 679–697; R. A. Horsley, «Popular Messianic Movements around the Time of Jesus», CBQ 46 (1984): 471–495; Webb, John the Baptizer, с. 333–339. Уэбб приводит полезный обзор различных типологий, используемых для описания пророческих фигур, в большинстве своем «лжепророки» Иосифа Флавия относятся у него к категории «популярных пророков-лидеров», также он полагает, что некоторые (напр.: И. В. I, 18.1; VI, 5.3; возможно VI, 5.2) были «малоизвестными пророками» (John the Baptizer, с. 339–342). В кн.: Barnett, «Jewish Sign Prophets», с. 686–687 утверждается, что ни один из этих пророков, кроме «Египтянина», не был мессианской фигурой. Он вывел свое заключение исходя из того, что Иосиф не применял ни к одному из них термин βασιλεύς (царь). Лишь «Египтянин», согласно его утверждению – «самозваный царь» (с. 687).
(обратно)
421
Напр.: Murphy-O’Connor, «John the Baptist», с. 360, прим. 7; Webb, John the Baptizer, с. 360–366; Brown, «What Was John», с. 44–45.
(обратно)
422
J. H. Charlesworth, ed., Jesus and Archaeology (Grand Rapids: Eerdmans, 2006).
(обратно)
423
Акт о поселениях описан самим Октавианом в Деяниях божественного Августа (Res Gestae), тексте, написанном до его смерти и сохраненном на Анкирском памятнике: «В шестое и седьмое консульство, после того как Гражданские войны я погасил, с общего согласия став верховным властелином, государство из своей власти я на усмотрение сената и римского народа передал» (Res gest. 34). См. текст в изданиях: Th. Mommsen, Res Gestae Divi Augusti (Berlin: Weidmannos, 1883); J. Gagé, Res Gestae Divi Augusti (Paris: Belles lettres, 1935); P. A. Brunt and J. M. Moore, Res Gestae Divi Augusti (Oxford: Oxford University Press, 1971).
(обратно)
424
Так были признаны его virtus, clementia, iustitia и pietas (мужество, милосердие, справедливость и благочестие. – Деяния божественного Августа, 34).
(обратно)
425
В кн.: Z. Yavetz, Augustus: The Victory of Moderation (Hebrew) (Tel Aviv: Devir, 1988), с. 297, приведено замечание Рихарда Райценштайна о том, что образ принцепса был идеей Цицерона, воплощенной Октавианом (R. Reitzenstein, «Die Idee des Prinzipats bei Cicero und Augustus», NAWG [1917]: 399). Как считал Андре Магделен, со времен Республики этот титул имел две коннотации: princeps liberates recuperandae («принцепс, вернувший свободу») и princeps civitatis («принцепс государства»), идеальный rector и moderator («правитель» и «судья») Цицерона (A. Magdelain, Auctorias Principis [Paris: Belles lettres, 1947]). Согласно Явецу, Август соединял обе идеи и сперва был освободителем, а после – ревнителем традиций, поскольку правит он согласно princeps autoritate («авторитету принцепса»).
(обратно)
426
Как утверждает Явец, этот титул носили основатели, такие как Ромул и Эней (Z. Yavetz, Augustus, с. 305); Вергилий также провозглашает таковым Августа (c. 247–257). Повествование об основателе составляло важную часть римской образности и религиозной идеологии еще со времен Республики. На Востоке оно восходит к традиции эллинистической эпохи и заключает в себе важную культурную и религиозную образность, см.: L. Di Segni, «A Dated Inscription from Beth-Shean and the Cult of Dionysos Ktistes in Roman Scythopolis», SCI 16 (1997): 139–161.
(обратно)
427
R. Syme, The Roman Revolution (Oxford: Clarendon, 1939), с. 459–475.
(обратно)
428
«Как и подобало, поэты, к которым благоволили власти, восхваляли в стихах идеалы возрождавшегося Рима – землю, солдат, религию и мораль, героическое прошлое и славное настоящее… идеальное государство, ныне воплощенное на земле… Новое Государство получило своего лирического поэта… Так же как перенесение Трои и ее богов в Италию, строительство Нового Рима было благородной и трудной задачей» (Syme, Roman Revolution, с. 460–463).
(обратно)
429
Вергилий. Энеида. Пер. с лат. С. А. Ошерова, под ред. Ф. А. Петровского.
(обратно)
430
W. L. MacDonald, The Architecture of the Roman Empire, vol. 2: An Urban Appraisal (rev. ed.; YPHA 35; New Haven: Yale University Press, 1986).
(обратно)
431
M. Avi-Yonah, The Holy Land from the Persian to the Arab Conquest (536 B.C. to 640 A.D.): A Historical Geography (Grand Rapids: Baker, 1966), с. 77–82; A. H. M. Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces (2nd ed.; Oxford: Clarendon, 1971), с. 256–259.
(обратно)
432
О термине «Келесирия» см.: R. Barkay, The Coinage of Nysa-Scythopolis (Beth-Shean) [иврит] (Jerusalem: Israel Numismatic Society, 2003), с. 159–160; о термине «Декаполис» см.: S. T. Parker, «The Decapolis Reviewed», JBL 94 (1975): 437–441.
(обратно)
433
Jones, Cities.
(обратно)
434
G. Mazor and D. Sandhouse, Nysa-Scythopolis: The Hellenistic City, Final Report (Bet Shean 6; IAA Reports; Jerusalem: IAA, готовится к печати).
(обратно)
435
O. Tal, The Archaeology of Hellenistic Palestine: Between Tradition and Renewal [иврит] (Jerusalem: Mosad Byalik, 2006). Хотя Таль стремится найти преемственность традиции почти в любом культурном аспекте, к которому обращается, и игнорирует существенные свидетельства обратного, в том, что касается архитектуры, следует указать, что помимо принятия классических ордеров, архитектура эллинистической эпохи имеет с традиционной архитектурой гораздо больше общего, чем с греческой. Скажем, здесь, в отличие от Малой Азии, по сей день не найдено ни греческих театров, ни храмов.
(обратно)
436
Foerster and Tsafrir, «Nysa-Scythopolis: A New Inscription and the Titles of the City on Its Coins», INJ 9 (1987): 53–58, илл. 16–17. О названии города см.: G. Fuks, Scythopolis – A Greek City in Eretz-Israel [иврит] (Jerusalem: Yad Yitzhak Ben-Zvi, 1983), с. 160–165; Di Segni, «Dated Inscription»; Barkay, Coinage, с. 155–166; G. Mazor and A. Najjar, Nysa-Scythopolis: The Caesareum and Odeum (Bet Shean 1; IAA Reports 33; Jerusalem: IAA, 2007), c. xii.
(обратно)
437
D. W. Roller, The Building Program of Herod the Great (Berkeley: University of California Press, 1998); N. Kokkinos, The Herodian Dynasty: Origins, Role in Society and Eclipse (JSPSup 30; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998).
(обратно)
438
L. C. Kahn, «King Herod’s Temple of Roma and Augustus at Caesarea Maritima», в кн.: Caesarea Maritima: A Retrospective after Two Millennia (ed. A Raban and K. G. Holum; Leiden: Brill, 1966), с. 130–145; G. A. Reisner, C. S. Fisher, and D. G. Lyon, Harvard Excavations at Samaria, 1908–1910 (2 vols.; Cambridge: Harvard University Press, 1924), 1:46–50, 170–180; J. W. Crowfoot, K. M. Kenyon, and E. L. Sukenik, The Buildings at Samaria (London: Palestine Exploration Fund, 1942), с. 123–135; J. A. Overman, J. Olive, and M. Nelson, «Discovering Herod’s Shrine to Augustus: Mystery Temple Found at Omrit», BAR 29.2 (2003): 40–49, 67.
(обратно)
439
См., напр.: И. В. I, 20.3 – 21.11; III, 7.12–16; И. Д. XV, 8.5, XVI, 5.1–4.
(обратно)
440
Roller, Building Program, с. 125–238.
(обратно)
441
Архелай, этнарх Иудеи, Самарии и Идумеи; Ирод Антипа, тетрарх Галилеи и Переи; Ирод Филипп, тетрарх Итуреи, Батанеи, Трахонитской области и Аврана. Все они получили образование в Риме. См.: Roller, Building Program, с. 239–253.
(обратно)
442
Jones, Cities, напр. с. 205, 291, 277, 285, 279 соответственно.
(обратно)
443
О сети дорог в Сирии Палестинской см.: I. Roll, «The Roads in Roman-Byzantine Palestine and Arabia», The Madaba Map Centenary, 1897–1997 (ed. M. Piccirillo and E. Alliata; Jerusalem: Studium Biblicum Franciscanum, 1999); idem, «Crossing the Rift Valley: The Connecting Arteries between the Road Network of Judaea/Palaestina and Arabia», Limes XVIII (ed. P. Freeman et al.; 2 vols.; BAR International Series 1084; Oxford: Hadrian, 2002), 1:215–230.
(обратно)
444
Для римской имперской образности и идеологии сакральный акт основания города или государства богами, героями или императорами был крайне важным политическим и религиозным достижением. Это деяние наделялось глубоким смыслом как на латинском Западе, так и на греческом Востоке (κτίστης). См.: Segni, «Dated Inscription»; B. Isaac, «Roman Colonia in Judaea: The Foundation of Aelia Capitolina», в кн.: The Near East under Roman Rule: Selected Papers (MBCBSup 177; Leiden: Brill, 1998), с. 87–111. Повествование об основании города в более позднюю эпоху было заимствовано христианской Церковью как образ идеологической и религиозной образ связи между царем Давидом, основателем Иерусалима, и Иаковом, братом Иисуса – основателем Иерусалимской Церкви (Евсевий, Церк. ист 7.19 [PG 20:681]; H. Arendt, «What Was Authority?» Authority (ed. C. J. Friedrich; Nomos 1; Cambridge: Harvard University Press, 1958, с. 81–102).
(обратно)
445
G. Mazor, «Free Standing City Gates in the Eastern Provinces during the Roman Imperial Period» (Ph. D. diss., Bar-Ilan University, Ramat Gan, 2004), с. 136–142.
(обратно)
446
P. Zanker, «The City as Symbol: Rome and the Creation of an Urban Image», Romanization and the City (ed. E. Fentress; JRASS 38; Portsmouth, R. I.: Journal of Roman Archaeology, 2000), с. 28.
(обратно)
447
MacDonald, Architecture of the Roman Empire, 2:253–273.
(обратно)
448
Элий Аристид. Священные речи. Похвала Риму. Он провозглашает империю венцом цивилизованного мира, всемирной демократией свободных людей, управляемых, защищаемых и находящихся под покровительством наиболее совершенного, благородного и достойного, при помощи конституции, обеспечивающего единство и гармонию союзу, позволяющему миру находиться в покое и безопасности. «Весь населенный мир, как во время праздника, отложил в сторону оружие – бремя прошлого – и вольно обратился к красоте и радости. Всякое иное соперничество среди городов прекратилось, и все они соревнуются только в одном: чтобы каждый из них явился самым прекрасным и приветливым… И вот города сияют блеском и красотой, весь мир красуется, словно сад… Подобно неугасаемому священному огню…» (Похвала Риму, 97–99).
(обратно)
449
E. N. Luttwak, The Grand Strategy of the Roman Empire: From the First Century A. D. to the Third (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976), напр. с. 192.
(обратно)
450
И. Д. XIX, 7.2; И.В. II, 20.6; Жизнь 37.
(обратно)
451
Mazor, «Free Standing City Gates», с. 191–192; A. Stein, «Studies in Greek and Latin Inscriptions on the Palestinian Coinage under the Principate» (Ph. D. diss., Tel Aviv University, 1990), с. 222–259.
(обратно)
452
Платеи – греческое название главных артерий города; декуманус максимус – главная улица, ориентированная в римском городе с востока на запад; кардо – улица, ориентированная там же с севера на юг. – Прим. ред.
(обратно)
453
A. Segal, From Function to Monument: Urban Landscapes of Roman Palestine, Syria and Provincia Arabia (OMS 66; Oxford: Oxbow, 1997); Mazor, «Free Standing City Gates».
(обратно)
454
G. Mazor, W. Atrash, and D. Sandhouse, Nysa-Scythopolis: The Agora, Final Report (Bet Shean 8; IAA Reports; Jerusalem: IAA, готовится к печати); G. Mazor, «Concerning the Urban Plan of Aelia Capitolina: Colonnaded Streets, Monumental Arches and City Gates» [иврит], ErIsr 28 (2007): 116–124.
(обратно)
455
Zanker, «City as Symbol», с. 33.
(обратно)
456
Mazor and Najjar, Caesareum and Odeum, с. 181–190; G. Mazor, «Imperial Cult in the Decapolis, Nysa-Scythopolis as a Test Case», 2016.
(обратно)
457
MacDonald, Architecture of the Roman Empire, 2:181.
(обратно)
458
Грандиозные строительные проекты Ирода невозможно полноценно описать в короткой сноске; библиографию по этому вопросу см. в кн.: Roller, Building Program. В то время как ученые утверждают, что Ирод был первым, кто построил в Антиохии колоннадную улицу, это, кажется, произошло позже (при Тиберии), но он действительно был первым, кто построил в этих краях театр и амфитеатр (в Кесарии Приморской), а также бани. На примере Храмовой горы мы видим, как была адаптирована архитектурная концепция кесариума, а пристальное изучение дворцов в Иерусалиме, Иродионе и Иерихоне позволяет усмотреть влияние новой имперской архитектуры и в восприятии пространства, и в наиболее выдающихся архитектурных идеях и деталях. Все эти архитектурные градостроительные проекты как в царстве Ирода, так и за пределами его владений, служили мощными движущими силами и эффективным инструментом для выражения символической идеологии и личной системы образов как самому Ироду, так и его патрону, Октавиану Августу, и Римской империи.
(обратно)
459
MacDonald, «Empire Imagery: Baroque Modes», Architecture of the Roman Empire, 2:221–247.
(обратно)
460
W. L. MacDonald, The Architecture of the Roman Empire, vol. 1: An Introductory Study (rev. ed.; YPHA 17; New Haven: Yale University Press, 1982), с. 181.
(обратно)
461
MacDonald, Architecture of the Roman Empire, 2:245.
(обратно)
462
Raison d’être (фр.) – смысл существования. – Прим. ред.
(обратно)
463
Mazor, «Free Standing City Gates», с. 185–188.
(обратно)
464
Segal, From Function to Monument.
(обратно)
465
MacDonald, Architecture of the Roman Empire, vol. 2.
(обратно)
466
Margaret Lyttelton, Baroque Architecture in Classical Antiquity (SAAA; Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1974); MacDonald, Architecture of the Roman Empire, 2:180.
(обратно)
467
B. Bagatti, The Church from the Circumcision: History and Archaeology of the Judaeo-Christians (trans. E. Hoade; SBF Minor Series 2; Jerusalem: Franciscan, 1971); idem, The Church from the Gentiles in Palestine: History and Archaeology (trans. E. Hoade; SBF Minor Series 4; Jerusalem: Franciscan, 1971).
(обратно)
468
О церковной архитектуре см.: R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture (ed. R. Krautheimer and S. Ćurčić; 4th ed.; New Haven: Yale University Press, 1986); о церквях, найденных во время раскопок на Святой Земле см.: A. Ovadiah, Corpus of the Byzantine Churches in the Holy Land (trans. R. Kirson; Theoph. 22; Bonn: Hanstein, 1970). О церквях в Трансиордании см.: A. Michel, Les Églises d’époque byzantine et umayyade de la Jordanie (BAT 2; Turnhout: Brepols, 2001); о мозаичных полах, найденных в Трансиордании см.: L. Habas, «The Byzantine Churches of Provincia Arabia: Architectural Structure and their Relationship with the Compositional Scheme and Iconographic Program of Mosaic Pavements» [иврит] (Ph. D. diss., Tel Aviv University, 2005).
(обратно)
469
H. Gitler and O. Tal, The Coinage of Philistia of the Fifth and Fourth Centuries BC: A Study of the Earliest Coins of Palestine (New York: Amphora, 2006), с. 13.
(обратно)
470
В Палестине до эпохи Ахеменидов клады из обрезных серебряных монет «как правило, заворачивались в матерчатые мешки и, скорее всего, опечатывались глиняной печатью или несколькими печатями (об этом свидетельствуют клады из Дора и Телль-Кейсана)». Были найдены похожие клады, относящиеся к эпохе Ахеменидов, из т. н. «рубленого серебра», однако они в большинстве своем содержали небольшие серебряные обрезки и украшения, такие как серьги и кольца для носа (Gitler and Tal, Coinage of Philistia, с. 10–11).
(обратно)
471
И более того, экономическая система, основанная на бартере, сохраняла свое значение на протяжении тысячелетий; она и сейчас представляет собой распространенный способ ведения финансовых операций; в качестве дискуссии см.: D. Hendin, Ancient Scale Weights and Pre-Coinage Currency of the Near East (New York: Amphora, 2007), с. 23–29.
(обратно)
472
R. Duncan-Jones, Money and Government in the Roman Empire (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), с. 3.
(обратно)
473
Преподобный Эдгар Роджерс отметил, что Иисус часто извлекал уроки из «форм повседневного использования денег и самого их существования». Роджерс приходит к теологическим следствиям: «Для Него это – часть человеческой жизни и человеческих взаимоотношений, и поэтому это заботит Бога. Для нумизмата, соответственно, подобное исследование приобретает особую важность и значимость и вознаграждается как никакое другое» (A Handy Guide to Jewish Coins [London: Spink & Son, 1914], с. 67).
(обратно)
474
Rogers, Handy Guide, с. 68.
(обратно)
475
O. Hoover, «The Authorized Version: Money and Meaning in the King James Bible», ANSM 5.2 (2006): 13 (http://ansmagazine.com/Summer06/Bible).
(обратно)
476
D. Hendin, «The Metrology of Judean Small Bronze Coins», AJN 21 (2009): 105–121, см. c. 107: «Пруту (и ее половину) и лепту не следует… рассматривать как меры веса, а скорее следует считать эти названия обозначением номинала: по весу отдельные монеты могли очень значительно отличаться друг от друга».
(обратно)
477
«Серебро, где бы оно ни упоминалось в Пятикнижии, является тирским» (т. Кетуб 13:20).
(обратно)
478
Y. Meshorer, A Treasury of Jewish Coinage: From the Persian Period to Bar-Kokhba (New York: Amphora, 2001), с. 77.
(обратно)
479
См. также параллельные места: Мк 11:15, Лк 19:45 и Ин 2:14.
(обратно)
480
R. Leonard, «Cut Bronze Coins in the Ancient Near East», Proceedings of the XIthInternational Numismatic Congress, 1991 (ed. T. Hackens et al.; Louvain-la-Neuve: Association M. Hoc, 1993), с. 363–370.
(обратно)
481
От евр., шулхан – «стол».
(обратно)
482
D. Sperber, «Money Changers», EncJud 14:435–436.
(обратно)
483
Статир – греческая серебряная монета, которая, как правило, была в ходу прежде шекеля или тетрадрахмы; однако во многих областях греческого мира эти слова могли использоваться эквивалентно.
(обратно)
484
Обратите внимание на связь в Мф 25:27 между «столами для менял» и словом τραπεζίταις, образованным от греческого «стол», которая обсуждалась выше.
(обратно)
485
Когда для уплаты этой храмовой подати вносилась одна монета за двоих мужчин, взимался небольшой дополнительный взнос, «колбон», который здесь не упоминается. Раввины считали принципиально важным, чтобы Иерусалимский Храм, не взирая ни на какие условия, получал «полную сумму» всех взносов и не было никакой возможности обойти данное правило. Поэтому, даже если менялы вообще не были вовлечены в подобные финансовые операции, то, как объясняет Герберт Дэнби в его примечании к м. Шкал 1:6, доплата была «компенсацией для сборщиков шекелей при Иерусалимском Храме, дабы возместить потери, понесенные при обмене шекелей или монет достоинством в полшекеля» (H. Danby, The Mishnah: Translated from the Hebrew with Introduction and Brief Explanatory Notes [Oxford: Clarendon, 1933], с. 153, прим. 1).
(обратно)
486
Во время недавних раскопок, которые проводили Шукрон и Рейх в главном водоотводном канале Иерусалима, относящемся к эпохе Второго Храма, была обнаружена тирская монета достоинством в полшекеля, датированная 22 г. н. э. Обсуждение этой монеты и ее возможного использования в Античности см. в статье: antiquities.org.il/article_Item_eng.asp?sec_id=25&subj_id=240&id=1353&module_id=#as.
(обратно)
487
В Талмуде (вав. Кид 12a) говорится, что прута соответствует восьмой части итальянского иссара. Иссар – это римский асс. Один асс равен двум семисам, а семис состоял из двух кодрантов. Таким образом, один кодрант должен был равняться двум прутам. Следовательно, согласно Талмуду, один римский динарий или греческая драхма равнялись 64 кодрантам, 128 прутам или 256 лептам.
(обратно)
488
Как гласит Талмуд (вав. Б. Бат 166b), 192 пруты равны одному зузу или четверти шекеля. Самая маленькая прута из возможных ее видов, скорее всего, использовалась при расчете с целью дать гарантию, что при любых финансовых операциях, связанных с Храмом, ее ценность будет находиться на самом нижнем уровне по отношению к серебряному эквиваленту, дабы не лишить Храм надлежащих выплат.
(обратно)
489
См.: D. Sperber, Roman Palestine 200–400 Money and Prices (Ramat Gan: Bar Ilan University Press, 1974), с. 101–111; для Палестины цены воссозданы на основании древних источников.
(обратно)
490
Ряд сведений о раскопках, связанных с данной темой, доступен в изданиях: D. T. Ariel, «The Coins from the Surveys and Excavations of Caves in the Northern Judean Desert», Atiqot 41.2 (2002): 281–305; G. Bijovsky, «The Coins from Horbat Zalit», Atiqot 39 (2000): 155–189.
(обратно)
491
Монеты династии Хасмонеев находились в обращении в Древней Палестине даже в V в. н. э., и есть все основания полагать, что ими пользовались и во времена Иисуса. См.: G. Bijovsky, «The Currency of the Fifth Century C. E. in Palestine – Some Reflections in Light of the Numismatic Evidence», INJ 14 (2000–2002): 196–210, с. 202.
(обратно)
492
Филипп первым из еврейских правителей отчеканил монету со своим собственным изображением; ср.: D. Hendin, Guide to Biblical Coins (5th ed.; New York: Amphora, 2010), с. 256–257.
(обратно)
493
D. Hendin, «Numismatic Expressions of Jewish Sovereignty: The Unusual Iconography of Coinage of the Hasmonean Dynasty», INJ 16 (2007–2008): 76–91.
(обратно)
494
Hendin, Guide, с. 242, монета 1190.
(обратно)
495
См. обсуждение: Hendin, Guide, с. 485–487.
(обратно)
496
Rogers, Handy Guide, с. 72–73.
(обратно)
497
Rogers, Handy Guide, с. 73.
(обратно)
498
A. Kushnir-Stein, «New INR Classification for Early Roman Governors of Judea», INR 2 (2007): 3–4.
(обратно)
499
Rogers, Handy Guide, с. 67.
(обратно)
500
См.: E. Troeltsch, «Historiography», ERE 6:716–723. Первый и второй принципы – это критика и аналогия. См. также: R. Bultmann, Existence and Faith: Shorter Writings of Rudolf Bultmann (trans. S. M. Ogden; New York: Meridian, 1960), с. 291: «Исторический метод содержит в себе предпосылку, согласно которой история представляет собой единое целое, мыслимое как закрытый континуум воздействий, в котором индивидуальные события связаны друг с другом последовательностью причин и следствий».
(обратно)
501
Взгляды Трёльча, естественно, подвергались критике, вкратце об этом см.: J. L. Adams, «Introduction», в кн.: E. Troeltsch, The Absoluteness of Christianity and the History of Religions (trans. D. Reid; Louisville: Westminster John Knox, 2006), с. 7–20, особ. с. 15–16. Однако, например, Джон Коллинз основывает свое понимание исторической критики именно на принципах Трёльча (Collins, «Is a Critical Biblical Theology Possible?» в кн.: The Hebrew Bible and Its Interpreters [ed. W. H. Propp, B. Halpern, and D. N. Freedman; Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1990], с. 1–17, особ. с. 2–3). Также и Джеймс Данн (Dunn, Jesus Remembered [CM 1; Grand Rapids: Eerdmans, 2003], с. 70), хотя и с некоторыми оговорками, утверждает: «Для того чтобы наши утверждения об историческом Иисусе имели хоть какой-то вес, мы, несомненно, должны принимать во внимание замечания и аргументы Лессинга и Трёльча». Более глубоко и обоснованно взгляд на значение Трёльча для современной историографии и богословия, и особенно для исследований исторического Иисуса, излагается в источнике: G. W. Dawes, The Historical Jesus Question (Louisville: Westminster John Knox, 2001), с. 159–202. Несмотря на многие критические замечания, в конце Доуз говорит: «Описание работы историка у Трёльча по-прежнему остается непревзойденным. Его принципы критики и корреляции в наше время никем не оспариваются; лишь принцип аналогии по сей день остается предметом споров» (с. 196).
(обратно)
502
Завоевать репутацию серьезной исторической дисциплины – вот, по-видимому, давнее и неотступное желание этой области науки. См.: T. Holmén, «A Theologically Disinterested Quest? On the Origins of the ‘Third Quest’ for the Historical Jesus», ST 55 (2001): 175–197, особ. с. 176–179. См. также, например, интересную статью: W. O. Walker, «The Quest for the Historical Jesus: A Discussion of Methodology», ATR 51 (1969): 38–56, особ. с. 52.
(обратно)
503
См., напр.: G. Theissen and A. Merz, Der historische Jesus (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996), с. 29; N. T. Wright, Jesus and the Victory of God (COQG 2; Minneapolis: Fortress, 1996), с. 119–120; T. Holmén, «The Jewishness of Jesus in the ‘Third Quest,’» в кн.: Jesus, Mark and Q: The Teaching of Jesus and Its Earliest Records (ed. M. Labahn and A. Schmidt; JSNTSup 214; Sheffield: Sheffield Academic Press, 2001), с. 143–162. См. также заглавия в работах: J. H. Charlesworth, Jesus within Judaism: New Light from Exciting Archaeological Discoveries (ABRL; New York: Doubleday, 1988); C. A. Evans, Jesus and His Contemporaries: Comparative Studies (AGJU 25; Leiden: Brill, 1995); B. Chilton, «Jesus within Judaism», в кн.: Jesus in Context: Temple, Purity, and Restoration (ed. B. Chilton and C. A. Evans; AGJU 39; Leiden: Brill, 1997), с. 179–201.
(обратно)
504
К сожалению, такие концепции, как «инклюзивный иудаизм» Д. Кроссана, выхолащивают представление об Иисусе в контексте иудаизма и лишают его всякого смысла, см.: Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991), с. 418.
(обратно)
505
Первые три тома масштабного исследования Райта (всего планируется пять томов): N. T. Wright, The New Testament and the People of God (COQG1; Minneapolis: Fortress, 1992); N. T. Wright, Jesus and the Victory of God (COQG 2); N. T. Wright, The Resurrection of the Son of God (COQG 3; Minneapolis: Fortress, 2003). У Данна вышла серия из трех томов: J. D. G. Dunn, Jesus Remembered (CM 1), Beginning from Jerusalem (CM 2), Neither Jew nor Greek (CM 3; Grand Rapids, Eerdmans, 2003–2015).
(обратно)
506
G. Theissen and D. Winter, The Quest for the Plausible Jesus: The Question of Criteria (trans. M. E. Boring; Louisville: Westminster John Knox, 2002).
(обратно)
507
Между Иисусом и ранним христианством должна быть и неразрывная связь (критерии множественных свидетельств и когерентности), и различия (критерий несходства с христианством). Подробнее об этом см. далее.
(обратно)
508
Holmén, «Jewishness of Jesus», с. 146–147.
(обратно)
509
См.: J. H. Charlesworth, «The Foreground of Christian Origins and the Commencement of Jesus Research», в источнике: Jesus’ Jewishness: Exploring the Place of Jesus in Early Judaism (ed. Charlesworth; New York: Crossroad, 1996), с. 63–83.
(обратно)
510
Способствовать этому повороту в умах – вот основная цель проекта «Иисус в континууме». Этот проект был начат на семинаре по историческому Иисусу в 2005 году, во время Дрезденского конгресса Европейской ассоциации библейских исследований (European Association of Biblical Studies, EABS). Документы, представленные на семинаре, были собраны и опубликованы в издании: Jesus from Judaism to Christianity: Continuum Approaches to the Historical Jesus (ed. T. Holmén; LNTS 312; London: T&T Clark, 2007). Продолжением проекта стали встречи EABS в 2006 году в Будапеште и в 2007 году (совместно с SBL) в Вене. Документы из Будапешта и Вены опубликованы в сборнике: Jesus in Continuum (ed. T. Holmén; WUNT 1/289; Tübingen: Mohr Siebeck, 2012).
(обратно)
511
Подробнее в статье: «An Introduction to the Continuum Approach», в кн.: Jesus from Judaism to Christianity, ed. Holmén, с. 1–16.
(обратно)
512
Постмодернистские взгляды на историографию я сейчас намеренно оставляю в стороне. Основные идеи, которыми я здесь оперирую, можно приравнять к «контекстуалистской» концепции истории. Хейден Уайт в своем критическом анализе историографии (Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe [Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1975]) описывает контекстуализм так: «Исходная предпосылка, выражающая суть контекстуализма, состоит в том, что события можно объяснить через “контекст”, в котором они происходили. То, почему они происходили именно так, а не иначе, объясняется через раскрытие их взаимоотношений с другими событиями, происходившими в окружающем историческом пространстве… как до того – чтобы определить “истоки” событий, так и после того – чтобы определить их “воздействие” и “влияние” на события последующие» (с. 17–18). Важно отметить: Уайт замечает, что контекстуализм (наряду с «формизмом») признан профессиональными историками как правомерная и легитимная форма исторического объяснения (с. 19–20). Однако, по Уайту, даже контекстуализм лишен неопровержимых эпистемологических оснований и, следовательно, как и всякий метод исторического объяснения (по мнению Уайта), в конечном счете базируется на эстетических и идеологических предпочтениях (с. 20–28). Уайта серьезно критикуют, например, Эванс (R. J. Evans, In Defense of History [London: Granta, 1997]) и Кит Виндшаттл (K. Windschuttle, The Killing of History [New York: Free Press, 1997]).
(обратно)
513
Как мы уже отмечали, Трёльча часто критикуют. Однако мы используем его принципы как отправную точку, стремясь показать исторические корни идеи, на которой основан континуальный ракурс.
(обратно)
514
Ответ на вопрос «почему» требует внимания не только к богословским факторам: можно привлечь, например, общественные и политические элементы. В то же время ответ не предполагает механистического понимания истории, основанного на «научной» причинно-следственной зависимости, и не требует в каждом случае выделять отдельные события и их причинную или следственную связь с тем, что произошло прежде или после; см.: Bultmann, Existence and Faith, с. 291–292. Более того, историк должен быть готов «распознать novum — истинно новое» (Dunn, Jesus Remembered, с. 70).
(обратно)
515
Более теоретический взгляд на ту же проблему я предлагаю в статье: «A New Introduction to the Continuum Approach», в кн.: Jesus in Continuum, ed. Holmén, с. ix – xxi.
(обратно)
516
Можно добавить: совпадали без труда.
(обратно)
517
См.: T. Holmén, Jesus and Jewish Covenant Thinking (Leiden: Brill, 2001); idem, «Jesus, Judaism, and the Covenant», JSHJ 2 (2004): 3–27. Как видите, я говорю о грехе, в котором повинен сам.
(обратно)
518
Определения в скобках мои.
(обратно)
519
Возможно, это одна из целей планируемой пятой монографии Райта, о которой он упоминает в начальном томе; см.: Wright, People of God, с. xiii. Кроме того, в первом томе серии Райт дает предварительный обзор раннего христианства.
(обратно)
520
J. H. Charlesworth, «From Jewish Messianology to Christian Christology: Some Caveats and Perspectives», в кн.: Judaisms and Their Messiahs at the Turn of the Christian Era (ed. J. Neusner, W. S. Green, and E. Frerichs; New York: Cambridge University Press, 1987), с. 225–264, цит. с. 227.
(обратно)
521
B. Chilton, The Temple of Jesus: His Sacrificial Program within a Cultural History of Sacrifice (University Park: Pennsylvania State University Press, 1992), с. 181.
(обратно)
522
T. Holmén, «Seven Theses on the So-Called Criteria of Authenticity of Historical Jesus Research», RCT 33 (2008): 343–376, цит. с. 362–367.
(обратно)
523
Не так давно достойную внимания попытку тесно связать канонические Евангелия со свидетельствами очевидцев предпринял Ричард Бокэм. См.: Richard Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony (Grand Rapids: Eerdmans, 2006).
(обратно)
524
Источник фразы: D. L. Schacter, The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers (Boston: Houghton Mifflin, 2001).
(обратно)
525
G. A. Bonanno, «Remembering and Psychotherapy», Psychotherapy 27 (1990): 175–186, цит. с. 177.
(обратно)
526
Об этом в источнике: C. P. Thompson et al., Autobiographical Memory: Remembering What and Remembering When (Mahwah, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1996), с. 204.
(обратно)
527
Серьезные сомнения относительно наших стандартных критериев подлинности я впервые высказал в источнике: Jesus of Nazareth: Millenarian Prophet (Philadelphia: Fortress, 1998); там я старался их оправдать, но впоследствии оставил эти попытки.
(обратно)
528
I. Rosenfield, The Invention of Memory (New York: Basic Books, 1988), с. 76.
(обратно)
529
J. Henderson, Memory and Forgetting (London: Routledge, 1999), с. 28–29.
(обратно)
530
S. J. Ceci, «False Beliefs: Some Developmental and Clinical Considerations», в кн.: Memory Distortion: How Minds, Brains, and Societies Reconstruct the Past (ed. D. L. Schacter; Cambridge: Harvard University Press, 1995), с. 96.
(обратно)
531
Schacter, Seven Sins, с. 15–16.
(обратно)
532
Это определение я заимствую из источника: V. F. Reyna and C. J. Brainerd, «Fuzzy-Trace Theory: An Interim Synthesis», Learning and Individual Difference 7 (1995): 1–75.
(обратно)
533
F. C. Bartlett, Remembering: A Study in Experiment and Social Psychology (London: Cambridge University Press, 1967), с. 176.
(обратно)
534
R. Funk, R. Hoover, and the Jesus Seminar, The Five Gospels: The Search for the Authentic Words of Jesus (New York: Macmillan, 1993), с. 287: Иисус был «мирским мудрецом» и использовал «мирские притчи».
(обратно)
535
J. Weiss, Jesus’ Proclamation of the Kingdom of God (ed. and trans. R. H. Hiers and D. L. Holland; LJS; Philadelphia: Fortress, 1971); A. Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus: First Complete Edition (ed. J. Bowden; trans. W. Montgomery et al.; Minneapolis: Fortress, 2001).
(обратно)
536
C. M. Tuckett, Q and the History of Early Christianity: Studies on Q (Edinburgh: T&T Clark, 1996), с. 145.
(обратно)
537
1 Ен 10:12; 100:4, Юб 4:19, Иудифь 16:17, Зав. Лев 1:1, 3 Ездр 12:34, Апок. Моис 26:4. В позднейшей раввинистической литературе в том же значении используется синонимическое []: иер. Нед 26a; Хаг 8b; и т. д. Вариации включают в себя «день великого суда» или «великий день суда» (1 Ен 10:6), «день гнева суда» (Юб 24:30), «день суда Господня» (Пс. Сол 15:14), «дни суда» (1 Ен 27:4) и «час суда» (Откр 14:7).
(обратно)
538
Нумерация стихов Третьей книги Ездры в данном случае приведена с учетом Амьенского манускрипта. – Прим. ред.
(обратно)
539
B. H. Gregg, The Historical Jesus and the Final Judgment Sayings in Q (WUNT 2/207; Tübingen: Mohr Siebeck, 2006), с. 241.
(обратно)
540
О потопе см.: Ис 24:18, Юб 20:5–6, 1 Ен 1–16; 67:10; 93:4 (потоп – это «первое завершение»), Сир 16:8; 2 Мак 2:4; LAB 3:1–3, 9–10; 49:3; Иосиф Флавий, И. Д. I, 3.1–5; 2 Пет 2:5; 3:6–7, 2 Ен 70:10 [J]; Апок. Адама 3:3, 3 Ен 45:3, Мех на Исх 18:1, вав. Санх 108a. О Содоме см.: Юб 16:6, 9; 22:22; 36:10, 2 Пет 2:6, Иуд 7, Греч. апок. Ездры 2:18–19; 7:12.
(обратно)
541
«И в печали скончавшиеся восстанут в радости, и бедные ради Господа разбогатеют, и умирающие ради Господа пробудятся к жизни». – Пер. прот. А. Смирнова. 1908.
(обратно)
542
Рабби Иосиф бен Иошуа, узрев отблеск будущего мира, говорит, что он «опрокинут вверх дном»; «те, кто здесь наверху – там внизу, те, кто здесь внизу – там наверху».
(обратно)
543
Подробнее об этом см.: Allison, Jesus of Nazareth, с. 131–136.
(обратно)
544
См.: вав. Брах 3а; вав. Сота 49a. Каддиш, по всей видимости, сложился во времена таннаев, согласно аргументации: J. Heinemann, Prayer in the Talmud: Forms and Patterns (SJ 9; Berlin: de Gruyter, 1977), с. 24, 256.
(обратно)
545
Об этом см. особ.: O. Camponovo, Königtum, Königsherrschaft und Reich Gottes in den frühjüdischen Schriften (OBO 58; Freibourg: Universitätsverlag, 1984). Тем, кто полагает, что «царствие» было для Иисуса выражением метафорическим, следует обратиться к текстам диаспоры, например, к Книге Премудрости и Филону.
(обратно)
546
Напр.: Ис 35:4; 40:9–10, Зах 14:5, 1 Ен 1:3–9; 25:3, Юб 1:22–28, Зав. Лев 5:2, Зав. Моис 10:1–12, Тг Зах 2:14–15. Обсуждение см. в кн.: J. Schlosser, Le Règne de Dieu dans les dits de Jésus (2 тома.; EB; Paris: Gabalda, 1980), 1:269–284.
(обратно)
547
Цит. по: J. D. Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991), с. 292.
(обратно)
548
Цит. по: H. Räisänen, «Exorcisms and the Kingdom: Is Q 11:20 a Saying of the Historical Jesus?» в кн.: Symbols and Strata: Essays on the Sayings Gospel Q (ed. R. Uro; Helsinki: Finnish Exegetical Society, 1996), с. 140.
(обратно)
549
Об использовании Дан 7 в Мф 10:32–33 = Лк 12:8–9 и Мф 19:28 = Лк 22:28–30 см.: D. C. Allison Jr., The Intertextual Jesus: Scripture in Q (Valley Forge, Pa.: Trinity Press International, 2000), с. 130–131, 137–140.
(обратно)
550
Подробнее об этом см.: Allison, Jesus of Nazareth, с. 136–141. О чтении P.Oxy. 654.31 («среди похороненного нет ничего, что не будет воздвигнуто») см.: H.-C. Puech, «Un logion de Jésus sur bandelette funéraire», RHR 147 (1955): 126–129.
(обратно)
551
Об эсхатологических бедствиях вообще и в частности в Мк 13 см. особ.: B. Pitre, Jesus, the Tribulation, and the End of the Exile: Restoration Eschatology and the Origin of the Atonement (WUNT 2/204; Tübingen: Mohr Siebeck, 2005). О Мф 11:12–13 = Лк 16:16 («Царство Небесное силою берется») см.: Pitre, Jesus, с. 159–177. О Мф 10:34–36 = Лк 12:51–53 = Ев. Фом 16; см.: Pitre, Jesus, с. 198–216; D. C. Allison Jr., «Q 12:51–53 and Mark 9:11–13 and the Messianic Woes», в кн.: Authenticating the Words of Jesus (ed. B. Chilton and C. A. Evans; NTTS 28.1; Leiden: Brill, 1998), с. 289–310.
(обратно)
552
B. F. Meyer, The Aims of Jesus (London: SCM, 1979), с. 316, прим. 40.
(обратно)
553
Ис 27:12–13; 43:5–6, Ос 11:11, 2 Мак 1:27; 2:18, Вар 4:37; 5:5, Пс. Сол 8:33–34; 11:3, 1 Ен 57:1, 11QT LVII, 5–6, 3 Ездр 13:32–50, 2 Вар 78:1–7, Ор. Сив 2:170–173, Зав. Иос 19:3–8 (армянский текст); м. Санх 10:3.
(обратно)
554
См.: D. C. Allison Jr., The Jesus Tradition in Q (Harrisburg: Trinity Press International, 1997), с. 176–191. Ср.: Gregg, Historical Jesus, с. 229–232 («те многие, что придут – это в основном иудеи из Рассеяния»). Несмотря на критику: Pitre, Jesus, с. 279–283; M. Bird, «Who Comes from the East and the West? Luke 13.28–29/Matt 8.11–12 and the Historical Jesus», NTS 52 (2006): 441–457, оба автора согласны с тем, что это речение предполагает воссоединение иудейской диаспоры. Наше с ними разногласие касается лишь того, включаются ли сюда и язычники. Отметим, что Мф 8:11–12 = Лк 12:28–29, если понимать его буквально, предполагает и географическое измерение: люди, пришедшие с востока и запада, скорее всего, соберутся в эсхатологическом центре мира – на горе Сион.
(обратно)
555
О связи заповедей блаженств в Q с Ис 61 см.: Allison, Intertextual Jesus, с. 104–107.
(обратно)
556
M. Borg, «A Temperate Case for a Non-Eschatological Jesus», в кн.: Jesus in Contemporary Scholarship (Valley Forge, Pa.: Trinity Press International, 1994), с. 47–68, цит. с. 52.
(обратно)
557
M. Borg, «Jesus Was Not an Apocalyptic Prophet», в кн.: The Apocalyptic Jesus: A Debate (ed. R. J. Miller; Santa Rosa, Calif.: Polebridge, 2001), с. 31–48, цит. с. 41.
(обратно)
558
J. D. Crossan, «Assessing the Arguments», в кн.: Apocalyptic Jesus, ed. Miller, с. 119–123, цит. с. 122. Кроссан, однако, не делает из этого тех же выводов, какие делаю я. По его мнению, в своем собрании материалов я наивно игнорирую источниковедение и стратиграфический анализ. О наших разногласиях в этом вопросе см.: Crossan, «Assessing», с. 123; Allison, Jesus of Nazareth, с. 13–20.
(обратно)
559
См. особенно: M. J. Borg, Conflict, Holiness, and Politics in the Teaching of Jesus (SBEC 5; New York: Mellen, 1984), с. 201–227.
(обратно)
560
Allison, Jesus of Nazareth, с. 97–101.
(обратно)
561
B. F. Meyer, Christus Faber: The Master Builder and the House of God (Allison Park, Pa.: Pickwick, 1992), с. 47.
(обратно)
562
Это почти несомненно «древнее исповедание веры, сохранившееся в каком-то палестинском богослужебном контексте», которое Павел использует «как исповедание грядущего Второго Пришествия Иисуса, понимаемого по меньшей мере как эсхатологическое и царственное, а возможно, и связанное с судом». Цит. по: J. Fitzmyer, «New Testament Kyrios and Maranatha and their Aramaic Background», в кн.: To Advance the Gospel: New Testament Studies (New York: Crossroad, 1981), с. 218–235, цит. с. 228–229. Ср.: ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ в Откр 22:20 – греческое богослужебное переложение; см.: D. E. Aune, Revelation 17–22 (WBC 52C; Nashville: Nelson, 1998), с. 1234–1235.
(обратно)
563
Crossan, «Assessing», с. 122.
(обратно)
564
Цит. по: J. H. Charlesworth, Jesus within Judaism: New Light from Exciting Archaeological Discoveries (New York: Doubleday, 1988), с. 3.
(обратно)
565
B. S. Crawford, «Christos as Nickname», в кн.: Redescribing Christian Origins (ed. R. Cameron and M. P. Miller; SBLSymS 28; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2004), с. 337–348, цит. с. 347. Сам Кроуфорд признает, что, судя по всему, что нам известно, прозвища давались людям при жизни, а не после смерти, – и не приводит никаких других примеров χριστός как прозвища.
(обратно)
566
Однако применение к Иисусу Ис 61 в Q 6:20–23 и 7:18–23 превращает его в «помазанного вестника» из Ис 61 (ст. 1:); см.: Allison, Intertextual Jesus, с. 104–114.
(обратно)
567
Слова Бёртона Мэка, цит. по: R. Cameron, «Proposal for the Second Year of the Seminar», в кн.: Redescribing Christian Origins, ed. Cameron and Miller, с. 285–292, цит. с. 290.
(обратно)
568
Ср. использование слова «Мессия» в CD XII, 23–XIII, 1; XIV, 18–19; XIX, 10–11; XX, 1, 1QS IX, 9–11, 1QSa II, 11–15, 4Q252 фр. 1 V, 1–5, 4Q521 фр. 2 II, 1; 11QMelch II, 18; Пс. Сол 17–18, 1 Ен 48:10; 52:4, 2 Вар 29:3; 30:1; 39:7; 40:1; 70:9; 72:2, 3 Ездр 7:28–29; 12:32, м. Бр 1:5, м. Сота 9:15, Тг Ис 9:5; 10:27; 11:1. См. обсуждение: J. Neusner, William Scott Green, and Ernest S. Frerichs, eds., Judaisms and Their Messiahs at the Turn of the Christian Era (New York: Cambridge University Press, 1987); J. Charlesworth, ed., The Messiah: Developments in Earliest Judaism and Christianity (Minneapolis: Fortress, 1992). При всем разнообразии древнего иудаизма веру в будущего царя из рода Давидова (Ис 11:1–15, Иер 23:5; 33:17–22, Иез 34:23; 37:24) разделяли многие, и слово = ὁ χριστός, как и = «ветвь», в соответствующем контексте, относится именно к этой фигуре (как доказывает и сам НЗ: ср.: 1QSa II, 12; 2 Вар 29:3; 30:1; 3 Ездр 12:32).
(обратно)
569
B. Ehrman, Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium (Oxford: Oxford University Press, 1999), с. 135.
(обратно)
570
Об этом и последующем см.: D. C. Allison, Jr., The End of the Ages Has Come: An Early Interpretation of the Passion and Resurrection of Jesus (Philadelphia: Fortress, 1985).
(обратно)
571
C. H. Dodd, Historical Tradition in the Fourth Gospel (Cambridge: Cambridge University Press, 1963), с. 173.
(обратно)
572
J. L. Martyn, «Apocalyptic Antinomies in Paul’s Letter to the Galatians», NTS 31 (1985): 410–424, цит. с. 421.
(обратно)
573
Подробнее см.: Allison, End of the Ages, с. 142–163.
(обратно)
574
См.: J. J. Collins, Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls (London: Routledge, 1997).
(обратно)
575
См.: P. W. Flint, «The Daniel Tradition at Qumran», in Eschatology, Messianism, and the Dead Sea Scrolls (ed. C. A. Evans and Flint; SDSSRL; Grand Rapids: Eerdmans, 1997), с. 41–60. В пещерах найдено больше экземпляров Книги Даниила (восемь), чем Книг Иисуса Навина, Царств, Паралипоменон и Иеремии. Найдены также фрагменты трех текстов псевдо-Даниила (4QPsDana ar + 4QPsDanb ar; 4QPsDanc ar; 4QPrNab ar).
(обратно)
576
B. Lindars, «The Place of the Old Testament in the Formation of the New Testament Theology: Prolegomena», NTS 23 (1976): 59–66, цит. с. 62.
(обратно)
577
Гом. Лк 23.1, FC 4/1; ed. H.-J. Sieben, с. 252.
(обратно)
578
Allison, Jesus of Nazareth, с. 78–94. По существу согласен со мной Герт Тайсен: «Jesus – Prophet einer millenaristischen Bewegung? Sozialgeschichtliche Überlegungen zu einer sozialanthropologischen Deutung der Jesusbewegung», в кн.: Jesus als historische Gestalt: Beiträge zur Jesusforschung (ed. A. Merz; FRLANT 202; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003), с. 197–228.
(обратно)
579
D. E. Aune, «Understanding Jewish and Christian Apocalyptic», в кн.: Apocalypticism, Prophecy and Magic in Early Christianity (Tübingen: Mohr Siebeck, 2006), с. 1–12, цит. с. 5. Он упоминает Иоанна Крестителя, Февду, безымянного египтянина из Деян 21:38 и Иосифа Флавия (И. Д. XX, 8.6), а также Кумранскую общину.
(обратно)
580
B. Schwartz, «Social Change and Collective Memory: The Democratization of George Washington», ASR 56 (1991): 221–236, цит. с. 232.
(обратно)
581
Термины в кавычках цит. по: Eviatar Zarubavel, Social Mindscapes: An Invitation to Cognitive Sociology (Cambridge: Harvard University Press, 1997), с. 81, 87.
(обратно)
582
Там же, с. 92.
(обратно)
583
S. Dein, «Mosiach Is Here Now: Just Open Your Eyes and You Can See Him», Anthropology & Medicine 9.1 (2002): 25–36, цит. с. 28.
(обратно)
584
Три конкретных области в нашем воссоздании исторического Иисуса особенно туманны: а) утверждения, превозносившие Иисуса; б) различные интерпретации смерти Иисуса; и в) сообщения о детстве Иисуса. О детстве Иисуса, как обычно и бывает с героями древности, нам почти ничего не известно. Поэтому едва ли стоит удивляться, что пробелы в знаниях о его детских годах заполнились легендарным материалом. С другими двумя областями неопределенности ситуация иная. Смерть Иисуса на кресте – пожалуй, самый несомненный из фактов его биографии, засвидетельствованный и авторами-нехристианами (Тацит, Анналы, 15.44.3; Иосиф Флавий, И. Д. XVIII, 3.3). Проблемы связаны не с самим фактом распятия, а с истолкованием его смысла. И равно так же то, что Иисус, обладавший харизмой, сознавал, что его превозносят, и это очевидно во многих преданиях, – по всей видимости, факт несомненный. Но до какой степени он это понимал, и что именно ему представлялось? Неопределенность этих трех сфер, для которой в каждом случае есть свои причины, косвенно подразумевает, что в других областях мы можем ожидать более надежных знаний. А в двух из упомянутых сфер можно прорваться сквозь пелену неопределенности и прийти к установленным «фактам».
(обратно)
585
Как правило, эта проблема описывается при помощи парных понятий «исторический Иисус – керигматический Христос». Однако это неверно. На исторического Иисуса, вполне вероятно, смотрели сквозь призму мессианских ожиданий, так что почетный титул «Мессия» (по-гречески «Христос») принадлежит именно историческому Иисусу. В то же время титул «Сын Божий» четко связан именно с Иисусом после Пасхи (Рим 1:3–4, Деян 13:33–34). Вот почему предпочтительнее говорить об «историческом Иисусе и о Сыне Божьем керигмы».
(обратно)
586
Именно в то время был сформулирован «критерий различия», гласящий: подлинно то, что не имеет аналогий. Это дало начало поиску уникальных феноменов во всем – даже в методах «Исследования Иисуса». См.: Gerd Theissen and Dagmar Winter, The Quest for the Plausible Jesus: The Question of Criteria (trans. M. E. Boring; Louisville: Westminster John Knox, 2002).
(обратно)
587
Новый подход к интерпретации такого исторического сознания можно найти в источнике: Takashi Onuki, Jesus: Geschichte und Gegenwart (BthSt 82; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2006; япон. оригинал: 2003). Онуки считает, что Иисус и изначальное христианство связаны переживанием «всевременного сейчас»: Авраам, Исаак и Иаков, праотцы Израиля, жившие в прошлом – в то же время принадлежат будущему Царству Божьему, которое осуществляется уже в настоящем.
(обратно)
588
Со времен труда: Rudolf Bultmann, «Die Frage nach dem messianischen Bewusstsein Jesu und das Petrus-Bekenntnis», ZNW 19 (1919/1920), 165–174; repr.: Exegetica: Aufsätze zur Erforschung des Neuen Testaments (ed. E. Dinkler; Tübingen: Mohr, 1967), с. 1–9.
(обратно)
589
Классическое изложение этой позиции: Rudolf Bultmann, Theologie des Neuen Testaments (2 vols.; Tübingen: Mohr, 1948–1953; 9th ed.; UTB 630; Tübingen: Mohr, 1984); Heinz Eduard Tödt, Der Menschensohn in der synoptischen Überlieferung (Gutersloh: Gutersloher Verlagshaus Mohn, 1959; 4th ed., 1978).
(обратно)
590
Классическое изложение этой позиции см. в кн.: Julius Wellhausen, Israelische und Jüdische Geschichte (Berlin: Reimer, 1894), с. 312, прим. 1. В наше время эту позицию обновил Вермеш (Geza Vermes, Jesus the Jew: A Historian‘s Reading of the Gospels [Philadelphia: Fortress, 1973], с. 160–191); его поддержал Ульрих Мюллер (Ulrich B. Muller, «Jesus als ‘der Menschensohn’», в кн.: Gottessohn und Menschensohn [ed. D. Sanger; BthSt 67; Neukirchen-Vluyn; Neukirchener Verlag 2004], с. 91–129).
(обратно)
591
Наиболее полно и убедительно развивал эту позицию мой наставник Филипп Фильхауэр: Philipp Vielhauer, Aufsätze zum Neuen Testament (2 vols.; TB 31, 65; Munich: Kaiser, 1965–1979), 1:55–91, 92–140.
(обратно)
592
Исключение – явление Иакову в «Евангелии евреев», где Иисус называет себя Сыном Человеческим (фрагмент 7 в кн.: Wilhelm Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen [5th ed.; Tübingen: Mohr Siebeck, 1987], 1:147).
(обратно)
593
Эту позицию занимает Карстен Кольпе: Carsten Colpe, «ὁ υἱός τοϋ ἀνθρώπου», TDNT 8:400–477.
(обратно)
594
См.: Gerd Theissen, Die Jesusbewegung: Sozialgeschichte einer Revolution der Werte (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2004), с. 37–51. Вопрос о «самосознании Иисуса» вообще не следует ставить так, как ставится он по отношению к личной идентичности в индивидуалистической культуре. В коллективистских сообществах ключевую роль играют «публичное я» и «я-в-группе». См.: Richard L. Rohrbaugh, «Ethnocentrism and Historical Questions about Jesus», в кн.: The Social Setting of Jesus and the Gospels (ed. B. J. Malina, W. Stegemann, and G. Theissen; Minneapolis: Fortress, 2002), с. 27–43.
(обратно)
595
Ср.: Michael N. Ebertz, Das Charisma des Gekreuzigten: Zur Soziologie der Jesusbewegung (WUNT 45; Tübingen: Mohr, 1987); Helmut Mödritzer, Stigma und Charisma im Neuen Testament und seiner Umwelt: Zur Soziologie des Urchristentums (NTOA 28; Fribourg: Universitatsverlag, 1994).
(обратно)
596
Платон говорит о «всякой трагедии и комедии жизни» (Филеб 50b; ср.: Зак 644b). Образ этот был так широко распространен, что проник и в христианство. Павел называет себя «позорищем для мира», в котором он приговорен к смерти (1 Кор 4:9). Для Тертуллиана Второе Пришествие Христа и Страшный суд – spectaculum (О зрелищах 30).
(обратно)
597
Образ theatrum mundi, в котором Бог раздает роли, появляется у Эпиктета, фрагмент 11; Диатр 1.25.7–33; 3.22.59. Эту метафору использует Сенека (Пров 2.8–9): Катон предпочитает смерть потере свободы – вот великое зрелище для Юпитера! Совсем иначе использует он то же сравнение, когда сетует на то, что человекоубийство превратилось в спектакль (Нрав. пис 95.33).
(обратно)
598
Платон показывает понимание этого, когда называет людей марионетками богов (Зак 644d). Ту же метафору мы находим у псевдо-Аристотеля, О мире 398b.
(обратно)
599
Петер Лампе так перефразирует понимание статусной заданности в культурном мире раннего христианства: «Для человека из мира древнего Средиземноморья “моя ценность” в огромной степени зависит от той социальной группы, к которой я принадлежу и с которой себя отождествляю. Моя ценность – по большей части производная: она переходит на меня, отдельного человека, от группы – точнее, от главы групповой иерархии». («Menschliche Wurde in frühchristlicher Perspektive», в кн.: Menschenbild und Menschenwürde [ed. E. Herms; Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2001], с. 288–304, цит. с. 289).
(обратно)
600
Здесь можно различить две стороны: непредвиденное установление ролей и статусов – и их непредвиденное провозглашение. Важные идеи, связанные с пониманием статуса в древности, я заимствую из источника: Pierre-Yves Brandt, L’identité de Jésus et l’identité de son disciple: Le récit de la transfiguration comme clef de lecture de l’Évangile de Marc (NTOA 50; Fribourg: Editions Universitaires, 2002), особ. с. 39–171, где он обсуждает изображение Иисуса в Евангелии от Марка. В этой статье я использую некоторые категории из работы Брандта в поиске исторического Иисуса. Термин «непредвиденность статуса» придуман мною самим с целью подчеркнуть этот досовременный аспект самосознания человека древности.
(обратно)
601
Geza Alföldy, Römische Sozialgeschichte (2nd ed.; Wiesbaden: Steiner, 1979), с. 83–138; о непостоянстве в разных поколениях см.: с. 134–135.
(обратно)
602
См.: Helmut Schwier, Tempel und Tempelzerstörung (NTOA 11; Fribourg: Universitatsverlag, 1989), с. 293–298.
(обратно)
603
Gerd Theissen and Petra von Gemünden, «Metaphorische Logik und Aufbau des Rumerbriefs», в кн.: von Gemünden, Affekt und Glaube: Studien zur historischen Psychologie des Frühjudentums und Urchristentums (NTOA 73; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009), с. 248–276.
(обратно)
604
Различие здесь в том, что учителей было много, а пророков мало. Другое отличие: стать учителем человек решал сам, а пророк должен был ощутить призвание от Бога. Учитель передает знания, хранящиеся в традиции; пророк – новые откровения.
(обратно)
605
В Кумране ожидали мессианского двоевластия, т. е. пришествия двух мессий (1QS IX, 9–11, CD XIX, 10–11; XX, 1).
(обратно)
606
«Прославлю Тебя, о Господи, спаситель мой, и восхвалю Тебя, Бог Отец мой» (евр. текст Сир 51:1). Ср. также Прем 2:16, где безбожник говорит о праведном: «Ублажает кончину праведных и тщеславно считает Отцом своим Бога».
(обратно)
607
Мк 4:38; 9:17, 38; 10:17, 35 и др.; Мф 19:16; 22:16, Лк 7:40; 11:45 и др. Другие люди говорят об Иисусе как об «учителе» (Мк 5:35) или «учителе вашем» (Мф 9:11; 17:24).
(обратно)
608
Gerd Theissen, «Frauen im Umfeld Jesu», в кн.: Sexauer Gemeindepreis für Theologie 11 (Sexau 1993): 1–23; repr.: Jesus als historische Gestalt: Beiträge zur Jesusforschung (ed. A. Merz; FRLANT 202; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003), с. 91–110.
(обратно)
609
В устах окружающих титул «пророк» предполагает положительную оценку. Часто оно относится к чудесам Иисуса, при этом «ролевой моделью» выступает пророк Илия. См. особенно Лк 7:16.
(обратно)
610
Два варианта этого речения (Ев. Фом 10 и аграфа; см. далее) содержат в себе только образ огня. Быть может, упоминание крещения вторично и представляет собой аллюзию на смерть Иисуса? В этих двух вариантах «огонь» не оценивается как что-то совершенно отрицательное. Напротив, огонь – это то, к чему следует стремиться, он отождествляется с Царством Божьим: «Иисус сказал: Я бросил огонь в мир, и вот я охраняю его, пока он не запылает» (Ев. Фом 10); «Кто со Мной, тот в огне; но кто далек от Меня – далек от Царства» (аграф у Дидима, Изъясн. Пс 88.8; ср.: O. Hofius, «Isolated Sayings of the Lord», в кн.: New Testament Apocrypha [ed. W. Schneemelcher; rev. ed.; ET: ed. R. McL. Wilson; 2 vols.; Louisville: Westminster John Knox, 1991], 1:91). Возможно, это и есть подлинное речение, в котором Иисус отождествляет себя с «тем, кто придет крестить огнем» – и тем, кого ждет креститель?
(обратно)
611
Впрочем, вполне возможно, что изначально это двойное речение относилось к Иоанну Крестителю. См.: Gerd Theissen, «Das Zeichen des Jona: Von der Menschenfreundlichkeit Gottes (Lk 11, 29–32 par)», в кн.: Der Freund des Menschen (ed. A. Meinholdt et al.; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2003), с. 181–193.
(обратно)
612
Hjalmar Sunden, Die Religion und die Rollen: Eine psychologische Untersuchung der Frömmigkeit (Berlin: Topelmann, 1966); idem, Gott erfahren: Das Rollenangebot der Religionen (GTBS 98; Gütersloh: Mohn, 1975); ср.: H. Reller, ed., Der Schatz im Acker: Wenn sich der vergessene Gott plötzlich zurückmeldet: Hjalmar Sundéns Gedanken zu Gottes verborgenem Wirken in ihrer Geschichte (Gera: Eltern & Kinder, 2004).
(обратно)
613
Ср.: Ulrich B. Muller, «Vision und Botschaft. Erwägungen zur prophetischen Struktur der Verkündigung Jesu», ZTK 74 (1977): 416–448. Возможно, обрывком сообщения о призвании Иисуса является видение сатаны, спавшего с неба, как молния, в Лк 10:18. В таком случае победа над сатаной в нарративе об искушениях окажется легендарным описанием того же. Эд Сандерс (E. P. Sanders, The Historical Figure of Jesus [London: Allen Lane, 1993], с. 117) оценивает рассказ об искушениях как «мифологическое преувеличение, основанное на фактах».
(обратно)
614
Исключения: 1) увещание помогать ученикам, ибо они носят имя Христово (Мк 9:41). Это наставление дано уже после Пасхи, оно касается обращения с христианскими проповедниками. В вопросе о сыне Давидовом (Мк 12:35 и пар.) Иисус говорит о Мессии в общем, не утверждая прямо, что сам он Мессия. 2) В Лк 24:26, 46 титул Христос (Мессия) прямо использован возвеличенным Иисусом. Он объясняет ученикам на дороге в Эммаус, что Христос должен был пострадать. 3) В Первосвященнической молитве (Ин 17:3) ретроспективно подводятся итоги миссии Иисуса Христа. Упоминаются Страсти, однако предполагается, что Иисус уже оставил мир (Ин 17:11).
(обратно)
615
Светоний, Калиг 32.2; Дом 10.1; Дион Кассий 54.3.6–7; 73.16.5; Евсевий, Церк. ист. 5.1.44.
(обратно)
616
Эту связь можно обнаружить и в повествовании о Страстях, и в до-Павловых формулировках, ср.: Рим 5:6; 5:8; 14:15; 1 Кор 8:11, 1 Фес 5:10, Гал 2:21; а также 1 Кор 15:3–5.
(обратно)
617
См.: Gerd Theissen, «Gruppenmessianismus: Überlegungen zum Ursprung der Kirche im Jüngerkreis Jesu», JBTh 7 (1992): 101–123; repr.: Jesus als historische Gestalt, ed. Merz, с. 255–281. Предание гласит, что праведники будут властвовать над врагами Израиля. Однако двенадцать учеников должны править не врагами Израиля, а самим Израилем. Это правление Иисус видит вполне мирным. В Пс. Сол 17:28 мы также читаем, что Мессия будет управлять коленами Израилевыми для их же блага. Все это – новое слово в традиции. См.: Hanna Roose, Eschatologische Mitherrschaft: Entwicklungslinien einer urchristlichen Erwartung (NTOA 54; Fribourg: Academic Press, 2004), с. 30–95.
(обратно)
618
Это подтверждается следующим: 1) в Ин 6:66–71 речение о сатане идет после исповедания Петра, однако относится к Иуде. Слабый отзвук его содержится в Евангелии от Фомы, в резком ответе Иисуса на исповедание Фомы: «Я – не учитель тебе». Затем Иисус тайно сообщает Фоме три слова. О них Фома говорит: «Если я скажу вам одно из тех слов, что сказал он мне – вы схватите камни и бросите их в меня, и огонь выйдет из камней и попалит вас» (Ев. Фом 13). Отвержение Фомы Иисусом предвещает отвержение его другими учениками. 2) Отделение мессианского исповедания Петра от речения о сатане можно рассматривать как редактуру Марка, поставившего между ними заповедь о молчании (Мк 8:30) и пророчество о страдании (Мк 8:31). Тезис, что мессианское исповедание и речение о сатане друг с другом связаны, можно найти, среди прочих, в статье: Erich Dinkler, «Petrusbekenntnis und Satanswort: Das Problem der Messianität Jesu», в кн.: Zeit und Geschichte (ed. E. Dinkler; Tübingen: Mohr Siebeck, 1964), с. 127–153; репринт в кн.: Signum Crucis (Tübingen: Mohr Siebeck, 1967), с. 283–312; Ferdinand Hahn, Christologische Hoheitstitel: Ihre Geschichte im frühen Christentum (FRLANT 83; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1963; 5th ed.: 1995), с. 226–230.
(обратно)
619
Типичный для Иоанна мотив. Братья тоже побуждают Иисуса открыть себя миру! «Ибо никто не делает чего-либо втайне, и ищет сам быть известным. Если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру» (Ин 7:4).
(обратно)
620
Лк 7:34; 9:58; 11:30; 12:8, 10, 40; 17:24, 34.
(обратно)
621
Мф 10:23; 13:37, 41; 25:31.
(обратно)
622
Лк 17:22; 18:8; 19:10; 21:36; 22:48.
(обратно)
623
Мк 2:10, 28; 8:31, 38; 9:9, 12, 31; 10:33, 45; 13:26; 14:21, 41, 62.
(обратно)
624
Ин 1:51; 3:13, 14; 5:27; 6:27, 53, 62; 8:28; 9:35; 12:23, 34; 13:31.
(обратно)
625
Ев. Фом 86. Другие случаи: Ев. евр, фрагм. 7; Ев. Фил 102, 120; Ап. Иак 3; Диал. Спас 37, 40, ср.: 25.
(обратно)
626
Исключение: вопрос народа «Кто Этот Сын Человеческий?» в ответ на странное утверждение: «…пришел час прославиться Сыну Человеческому». Кроме того, Сын Человеческий появляется в видениях Стефана в Деян 7:55–56 и в Откр 1:13 и 14:14.
(обратно)
627
Например, в Мф 16:13 (ср.: Мк 8:27) и Мф 19:28 (ср.: Лк 22:30); ср.: Joachim Jeremias, «Die älteste Schicht der Menschensohn-Logien», ZNW 58 (1967): 159–172; idem, New Testament Theology: The Proclamation of Jesus (trans. John Bowden; New York: Scribner, 1971), с. 262–264.
(обратно)
628
Исключение – видение Стефана в Деян 7:55–56. Во время побития камнями он видит небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего по правую руку от Бога. Суд народов в Мф 25:31–46 может предполагать «видение», однако каких-либо аллюзий на мистический опыт мы в этом тексте не встречаем.
(обратно)
629
В английском языке определенность выражает удвоенный артикль: the Son of the Man. Там, где НЗ открыто ссылается на Дан 7, артикль не используется (как в Ин 5:27). Схожим образом он не используется в описаниях видений, содержащих скрытые отсылки к Дан 7 (Откр 1:13; 14:14).
(обратно)
630
Евангелист Матфей понимает власть Иисуса прощать грехи на земле (Мф 9:6) как власть, данную человеку вообще (Мф 9:8).
(обратно)
631
Здесь я следую источнику: Othmar Keel, «Die Tiere und der Mensch in Daniel 7», в кн.: Hellenismus und Judentum: Vier Studien zu Daniel 7 und zur Religionsnot unter Antiochus IV (ed. O. Keel and U. Staub; OBO 178; Fribourg: Universitätsverlag, 2000), с. 1–35.
(обратно)
632
Сатана спал с небес, как молния (Лк 10:18) – и так же Сын Человеческий явится, как молния на небесах (Лк 17:24 и пар.).
(обратно)
633
См.: Müller, «Jesus als ‘der Menschensohn’», с. 107–108.
(обратно)
634
Там же, с. 114–126.
(обратно)
635
В речениях о Сыне Человеческом многие видят проявление смирения Иисуса. По Мюллеру (там же, с. 110), речения о Сыне Человеческом, восходящие к самому Иисусу, имеют тенденцию «выражать смирение перед лицом бесконечно высочайшей власти Бога». Ранее Ханс Битенхард писал: «Говорение о себе в третьем лице единственного числа выражает скромность и смирение» («‘Der Menschensohn’ – ho huios tou anthropou: Sprachliche, religionsgeschichtliche und exegetische Untersuchungen zu einem Begriff der synoptischen Evangelien: 1. Sprachlicher und religionsgeschichtlicher Teil», ANRW II. 25.1 [1982]: 265–350).
(обратно)
636
Возможно, в основе их лежат подлинные слова Иисуса. В последние свои часы Иисус мог говорить о том, что претерпит смерть, как человек (Мк 14:21, 41). Однако то, что он будет предан (14:21) и отдан в руки грешников, т. е. римлян (14:41) – очевидно, vaticinium ex eventu, предсказание задним числом.
(обратно)
637
Colpe, TDNT 8:441. [В данном случае немецкое Vollendungsgewissheit, «доведение до совершенства», и в английском, и в русском переводах передано как «исполнение». – Прим. пер.]
(обратно)
638
Наши изыскания можно интерпретировать и в свете ролевой теории в психологии религии. Ср.: Sundén, Religion und Rollen; idem, Gott erfahren. Ориентируясь на свою религиозную традицию, которую можно рассматривать как предложение целого набора ролей, люди выбирают себе роли и начинают смотреть и на себя, и на мир вокруг по-новому. У Иисуса мы видим отсылки к различным общественным и религиозным ролям, однако ни с одной ролью он не ассоциирует себя полностью. Однозначно он связывает себя лишь с самой общей «ролью»: «человека» или «Сына Человеческого».
(обратно)
639
Onuki, Jesus.
(обратно)
640
Эти мысли об историческом Иисусе и Сыне Божьем керигмы развиваются далее в источнике: Gerd Theissen, «Considerations concerning the Gulf between Faith and History in the Research on the Historical Jesus», RCT 36/1 (2011): 167–188. В этой статье идет речь о проблемах истории и веры. На мой взгляд, в построении моста между историей и верой полезен когнитивный подход – в особенности понимание того, что формальная структура всех религиозных верований и переживаний – это смешение интуитивных и парадоксальных идей. В этом контексте я исследую христологию и значение понятий исторического Иисуса и воскресшего/керигматического Сына Божьего, заключенных в ней.
(обратно)
641
Первые несколько томов носили название «Открытия в Иудейской пустыне Иордании». Первый том вышел в 1955 году: D. Barthélemy and J. T. Milik, Qumran Cave 1 (DJD 1; Oxford: Clarendon, 1955). Последний был опубликован сорок четыре года спустя: E. Ulrich and P. W. Flint, Qumran Cave 1. II: The Isaiah Scrolls (DJD 32; Oxford: Clarendon, 2010). Полный список, включая библиографию, см. на сайте Центра «Орион»: http://orion.mscc.huji.ac.il/resources/djd.shtml.
(обратно)
642
Проект PTSDSSP, начатый в 1985 году, ставит своей целью критическое издание всех небиблейских свитков Мертвого моря, с транскрипцией и параллельным английским переводом каждой рукописи.
(обратно)
643
О датировке см.: J. C. VanderKam and P. W. Flint, The Meaning of the Dead Sea Scrolls: Their Significance for Understanding the Bible, Judaism, Jesus, and Christianity (San Francisco: HarperSanFrancisco, 2002), с. 4.
(обратно)
644
Например: M. Burrows, J. C. Trever, and W. H. Brownlee, The Dead Sea Scrolls of St. Mark’s Monastery, vol. 1: The Isaiah Manuscript and the Habakkuk Commentary (New Haven: ASOR, 1950); vol. 2, fasc. 2: Plates and Transcription of the Manual of Discipline (New Haven: ASOR, 1951). Выпуск 1 опубликован не был.
(обратно)
645
См.: Peter W. Flint, The Dead Sea Scrolls (Nashville: Abingdon), xxi, 52, 105; Emanuel Tov, The Greek and Hebrew Bible (TSAJ 21; Tübingen: Mohr Siebeck, 2008), с. 339–364, особ. с. 339–340. См. также два конкорданса кумранских свитков: M. G. Abegg Jr., with J. E. Bowley and E. M. Cook, The Dead Sea Scrolls Concordance, vol. 1: The Non-Biblical Texts from Qumran; vol. 3: The Biblical Texts from the Judean Desert (Leiden: Brill, 2003, 2009).
(обратно)
646
Достойны внимания: N. Golb, Who Wrote the Dead Sea Scrolls? The Search for the Secret of Qumran (New York: Scribner, 1995); Y. Hirschfield, Qumran in Context: Reassessing the Archaeological Evidence (Peabody, Mass.: Hendrickson, 2004); R. Elior, Memory and Oblivion: The Secret of the Dead Sea Scrolls (Jerusalem: Van Leer Institute and Hakibutz haMeuchad, 2009).
(обратно)
647
K. Bahrdt, Ausführung des Plans und Zwecks Jesu (12 vols.; Berlin: Mylius, 1784–1792).
(обратно)
648
E. Renan, La vie de Jésus (Paris: M. Leìvy, 1863); ET: The Life of Jesus (trans. C. E. Wilbour; London: Watts, 1883); последнее издание: Renan’s Life of Jesus (trans. W. G. Hutchinson; Whitefish, Mont.: Kessinger, 2003).
(обратно)
649
A. Dupont-Sommer, The Dead Sea Scrolls: A Preliminary Survey (trans. E. M. Rowley; New York: Macmillan, 1952), с. 99. Перевод с французского издания 1950 года.
(обратно)
650
Wilson, The Scrolls from the Dead Sea (New York: Oxford University Press, 1955); idem, The Dead Sea Scrolls: 1947–1969 (New York: Oxford University Press, 1969).
(обратно)
651
Potter, The Lost Years of Jesus Revealed (Greenwich, Conn.: Fawcett, 1958).
(обратно)
652
Qumrân Cave 4, I (4Q158–4Q186) (DJD 5; Oxford: Clarendon, 1968).
(обратно)
653
«Notes en marge du Volume V des ‘Discoveries in the Judaean Desert of Jordan’», RevQ 7 (1970): 163–276.
(обратно)
654
M. Bernstein, G. Brooke, J. Høgenhavn, J. VanderKam, M. Brady, Qumran Cave 4:I: 4Q158–186 (rev. ed.; DJD 5a; Oxford: Clarendon, готовится к печати).
(обратно)
655
P. Davies, «Allegro, John Marco», в кн.: Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls (ed. L. Schiffman and J. VanderKam; 2 vols.; New York: Oxford University Press, 2000), 1:18.
(обратно)
656
The Dead Sea Scrolls: A Reappraisal (Harmondsworth: Penguin, 1956).
(обратно)
657
Там же, с. 109, 175.
(обратно)
658
Time Magazine, 6 февраля 1956, цит. по: J. Fitzmyer, Responses to 101 Questions on the Dead Sea Scrolls (Mahwah, N. J.: Paulist Press, 1992), с. 164.
(обратно)
659
R. de Vaux, J. T. Milik, P. W. Skehan, J. Starcky, J. Strugnell.
(обратно)
660
См.: N. A. Silberman, The Hidden Scrolls: Christianity, Judaism, and the War for the Dead Sea Scrolls (New York: Putnam, 1994), с. 133–134.
(обратно)
661
Там же, с. 134.
(обратно)
662
London: Hodder & Stoughton, 1970.
(обратно)
663
John M. Allegro, The Dead Sea Scrolls and the Christian Myth, Newton Abbot, U. K.: Redwood Burn, 1979.
(обратно)
664
Allegro, Dead Sea Scrolls and Christian Myth, с. 190–191.
(обратно)
665
R. Price, Secrets of the Dead Sea Scrolls (Eugene, Ore.: Harvest House, 1996), с. 360.
(обратно)
666
M. Baigent and R. Leigh, The Dead Sea Scrolls Deception (New York: Summit, 1991). Особенно красноречива аннотация на обложке: «Как и почему горстка ученых церковников составила заговор, чтобы скрыть революционное содержание свитков Мертвого моря».
(обратно)
667
B. Thiering, Jesus and the Riddle of the Dead Sea Scrolls (San Francisco: Harper San Francisco, 1992), особ. с. 285–331. В Великобритании опубликована под названием Jesus the Man (London: Doubleday, 1992).
(обратно)
668
Thiering, Jesus and the Riddle, с. 116.
(обратно)
669
Там же, с. 15.
(обратно)
670
Описание методов палеографической датировки и AMS-тестирования: VanderKam and Flint, Meaning, с. 22–32.
(обратно)
671
N. T. Wright, Who Was Jesus? (Grand Rapids: Eerdmans, 1993), с. 23.
(обратно)
672
Dan Brown, The Da Vinci Code: A Novel (New York: Doubleday, 2003).
(обратно)
673
В число его трудов входят книги: J. H. Charlesworth, H. Lichtenberger and G. S. Oegema, eds., Qumran-Messianism: Studies on the Messianic Expectations in the Dead Sea Scrolls (Tübingen: Mohr Siebeck, 1998); Charlesworth, Jesus and the Dead Sea Scrolls (ABRL; New York: Doubleday, 1992); idem, ed., The Bible and the Dead Sea Scrolls, vol. 3: The Scrolls and Christian Origins (Second Princeton Symposium on Judaism and Christian Origins; Waco, Tex.: Baylor University Press, 2006); idem, The Historical Jesus: An Essential Guide (Nashville: Abingdon, 2008). Ключевые статьи: J. H. Charlesworth, «The Dead Sea Scrolls and the Gospel according to John», в кн.: Exploring the Gospel of John: In Honor of D. Moody Smith (ed. R. A. Culpepper and C. C. Black; Louisville: Westminster John Knox, 1996), с. 65–97; idem, «Challenging the Consensus Communis regarding Qumran Messianism (1QS, 4QS MSS)», в кн.: Qumran-Messianism, ed. Charlesworth, с. 120–134; idem, «The Historical Jesus and Christian Origins: Reflections on Methodologies for Future Jesus Research», Hen 27.1–2 (2005): 35–51.
(обратно)
674
Прежде всего: Brooke, The Dead Sea Scrolls and the New Testament (Minneapolis: Fortress, 2005).
(обратно)
675
Напр.: Fitzmyer, The Dead Sea Scrolls and Christian Origins (SDSSRL; Grand Rapids: Eerdmans, 2000).
(обратно)
676
Напр.: Evans, «Jesus and the Messianic Texts from Qumran», в кн.: Jesus and His Contemporaries: Comparative Studies (AGJU 25; Leiden: Brill, 1995), с. 83–154; idem, «Jesus and the Dead Sea Scrolls from Qumran Cave 4», в кн.: Eschatology, Messianism, and the Dead Sea Scrolls (ed. C. Evans and P. W. Flint; SDSSRL; Grand Rapids: Eerdmans, 1997), с. 91–100; idem, «Jesus and the Dead Sea Scrolls», в кн.: The Dead Sea Scrolls after Fifty Years (ed. P. W. Flint and J. C. VanderKam; 2 vols.; Leiden: Brill, 1998–1999), 2:573–598; idem, «Jesus, John, and the Dead Sea Scrolls: Assessing Typologies of Restoration», в кн.: Christian Beginnings and the Dead Sea Scrolls (ed. J. J. Collins and Evans; ASBT; Grand Rapids: Baker Academic, 2006), с. 45–62.
(обратно)
677
Lichtenberger, Studien zum Menschenbild in den Texten der Qumrangemeinde (SUNT 15; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1980); idem, «The Dead Sea Scrolls and John the Baptist: Reflections on Josephus’ Account and John the Baptist», в кн.: The Dead Sea Scrolls: Forty Years of Research (ed. D. Dimant and U. Rappaport; STDJ 10; Leiden: Brill, 1992), с. 340–346; idem, «The Understanding of the Torah in the Judaism of Paul’s Day: A Sketch», в кн.: Paul and the Mosaic Law (ed. J. D. G. Dunn; Grand Rapids: Eerdmans, 2001), с. 7–24.
(обратно)
678
Kuhn, Enderwartung und gegenwärtiges Heil: Untersuchungen zu den Gemeindeliedern von Qumran mit einem Anhang über Eschatologie und Gegenwart in der Verkündigung Jesu (SUNT 4; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1966); idem, «Das Liebesgebot Jesu als Thora und als Evangelium: Zur Feindesliebe und zur christlichen und jüdischen Auslegung der Bergpredigt», в кн.: Vom Urchristentum zu Jesus: Für Joachim Gnilka (ed. H. Frankemölle and K. Kertelge; Freiburg: Herder, 1989), с. 194–230; idem, «Qumran Texts and the Historical Jesus: Parallels in Contrast», в кн.: The Dead Sea Scrolls Fifty Years after Their Discovery: Proceedings of the Jerusalem Congress, July 20–25, 1997 (ed. L. H. Schiffman, E. Tov, and J. C. VanderKam; Jerusalem: Israel Exploration Society and Shrine of the Book, 2000), с. 573–580.
(обратно)
679
Frey, «Die Bedeutung Der Qumranfunde für das Verständnis des Neuen Testaments», в кн.: Qumran: Die Schriftrollen vom Toten Meer (ed. M. Fieger, K. Schmid, and P. Schwagmeier; NTOA 47; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001), с. 129–208; idem, «Das vierte Evangelium auf dem Hingergrund der älteren Evangelientradition: Zum Problem: Johannes und die Synoptiker», в кн.: Das Johannesevangelium – Mitte oder Rand des Kanons? Neue Standortbestimmungen (ed. T. Söding; QD 203; Freiburg: Herder, 2003), с. 60–118; idem, «The Impact of the Dead Sea Scrolls on New Testament Interpretation: Proposals, Problems, and Further Perspectives», в кн.: Scrolls and Christian Origins, ed. Charlesworth, с. 407–461.
(обратно)
680
Подробнее о нем см. ниже, в разделе «Мессия-пророк».
(обратно)
681
Хотя достоверных свидетельств связи Иоанна Крестителя с Кумранской общиной у нас нет, некоторые исследователи полагают, что он контактировал с ессеями или даже был с ними связан. Подробнее об этом см.: VanderKam and Flint, Meaning, с. 330–332.
(обратно)
682
ET: Flint, «Jesus and the Dead Sea Scrolls», в кн.: The Historical Jesus in Context (ed. A.-J. Levine, D. Allison Jr., and J. D. Crossan; PRR; Princeton: Princeton University Press, 2006), с. 110–131, особ. с. 117. Ср.: Burrows, Trever, and Brownlee, Dead Sea Scrolls of St. Mark’s Monastery, pl. 8. В серии DJD издания этих свитков нет. См. также: James H. Charlesworth et al., eds., The Dead Sea Scrolls: Hebrew, Aramaic, and Greek Texts with English Translations, vol. 1: Rule of the Community and Related Documents (PTSDSSP 1; Louisville: Westminster John Knox, 1994), с. 34–37.
(обратно)
683
Как в переводе RSV (и NRSV): «Глас слышен: в пустыне приготовьте путь Господу, прямой сделайте в пустыне дорогу Богу нашему».
(обратно)
684
Источник перевода: Flint, «Jesus and Dead Sea Scrolls», с. 114. Ср. тот же текст в кн.: Burrows et al., Dead Sea Scrolls, с. 146–147; PTSDSSP 1:46–49.
(обратно)
685
Перевод 2:11–22 и обсуждение текста: Flint, «Jesus and Dead Sea Scrolls», с. 114–115.
(обратно)
686
Перевод и обсуждение текстов генизы, версия А 12:22–13:7 и генизы, версия Б 19:7–13, 33–35; 20:1–3: там же, с. 116–117.
(обратно)
687
Перевод и обсуждение текста (здесь немного адаптированного): там же, с. 118–119. Ср.: DJD 25.10; PTSDSSP 7.
(обратно)
688
Однако отметим: Илия воскрешает сына вдовы в 3 Цар 17:17–24.
(обратно)
689
Иисус «провозглашает Царство Божье и, исцеляя и изгоняя бесов, доказывает, что оно уже здесь; он притязает на то, что он – помазанник и, следовательно, вправе нести благую весть. 4Q521 дает серьезное подтверждение традиционному мнению, что Иисус действительно считал себя Мессией Израиля» (Evans, «Qumran Cave 4», с. 97).
(обратно)
690
J. J. Collins, The Scepter and the Star: The Messiahs of the Dead Sea Scrolls and Other Ancient Literature (ABRL; New York: Doubleday, 1995), с. 117–122, 205–206.
(обратно)
691
4Q521 восходит к Пс 145:7–8: «Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных».
(обратно)
692
Dead Sea Scrolls: Preliminary Survey, с. 99–100.
(обратно)
693
C. Bell, Ritual: Perspectives and Dimensions (New York: Oxford University Press, 1997), с. 102–108.
(обратно)
694
См.: Лев 23:2, 4, 37, 44; Ездр 3:5; 2 Пар 2:4, ср.: Иез 44:24. Все переводы в этой статье авторские, за исключением особо оговоренных случаев.
(обратно)
695
Перечисленные выше английские термины я использую в этой статье взаимозаменяемо для обозначения всех ежегодных иудейских моадим, не делая различия между их разновидностями (например, хаг и другими).
(обратно)
696
Мф 26:17–19, Мк 14:12–16, Лк 22:7–13.
(обратно)
697
Стоит упомянуть несколько деталей, косвенно подтверждающих датировку Иоанна: во время последней трапезы Иуда Искариот еще не приобрел все необходимое для празднования Песаха (Ин 13:27–29); утром в день распятия стражники, схватившие Иисуса, не стали входить к преторий к Пилату, чтобы не подвергнуть себя ритуальной нечистоте, которая помешает им вкусить Пасху (Ин 18:28); позже, вынося приговор Иисусу, Пилат еще не отпустил одного узника, как он обычно поступал на Пасху (Ин 18:39); а то, что день распятия обозначен как «приготовление Пасхи» (Ин 19:14, ср.: Ин 19:31, 42), указывает на 14 нисана, когда иудеи освящали дома, закалывали жертвенных агнцев и готовили пасхальную трапезу (Исх 12:6–9, 15, 21–22).
(обратно)
698
Подробный и тщательный обзор мнений по этому вопросу дает Иоахим Иеремиас; этот обзор, вместе с его классической аргументацией в пользу того, что Тайная Вечеря совершалась в день Песаха, см. в кн.: The Eucharistic Words of Jesus (trans. N. Perrin; New York: Scribner, 1966), с. 16–88; ср.: R. T. Beckwith, «The Date of the Crucifixion: The Misuse of Calendars and Astronomy to Determine the Chronology of the Passion», в кн.: Calendar and Chronology, Jewish and Christian: Biblical, Intertestamental and Patristic Studies (AGJU 33; Leiden: Brill, 1996), с. 289–296. Однако читая Иеремиаса, необходимо обратить внимание и на серьезную критику его аргументов: Étienne Nodet and Justin Taylor, The Origins of Christianity: An Exploration (Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1998), с. 89–123; ср.: J. Taylor, Where Did Christianity Come From? (Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 2001), с. 44–55.
(обратно)
699
Это различие совпадает с теми двумя значениями слова «календарь», в которых употребляет его Джеймс Вандеркам: «…ряд религиозных празднеств, соотнесенных с различными датами года» (праздничная последовательность) и «система, точно определяющая число и распределение дней и месяцев в году» (собственно календарь); «The Temple Scroll and the Book of Jubilees», в кн.: Temple Scroll Studies: Papers Presented at the International Symposium on the Temple Scroll, Manchester, December 1987 (ed. G. J. Brooke; JSPSup 7; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1989), с. 211–236, цит. с. 215.
(обратно)
700
Краткая информация об этих календарях и проблемах, с ними связанных: J. T. Milik, Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judaea (trans. J. Strugnell; SBT 26; Naperville, Ill.: Allenson, 1959), с. 110–111; J. van Goudoever, Biblical Calendars (2nd ed.; Leiden: Brill, 1961), с. 62–63; J. C. VanderKam, «Calendars: Ancient Israelite and Early Jewish», ABD 1:814–820, цит. с. 818–820; idem, Calendars in the Dead Sea Scrolls: Measuring Time (LDSS; London: Routledge, 1998), с. 17–33, 43–87; S. Stern, Calendar and Community: A History of the Jewish Calendar, 2ndCentury BCE to 10thCentury CE (Oxford: Oxford University Press, 2001), с. 10–18. Споры идут по следующим вопросам: 1) применялся ли когда-либо 364-дневный календарь в иерусалимском культе или же был сектантским с самого начала; 2) если 364-дневный календарь использовался в Иерусалиме, то когда именно ему предпочли другой, 354-дневный; 3) использовала ли Кумранская секта только 364-дневный календарь или оба; и 4) обращалась ли Кумранская секта к какому-либо из календарей, схематически представленных в ее литературе.
(обратно)
701
Лунно-солнечный календарь правился при помощи периодической вставки «второго адара», об этом см.: van Goudoever, Biblical Calendars, с. 4–5; VanderKam, Calendars, с. 38–40; и о раввинистических датировках: M. A. Daise, Feasts in John: Jewish Festivals and Jesus’ «Hour» in the Fourth Gospel (WUNT 2/229; Tübingen: Mohr Siebeck, 2007), с. 15, прим. 31.
(обратно)
702
Ханапат ха-Омер неясно определялся как «первый день после праздника», следующий за Песахом (Лев 23:11, 15) [в русском переводе Библии указано слово «праздник», в англ. тексте точнее указание на священную субботу: …day after the Sabbath – «день вслед за субботой». – Прим. ред.]. Однако поскольку первый и последний дни праздника Опресноков (Хаг ха-Маццот), по всей видимости, сами приходились на седьмой, священный день – субботу (Лев 23:7–8; Чис 28:18, 25), и поскольку следующая суббота на неделе могла следовать не только непосредственно за Песахом, но равно так же и за Песахом и днями Опресноков в целом, идут споры о том, какая суббота имелась в виду: первая суббота на неделе после именно дня Песаха; первый день Хаг ха-Маццот; последний день Хаг-ха Маццот; или первая суббота на неделе по окончании Песаха и дней Опресноков – и, следовательно, на какой она приходилась день. См.: R. H. Charles, The Book of Jubilees or The Little Genesis (London: Black, 1902), с. 106–107; van Goudoever, Biblical Calendars, с. 18–29; VanderKam, Calendars, с. 30–32; Daise, Feasts in John, с. 27–29.
(обратно)
703
О гипотетическом сопоставлении праздничных дат годового цикла в двух календарях см.: M. A. Daise, «‘The Days of Sukkot and the Month of Kislev’: The Festival of Dedication and the Delay of Feasts in 1QS 1:13–15», в кн.: Enoch and Qumran Origins: New Light on a Forgotten Connection (ed. G. Boccaccini; Grand Rapids: Eerdmans, 2005), с. 119–128, цит. с. 122–123.
(обратно)
704
A. Jaubert, «La date de la dernière cène», RHR 146 (1954): 140–173, особ. 156–157, 159–168; idem, The Date of the Last Supper (trans. I. Rafferty; Staten Island: Alba House, 1965), с. 95–117.
(обратно)
705
См. критические замечания Пьера Бенуа в обзоре книги: A. Jaubert, La Date de la Cène: Calendrier biblique et liturgie chrétienne, RB 65 (1958): 591–594; J. Blinzler, «Qumran-Kalender und Passionschronologie», ZNW 49 (1958): 238–251, цит. с. 241–251; Milik, Ten Years of Discovery, с. 112–113; R. E. Brown, «L’ultima Cena avvene di martedì?» BeO 2 (1960): 48–53; Jeremias, Eucharistic Words, с. 24–25; Beckwith, «Date of the Crucifixion», с. 291–292. См. также: W. Ellis, «On the Text of the Account of the Lord’s Supper in 1 Corinthians XI, 23–32 with Some Further Comments», ABR 12 (1964): 43–51, цит. с. 48. Нодэ и Тейлор склонны согласиться с Жобер в том, что Иисус пользовался 364-дневным календарем, однако Тайную Вечерю они считают «обыкновенной трапезой», связанной с начатками плодов, вкушаемых на Пятидесятницу – обычаем, укорененном в праздничных традициях, подобных тем, что представлены в «Храмовом Свитке» и практиковались у аскетов-терапевтов: Origins of Christianity, с. 92–123, 354–355, 385 (включая с. 93, прим. 95; с. 120, прим. 159); о Жобер: с. 92, 109–110, 123; цит. с. 115 (курсив авторов).
(обратно)
706
В особенности то, что Иисус первым делом отправляется в Храм (Мк 11:11), очищение Храма на следующий день (11:12–19), последующие поучения в Храме (11:27; 12:35), беседа с учениками перед Храмом (13:1) – и, наконец, пророчество о разрушении Храма в ответ на вопросы учеников (13:2–37).
(обратно)
707
Цитата из Пс 117:22–23 в Мк 12:10–11; цитата из Пс 117:25 (, σῶσον, «спаси же» – ὡσαννά, «осанна») в Мф 21:9, Мк 11:9, Ин 12:13 (см.: R. Eisler, ΙΗΣΟΎΣ ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΟΥ ΒΑΣΙΛΕΎΣΑΣ: Die messianischen Unabhängigkeitsbewegung vom Auftreten Johannes des Täufers bis zum Untergang Jakobs des Gerechten nach der neuerschlossenen Eroberung von Jerusalem des Flavius Josephus und den christlichen Quellen [2 vols.; Religionswissenschaftliche Bibliothek 9; Heidelberg: Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1929–1930], 2:470–471); цитата из Пс 117:26 в Мф 21:9, Мк 11:9–10, Лк 19:38, Ин 12:13; и возможные аллюзии на флористические ритуалы, упоминаемые в Пс 117:27, в Мф 21:8, Мк 11:8, Ин 12:13. Сторонники этой точки зрения признают, что псалмы, входящие в молитву Галель, читались во время всех праздничных паломничеств, – но тем не менее считается, что «ближе всего они были связаны с Праздником кущей» (T. W. Manson, «The Cleansing of the Temple», BJRL 33 [1951]: 271–282, цит. с. 279, прим. 1; также: C. W. F. Smith, «No Time for Figs», JBL 79 [1960]: 315–327, цит. с. 319).
(обратно)
708
Ветви названы «пальмовыми» в Ин 12:13. Евангельское упоминание о ветвях объясняется (см. предыдущее примечание) или как внесение в нарратив ветвей, упомянутых в Пс 117:27 [рус. «верви». – Прим. ред.], или как перенесение мессианского восклицания «спаси же» (, hōwōšî‘āh nā) из Пс 117:25, или как смешение этого мессианского восклицания с арамейским словом hōša‘nā’, «пальмовые ветви». См.: A. Merx, Die vier kanonischen Evangelien nach der ältesten bekannten Texte, vol. 2, part 2: Das Evangelien des Markus und Lukas nach der syrischen im Sinaikloster gefundenen Palimpsesthandschrift (Berlin: Reimer, 1905), с. 132–133; idem, vol. 2, part 3: Das Evangelium des Johannes nach der syrischen im Sinaikloster gefundenen Palimpsesthandschrift (Berlin: Reimer, 1911), с. 309–310; F. C. Burkitt, «W. and Θ: Studies in the Western Text of St Mark», JTS 17 (1916): 139–152, цит. с. 141–142; E. Werner, «Hosanna in the Gospels», JBL 65 (1946): 97–122, особ. 102–103, 105–106, 109, 116–119.
(обратно)
709
Елеонская гора как ключевой пункт пребывания Иисуса в Иерусалиме (Зах 14:4/Мф 21:1, Мк 11:1, Лк 19:29); эсхатологическое поклонение язычников, на которое указывают слова Иисуса в Евангелии от Марка о том, что Храм станет «домом молитвы для всех народов» (Зах 14:16–19/Мк 11:17); и отсутствие в Храме «торговцев», на которое указывает увещание Иисуса у Иоанна не делать дом Отца его «домом торговли» (Зах 14:21/Ин 2:16). Смит обнаруживает и еще две связующие нити, хотя и не столь убедительные: между засухой, подразумеваемой у Захарии в словах о живых водах и дожде (Зах 14:8, 17), и «засохшей смоковницей», проклятой Иисусом (Мф 21:19, Мк 11:20), и между горой Елеонской (Зах 14:4) и горой, которую, по словам Иисуса, можно сдвинуть с места молитвой (Мф 21:21, Мк 11:23). Далее, исходя из предположения, что Зах 9–14 является отдельным литературным произведением, Смит, а вслед за ним и ван Гудувер, видят аллюзию на Суккот в упоминании о царе, триумфально въезжающем в город на молодом осле (Зах 9:9/Мф 21:1–7, Мк 11:2–7, Лк 19:29–35, Ин 12:14–16). О последних трех пунктах см.: Smith, «No Time for Figs», с. 320–322; van Goudoever, Biblical Calendars, с. 263–264; о более общих параллелях между рассказом Марка о въезде Иисуса в Иерусалим и Зах 9–14 см.: R. M. Grant, «The Coming of the Kingdom», JBL 67 (1948): 297–303, цит. с. 298–300 (особ. 299).
(обратно)
710
Гафтара – название отрывка из книг Пророков, которым завершалось публичное чтение недельной главы из Торы в субботу, по праздникам и в дни поста. – Прим. ред.
(обратно)
711
Мф 21:33–43; Мк 12:1–11; Лк 20:9–18. Виноград собирали с середины сивана до середины тишрея; см.: O. Borowski, Agriculture in Iron Age Israel (Boston: ASOR, 2002), с. 36–38.
(обратно)
712
P. Carrington, The Primitive Christian Calendar: A Study in the Making of the Marcan Gospel (Cambridge: Cambridge University Press, 1952), с. 196–197, цит. с. 197.
(обратно)
713
Мф 21:18–19; Мк 11:12–14.
(обратно)
714
Borowski, Agriculture in Iron Age Israel, с. 37–38, 115, хотя второй, «зимний» урожай смокв созревал с середины сивана по середину таммуза.
(обратно)
715
Smith, «No Time for Figs», с. 315–317, 326–327, цит. с. 316–317; Carrington, Primitive Christian Calendar, с. 27, 194; J. Daniélou, «Les Quatre-Temps de Septembre et la Fête des Tabernacles», La Maison-Dieu 46 (1956): 114–136, цит. с. 119–120. Список всех коннотаций с Суккот в Евангелиях см.: Carrington, Primitive Christian Calendar, с. 189, 193, 197, 210; Daniélou, «Quatre-Temps de Septembre», с. 117–120; Smith, «No Time for Figs», с. 315–325; van Goudoever, Biblical Calendars, с. 261–266. К этому списку Каррингтон добавляет не столь убедительную корреляцию между вопросом учеников о том, когда «должно совершиться» (συντελεῖσθαι, Мк 13:4) разрушение Храма – и праздником Шмини Ацерет, понимаемым в связи с «завершением» (с. 210); а ван Гудувер видит связь между «осленком», на котором Иисус въехал в Иерусалим, и осенним подтекстом ассоциативной связи «осленка» и «винограда» в Быт 49:11, на которую, по его мнению, намекает этот эпизод (с. 263–264).
(обратно)
716
Smith, «No Time for Figs», с. 326–327.
(обратно)
717
Carrington, Primitive Christian Calendar, с. 22, 26–29, 35–37, 43, 70–71, 76–77, 117, 135, 184, 189–202, 205–210; ему следует Daniélou, «Quatre-Temps de Septembre», с. 120–122, 125. Отрывки, которые Каррингтон возводит к Суккот – от Мк 10:46 до Мк 13:31. См.: van Goudoever, Biblical Calendars, с. 240–242; Smith, «No Time for Figs», с. 324–325.
(обратно)
718
Manson, «Cleansing of the Temple», с. 277–282. Мэнсон считает, что Страсти Христовы пришлись на Песах, однако его триумфальный въезд в Иерусалим, случай со смоковницей и очищение Храма относит за полгода до того, ко времени Суккот.
(обратно)
719
Burkitt, «W. and Θ», с. 140–145.
(обратно)
720
2 Мак 1:9, 18; 10:5–8; см.: M. Liber, «Hanoucca et Souccot», REJ 63 (1912): 20–29; J. C. VanderKam, «Hanukkah: Its Timing and Significance According to 1 and 2 Maccabees», JSP 1 (1987): 23–40, особ. 32–34; idem, «Dedication, Feast of», ABD 2:123–25, особ. 124; Daise, «Days of Sukkot», с. 123–126; ср.: J. C. VanderKam, «Response: Jubilees and Enoch», в кн.: Enoch and Qumran Origins, ed. Boccaccini, с. 162–170, особ. с. 167.
(обратно)
721
О весне говорит «зеленая трава», на которой сидели пять тысяч человек во время чудесного насыщения (Мк 6:39, ср.: Мф 14:19); на весну или раннее лето указывают колосья, которые срывали ученики Иисуса (Мф 12:1–8, Мк 2:23–28, Лк 6:1–5); см.: G. Ogg, The Chronology of the Public Ministry of Jesus (Cambridge: Cambridge University Press, 1940), с. 12, 15–21; и K. P. Donfried, «Chronology: New Testament», ABD 1:1011–1022, цит. с. 1014. Впрочем, Катберт Гамильтон Тёрнер и Эдмунд Феликс Сатклифф, приводят эти же отрывки в пользу двухлетнего служения Иисуса: Turner, «Chronology of the New Testament», A Dictionary of the Bible Dealing with Its Language, Literature, and Contents, Including the Biblical Theology (ed. J. Hastings; 5 vols; New York: Scribner, 1898–1904), 1:403–425, цит. с. 406, 409–410; Sutcliffe, A Two Year Public Ministry Defended (Bellarmine Series 1; London: Burns, Oates & Washbourne, 1938), с. 67–71, 82–83, 106–110.
(обратно)
722
Из отсутствия упоминаний в Ин 10:22–23 о том, что Иисус «ходил» на празднование Хануки, некоторые делают вывод, что, по мнению Иоанна, он оставался в Иерусалиме с прошедшего Суккот, о котором говорилось в Ин 7:2. См.: W. G. Kümmel, Einleitung in das Neue Testament (17th ed. [of Einleitung in das Neue Testament by P. Feine and J. Behm]; Heidelberg: Quelle & Meyer, 1973), с. 166; G. A. Yee, Jewish Feasts and the Gospel of John (Zacchaeus Studies: NT; Wilmington, Del.: Glazier, 1989), с. 89.
(обратно)
723
Ин 2:13; 5:1; 7:2; 10:22–23; 11:55.
(обратно)
724
Аргументы святых отцов и гностиков в вопросе о том, сколь долго продлилось служение Иисуса – год или больше – критически рассматривают Сатклифф (Sutcliffe, Two Year Public Ministry, с. 17–25, 51–59, 74–80) и Джордж Огг (Ogg, Chronology of the Public Ministry, с. 62–149). Основательный синопсис: Donfried, «Chronology: New Testament», 1:1014–1015.
(обратно)
725
Eclogae chronologicae: in quibus de variis annorum Judæorum, Samaritarum, Græcorum, Macedonum, Syromacedonum, Romanorum, typis, cyclisque veterum Christianorum paschalibus disputatur (Paris: Carolum Morelum, 1632).
(обратно)
726
J. van Bebber, Zur Chronologie des Lebens Jesu (Münster: Heinrich Schöningh, 1898), с. 24–37, 154–172 (приложение 2); J. Belser, «Zur Hypothese von der einjährigen Wirksamkeit Jesu», BZ 1 (1903): 53–63, 160–174, цит. с. 58, 160–174, особ. с. 169–171; a также: van Bebber and Belser, «Beiträge zur Erklärung des Johannesevangeliums», TQ 89 (1907): 1–45, особ. 1–4, 9–10, 12–24, 30–45. В период от Пети до ван Беббера об этом писали также: G. J. Voss, Dissertatio gemina, una de Jesu Christi genealogia, altera de annis, quibus natus, baptizatus, mortuus (Amsterdam: Ioannem Blaeu, 1643); N. Mann, Of the True Years of the Birth and of the Death of Christ: Two Chronological Dissertations (London: J. Wilcox, 1733), с. 156–165; H. Browne, Ordo Sæclorum: A Treatise on the Chronology of the Holy Scriptures (London: Parker, 1844), с. 80–94, 634–665.
(обратно)
727
Обсуждение текстуальных свидетельств этого термина в Ин 6:4: B. F. Westcott and F. J. A. Hort, The New Testament in the Original Greek (2 vols.; New York: Harper & Brothers, 1881–1882), с. 77–81 (приложение).
(обратно)
728
Browne, Ordo Sæclorum, с. 91; van Bebber, Zur Chronologie des Lebens Jesu, с. 33–35, 163–169.
(обратно)
729
Mann, Of the True Years, с. 156–157, 163–164. О редакционно-исторической (redaktionsgeschichtliche) гипотезе, согласно которой в изначальном тексте Евангелия от Иоанна 5 и 6 главы шли в обратном порядке, см.: J. P. Norris, «On the Chronology of St. John V. and VI.», Journal of Philology 3 (1871): 107–112, цит. с. 112; M. Shorter, «The Position of Chapter VI in the Fourth Gospel», ExpTim 84 (1972–1973): 181–183, цит. с. 181.
(обратно)
730
Критическое обсуждение и опровержение этой гипотезы: I. M. Pfättisch, Die Dauer der Lehrtätigkeit Jesu nach dem Evangelium des hl. Johannes (BibS[F] 16; Freiburg: Herder, 1911), полностью; V. Hartl, Die Hypothese einer Einjährigen Wirksamkeit Jesu (NTAbh 7; Münster: Aschendorff, 1917), с. 79–121; U. Holzmeister, Chronologia Vitae Christi quam e fontibus digessit et ex ordine proposuit (Scripta Pontificii Instituti Biblici; Rome: Sumptibus Pontificii Instituti Biblici, 1933), с. 134–140; Sutcliffe, Two Year Public Ministry, с. 26–49; Ogg, Chronology of the Public Ministry, с. 27–60. Обзор: Daise, Feasts in John, с. 153–157.
(обратно)
731
Обзоры данных и аргументов в пользу этой теории, наряду с аргументами авторов в пользу двухлетнего или более продолжительного служения: Holzmeister, Chronologia Vitae Christi, с. 140–143, 153–155; Sutcliffe, Two Year Public Ministry, с. 50–112, 143–153; Ogg, Chronology of the Public Ministry, с. 11–25; см.: idem, «Chronology of the New Testament», в кн.: Peake’s Commentary on the Bible (ed. M. Black and H. H. Rowley; New York: Nelson, 1962), с. 728–732, цит. с. 729.
(обратно)
732
Мф 21:1–7/Мк 11:1–6/Лк 19:28–35, Мф 26:17–19/Мк 14:12–16, Лк 22:7–13, ср.: Мф 26:6, Мк 14:3.
(обратно)
733
P75 א B C L Q f1 (= 1 118 131 209 1582) 579 892 1241.
(обратно)
734
Мф 23:37–39/Лк 13:34–35.
(обратно)
735
S. Freyne, «The Geography, Politics, and Economics of Galilee and the Quest for the Historical Jesus», в кн.: Studying the Historical Jesus: Evaluations of the State of Current Research (ed. B. Chilton and C. A. Evans; NTTS 19; Leiden: Brill, 1998), с. 75–121, цит. с. 75.
(обратно)
736
Обзоры по этим вопросам, часто с представлением различных гипотез и аргументов в пользу каждой: L. Finkelstein, The Pharisees: The Sociological Background to Their Faith (3rd ed.; 2 vols.; Morris Loeb Series; Philadelphia: JPS, 1962), 1:40–60, особ. с. 50–51, 54–58; A. Oppenheimer, The ‘Am Ha-Aretz: A Study of the Social History of the Jewish People in the Hellenistic-Roman Period (trans. I. H. Levine; ALGHJ 8; Leiden: Brill, 1977), с. 7, 200–217; S. Freyne, Galilee, from Alexander the Great to Hadrian, 323 BCE to 135 CE: A Study of Second Temple Judaism (1980; repr., Edinburgh: T&T Clark, 1998), с. 266–297, 305–323; idem, Galilee, Jesus and the Gospels: Literary Approaches and Historical Investigations (Philadelphia: Fortress, 1988), с. 176–213; idem, «Archaeology and the Historical Jesus», в кн.: Galilee and Gospel: Collected Essays (WUNT 125; Tübingen: Mohr Siebeck, 2000), с. 160–182, цит. с. 176–182; idem, «Galilee-Jerusalem Relations According to Josephus’ Life», в кн.: Galilee and Gospel, с. 73–85, цит. с. 83–85; idem, «The Geography of Restoration: Galilee-Jerusalem Relations in Early Jewish and Christian Experience», NTS 47 (2001): 289–311, цит. с. 289–291, 297–300; idem, «Galilee and Judea in the First Century – The Social World of Jesus and His Ministry», в кн.: Texts, Contexts and Cultures: Essays on Biblical Topics (Dublin: Veritas, 2002), с. 122–152, цит. с. 128–131; idem, «Archaeology and the Historical Jesus», в кн.: Jesus and Archaeology (ed. J. H. Charlesworth; Grand Rapids: Eerdmans, 2006), с. 64–83, цит. с. 75–77; L. H. Schiffman, «Was There a Galilean Halakhah?» в кн.: The Galilee in Late Antiquity (ed. L. I. Levine; New York: Jewish Theological Seminary of America, 1992), с. 143–156, особ. с. 153–155; R. A. Horsley, Galilee: History, Politics, People (Valley Forge, Pa.: Trinity Press International, 1995), с. 137–157, 244, 246; M. Goodman, «Galilean Judaism and Judaean Judaism», в кн.: Cambridge History of Judaism, vol. 3: The Early Roman Period (ed. W. Horbury, W. D. Davies, and J. Sturdy; Cambridge: Cambridge University Press, 1999), с. 596–617, цит. с. 596–613, 617; J. L. Reed, Archaeology and the Galilean Jesus: A Re-examination of the Evidence (Harrisburg: Trinity Press International, 2000), с. 8–9, 23–55, 62–66. Отметим в этой связи замечание Нодэ и Тейлора о том, что ученики Иисуса могли следовать галилейской традиции, в которой не праздновался Песах: Origins of Christianity, с. 95 и прим. 98.
(обратно)
737
Различные взгляды на экономическое положение Галилеи: Freyne, «Geography, Politics, and Economics», с. 104–121; idem, «Galilee and Judea», с. 135–143; Horsley, Galilee, с. 139–144; Reed, Archaeology and the Galilean Jesus, с. 21–22, 65–99.
(обратно)
738
Подробнее о спорах по поводу экономической ситуации и политической позиции Галилеи: Reed, Archaeology and the Galilean Jesus, с. 8–9, особ. библиография на с. 9, прим. 25.
(обратно)
739
Аргументы за то, что суббота и праздники в I веке регулярно отмечались в синагогах: L. I. Levine, «Ancient Synagogues – A Historical Introduction», в кн.: Ancient Synagogues Revealed (ed. L. I. Levine; Jerusalem: Israel Exploration Society, 1982), с. 1–10, цит. с. 3; idem, «The Second Temple Synagogue: The Formative Years», в кн.: The Synagogue in Late Antiquity (ed. L. I. Levine; Philadelphia: ASOR, 1987), с. 7–31, цит. с. 12–13 (см. также с. 15–16, 18); idem, The Ancient Synagogue: The First Thousand Years (New Haven: Yale University Press, 2000), с. 129–130, 134–158, особ. с. 134, прим. 55; также: P. van der Horst, «Was the Synagogue a Place of Sabbath Worship before 7 °CE?» в кн.: Jews, Christians, and Polytheists in the Ancient Synagogue: Cultural Interaction during the Greco-Roman Period (ed. S. Fine; London: Routledge, 1999), с. 18–43, цит. с. 23–37; см.: Freyne, Galilee, Jesus and the Gospels, с. 202–206. Сомневаются в этом S. Zeitlin, «An Historical Study of the First Canonization of the Hebrew Liturgy (continued)», JQR 38 (1948): 289–316, цит. с. 308–313; idem, «The Tefillah, the Shemoneh Esreh: An Historical Study of the First Canonization of the Hebrew Liturgy», JQR 54 (1964): 208–249, цит. с. 228–238; H. A. McKay, Sabbath and Synagogue: The Question of Sabbath Worship in Ancient Judaism (RGRW 122; Leiden: Brill, 1994), с. 132–175, особ. с. 137–140, 151, 173–175; S. B. Hoenig, «Historical Inquiries: I. Heber Ir. II. City Square», JQR 48 (1957–1958): 123–139, цит. с. 134. См. также: Horsley, Galilee, с. 223–227; idem, Archaeology, History and Society in Galilee: The Social Context of Jesus and the Rabbis (Valley Forge, Pa.: Trinity Press International, 1996), с. 131–132, 145–151; см.: idem, «The Historical Jesus and Archaeology of the Galilee: Questions from Historical Jesus Research to Archaeologists», SBLSP 33 (1994): 91–135, цит. с. 113. Хёниг допускает, что еще до 70 г. н. э. в галилейских, но не в иудейских синагогах совершались литургические церемонии, которые начались за несколько лет до разрушения Храма: Hoenig, «The Ancient City-Square: Forerunner of the Synagogue», ANRW 2.19.1 (1979): 448–476, цит. с. 451–453. См. также вопросы к тезисам Хизер Маккей от Стефана Райфа, обзор книги: H. A. McKay, Sabbath and Synagogue: The Question of Sabbath Worship in Ancient Judaism, JTS 46 (1995): 610–612, цит. с. 612; а также рассуждение Говарда Ки (H. C. Kee, «Early Christianity in the Galilee: Reassessing the Evidence from the Gospels», в кн.: Galilee in Late Antiquity, ed. Levine, с. 3–22, особ. с. 3–14).
(обратно)
740
См. обсуждение на тему «Паломничества в общественном служении Иисуса».
(обратно)
741
Соблюдение Песах-Шени было необязательно и даже нежелательно для тех, кто отмечал Песах 14 нисана того же года.
(обратно)
742
Daise, Feasts in John, с. 104–152.
(обратно)
743
Там же, с. 153–157.
(обратно)
744
J. Frey, «Die ‘theologia crucifixi’ des Johannesevangeliums», в кн.: Kreuzestheologie im Neuen Testament (ed. A. Dettwiler and J. Zumstein; WUNT 151; Tübingen: Mohr Siebeck, 2002), с. 169–238, цит. с. 196, прим. 133; ср.: Daise, Feasts in John, с. 156.
(обратно)
745
Daise, Feasts in John, с. 157–163.
(обратно)
746
Исх 12:15; ср.: R. le Déaut, «The Paschal Mystery and Mortality», Doctrine and Life 18 (1968): 202–210, 262–269, цит. с. 204; G. D. Fee, The First Epistle to the Corinthians (NICNT; Grand Rapids: Eerdmans, 1987), с. 216, прим. 7.
(обратно)
747
Исх 12:6, 21, 26–27.
(обратно)
748
Исх 12:18–20; 13:3, 6–7.
(обратно)
749
О взаимной совместимости этих объяснений пишет Ханс-Йозеф Клаук, который сочетает первое, второе и четвертое: Hans-Josef Klauck, «Kultische Symbolsprache bei Paulus», в кн.: Freude am Gottesdienst: Aspekte ursprünglicher Liturgie (ed. J. Schreiner; Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 1983), с. 107–118, цит. с. 109; idem, 1. Korintherbrief (2nd ed.; NEchtB/NT 7; Würzburg: Echter, 1987), с. 43.
(обратно)
750
Об историческом совпадении смерти Иисуса с Песахом, в результате которого они оказались связаны друг с другом, см.: le Déaut, «Paschal Mystery and Mortality», с. 262–264 [по-видимому]; H. Conzelmann, 1 Corinthians: A Commentary on the First Epistle to the Corinthians [trans. J. W. Leitch; Hermeneia; Philadelphia: Fortress, 1975], с. 99, прим. 49; M. Hengel, «Das Mahl in der Nacht, ‘in der Jesus ausgeliefert wurde’ [1 Kor 11,23]», в кн.: Le Repas de Dieu – Das Mahl Gottes: 4. Symposium Strasbourg, Tübingen, Upsal [ed. C. Grappe; WUNT 169; Tübingen: Mohr Siebeck, 2004], с. 115–160, цит. с. 126–129; о том, что эти события связывал сам Иисус, см.: A. J. B. Higgins, The Lord’s Supper in the New Testament [SBT 6; London: SCM, 1952], с. 65; J. Jeremias, «πάσχα», TDNT 5:900–901; D. O. Wenthe, «An Exegetical Study of 1 Corinthians 5:7b», Springfielder 38 [1974]: 134–140, цит. с. 137–139; о том, что их связывала Церковь до эпохи Павла, см.: J. Weiss, Der Erste Korintherbrief [9th ed.; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1910], с. 135.
(обратно)
751
Fee, First Corinthians, с. 217–218.
(обратно)
752
J. B. Lightfoot, Notes on Epistles of St. Paul from Unpublished Commentaries (London: MacMillan, 1895), с. 206; C. L. Mitton, «New Wine in Old Wine Skins: IV. Leaven», ExpTim 84 (1972–1973): 339–343, цит. с. 340–343. Об оригинальном происхождении поговорки свидетельствует ее использование и вне пасхального контекста: Гал 5:9; см., напр.: W. J. Conybeare and J. S. Howson, The Life and Epistles of St. Paul (repr., Grand Rapids: Eerdmans, 1992), с. 389 прим. 4; C. K. Barrett, A Commentary on the First Epistle to the Corinthians (HNTC; New York: Harper & Row, 1968), с. 127; Fee, First Corinthians, с. 215–216.
(обратно)
753
B. S. Rosner, «Temple and Holiness in 1 Corinthians 5», TynBul 42 (1991): 137–145, цит. с. 144–145; ср.: 1 Кор 3:16–17 с 2 Пар 29:1–30:27; 35:1–19 (с 4 Цар 23:1–23), Ездр 6:13–22.
(обратно)
754
Согласно источнику: Barrett, First Corinthians, с. 129–130. Критика редакций на 1 Кор: W. Schmithals, Gnosticism in Corinth: An Investigation of the Letters to the Corinthians (trans. J. E. Steely; Nashville: Abingdon, 1971), с. 87–88, 90–96; F. Lang, Die Briefe an die Korinther (NTD 7; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1986), с. 6–7; J. Moiser, «1 Corinthians 15», IBS 14 (1992): 10–30, цит. с. 10.
(обратно)
755
Например, Вальтер Шмитхальс помещает и 1 Кор 1:1–6:11, и 1 Кор 16:1–12 в свое «Послание Б» (Gnosticism in Corinth, с. 95–96).
(обратно)
756
Это подтверждается упоминанием Павла о зиме вслед за упоминанием о Шавуот (1 Кор 16:5–6, 8; W. Paley, Horæ Paulinae or The Truth of the Scripture History of St Paul Evinced [Ancient and Modern Library of Theological Literature; London: Griffith, Farran, Okeden & Welsh, 1888], с. 57–58) и тем, что его письмо, скорее всего, должно было быть доставлено по морю (1 Кор 4:17; 16:10; T. Zahn, Introduction to the New Testament [trans. J. M. Trout et al.; 3rd ed.; New York: Scribner, 1917], с. 259–260; J. C. Hurd Jr., The Origin of 1 Corinthians [2nd ed.; Macon, Ga.: Mercer University Press, 1983], с. 138–39).
(обратно)
757
Здесь мы исходим из того, что Павел не стал бы использовать Шавуот для обозначения временного срока до того, как пройдет Песах, и что за шесть или семь недель, оставшихся до Шавуот, ему хватило бы времени на «великие врата» (1 Кор 16:9), ожидающие его в Эфесе. См.: Zahn, Introduction to the New Testament, с. 268, прим. 7.
(обратно)
758
Англ.: first fruits – «первые плоды». – Прим. ред.
(обратно)
759
См. также использование тех же образов Павлом при описании семейства Стефана: «начатки плодов ахейских» (1 Кор 16:15).
(обратно)
760
Исх 13:21; 14:1–25; 16:1–36; 17:1–7.
(обратно)
761
См. аргумент Джона Хёрда в его рассуждении о единстве Первого послания к Коринфянам: John Coolidge Hurd Jr, Origin of 1 Corinthians, с. 138–141. Взгляды других защитников сезонного объяснения см. в библиографии Хёрда на с. 139, прим. 3. См. также недавний труд: C. S. Keener, 1–2 Corinthians (NCBC; Cambridge: Cambridge University Press, 2005), с. 137. Выступая в жанре «методологических размышлений», я просто вкратце обрисовываю аргументацию в защиту этого тезиса, не обращаясь к аргументам и возможным свидетельствам в пользу обратного. Иеремиас, например, вслед за Хансом Концельманом, полагал, что земледельческие коннотации ἀπαρχὴ («начатков плодов») в 1 Кор 15 «весьма ослаблены» (Eucharistic Words, с. 74; Conzelmann, 1 Corinthians, с. 267–268); это, в свою очередь, опровергают Нодэ и Тейлор: Nodet and Taylor, Origins of Christianity, с. 106.
(обратно)
762
См. выше: «The Festal Sitz im Lebenof Jesus’ Death».
(обратно)
763
О 1 Кор 15:3–7 как изначальном (хотя, возможно, и подвергшемся позднейшей редактуре) предании см.: P. Winter, «1 Corinthians XV 3b-7», NovT 2 (1957–1958): 142–150, цит. с. 142–143; R. H. Mounce, «Continuity of the Primitive Tradition: Some Pre-Pauline Elements in 1 Corinthians», Int 13 (1959): 417–424, цит. с. 418–420; B. Gerhardsson, Memory and Manuscript: Oral Tradition and Written Transmission in Rabbinic Judaism and Early Christianity (trans. E. J. Sharpe; Lund: Gleerup, 1961), с. 290–297, 299–300, 322–323; A. M. Hunter, Paul and His Predecessors (rev. ed.; London: SCM, 1961), с. 15–16; R. H. Fuller, The Formation of the Resurrection Narratives (New York: Macmillan, 1971), с. 9–10, 199–200 (прим. 1–3); Conzelmann, 1 Corinthians, с. 250–252, 254, особ. библиографические источники на с. 250, прим. 15, с. 254, прим. 54; J. Kloppenborg, «An Analysis of the Pre-Pauline Formula in 1 Cor 15:3b–5 in Light of Some Recent Literature», CBQ 40 (1978): 351–367, цит. с. 351–352; G. Sellin, Der Streit um die Auferstehung der Toten: Eine religionsgeschichtliche und exegetische Untersuchung von 1 Korinther 15 (FRLANT 138; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1986), с. 236–237, особенно обзор работ на с. 237, прим. 23; M. D. Hooker, Not Ashamed of the Gospel: New Testament Interpretations of the Death of Christ (Grand Rapids: Eerdmans, 1994), с. 21–22; D. E. Garland, 1 Corinthians (BECNT; Grand Rapids: Baker Academic, 2003), с. 683–684; Keener, 1–2 Corinthians, с. 123.
(обратно)
764
Все исследователи согласны в том, что формулировка, которую цитирует Павел, охватывает 1 Кор 15:3b–5, однако некоторые ограничивают ее 15:3b–4/5a или распространяют на 15:3b–6a/7 или даже 15:8 (такую версию предлагает Gerhardsson, Memory and Manuscript, с. 299); см. обзоры и библиографические данные: Fee, First Corinthians, с. 723, прим. 49, а также, вместе с соображениями авторов: J. Murphy O’Connor, «Tradition and Redaction in 1 Cor 15:3–7», CBQ 43 (1981): 582–589; D. M. Moffitt, «Affirming the ‘Creed’: The Extent of Paul’s Citation of an Early Christian Formula in 1 Cor 15,3b-7», ZNW 99 (2008): 49–73, особ. 49–52.
(обратно)
765
Экзегеты уже отмечали: заявление Павла, что он принял установительные слова «от самого Господа», не исключает возможности, что сама традиционная формулировка была передана ему через посредников; об этом см. особенно: O. Cullmann, «‘Kyrios’ as Designation for the Oral Tradition Concerning Jesus», SJT 3 (1950): 180–197, цит. с. 180–191; W. R. Farmer, «Peter and Paul, and the Tradition Concerning ‘The Lord’s Supper’ in 1 Cor 11:23–26», Criswell Theological Review 2 (1987): 119–140; а также его немного переработанную статью под тем же заглавием в кн.: One Loaf, One Cup: Ecumenical Studies of 1 Cor 11 and Other Eucharistic Texts: The Cambridge Conference on the Eucharist, August 1988 (ed. B. F. Meyer; New Gospel Studies 6; Macon, Ga: Mercer University Press, 1993), с. 37–55. Однако см. также: Mounce, «Continuity of the Primitive Tradition», с. 420–422; R. P. Roth, «Paradosis and Apokalupsis in I Corinthians 11:23», LQ 12 (1960): 64–67; Gerhardsson, Memory and Manuscript, с. 320–22 (ср.: с. 296); Hunter, Paul and His Predecessors, с. 19–20; Jeremias, Eucharistic Words, с. 101–4, 188; Conzelmann, 1 Corinthians, с. 195–201; O. Hofius, «The Lord’s Supper and the Lord’s Supper Tradition: Reflections on 1 Corinthians 11:23b-25» (trans. B. D. Smith), в кн.: One Loaf, One Cup, ed. Meyer, с. 75–77 (перевод кн. «Herrenmahl und Herrenmahlsparadosis: Erwägungen zu 1 Kor 11, 23b-25», ZTK 85 [1988]: 371–408; репринт в кн.: Paulusstudien [2 vols.; WUNT 51, 143; Tübingen: Mohr Siebeck, 1989–2002], 1:203–240); Hengel, «Mahl in der Nacht», с. 119–123; Keener, 1–2 Corinthians, с. 98; а также более общее обсуждение возможных вариантов экзегетики: Barrett, First Corinthians, с. 264–266.
(обратно)
766
С традициями Пасхи связываются различные черты Первого послания к Коринфянам (а именно 1 Кор 11:17–34): например, «хлеб» или «тело/плоть Иисуса» (1 Кор 11:23–24) связывается с «опресноками» или «плотью» «Пасхи» (пасхального агнца) (м. Псах 10:4); взятие чаши «после вечери» (1 Кор 11:25) – с третьей чашей Песах-Седер (O. Knoch, «‘Tut das zu meinem Gedächtnis’ [Lk 22,20; 1 Kor 11,24f]: Die Feier der Eucharistie in den urchristlichen Gemeinden», в кн.: Freude am Gottesdienst: Aspekte ursprünglicher Liturgie [ed. J. Schreiner; Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 1983], с. 36; см. также его немного переработанную статью «‘Do This in Memory of Me!’ [Luke 22:20; 1 Cor 11:24ff.]: The Celebration of the Eucharist in the Primitive Christian Communities» [trans. S. Keesmaat], в кн.: One Loaf, One Cup, ed. Meyer, с. 6); «новый завет» в крови Иисусовой (1 Кор 11:25) – с синайской «кровью завета» (Исх 24:8; E. B. Aitken, «τά δρώµενα καὶ τά λεγόµενα: The Eucharistic Memory of Jesus’ Words in First Corinthians», HTR 90 [1997]: 359–370, цит. с. 363, 368); питье чаши «в мое воспоминание» (1 Кор 11:25) – взято из формулы воспоминания на Песах-Маццот (Исх 12:14; 13:3, 9; Втор 16:3; Fee, First Corinthians, с. 553; Hengel, «Mahl in der Nacht», с. 147–148); осуждение за «нерассуждение о теле» (1 Кор 11:29) – аналог суда Яхве над египтянами. Более того – и в более общем плане – «ночь» (1 Кор 11:23) и «вечеря» соответствуют обстановке Пасхи (Исх 12:8; Jeremias, Eucharistic Words, с. 44–46; T. L. Brodie, «The Systematic Use of the Pentateuch in 1 Corinthians: An Exploratory Survey», в кн.: The Corinthian Correspondence [ed. R. Bierlinger, BETL 125; Leuven: Leuven University Press, 1996], с. 441–457, цит. с. 455; Keener, 1–2 Corinthians, с. 98, прим. 209); «возвещение» о смерти Иисуса (1 Кор 11:26) – новое прочтение истории Песаха (Исх 12:25–27; 13:8); а повторение установительных слов Иисуса соответствует воспоминанию истории Исхода во время Песах-Седер. Эти сопоставления в различных сочетаниях см.: у Higgins, Lord’s Supper, с. 35–36, 46, 49–55; Barrett, First Corinthians, с. 266–267, 270; J. K. Howard, «Christ Our Passover: A Study of the Passover-Exodus Theme in 1 Corinthians», EvQ 41 (1969): 97–108, цит. с. 105–108; и D. T. Adamo, «The Lord’s Supper in 1 Corinthians 10:14–22, 11:17–34», AfTJ 18 (1989): 36–38, цит. с. 44–45. Быть может, наиболее подробный обзор предложен недавно O. Betz, «Das Mahl des Herrn bei Paulus», в кн.: Aufsätze zur biblischen Theologie, vol. 2: Jesus, der Herr der Kirche (ed. O. Betz; WUNT 52; Tübingen: Mohr Siebeck, 1990), с. 217–251, цит. с. 219–220, 227–232, 234–238, 241–247, 250–251. Стоит отметить, что перечисленные экзегеты обнаруживают и другие, небиблейские параллели этим деталям.
(обратно)
767
Так у Ханса Литцманна. Хотя он рассматривает все описание Вечери Господней у Павла как традиционную хабура (праздничную трапезу), однако отмечает, что «предание церковное, сохраненное Павлом в 1 Кор 11:23, ничего не знает об установлении Вечери Господней в вечер Пасхи, но говорит лишь о «вечере, когда Он был предан»»; Н. Lietzmann, R. D. Richardson, Mass and Lord’s Supper: A Study in History of the Liturgy (trans. D. H. G. Reeve; Leiden: Brill, 1979; репринт с дополнениями: H. Lietzmann, Messe und Herrenmahl: Eine Studie zur Geschichte der Liturgie [Berlin: de Gruyter, 1926]), с. 173 (цит.), 185. Можно добавить также, что, даже если предания о Тайной Вечере и о распятии/воскресении принадлежали скорее Павлу, чем до-Павловой традиции – или же были «основными и необходимыми компонентами всякой христианской проповеди» – как полагают некоторые в отношении 1 Кор 15:3b–5 (P. Bachmann, Der erste Brief des Paulus an die Korinther [ed.; KNT 7; Leipzig: Deichert, 1936], с. 432; также: A. Robertson and A. Plummer, A Critical and Exegetical Commentary on the First Epistle of St. Paul to the Corinthians [ICC; Edinburgh: T&T Clark, 1914], с. 332–333; R. C. H. Lenski, The Interpretation of St. Paul’s First and Second Epistle to the Corinthians [1937; repr., Columbus, Ohio: Wartburg, 1946], с. 632; Moffitt, «Affirming the ‘Creed’», с. 52), аргумент этот не теряет своей силы: можно возразить, что, хотя Павел в 1 Кор 5:7 связывает (быть может, достаточно случайно) смерть Иисуса с Песахом, он не считает эти два события неразделимыми – что видно из того, что в 1 Кор 11:23–26 и 1 Кор 15:3b–5 они остаются несвязанными. С этим спорит Фи, который видит указание на пасхального агнца во фразе «по Писаниям» в 1 Кор 15:3b (First Corinthians, с. 725).
(обратно)
768
О рассказе о Страстях, стоящем за преданием о Вечере Господней, см.: Robertson and Plummer, First Corinthians, с. 243; Fee, First Corinthians, с. 549–550, 553–554; Aitken, «τά δρώµενα καὶ τά λεγόµενα», с. 367–368. О рассказе о Страстях, стоящем за символом веры, включающем в себя распятие, погребение, воскресение и явления ученикам, см.: Gerhardsson, Memory and Manuscript, с. 299–300; Moiser, «1 Corinthians 15», 24–25; J. D. G. Dunn, «Jesus Tradition in Paul», в кн.: Studying the Historical Jesus, ed. Chilton and Evans, с. 155–178, цит. с. 156–157; Garland, 1 Corinthians, с. 683–684; см. также: Klauck, 1 Korintherbrief, с. 108.
(обратно)
769
Hengel, «Mahl in der Nacht», с. 117–119. Эта возможность вполне совместима с предыдущей: например, Герхардссон считает вполне возможным, что из обширного массива преданий о речах и деяниях Иисуса Павел выбирал «лишь то, что требовалось ему в данном контексте» (Memory and Manuscript, с. 299–300; цит. с. 299).
(обратно)
770
Nodet and Taylor, Origins of Christianity, с. 119–120. Помимо Нодэ и Тейлора, отсутствие пасхального контекста в рассказе Павла о Вечере Господней отмечают: A. Schlatter, Paulus, der Bote Jesu: Eine Deutung seiner Briefe an die Korinther (Stutgart: Calwer, 1934), с. 324; Comzelmann, 1 Corinthians, с. 197, прим. 43; Hofius, «Lord’s Supper», с. 83–86, 104–105; M. L. Soards, 1 Corinthians (NIBCNT; Peabody, Mass.: Hendrickson, 1999), с. 239–240. Если Концельман, на основе 1 Кор 5:7, уверен, что Павел знал (предшествовавшую ему) интерпретацию смерти Иисуса как пасхальной жертвы, то Хофиус полагает, что «ритуальные акты, описанные в 11:23b, 11:24а и 11:25а, более соответствуют формальному благодарению перед едой и после еды, произносимому благочестивыми иудеями» (с. 86); а Нодэ и Тейлор заключают, что пусть даже в других местах Павел и «указывает на реальную связь Пасхи с Иисусом» (1 Кор 5:7), здесь он демонстрирует, что совершенно незнаком с рассказами о Страстях в синоптических Евангелиях (с. 119). Недавно Ханс Дитер Бец предположил, что хотя предание о Вечере Господней в 1 Кор 11:23–26 – это «своего рода цитата из более пространного повествования о Страстях», однако реальная прощальная трапеза Иисуса не была пасхальной («Gemeinschaft des Glaubens und Herrenmahl: Uberlegungen zu 1 Kor. 11, 17–34», ZTK 98 [2001]: 401–421, цит. с. 405, 408–409; цит. с. 405).
(обратно)
771
Здесь я в первую очередь опираюсь на источник: Klaus Beyer, The Aramaic Language: Its Distribution and Subdivisions (trans. J. F. Healy; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1986), хотя кое в чем с ним не согласен. См. также: Bruce Chilton and Paul Flesher, The Targums: A Critical Introduction (Waco: Baylor University Press, 2011).
(обратно)
772
Casey, Aramaic Sources of Mark’s Gospel (SNTSMS 102; Cambridge: Cambridge University Press, 1998), с. 51.
(обратно)
773
Fitzmyer, The Gospel According to Luke X–XXIV (AB 28A; Garden City, N. Y.: Doubleday, 1983), с. 901; Chilton, Jesus’ Prayer and Jesus’ Eucharist: His Personal Practice of Spirituality (Valley Forge, Pa.: Trinity Press International, 1997), с. 24–51.
(обратно)
774
Тексты, о которых идет речь, легко найти в источнике: Joseph A. Fitzmyer and Daniel J. Harrington, A Manual of Palestinian Aramaic Texts (BibOr 34; Rome: Biblical Institute Press, 1978).
(обратно)
775
Casey, Aramaic Sources, с. 67.
(обратно)
776
Среди многих, но повторяющихся публикаций Ламсы см.: G. Lamsa, The New Testament from the Ancient Eastern Text: Translations from the Aramaic [sic!] of the Peshitta (San Francisco: Harper & Row, 1989).
(обратно)
777
Douglas-Klotz, The Hidden Gospel: Decoding the Spiritual Message of the Aramaic Jesus (Wheaton, Ill.: Quest Books, Theosophical Publishing, 1999); idem, Prayers of the Cosmos: Meditations on the Aramaic Words of Jesus Translated and with Commentary (San Francisco: Harper & Row, 1990).
(обратно)
778
См.: Chilton, «‘Amen’: An Approach through Syriac Gospels», ZNW 69 (1978): 203–211; repr. Targumic Approaches to the Gospels: Essays in the Mutual Definition of Judaism and Christianity (Studies in Judaism; Lanham, Md.: University Press of America, 1986), с. 15–23; idem, «Announcement in Nazara: Redaction and Tradition in Luke 4:16–21», в кн.: Gospel Perspectives, vol. 2: Studies of History and Tradition in the Four Gospels (ed. R. T. France and D. Wenham; Sheffield: JSOT Press, 1981), с. 147–172.
(обратно)
779
Beyer, Semitische Syntax im Neuen Testament (SUNT 1; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1962); idem, Die aramäischen Texte vom Toten Meer samt den Inschriften aus Palästina, dem Testament Levis aus der Kairoer Genisa, der Fastenrolle und den alten talmudischen Zitaten: Aramaistische Einleitung, Text, Übersetzung, Deutung, Grammatik/Wörterbuch, deutsch-aramäische Wortliste, Register (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1984).
(обратно)
780
Chilton, God in Strength: Jesus’ Announcement of the Kingdom (SNTSU 1; Freistadt: Plöchl, 1979); idem, The Glory of Israel: The Theology and Provenience of the Isaiah Targum (JSOTSup 23; Sheffield: JSOT Press, 1982); idem, The Isaiah Targum: Introduction, Translation, Apparatus, and Notes (ArBib 11; Wilmington, Del.: Glazier, 1987).
(обратно)
781
Помимо источника: Jesus’ Prayer and Jesus’ Eucharist, см., напр.: «Amen»; idem, A Feast of Meanings: Eucharistic Theologies from Jesus through Johannine Circles (NovTSup 72; Leiden: Brill, 1994).
(обратно)
782
Полный обратный перевод арамейских источников Евангелия от Марка: A Comparative Handbook to the Gospel of Mark: Comparisons with Pseudepigrapha, the Qumran Scrolls, and Rabbinic Literature, NTGTJC 1 (Leiden: Brill, 2010); Chilton, «La plate-forme de travail de Marc et le caractère achevé de son oeuvre», RHPR 91.4 (2011): 481–506.
(обратно)
783
Греческий текст Евангелия от Луки: …εἶπεν δὲ αὐτοῖς ὅταν προσεύχησθε λέγετε πάτερ ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Фразы «да будет воля Твоя и на земле, как на небе», приводимой в Синодальном переводе (Лк 11:2), в греческом тексте нет.
(обратно)
784
См.: Chilton, «God as ‘Father’ in the Targumim, in Non-Canonical Literatures of Early Judaism and Primitive Christianity, and in Matthew», в кн.: The Pseudepigrapha and Early Biblical Interpretation (ed. J. H. Charlesworth and C. A. Evans; JSPSup 14; Sheffield: JSOT Press, 1993), с. 151–169.
(обратно)
785
В данном случае перевод выполнен согласно авторскому: ‘…and do not bring me to the test’ (греч. καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν).
(обратно)
786
См.: Fitzmyer and Harrington, Manual, § 95 и с. 230–231.
(обратно)
787
Там же, § 5:31.5 и с. 307.
(обратно)
788
См.: Chilton, «Typologies of Memra and the Fourth Gospel», в кн.: Targum Studies (ed. P. V. M. Flesher; 2 vols.; SFSHJ 55, 165; Atlanta: Scholars Press, 1992–1998), 1:89–100; idem, Judaic Approaches to the Gospels (USFISFCJ 2; Atlanta: Scholars Press, 1994), с. 177–201.
(обратно)
789
Ср.: 4QpsDana ar 24 5 (§ 3F:5); 1QapGenar XXI, 5 (§ 29B:21.5), XXII, 21 (§ 29B:22.21); Mur19 I, 2, 13 (§ 40:2, 13); Mur25 17 1 (§ 44:17.1); Mur26 (§ 45:1.2); Mur72 1 7–8 (§ 49:1.7–8); XHev/Se 8a 3, 13 (§ 51:3, 13); XHev/Se 50 13 (§ 52.10).
(обратно)
790
См.: G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon (Oxford: Clarendon, 1961), s.v.; Colin Hemer, «ἐπιούσιος», JSNT 22 (1984): 81–94.
(обратно)
791
(обратно)
792
Fitzmyer and Harrington, Manual, с. 338.
(обратно)
793
Jousse, Les rabbis d’Israël: Les récitatifs rythmiques parallèles (Paris: Spes, 1930); idem, La manducation de la parole (Paris: Gallimard, 1975); idem, Le style oral rythmique et mnémotechnique chez les verbo-moteurs (Paris: Fondation Marcel Jousse, 1981); имеется также английский перевод: The Oral Style (trans. E. Sienaert and R. Whitaker; New York: Garland, 1990).
(обратно)
794
Перевод первой строки стиха дан согласно англ. тексту. – Прим. ред.
(обратно)
795
Pure Kingdom: Jesus’ Vision of God (SHJ 1; Grand Rapids: Eerdmans, 1996).
(обратно)
796
Chilton, Rabbi Jesus: An Intimate Biography (New York: Doubleday, 2000).
(обратно)
797
См.: Martin McNamara, The New Testament and the Palestinian Targum to the Pentateuch (AnBib 27; Rome: Pontifical Biblical Institute, 1966); idem, Targum and Testament: Aramaic Paraphrases of the Hebrew Bible: A Light on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1972); John W. Bowker, The Targums and Rabbinic Literature: An Introduction to Jewish Interpretation of Scripture (Cambridge: Cambridge University Press, 1969); A. D. York, «The Dating of Targumic Literature», JSJ 5 (1974): 49–62; idem, «The Targum in the Synagogue and the School», JSJ 10 (1979): 74–86; Chilton, A Galilean Rabbi and His Bible: Jesus’ Use of the Interpreted Scripture of His Time (GNS 8; Wilmington, Del.: Glazier, 1984; также опубликована с подзаголовком: Jesus’ Own Interpretation of Isaiah (London: SPCK, 1984); idem, Profiles of a Rabbi: Synoptic Opportunities in Reading about Jesus (BJS 177; Atlanta: Scholars Press, 1989); Craig A. Evans, To See and Not Perceive: Isaiah 6.9–10 in Early Jewish and Christian Interpretation (JSOTSup 64; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1989).
(обратно)
798
В дополнение к этому см.: Jostein Ådna, «Der Gottesknecht als triumphierender and interzessorischer Messias: Die Rezeption von Jes 53 im Targum Jonathan untersucht mit besonderer Berücksichtigung des Messiasbildes», в кн.: Die leidende Gottesknecht: Jesaja 53 und sine Wirkungsgeschichte (ed. B. Janowski and P. Stuhlmacher; FAT 14; Tübingen: Mohr Siebeck, 1996), с. 129–158.
(обратно)
799
McNamara, «‘To Prepare a Resting-Place for You’: A Targumic Expression and John 14:2f.», MilS 3 (1979): 100–108.
(обратно)
800
Craig A. Evans, «A Note on 2 Samuel 5:8 and Jesus’ Ministry to the ‘Maimed, Halt, and Blind’», JSP 15 (1997): 79–82.
(обратно)
801
Robert Hayward, The Targum of Jeremiah (ArBib 12; Wilmington, Del.: Glazier, 1987).
(обратно)
802
Hermann Samuel Reimarus, Fragments (ed. C. H. Talbert; trans. R. S. Fraser; Philadelphia: Fortress, 1970; orig. 1778); Albert Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus (trans. W. Montgomery; London: Black, 1910).
(обратно)
803
S. G. F. Brandon, Jesus and Zealots (Manchester: Manchester University Press, 1967).
(обратно)
804
The State in the New Testament (New York: Scribner, 1956).
(обратно)
805
Die Zeloten: Untersuchungen zur jüdischen Freiheitsbewegung in der Zeit von Herodes I. bis 70 n. Chr. (AGSU 1; Leiden: Brill, 1961).
(обратно)
806
Oscar Cullmann, Jesus and the Revolutionaries (trans. G. Putnam; New York: Harper & Row, 1970); Martin Hengel, Victory over Violence: Jesus and the Revolutionists (trans. D. E. Green; Philadelphia: Fortress, 1973).
(обратно)
807
Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983), с. 19–30, 43–50, 141, 205; Edward W. Said, Culture and Imperialism (New York: Random House, 1993), с. 12–14.
(обратно)
808
См., напр.: Norman Perrin, Rediscovering the Teachings of Jesus (New York: Harper & Row, 1967), с. 102–103; E. P. Sanders, Jesus and Judaism (Philadelphia: Fortress, 1985).
(обратно)
809
Такая интерпретация, впервые сформулированная Гердом Тайсеном в кн.: Gerd Theissen, Soziologie der Jesusbewegung (Munich: Kaiser, 1977), особенно привлекла североамериканских либералов, видящих в Иисусе учителя для индивидуалистов – скажем, к ней проявил интерес Джон Доминик Кроссан (John Dominic Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant, San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991); а также Бёртон Мэк, истолкователь источника Q (Burton L. Mack, The Lost Gospel: The Book of Q and Christian Origins, San Francisco: HarperSanFrancisco, 1993).
(обратно)
810
Наиболее влиятельна здесь историческая социология Джерарда Ленски: Gerhard Lenski, Power and Privilege: A Theory of Social Stratification (2nd ed.; Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1984), влияние ее очевидно, например, в кн.: Crossan, Historical Jesus.
(обратно)
811
Важнейшие современные исследования: William V. Harris, Ancient Literacy (Cambridge: Harvard University Press, 1989), о Римской империи в целом; Catherine Hezser, Jewish Literacy in Roman Palestine (TSAJ 81; Tübingen: Mohr Siebeck, 2001), о Палестине.
(обратно)
812
Eugene Ulrich, The Dead Sea Scrolls and the Origins of the Bible (SDSSRL; Grand Rapids: Eerdmans, 1999).
(обратно)
813
Подробно об этом, с пространными ключевыми цитатами из Иосифа Флавия, см.: Peter Richardson, Herod: King of the Jews and Friend of the Romans (Columbia: University of South Carolina Press, 1996), с. 240–247.
(обратно)
814
Поскольку свидетельства фрагментарны, а истолкование их спорно, перед нами встают сложные исторические вопросы. Некоторые предварительные заключения на основе зачастую двусмысленных свидетельств и спорных предшествующих выводов я попытался сделать в кн.: R. A. Horsley, Galilee: History, Politics, People (Valley Forge, Pa.: Trinity Press International, 1995), гл. 2, 3, 6; и в кн.: R. A. Horsley, Archaeology, History, and Society: The Social Context of Jesus and the Rabbis (Harrisburg: Trinity Press International, 1996), особ. гл. 1–2. Более современное исследование и анализ связанных вопросов: Mark A. Chancey, The Myth of Gentile Galilee (SNTSMS 118; Cambridge: Cambridge University Press, 2002); Morten Horning Jensen, Herod Antipas in Galilee (WUNT 2/215; Tübingen: Mohr Siebeck, 2006). Галилейские археологи часто исходят из того, что по обнаруженным артефактам можно однозначно установить этническую принадлежность их былых владельцев. Впрочем, это предположение оспаривают многие другие археологи, чьи изыскания не связаны ни с Библией, ни с Галилеей. Большая часть рассуждений о Галилее ведется в рамках широких абстрактных концепций, скажем, таких как «иудаизм» и «евреи», и к более точным терминам, какие мы находим в источниках, никто не обращается. А некоторые споры могут быть чисто семантическими: одну и ту же общность людей (из которых одни могли быть иудеями, а другие – галилеянами) одни ученые именуют «евреями», а другие – «израильтянами». Ключ к историческому пониманию – признать существование региональных различий и их возможное значение для миссии Иисуса.
(обратно)
815
Horsley, Galilee, гл. 8.
(обратно)
816
См.: Mordechai Aviam, Survey of Sites in the Galilee (Jerusalem: 1995); Horsley, Galilee, с. 190–193.
(обратно)
817
Подробнее см.: Horsley, Galilee, с. 222–237.
(обратно)
818
Подробнее, на основе информации из Сираха, см.: R. A. Horsley, Scribes, Visionaries, and the Politics of Second Temple Judea (Louisville: Westminster John Knox, 2007), гл. 3. См. также применение историко-социологической модели Ленски к социальному положению и роли книжников и фарисеев: Anthony J. Saldarini, Pharisees, Scribes, and Sadducees (Wilmington, Del.: Glazier, 1988).
(обратно)
819
См., напр.: Susan P. Mattern, Rome and the Enemy: Imperial Strategy in the Principate (Berkeley: University of California Press, 1999).
(обратно)
820
Попытка разобраться в ожесточенных боях Ирода в Галилее с оставшимися цитаделями хасмонейских претендентов на власть и с упорным народным сопротивлением: Horsley, Galilee, с. 55–56.
(обратно)
821
Пассажи, слишком пространные, чтобы их перечислять (с обсуждением), приводятся в кн.: Richardson, Herod, особ. гл. 8 и с. 241–247.
(обратно)
822
Ключевые отрывки и эпизоды, связанные с этим, я обсуждаю в статье: «High Priests and the Politics of Roman Palestine», JSJ 17 (1986): 23–55. О конфликте между священнической аристократией и народом в целом см.: Martin Goodman, The Ruling Class of Judea: The Origins of the Jewish Revolt against Rome, A.D. 66–70 (Cambridge: Cambridge University Press, 1987).
(обратно)
823
Анализ этой практики: Martin Goodman, «The First Jewish Revolt: Social Conflict and the Problem of Debt», JJS 33 (1982): 422–434; Magen Broshi, «The Role of the Temple in the Herodian Economy», JJS 38 (1987): 31–37.
(обратно)
824
Возможно, именно из-за общеимперского контекста и последствий этих событий Иосиф Флавий, обычно называющий жителей Галилеи «галилеянами», здесь именует протестующих иудеями.
(обратно)
825
Анализ речей в Сирахе: Horsley, Scribes, Visionaries, гл. 3; применение категории «служения», введенной Ленски, к книжникам и фарисеям: Saldarini, Scribes, Pharisees.
(обратно)
826
При всем уважении к Якобу Нойзнеру и его труду: Jacob Neusner, From Politics to Piety: The Emergence of Pharisaic Judaism (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1973).
(обратно)
827
Подробное обсуждение: Horsley, Scribes, Visionaries, гл. 8.
(обратно)
828
См. новаторское исследование и анализ: Werner Kelber, The Oral and Written Gospel (Philadelphia: Fortress, 1983), особ. гл. 2, 3; idem, «Jesus and Tradition: Words in Time, Words in Space», Semeia 65 (1994): 139–167.
(обратно)
829
См. особенно: Werner Kelber, «The Case of the Gospels: Memory’s Desire and the Limits of Historical Criticism», Oral Tradition 17 (2002): 55–86, цит. с. 55–56; idem, «The Words of Memory: Christian Origins as MnemoHistory – A Response», в кн.: Memory, Tradition and Text: Uses of the Past in Early Christianity (ed. A. Kirk and T. Thatcher; SemeiaSt 52; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2005), с. 221–248, цит. с. 222–223, 226, 238–239; R. A. Horsley, Jesus in Context: Power, People, and Performance (Minneapolis: Fortress, 2008), гл. 5, 6, 7 o социальной памяти.
(обратно)
830
См.: R. A. Horsley, Revolt of the Scribes: The Origins of Apocalyptic Literature (Minneapolis: Fortress, 2009).
(обратно)
831
См.: Robert Cover, «Nomos and Narrative», в кн.: Narrative, Violence, and the Law: the Essays of Robert Cover (ed. M. Monow et al.; Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992), с. 95–172.
(обратно)
832
В Иерусалимском Талмуде около десяти раз назван р. Авва Карфагенянин (очевидно, из Карфагена в Северной Африке), палестинский амора в третьем поколении. Аналогично, три или четыре раза упомянут палестинский амора в третьем поколении р. Самуил Каппадокийский. Есть также несколько упоминаний о р. Иудане Каппадокийском, ученике р. Иосе. Кроме того, о нескольких подобных мудрецах в Иерусалимском Талмуде говорится по одному разу. В иудейской диаспоре Египта, благодаря ее близости к Земле Израильской, можно проследить некоторое влияние раввинов. Однако в целом какого-либо систематического знания раввинистических преданий и приверженности к ним там не заметно (более подробное описание египетской и других общин западной иудейской диаспоры приводится в кн.: Mendels and Edrei, Zweierlei Diaspora, в различных местах).
(обратно)
833
Этот закон связан с тем, что некоторые раввины не принимали обычая есть в пасхальную ночь жареного ягненка, поскольку такая трапеза пусть и происходила вне пределов Храма, но могла напоминать жертвоприношение. Шаул Либерман в своей интерпретации Тосефты (Saul Lieberman, Tosefta Ki-Feshutah [New York: Louis Rabinowitz Institute in Rabbinics at the Jewish Theological Seminary of America, 1955–1988]) высказывает мнение о том, что жители Земли Израильской, жарившие ягненка в канун Пасхи, не называли его пасхальным агнцем, делая различие между жертвоприношением и обычной трапезой; в Риме же такого различия не делали и называли пасхальным агнцем ягненка, подаваемого на праздничный стол. Иными словами, раввины решительно противостояли этому обычаю, поскольку рассматривали этого ягненка как пасхального агнца. Этот пример рассказывает нам не столько о конкретном римском мудреце, сколько о том, насколько римская иудейская община была далека от раввинистических традиций. См. также: B. Bokser, «Todos and Rabbinic Authority in Rome», в кн.: Religion, Literature, and Society in Ancient Israel, Formative Christianity, and Judaism: Formative Judaism (ed. J. Neusner et al., 1987; repr., New Perspectives on Ancient Judaism 1; BJS 206; Atlanta: Scholars Press, 1990), с. 117–130.
(обратно)
834
Вавилонский Талмуд не знает Тодоса: «И спросили его: “Кто таков этот Тодос Римлянин – достойный ли человек или негодяй?”» (вав. Псах 53b). Тот же вопрос звучит и в Иерусалимском Талмуде: «Что есть Тодос?», т. е. «Кто он такой?» (иер. Псах 7:1). В обеих редакциях в ответ нам сообщают, что Тодос финансово поддерживает ученых: «Кто такой Тодос? Р. Анания отвечал: Он присылал помощь мудрецам» (иер. Песах 7:1; AHL ed. [Jerusalem 2001], кол. 536). И в Вавилонском Талмуде: «Р. Йосе бар Авин отвечал: Он наполнил карманы мудрецов» (вав. Псах 53b). Сведения о том, что он поддерживал мудрецов, приводятся в Талмуде не как исторический факт, а скорее как пояснение, о ком идет речь. Однако само то, что в обоих Талмудах возникает вопрос, кто такой Тодос, свидетельствует о том, что и сам он, и его дела не пользовались широкой известностью.
(обратно)
835
Сифрей Дв 344 (Louis Finkelstein, ed.: Sifre on Deuteronomy, [New York: Ktav, 1969], с. 400–401). См.: C. Hezser, Form, Function, and Historical Significance of the Rabbinic Story in Yerushalmi Neziqin (TSAJ 37; Tübingen: Mohr Siebeck, 1993), с. 15–24.
(обратно)
836
См. также: т. Рош ха-Шана 1:17 и, в этом контексте, т. Пеа 4:6: «В Палестине принадлежность к священническому сословию доказывается двумя отличиями: правом «воздымать руки» (то есть благословлять народ в богослужении) и получать на току, а в Сирии до тех мест, куда доходят новолунные посланцы, только правом “воздымать руки”, но не правом получать на току. Вавилония в одинаковом положении с Сирией. Р. Шимон сын Элазара говорит: то же правило сначала соблюдалось и в Александрии, именно когда там заседал бет-дин». И здесь мы видим, что знания о том, как освящается новый месяц, распространяются только на восток. Шаул Либерман в своем комментарии к Тосефте (Tosefta Ki-Feshutah, Rosh Hashana, 5, с. 1028–1030) поднимает вопрос о том, почему об освящении нового месяца сообщали только вавилонским евреям, но оставляет его неразрешенным. Однако он согласен, что об этом говорят все источники. См. также: J. Tabory, Jewish Festivals in the Time of Mishna and Talmud [Hebrew] (Jerusalem: Magnes, 1995), с. 30–33, где прилагается и карта сигнальных костров. В другом контексте Тосефта рассказывает о письме, посланном из Иерусалима к диаспоре, где говорилось, среди всего прочего, о вставных днях календаря. Из этого письма также очевидно, что западная часть диаспоры в него не включалась. Более того: то, что письмо было написано по-арамейски, ясно свидетельствует, что оно адресовалось только Востоку. См.: т. Санх 2:6.
(обратно)
837
В талмудической литературе мы находим немало свидетельств разногласий между израильским и вавилонским центрами по вопросу о том, имеет ли право вавилонский центр самостоятельно определять начало нового месяца и поставлять мудрецов (см., напр.: вав. Брах 63а). Однако о подобных же разногласиях с каким-либо иудейским центром на западе мы не встречаем ни слова. В т. Мег 2:5 мы читаем, как р. Меир едет в Азию править календарь. Однако ученые отмечают, что «Азия» в этом контексте означает не Малую Азию, а Эцион-Гебер, расположенный южнее Израиля. Эта идентификация основана на Евсевии. См.: G. Alon, History of the Jews in the Land of Israel during the Period of Mishna and Talmud [Hebrew] (2 vols.; Tel-Aviv: Ha-Qibus ha-Me’uhad, 1952–1955), 1:145, 152–153. A. Wasserstein, «Calendaric Implication of a Fourth-Century Jewish Inscription from Sicily» SCI 11 (1991–1992) 162–165, показывает, что иудеи на Сицилии не придерживались календаря мудрецов.
(обратно)
838
Шмуэль Сафрай полагает, что эта Мишна основана на реальных событиях. См.: S. Safrai, Be-Shilhei Ha-Bayit Ha-Sheni Ube-Tekufat Ha-Mishnah: Perakim Be-Toldot Ha-Hevra Veha-Tarbut (Jerusalem: Misrad Ha-Chinuch, 1983), с. 44; idem, Bi-Y’mei Ha-Bayit Ubi-Y’mei Ha-Mishnah, том 2; Mehkarim Be-Toldot Yisrael (Jerusalem: Magnes, 1994), с. 632. Сандерс не соглашается с ним и детально показывает, что его тезис безоснователен. Сандерс согласен с тем, что, возможно, в субботний год иудеи посылали в Землю Израильскую больше пожертвований, чтобы поддержать крестьян, не имеющих возможности работать на земле. Однако, по его мнению, логично предположить, что эта Мишна описывает лишь «романтическое», идеализированное представление о взаимоотношениях с диаспорой. См.: E. P. Sanders, Jewish Law from Jesus to Mishnah (London: SCM, 1990), с. 301.
(обратно)
839
См.: м. Эрув 4:1; т. Сукка 2:11, м. Ав. Зар 4:7; и т. д. См.: S. Safrai, «Bikureihem Shel Hakhmei Yavneh Be-Roma», в кн.: Bi-Y’mei Ha-Bayit, 2:365; см. также: Hugo Mantel, Studies in History of the Sanhedrin (Cambridge: Harvard University Press, 1961), и цитируемые им источники. В этой статье Сафрай обсуждает путешествия в Рим мудрецов из Явне, однако очевидно, что и в последующих поколениях мудрецы посещали Рим в политических целях: см., напр.: вав. Меил 17b. Стоит отметить, что в некоторых источниках, где упоминается название «Рим», речь идет о деревне Рома (или Рума) в Галилее, о которой упоминает и Иосиф Флавий (И. В. III, 7.21).
(обратно)
840
В параллельном источнике об этом говорится так: «“Философы” спросили у старцев [цекеним] в Риме» (т. Ав. Зар 6:7; вав. Ав. Зар 54b).
(обратно)
841
Таль Илан предполагает, что речь идет о римских старейшинах, т. е. об иудейских мудрецах, живших и трудившихся в Риме; см.: «Die Juden im antiken Rom und ihr kulturelles Erbe», в ст.: «Wie schon sind deine Zeite, Jakob, deine Wohnungen, Israel!» (Num. 24, 5); Beiträge zur Geschichte judisch-europaischer Kultur (ed. R. Kampling; Apeliotes 5; Frankfurt: Lang, 2009), с. 47–78. Однако, по нашему мнению, этот тезис не выдерживает критической проверки. По меньшей мере в трех эпизодах Мишны и Тосефты «старцами» названы мудрецы, плывшие на корабле в Рим вместе с раввином Гамлиэлем: «Однажды раббан Гамалиил и старцы ехали на корабле» (м. Маас. ш 5:9); «Однажды раббан Гамалиил и старцы прибыли в субботу на судне, и язычник устроил сходни, чтобы спуститься, тогда старцы сошли по ним» (м. Шаб 16:8); «Однажды раббан Гамалиил и старцы ехали на корабле, и настал святой день [т. е. наступила суббота]. И сказали они раббану Гамалиилу…» (т. Шаб 13:14). Есть и параллельный текст Мишны, в котором спутники раббана Гамалиила названы по именам: р. Элазар бен Азария, р. Йегошуа и р. Акиба, все – виднейшие ученые Израиля. Схожий источник мы находим и в мидраше: «Однажды раббан Гамалиил и старцы ехали на корабле, и не было у них лулав» (Сифра, Эмор 12). С другой стороны, в раввинистических источниках мы не находим ни выражения «старцы в Риме», ни каких-либо иных выражений, означающих местных мудрецов в Риме. Следовательно, очевидно, что вопрос, который, как гласит Мишна, был задан мудрецам во время их визита в Рим, в той мере, в какой он исторически точен, был обращен именно к иудейским мудрецам во время их римского визита. Важно также отметить, что выражение «старцы» часто используется в раввинистической литературе применительно к старейшинам Земли Израильской или Храма. См., напр.: м. Йома 1:3; Сукка 2:1; 4:4; Таан 3:6.
(обратно)
842
См.: т. Гит 1:4.
(обратно)
843
См.: т. Трум 2:13.
(обратно)
844
См.: иер. Иевам 8:4, 8d (ET: AHL ed., col. 865).
(обратно)
845
См.: т. Б. Кам 10:17.
(обратно)
846
См.: вав. Кетуб 112а.
(обратно)
847
См.: т. Хул 3:10; Пара 7:4; Микв 4:6.
(обратно)
848
Alon, Toldot Ha-Yehudim.
(обратно)
849
D. Goodblatt, «Medinot Hayyam: The Coastal District» [Hebrew], Tarbiz 64 (1994): 13–37.
(обратно)
850
См., напр.: т. Шаб 15:8; вав. Иевам 98а.
(обратно)
851
См., напр.: вав. Рош ха-Шана 26а. Это описание путешествий рабби Акибы явно агадично по сути, однако многочисленные упоминания о местах, которые он посетил, вполне возможно, хранят в себе предание, основанное на исторических данных.
(обратно)
852
По иронии судьбы, доказательство этого отчуждения исходит из той области, которая, казалось бы, призвана свидетельствовать о единстве – из сбора средств. До разрушения Храма связь между иудеями диаспоры и их национальным и религиозным центром в Израиле поддерживалась благодаря постоянным паломничествам верующих к Храму и отправке туда средств. Даже после разрушения Храма иудеи продолжали посылать своей израильской верхушке (неси’ют) денежные пожертвования. Однако существуют убедительные доказательства того, что со временем и с ослаблением связей с западной диаспорой эти платежи начали восприниматься как устаревший и нежелательный способ поддержания связи. Два римских закона, от 363 и 399 г. н. э., связаны с отменой налогов, собиравшихся в пользу наси в Израиле. Из текста закона 399 г. видно, что «посланники», собиравшие налог, не имели никаких религиозных функций или задач, – в их обязанности входило лишь собирать золото и серебро и переправлять их в Израиль. Само то, что римляне считали возможным разорвать связь между греко– и латиноязычной диаспорой и наси в Израиле, возможно, указывает на то, что эта связь воспринималась как чисто бюрократическая. Эти два закона, по всей видимости, были приняты в интересах иудеев, видевших в этом налоге ненужное бремя. Налог, который требовала себе администрация наси, собирался и выплачивался согласно римскому закону. Однако в определенный момент этот закон был отменен, и наси не могли больше собирать налог. В тексте закона от 363 г. Юлиан говорит открыто: «Подать, налагаемая на вас через посланников, отменяется. Пусть и в будущем никто не сможет вредить вам, вводя подобные подати. Итак, вы освобождаетесь от этой повинности». По мнению Амнона Линдера, иудеи могли только приветствовать этот новый закон, принятый в их интересах. Это подтверждает предположение о том, что связь между Израилем и западной диаспорой постепенно слабела. Если бы администрация наси имела на иудеев западной диаспоры духовное и галахическое влияние, они, несомненно, были бы заинтересованы в том, чтобы продолжать платить им налог. Однако в III–IV вв. этот налог, очевидно, превратился в пережиток прошлого: иудеи западной диаспоры больше не понимали, почему должны отсылать деньги на восток. Император вмешался, поскольку понимал реальное положение вещей. Он действовал не против иудеев, а скорее в их интересах. См.: A. Linder, ed., The Jews in the Legal Sources of the Early Middle Ages (Detroit: Wayne State University Press, 1977), законы 13 и 30.
(обратно)
853
Sanders, Jewish Law, гл. 1 и 3.
(обратно)
854
О центральной роли Храма в связи иудеев из диаспоры с метрополией и о национальном сознании иудеев диаспоры до разрушения Храма см.: U. Rappaport, «The Jews of the Land of Israel and the Jews of the Diaspora During the Hellenistic and Hasmonean Periods» [Hebrew], Te’uda 12 (1996) 1–9; A. Kascher, «Jerusalem as «Metropolis» in Philo’s National Consciousness» [Hebrew], Cathedra 11 (1980): 46–56.
(обратно)
855
J. Jeremias, Jerusalem in the Time of Jesus (trans. F. H. and C. H. Cave with M. E. Dahl; London: SCM, 1969); S. Safrai, Pilgrimage at the Time of the Second Temple [Hebrew] (Tel Aviv: Am ha-Sefer, 1965).
(обратно)
856
Их ели по всему городу, как кодашим калим (не столь святые жертвы). См.: м. Завим 5:8, также Авот рабби Натана, версия А, гл. 35. То же подразумевается у Филона, Особ. зак 2.148, Юб 49:16–20 и Мегилат Ха-Микдаш предписывают, чтобы жертвенное мясо, как «более святая жертва», съедалось во дворе Храма.
(обратно)
857
См.: м. Псах 10:6–7; т. Сукка 3:2; Псах 3:11. Пение хвалебных молитв было частью жертвоприношения; поэтому интересно было бы узнать, практиковалось ли оно во время пасхальной трапезы в диаспоре или в отдаленных районах Израиля.
(обратно)
858
Луис Финкельштейн предположил, что Агада – более древний текст, существовавший еще во времена Маккавеев, однако другие ученые опровергли все его аргументы. См.: E. D. Goldschmidt, The Passover Haggadah: Its Sources and History [Hebrew] (Jerusalem: Bialik, 1960), с. 30.
(обратно)
859
S. Safrai and Z. Safrai, Haggadah of the Sages [Hebrew] (Jerusalem: Carta, 1998).
(обратно)
860
Согласно множеству рукописей и средневековых истолкований, м. Псах 10, которая служит основой Агады и содержит в себе ее базовую структуру, изначально была связана с первыми четырьмя главами этого трактата как отдельный трактат под названием Песах Ришон. Главы 5–9, в которых говорится о пасхальном жертвоприношении, составляли отдельный трактат Масехет Песах Шени. Иными словами, десятая глава – в которую входит сама Агада и ритуалы, связанные с ее воспроизведением, – во времена Храма не входила в описание пасхальных ритуалов. См.: H. Albeck, Perush ha-Mishnah, Seder Moed, с. 140, прим. 9; Lieberman, Tosefta Ki-Feshutah, Pesahim, с. 647; Safrai and Safrai, Haggadah, с. 19.
(обратно)
861
J. Heinemann, Prayer in the Period of the Tanna’im and the Amora’im: Its Nature and its Patterns [Hebrew] (Jerusalem: Magnes, 1966), с. 18; E. Fleischer, «On the Beginnings of Obligatory Jewish Prayers» [Hebrew], Tarbiz 59 (1989–1990): 397–441, цит. с. 402.
(обратно)
862
E. Fleischer, «On the Beginnings», с. 404–411; Lee L. Levine, The Synagogue in the Late Antiquity (Philadelphia: ASOR, 1987).
(обратно)
863
Некоторые ученые полагают, что создание набора обязательных молитв не было связано с храмовыми службами; однако и они признают, что у нас нет источников храмового периода, указывающих на практику молитвы вне Храма. См.: Heinemann, Prayer, с. 22.
(обратно)
864
См.: вав. Мег 18а; Брах 33а; иер. Мег 3:7, 74с (ET: AHL ed., col. 767). Во всех этих источниках говорится, что молитвы были установлены пророками или членами Великого Собрания – иными словами, еще до периода мудрецов.
(обратно)
865
См.: M. Kiley et al., eds., Prayer from Alexander to Constantine: A Critical Anthology (London: Routledge, 1997).
(обратно)
866
О значении слова qeba‘ как формы слова qebua‘ (установление) см.: L. Ginzberg, Perushim Ve-Hiddushim be-Yerushalmi (New York: Ktav, 1971), 3:333–337. См. также: J. Heinemann, Studies in Jewish Liturgy [Hebrew] (Jerusalem: Magnes, 1983); A. Aderet, From Destruction to Restoration: The Mode of Yavne in Reestablishment of the Jewish People [Hebrew] (Jerusalem: Magnes, 1999), с. 95. О консерватизме Элиэзера бен Гиркана см.: J. D. Gilath, R. Eliezer ben Hirkanus: A Scholar Outcast (BISNELC; Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 1984).
(обратно)
867
Вавилонский Талмуд предлагает три мнения о концепции предписанной молитвы в утверждении р. Элиэзера: «Когда молитва его – как груз на его плечах»; «молитва, в которой человек не возносит прошений»; и «молитва, в которой человек не может добавить от себя ничего нового». Первые два определения, очевидно, относятся к молитве, представляющей собой фиксированный текст, который молящийся должен просто зачитывать наизусть: такая молитва – как обязанность («груз на его плечах»), и внести в нее какие-либо искренние и актуальные для себя прошения невозможно. К такому же жестко установленному тексту молитвы, куда нельзя ничего «добавлять», относится и третье определение.
(обратно)
868
Между учеными идет спор о точном значении этой барайты. Иеремия Хайнеман, основываясь на доступных ему источниках, полагает, что речь идет об окончательном формулировании и редактуре (Prayer, с. 22). На наш взгляд, с этим трудно согласиться: ведь сам он признает, что у нас нет никаких доказательств существования организованной молитвы во времена Храма. Из самого смысла фразы очевидно: речь идет о составлении и редактуре «Восемнадцати славословий» (Шмоне Эсре). См.: Fleischer, «On the Beginnings», с. 425–433. См. также: Stefan C. Reif, Judaism and Hebrew Prayer: New Perspectives on Jewish Liturgical History (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), с. 60.
(обратно)
869
Интенсивная работа мудрецов из Явне над текстом и порядковым расположением обязательных молитв очевидна из многих источников. Например, о повторении молитвы «Шма» («Шема») Мишна пишет следующее: «Утром произносят два славословия перед шема и одно после него, а вечером – как перед шема, так и после него читают по два славословия, одно долгое, а другое краткое. Там, где постановили распространять, нельзя сокращать; [где постановили] сокращать, нельзя распространять; где постановили читать заключительную формулу (“Благословен…”), нельзя ее выпускать, а там, где постановили заключительной формулы не читать, нельзя таковую читать. Исход из Египта поминается по ночам. Р. Элазар сын Азарии сказал: мне теперь уже под семьдесят лет, и я не удостоился [слышать], чтобы ночью упоминали об исходе из Египта, пока Бен-Зома не дал следующего толкования стиху: “…дабы ты вспоминал (Син. перев.: “помнил”) день исшествия своего из земли Египетской во все дни жизни твоей” (Втор 16:3). “Дни жизни твоей” означает: дни. “Все дни жизни твоей” означает: “ночи”. Мудрецы же говорят: выражение “дни жизни твоей” значит “дни мира сего”; “все дни жизни твоей” [сказано] для включения дней Мессии» (м. Брах 1:4–5). Это означает, что в поколении Явне текст и порядок чтения вечерних молитв был еще не установлен. Сходным образом, в вав. Брах 28а мы встречаем спор о том, является ли вечерняя молитва обязательной или необязательной: протагонистами в споре выступают мудрецы поколения Явне, однако их аргументация строится на сходстве между молитвой и храмовой службой. Те, кто считал вечерние молитвы необязательными, основывались на отсутствии в Храме вечерней службы. В Мишне, говорящей о молитвах в Рош ха-Шана, мы находим такое рассуждение о порядке молитв: «Порядок славословий. Он говорит: славословие о предках (1), о всесилии (2), о святости имени Божия (3), – в это славословие он вставляет стихи царственные, причем не трубит [в бараний рог], – славословие о святости дня, и в этом месте трубит; стихи “воспоминательные”, и в этом месте трубит, стихи “трубные”, и в этом месте трубит; затем читает славословия о служении (16), о благодарности (17) и о благословении священников; так говорит р. Иоанн сын Нури. Ему возразил р. Акиба: если он не трубит при стихах царственных, зачем он их читает? Но порядок должен быть таков: славословие о предках, о всесилии, о святости Имени, затем он вставляет в славословие о святости дня стихи “царственные”, причем трубит, затем «Зикронот», и трубит [в бараний рог]; «Шофарот», и трубит [в бараний рог]; затем он читает стихи “воспоминательные” и трубит, затем стихи “трубные” и трубит, затем он читает славословие о служении, о благодарности и о благословении священников» (м. Рош ха-Шана 4:5). Очевидно, что мудрецы Явне все еще продолжали размышлять над порядком молитв, их содержанием, стилем и структурой; молитвенное правило было еще не сформулировано, и именно перед ними стояла задача придать ему ясную и четкую форму.
(обратно)
870
Эмануэль Тов находит в литературе множество свидетельств тому, что на религиозных собраниях грекоязычных общин иудейской диаспоры, начиная с I в. н. э. и далее, Писание читалось по-гречески. См.: E. Tov, «The Text of Hebrew/Aramaic and Greek Bible Used in the Ancient Synagogue», в кн.: The Ancient Synagogue from Its Origins until 200 c.e.: Papers Presented at an International Conference at Lund University, October 14–17, 2001 (ed. B. Olsson and M. Zetterholm; Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2003), с. 237–259. На амулете «Шма Исраэль» из Хальбтурна надпись сделана по-еврейски, но греческими буквами; это также показывает нам, что, даже если грекоязычные евреи и знали какие-то формулы на иврите, они не могли прочесть их в оригинале и вынуждены были обращаться к греческому. Другие объяснения: A. Lange and E. Eschel, «The Lord is One: How Its Meaning Changed», BAR 39.3 (2013): 58–63, 69. С другой стороны, некоторые считают, что греческий перевод Торы и псалмов читался наряду с еврейским оригиналом. На наш взгляд, серьезных оснований так думать нет. Аргументы тех, кто полагает, что грекоязычные иудеи читали и на иврите: A. I. Baumgarten, «Bilingual Jews and the Greek Bible», в кн.: Shem in the Tents of Japhet: Essays on the Encounter of Judaism and Hellenism (ed. J. Kugel; JSJSup 74; Leiden: Brill, 2002), с. 13–30, особ. с. 13–20. Возможно, подтверждает нашу точку зрения и то, что вплоть до IX в. н. э. еврейские рукописи Ветхого Завета на западе отсутствуют. См. также: N. De Lange, «The Hebrew Language in the European Diaspora» [Hebrew], Te’uda 12 (1996): 111–137.
(обратно)
871
Так, например, Лия Рот-Герсон весьма убедительно продемонстрировала, что греческое понятие σωτηρία (сотерия, «спасение») часто присутствует в надписях грекоязычной диаспоры, временами – в греческих надписях, сделанных в Израиле, однако в еврейских и арамейских надписях полностью отсутствует. Таким же образом, в греческих надписях заметна эллинистическая тенденция делать акцент на индивидуальном жертвователе, в то время как арамейские и еврейские надписи отражают раввинистическое мировоззрение, в центре которого стоит община. См.: L. Roth-Gerson, «Similarities and Differences in Greek Synagogue Inscriptions of the Land of Israel and the Diaspora», в кн.: Synagogues in Antiquity [Hebrew] (ed. A. Kascher, A. Oppenheimer, and U. Rappaport; Jerusalem: Yad Izhak Ben Zvi, 1987), с. 133–146.
(обратно)
872
Там же, с. 142.
(обратно)
873
В этом контексте важно упомянуть также об иудейских надгробных камнях, встречающихся на юге Европы и свидетельствующих о том, что в этом регионе были иудейские общины; см.: D. Noy, Jewish Inscriptions of Western Europe, v. 1: Italy (Excluding the City of Rome), Spain and Gaul (Cambridge: Cambridge University Press, 1993). Из исследования памятников, собранных автором, очевидно, что надписи на подавляющем большинстве из них сделаны по-латыни или по-гречески, – факт, указывающий на то, что именно эти языки в первую очередь (если не исключительно) использовались в этих общинах как для общения между собой, так и для общего выражения идей, связанных с религиозной или интеллектуальной жизнью этих иудеев. Впрочем, на значительном числе надгробных камней имеются и еврейские надписи. Они показывают нам, что эти иудеи, не употребляя иврит в обыденной жизни, все же считали его важным символом своей идентичности. Кроме того, они говорят о том, что эти иудеи стремились сохранить свою отдельную идентичность. Однако, рассматривая сами надписи, мы сразу замечаем, что знание иврита как живого языка у этих иудеев было крайне слабым. Далее, содержание этих надписей никак не связано с нововведениями раввинов. Кроме того, стоит отметить, что значительный процент надписей на иврите состоит из отдельных слов, по много раз повторяемых на монументах – таких как шалом («мир»), или отдельных фраз – таких как шалом аль Исраэль («мир Израилю»), или шалом аль менухато («покойся в мире»). Эти слова и фразы часто повторяются; по всей видимости, их копировали механически. Таким образом, по нашему мнению, эти надписи правильнее рассматривать как заимствованные культурные символы, а не доказательство использования еврейского языка в быту, и уж точно не как свидетельство знакомства с раввинистическими учениями. Многие надписи на поздних памятниках свидетельствуют о более обширных познаниях в иврите (с. 151, 157, 169, 207). Возможно, с течением времени иврит проникал с востока на юг Европы, и знание его постепенно улучшалось; однако у нас нет никаких свидетельств обратного движения. Более глубокое знание иврита (за пределами отдельных слов) сформировалось на юге Европы намного позже, когда туда пришли раввинистические учения.
Помимо надгробных камней можно упомянуть и другие интересные археологические находки: развалины синагог в Византии, где мы находим такие иудейские символы, как менора (подсвечник), шофар (бараний рог) и лулав (пальмовая ветвь) – символы чисто иудейские, ведущие свое происхождение от библейских ритуалов и служившие иконографическими символами уже во времена Второго Храма. См.: L. L. Levine, The Ancient Synagogue: The First Thousand Years (New Haven: Yale University Press, 2000), с. 232–237. Э. Р. Гуденаф предположил, что искусство указанной локации и указанного периода – определенно не раввинистическое. Говоря об этом, хотелось бы подчеркнуть, что библейские иудейские символы вообще не противоречили раввинистической практике: мы встречаем их во всех поколениях и во множестве мест, от Дура-Европоса до Палестины и Европы. Эти символы представляли собой общепринятый и понятный «общий знаменатель», благодаря которому иудейские общины Востока и Запада легко узнавали друг друга. Несмотря на языковой барьер, визуальное искусство служило для этих общин доступным и надежным средством коммуникации. Кроме того, важно отметить, что даже в более поздние периоды раввинистический иудаизм так и не разработал собственной символики. Древние символы, уже нами упомянутые, плюс некоторые заимствованные языческие и христианские мотивы продолжали служить иудейской иконографии вплоть до позднего Средневековья. Еврей, верный раввинистическому иудаизму, и западный эллинизированный еврей с равной охотой использовали общепринятую иудейскую иконографию, и различие в принятых ими формах иудаизма на иконографии никак не отражалось. См.: E. R. Goodenough, Jewish Symbols in the Greco-Roman Period, том 12: Summary and Conclusions (Bollingen Series 37; New York: Pantheon, 1965). Однако мы не согласны с Гуденафом в его теории о том, что источником этого искусства стала иудейская эллинистическая литература, в частности сочинения Филона Александрийского. См. также: Levine, Ancient Synagogue, с. 287.
(обратно)
874
Может быть, ситуация станет понятнее, если сопоставить ее с ситуацией в Средние века, когда Мишна и Талмуд, давно уже записанные, служили основой как для обучения, так и для нормативной практики. На всем протяжении Средневековья ученые читали Талмуд и писали о Талмуде исключительно на иврите. В христианской Европе с X в. и до эпохи Просвещения вся раввинистическая литература писалась либо на иврите, либо на смеси иврита и арамейского. Хотя в гаонский период некоторые писали по-арабски (еврейскими буквами), и стиль этот сохранялся в мусульманской Испании до XI в., однако такие работы, если не переводились сразу, далее по большей части были утрачены и (возможно, по этой причине) не имели большого влияния. Вплоть до середины XII в. по-арабски писались философские труды, в том числе значительные (книга «Ховот ха-Левавот», или «Учение об обязанностях сердца», автором которой стал рабейну Бахья ибн Пакуда; «Кузари» р. Иехуды ха-Леви; «Руководство для смущенного ума» Маймонида), однако все они вскоре после написания переводились на иврит. Работы, не переведенные на иврит, становились маргинальными и практически не оказывали влияния. Свои ранние галахические труды, «Комментарии к Мишне» и «Книгу Заповедей», Маймонид написал по-арабски, а перевод на иврит создал позже, в «Мишне Тора». Отвечая некоему тирскому ученому, Маймонид ссылается на свои ранние арабские труды так: «Сожалею о том, что написал их по-арабски, ибо их следовало бы прочесть всем – и надеюсь, с Божьей помощью, перевести их на святой язык», см.: Teshuvot ha-Rambam [Hebrew] (ed. J. Blau; 4 vols.; Jerusalem: R. Mas. 1986), 2:745, no. 447. Именно это соображение заставило Маймонида впоследствии изменить свой литературный подход и позднейшие свои сочинения, входящие в «Мишне Тора», написать по-еврейски.
Решающую роль здесь играло не только то, что Писания читались по-еврейски, но и (может быть, в первую очередь) то, что на другие языки не переводились каноны. И Библия, и Талмуд, и молитвенник на протяжении всего Средневековья читались всей иудейской диаспорой, и в христианских, и в мусульманских странах, исключительно по-еврейски. В результате, хотя в разных местностях были приняты разные обычаи и различные методы исследования, благодаря единому языку коммуникация между различными общинами и частями диаспоры не затруднялась и не прекращалась. Таким образом, в Средние века текст играл важнейшую роль в сохранении единства общины.
(обратно)
875
Впрочем, если говорить о молитве «Шма» («Шема»), мы обнаруживаем, что в Кесарии она читалась по-гречески: «Рабби говорит: по моему мнению, Шема должно читать только на священном языке [еврейском]». По какой причине? «Ибо сказано (Втор 6:6): “…и да будут слова сии”…» (т. Сота 7:7). Р. Леви бар Хайта отправился в Кесарию и увидел, что там читают «Шма» по-гречески. Он хотел это прекратить. Р. Иосе услышал об этом и твердо сказал: говорю тебе, человек, не умеющий прочесть ашурит, не должен его читать. Пусть читает на том языке, который ему известен. Р. Берахья отвечал: если человек читает Свиток Эсфири и на ашурит, и на своем родном языке, он исполняет необходимое, лишь когда читает на ашурит. Рабби сказал: откуда нам это знать? Если он читает на родном языке, значит, исполняет необходимое на родном языке. Также и молитва: пусть испрашивает потребное себе и благословляет пищу свою на любом языке, который знает. Ибо он знает, Кого благословляет, и мы можем взять с него клятву и свидетельство на его языке (иер. Сота 7:2, 21b [ET: AHL ed., col. 933]). Следует отметить, что речь идет о «Криат Шма» – тексте, содержащемся в Библии и совершенно точно переведенном на греческий еще за несколько веков до этой дискуссии. Нас в этой заметке особенно интересует то, что молитвы составлялись мудрецами главным образом в следующем поколении после разрушения Храма.
(обратно)
876
См.: Randall D. Chestnut and Judith Newman, «Prayers in the Apocrypha and the Pseudepigrapha», в кн.: Prayer from Alexander to Constantine, ed. Kiley et al., с. 38–42. Они совершенно верно говорят о «скриптуризации молитвы» в апокрифах и псевдэпиграфах.
(обратно)
877
В целом см.: David A. Fiensy, «Prayers, Hellenistic Synagogal», ABD 5:450–451.
(обратно)
878
Мидраши: Танхума (Варшава), Ки Тиса 34. А Пешикта Раббати (Иш-Шалом), гл. 5, гласит: «Научил нас [наш учитель] вот чему: Р. Иехуда бар Шалом сказал: Спросил Моисей, может ли Мишна [быть дана] на письме, но Бог предвидел, что в будущем народы мира переведут Тору и начнут читать ее по-гречески и называть себя Израилем. И Святой, да будет Он благословен, сказал: «Моисей, в будущем народы мира назовут себя Израилем и сынами Божьими, и Израиль также будет называть себя сынами Божьими; так пусть силы обеих сторон будут равны». И сказал Святой, да будет Он благословен, язычникам: “Говорите, вы Мои дети? Кому ведомы тайны Мои – те Мои дети!” А что это за тайны? Это Мишна, которая передается из уст в уста». См.: S. Lieberman, Yewanit We-Yawnut be-Erets Yiśra’el: Mehkarim be-orhot-hayim be-Erets Yiśra’el bi-tekufat ha-Mishnah weha-Talmud (Jerusalem: Bialik, 1962; Hellenism in Jewish Palestine [перевод с иврита, 2nd ed.; New York: Jewish Theological Seminary of America, 1962]), с. 304; F. Dreyfus, «The Scales Are Even» [Hebrew], Tarbiz 52.1 (1982): 139–142, цит. с. 139; M. A. Friedman, «And So Far the Scales Are Balanced» [Hebrew], Tarbiz 54.1 (1984): 147–149, цит. с. 147; A. A. Hallevy, «The Scales Are Even» [Hebrew], Tarbiz 52.3 (1983): 514; E. E. Urbach, The Sages: Their Concepts and Beliefs (trans. I. Abrahams; 2nd ed.; 2 vols, Jerusalem: Magnes, 1979), 1:305.
(обратно)
879
ET: AHL ed., col. 89.
(обратно)
880
См.: Urbach, Sages, с. 286–314, особ. с. 305–310; A. Rozental, «Torah She-Ba’al Peh Ve-Torah Mi-Sinai», в кн.: Menkerei Talmud [Hebrew] (ed. M. Bar-Asher and D. Rozental; 2 vols.; Jerusalem: Magnes, 1993), 2:448.
(обратно)
881
ET: AHL ed., col. 749. См.: Liebermann, Yewanit We-Yawnut be-Erets Yisra’el, с. 13–15; Alon, Toldot Ha-Yehudim, с. 241–248. Перевод Торы на греческий в раввинистический период был уже свершившимся фактом: она была переведена за несколько сот лет до этого. Соответственно, раввины принимали этот перевод как данность и прилагали все усилия к тому, чтобы сделать его «единственным официальным». Можно вспомнить пример с переводом Онкелоса (Аквилы), см.: иер. Мег 1:9, 71с (ET: AHL ed., col. 749): «Онкелос-прозелит перевел Тору перед р. Элиэзером и р. Йегошуа, и они похвалили его и сказали: «Ты прекраснее сынов человеческих»». См. также: Y. L. Zunz, Ha-Drashot Be-Yisrael ve’Hishtalshelutan Ha’historit (Jerusalem: Bialik, 1947), с. 41, где сказано, что Онкелос был учеником р. Акибы и отредактировал Септуагинту по его особой просьбе, поскольку р. Акиба понимал, насколько важны в этом переводе каждое слово и каждая буква. См.: E. Tov, «Greek Translations», в кн.: Bible Translations: An Introduction [Hebrew] (ed. C. Rabin; Jerusalem: Bialik, 1984), с. 49–120. Мудрецы в целом считали этот перевод авторитетным.
(обратно)
882
S. Elitzur, Wherefore Have We Fasted? ‘Megillat Taanit Batra’ and Similar Lists if Fasts [Hebrew] (Jerusalem: World Union of Jewish Studies, 2007), с. 65, 70. Другие формулы, звучащие иначе, но выражающие ту же мысль, см.: на с. 75, 77, 86, 94, 111, 121. Источник списка постов, очевидно, израильский – его можно найти во множестве богослужебных стихов (пиютим), составленных в Израиле. Например, вот что говорится в пиют для месяца Тевет, которую составил р. Пинхас бен Иаков ха-Коген, израильский поэт VIII в.: «Восемнадцатого дня месяца – пост ради греческого писания» (Elitzur, с. 31). Более ранняя пиют Калира, также включающая в себя список постов – единственная, в которой перевод Торы на греческий язык не упомянут (Elitzur, с. 18).
(обратно)
883
Elitzur, Wherefore, с. 197.
(обратно)
884
В свете принятия Торы христианами можно найти такое утверждение р. Йоханана: «Язычник, изучающий Тору, повинен смерти, ибо сказано: “Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова” (Втор 33:4) – это наше наследие, а не их» (вав. Санх 59а). См.: Urbach, Sages, с. 550.
(обратно)
885
Sanders, Jewish Law, с. 274, 298.
(обратно)
886
Кроме того, чтение Торы, по-видимому, проводилось так же, как и ранее, в период Храма: один человек, ученый, сперва читал Тору, затем толковал ее и давал к ней пояснения. Это не похоже на традицию чтения Торы, сложившуюся в Израиле впоследствии, в раввинистический период, когда Тору читали многие. См. барайту, цит. в иер. Мег 4:3, 75а (ET: AHL ed., col. 770): «Те, кто говорит на иных языках, так не поступали, у них весь раздел читал один человек». См.: I. D. Gilath, Studies in the Development of the Halakhah (Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 1992), с. 357–360.
(обратно)
887
См.: M. Kister, «Romans 5:12–21 against the Background of Torah-Theology and Hebrew Usage», HTR 100.4 (2007): 391–424.
(обратно)
888
О развитии христианской сети коммуникаций в этот период см.: D. Mendels, The Media Revolution of Early Christianity: An Essay on Eusebius’s Ecclesiastical History (Grand Rapids: Eerdmans, 1999). О законе и общине ранних христиан в сравнении с древним иудаизмом см.: A. Edrei and D. Mendels, «Sovereignty and the Parting of the Ways: A Note on Law, Community, and Theology», JSP, v. 23 (3) (2014), с. 215–238.
(обратно)
889
Capps, Jesus: A Psychological Biography (St. Louis: Chalice, 2000).
(обратно)
890
Schweitzer, The Psychiatric Study of Jesus: Exposition and Critique (trans. C. R. Joy; Boston: Beacon, 1948 [orig. 1913]).
(обратно)
891
Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus: A Critical Study of Its Progress from Reimarus to Wrede (trans. W. Montgomery; New York: Macmillan, 1968 [orig. 1906]).
(обратно)
892
W. G. Rollins, Soul and Psyche: The Bible in Psychological Perspective (Minneapolis: Fortress, 1999), с. 62.
(обратно)
893
Там же, с. 63.
(обратно)
894
Там же, с. 65–87.
(обратно)
895
Там же, с. 127–130.
(обратно)
896
D. F. Strauss, The Life of Jesus Critically Examined (ed. P. Hodgson; trans. G. Eliot; LJS; Philadelphia: Fortress, 1972).
(обратно)
897
Joy, «Introduction: Schweitzer’s Conception of Jesus», в кн.: Schweitzer, Psychiatric Study, с. 17–26, цит. с. 20.
(обратно)
898
Там же, с. 21.
(обратно)
899
Там же.
(обратно)
900
Там же, с. 22.
(обратно)
901
Там же, с. 24.
(обратно)
902
Там же.
(обратно)
903
Там же, с. 25.
(обратно)
904
Там же.
(обратно)
905
Там же.
(обратно)
906
Schweitzer, Psychiatric Study, с. 27.
(обратно)
907
Там же, с. 34.
(обратно)
908
Там же, с. 35.
(обратно)
909
Там же.
(обратно)
910
Там же.
(обратно)
911
Там же.
(обратно)
912
Schweitzer, Quest, с. 27.
(обратно)
913
Там же, с. 35.
(обратно)
914
Psychiatric Study, с. 27.
(обратно)
915
Там же, с. 36.
(обратно)
916
Там же.
(обратно)
917
Там же, с. 33.
(обратно)
918
Там же.
(обратно)
919
Там же.
(обратно)
920
Там же, с. 34.
(обратно)
921
Там же.
(обратно)
922
Там же, с. 74.
(обратно)
923
Там же, с. 37.
(обратно)
924
Там же.
(обратно)
925
Там же.
(обратно)
926
Там же.
(обратно)
927
Там же, с. 38.
(обратно)
928
Там же.
(обратно)
929
Там же.
(обратно)
930
Там же, с. 38–39.
(обратно)
931
Там же, с. 38.
(обратно)
932
Там же, с. 39.
(обратно)
933
Там же.
(обратно)
934
Там же.
(обратно)
935
Там же, с. 40.
(обратно)
936
E. Taylor, William James on Exceptional Mental States (Amherst: University of Massachusetts Press, 1984), с. 133–139.
(обратно)
937
Schweitzer, Psychiatric Study, с. 40.
(обратно)
938
Там же, с. 42.
(обратно)
939
Там же, с. 40–41.
(обратно)
940
Там же, с. 41.
(обратно)
941
Там же.
(обратно)
942
Там же, с. 42–43.
(обратно)
943
Там же, с. 43.
(обратно)
944
Там же.
(обратно)
945
Там же.
(обратно)
946
Там же.
(обратно)
947
Там же, с. 43–44.
(обратно)
948
Там же, с. 44.
(обратно)
949
Там же.
(обратно)
950
Там же, с. 45.
(обратно)
951
Там же.
(обратно)
952
Там же, прим. 38.
(обратно)
953
См., однако: Paula Fredriksen, Jesus of Nazareth: King of the Jews (New York: Knopf, 1999), где автор ставит под сомнение это устойчивое представление и широко использует Евангелие от Иоанна.
(обратно)
954
Schweitzer, Psychiatric Study, с. 45.
(обратно)
955
Там же, с. 46.
(обратно)
956
Там же.
(обратно)
957
Там же.
(обратно)
958
Там же.
(обратно)
959
Joy, «Introduction», с. 20.
(обратно)
960
Schweitzer, Psychiatric Study, с. 48.
(обратно)
961
Там же, с. 46.
(обратно)
962
Там же, с. 48.
(обратно)
963
Там же, с. 49.
(обратно)
964
Там же, с. 51.
(обратно)
965
Там же, с. 52.
(обратно)
966
Там же, с. 53.
(обратно)
967
Там же, с. 53.
(обратно)
968
Там же, с. 53.
(обратно)
969
Там же.
(обратно)
970
Там же; гебефрения – форма шизофрении, для которой характерно инфантильное или нелепое поведение, дезорганизация мышления, бред и галлюцинации; обычно она берет начало в подростковом возрасте.
(обратно)
971
Там же, с. 54.
(обратно)
972
Там же.
(обратно)
973
Там же, с. 54–55.
(обратно)
974
Там же, с. 55.
(обратно)
975
Там же, с. 44.
(обратно)
976
Там же, с. 56.
(обратно)
977
Там же.
(обратно)
978
Там же.
(обратно)
979
Там же, с. 57.
(обратно)
980
Там же, с. 59.
(обратно)
981
Там же, с. 60.
(обратно)
982
Там же.
(обратно)
983
Там же, с. 61.
(обратно)
984
Там же, с. 62.
(обратно)
985
Там же, с. 63.
(обратно)
986
Там же.
(обратно)
987
Там же, с. 64.
(обратно)
988
Там же.
(обратно)
989
Там же, с. 65.
(обратно)
990
Там же.
(обратно)
991
Там же, с. 66.
(обратно)
992
Там же, с. 67.
(обратно)
993
Там же.
(обратно)
994
Там же.
(обратно)
995
Там же, с. 68.
(обратно)
996
Там же.
(обратно)
997
Там же, с. 68–69.
(обратно)
998
Там же, с. 69.
(обратно)
999
Там же, с. 70.
(обратно)
1000
Там же.
(обратно)
1001
Там же, с. 71.
(обратно)
1002
Там же, с. 41.
(обратно)
1003
American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed.; Washington, D. C.: American Psychiatric Association, 1994), с. 275.
(обратно)
1004
Schweitzer, Psychiatric Study, с. 72.
(обратно)
1005
Diagnostic and Statistical Manual, с. 281.
(обратно)
1006
E. P. Sanders, The Historical Figure of Jesus (London: Penguin, 1993), с. 267.
(обратно)
1007
Schweitzer, Psychiatric Study, с. 72.
(обратно)
1008
Там же, с. 53.
(обратно)
1009
Там же, с. 63.
(обратно)
1010
Там же, с. 63–64.
(обратно)
1011
Там же, с. 45, курсив автора очерка.
(обратно)
1012
Jay Martin, Who Am I This Time? Uncovering the Fictive Personality (New York: Norton, 1988).
(обратно)
1013
Там же, с. 74.
(обратно)
1014
Там же.
(обратно)
1015
Там же, с. 76.
(обратно)
1016
Capps, Jesus, с. 165–217.
(обратно)
1017
Martin, Who Am I, с. 76.
(обратно)
1018
См.: Erik H. Erikson, Childhood and Society (New York: Norton, 1950), с. 403–424.
(обратно)
1019
A. van Aarde, «Social Identity, Status Envy and Jesus’ Abba», Pastoral Psychology 45 (1997): 451–472; idem, Fatherless in Galilee: Jesus as Child of God (Harrisburg: Trinity Press International, 2001), с. 119–127.
(обратно)
1020
Erikson, Identity and the Life Cycle (New York: Norton, 1959), с. 41.
(обратно)
1021
Erikson, Insight and Responsibility (New York: Norton, 1964), с. 183.
(обратно)
1022
Schweitzer, Psychiatric Study, с. 65.
(обратно)
1023
G. Theissen, The Shadow of the Galilean: The Quest of the Historical Jesus in Narrative Form (trans. J. Bowden; Philadelphia: Fortress, 1987).
(обратно)
1024
Большинство инноваций в этой области появилось в 1960-х и 1970-х годах: см.: Capps, «Foreword», в кн.: Psychology and the Bible, ed. Ellens and Rollins, 1: vii – xiv, цит. с. viii.
(обратно)
1025
См.: W. M. Runyan, «From the Study of Lives and Psychohistory to Historicizing Psychology: A Conceptual Journey», AnnPsy 31 (2003): 119–132, особ. с. 124.
(обратно)
1026
О достижениях в этой сфере см.: Psychology and the Bible, ed. Ellens and Rollins.
(обратно)
1027
На эти мысли оказал влияние Уильям Маккинли Раньян из Университета Калифорнии в Беркли, см.: W. M. Runyan, «From the Study of Lives».
(обратно)
1028
Определение психобиографии, которое дает Раньян, помогает прояснить, что я имею в виду: «В свете этих соображений [критика определений, предложенных другими авторами] можно сказать, что психобиография – это открытое использование систематической или формальной психологии в биографии. В этом определении следует подчеркнуть три аспекта. Во-первых, ее сферу определяет использование психологии, включая, помимо прочего, психоаналитическую теорию. Во-вторых, психология тут используется открыто, что отличает психобиографию от всех биографий, где адекватная психология может использоваться косвенно. В-третьих, данное определение указывает не на применение психоаналитической теории, а на обращение к психологии, что позволяет отнести к категории психобиографий множество ресурсов из этой области науки, включая психологические концепции, данные и методы, а также теории, связанные с такими сферами, как психология развития, социальная психология и психология личности». См.: Runyan, Life Histories and Psychobiography: Explorations in Theory and Method (New York: Oxford University Press, 1984), с. 202.
(обратно)
1029
Schweitzer, The Psychiatric Study of Jesus (trans. C. R. Joy; Boston: Beacon, 1948; orig. 1913).
(обратно)
1030
Schultz, Handbook of Psychobiography (Oxford: Oxford University Press, 2005).
(обратно)
1031
Там же, с. 3.
(обратно)
1032
Там же, с. 7.
(обратно)
1033
См., напр.: J. H. Charlesworth, ed., Jesus and Archaeology (Grand Rapids: Eerdmans, 2006).
(обратно)
1034
В данном случае «исторический Иисус» есть конструкт, который предлагают нам сторонники критического подхода, и его не следует отождествлять с реальным Иисусом, который жил и учил до 30 г. н. э., то есть с Иисусом истории.
(обратно)
1035
См.: Schultz, Handbook, с. 42. О том, что мы, создавая картину жизни исторического Иисуса, рискуем сотворить ее по своему образу, Джордж Тиррелл говорил еще столетие назад; вот его знаменитые слова: «Христос, которого видит Гарнак, проницая взором в прошлое, сквозь девятнадцать столетий католической тьмы – это лишь отражение лица либерального протестанта, заметное на дне глубокого колодца». См.: G. Tyrrell, Christianity at the Cross-Roads (1909; repr., London: Longmans Green, 1964), с. 49–50; а также более подробное обсуждение вопроса во введении к данной книге.
(обратно)
1036
J. Walter, «Review of Handbook of Psychobiography», Political Psychology 28.2 (2007): 259.
(обратно)
1037
Mapping Lives (ed. P. France and W. St Clair; Oxford: Oxford University Press, 2002). Для тех, кто интересуется «Исследованием Иисуса», особенно важны следующие статьи: S. S. Averintsev, «From Biography to Hagiography», с. 19–36; M. Bowie, «Freud and the Art of Biography», с. 177–192; L. Marcus, «The Newness of the “New Biography”», с. 193–218; W. St. Clair, «The Biographer as Archaeologist», с. 219–234.
(обратно)
1038
Averintsev, «From Biography to Hagiography», с. 27.
(обратно)
1039
Подобно большинству специалистов по Новому Завету, я убежден в том, что Иисус отождествлял себя с ветхозаветными пророками.
(обратно)
1040
Несомненно, распинали Иисуса римляне.
(обратно)
1041
H. Boers, Who Was Jesus? (San Francisco: Harper & Row, 1989).
(обратно)
1042
Важные мысли на этот счет – см.: D. Mendels, The Rise and Fall of Jewish Nationalism: Jewish and Christian Ethnicity in Ancient Palestine (ABRL; New York: Doubleday, 1992).
(обратно)
1043
См., напр.: M. Borg, Conflict, Holiness, and Politics in the Teachings of Jesus (SBEC 5; New York: Mellen, 1984); E. Bammel and C. F. D. Moule, eds., Jesus and the Politics of His Day (Cambridge: Cambridge University Press, 1984).
(обратно)
1044
Название труда Джона Майера «Маргинальный еврей» (J. Meier, A Marginal Jew) не отражает эрудиции и проницательности автора. Под словом «маргинальный» Майер имеет в виду, что Иисуса не показывали бы по телеканалу CNN и что он не был типичным иудеем.
(обратно)
1045
Джон Доминик Кроссан утверждает, что Иисус был крестьянином. См. особенно: Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991).
(обратно)
1046
См.: M. Aviam and J. H. Charlesworth, «Überlegungen zur Erforschung Galiläas im ersten Jahrhundert», в кн.: Jesus und die Archäologie Galiläas (ed. C. Claussen and J. Frey; BThSt 87; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2008), с. 93–127.
(обратно)
1047
Chilton and Evans, eds., Authenticating the Activities of Jesus (NTTS 28.2; Leiden: Brill, 1999), p. ix.
(обратно)
1048
Хочу добавить, что я согласен с Петером Штульмахером: попытка построить «мостики» понимания между христианами и иудеями должна быть честной. Например, нам, христианам, не следует говорить, будто Иисус вовсе не претендовал на роль Мессии. См.: Stuhlmacher, Jesus of Nazareth – Christ of Faith (trans. Siegfried Schatzmann; Peabody, Mass.: Hendrickson, 1993).
(обратно)
1049
William Klassen, «The Authenticity of Judas’ Participation in the Arrest of Jesus», в кн.: Authenticating the Activities, ed. Chilton and Evans, с. 389–410.
(обратно)
1050
Явно неверное прочтение Мк 14:10 встречается только в Кодексе Безы, важной, но содержащей отклонения рукописи Евангелий.
(обратно)
1051
Klassen, «Authenticity of Judas’ Participation», с. 407.
(обратно)
1052
Помимо других работ, о которых уже шла речь, см.: R. E. Brown, The Death of the Messiah: From Gethsemane to the Grave (2 vols.; ABRL; New York: Doubleday, 1994–1998); E. Rivkin, What Crucified Jesus? (New York: UAHC Press, 1997).
(обратно)
1053
Crossan, Jesus: A Revolutionary Biography (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1995), с. 152.
(обратно)
1054
R. Bultmann, Jesus and the Word (trans. L. P. Smith and E. H. Lantero; 1934; repr., New York: Scribner, 1958). Я включил сюда текст немецкого оригинала, чтобы точно отразить смысл слов Бультмана: его часто цитируют неверно. Следует отметить, что эта цитата не отражает других положений Бультмана.
(обратно)
1055
См.: Montefiore, Some Elements of the Religious Teaching of Jesus According to the Synoptics (London: Macmillan, 1910), с. 57–58.
(обратно)
1056
См. особенно: David Flusser with R. Steven Notley, The Sage from Galilee: Rediscovering Jesus’ Genius (4th ed.; Grand Rapids: Eerdmans, 2007).
(обратно)
1057
Подробнее см.: Charlesworth, «Introducing David Flusser’s Jesus», в кн.: Flusser, Sage from Galilee, с. xiv – xvi.
(обратно)
1058
B. Young, Jesus and His Jewish Parables: Rediscovering the Roots of Jesus’ Teaching (Mahwah, N. J.: Paulist Press, 1989); idem, The Parables: Jewish Tradition and Christian Interpretation (Peabody, Mass.: Hendrickson, 1998).
(обратно)
1059
C. W. Hedrick, Parables as Poetic Fictions: The Creative Voice of Jesus (Peabody, Mass.: Hendrickson, 1994).
(обратно)
1060
Об удивительных связях Иоанна Крестителя и Кумранской общины см., напр.: J. H. Charlesworth, «John the Baptizer and the Dead Sea Scrolls», в кн.: The Bible and the Dead Sea Scrolls, vol. 3: The Scrolls and Christian Origins (ed. Charlesworth; Waco, Tex.: Baylor University Press, 2006), с. 1–35.
(обратно)
1061
См. статьи в кн.: Charlesworth, ed., Jesus and the Dead Sea Scrolls (ABRL; New York: Doubleday, 1992).
(обратно)
1062
См., напр.: M. Borg, «A Temperate Case for a Non-Eschatological Jesus», FFF 2.3 (1986): 81–102; idem, «Jesus and Eschatology: A Reassessment», в кн.: Images of Jesus Today (ed. J. H. Charlesworth and W. P. Weaver; FSC; Valley Forge, Pa.: Trinity Press International, 1994), с. 42–67.
(обратно)
1063
W. Klassen, «The Authenticity of the Command: ‘Love Your Enemies’», в кн.: Authenticating the Words of Jesus (ed. B. Chilton and C. A. Evans; NTTS 28.1; Leiden: Brill, 1999), с. 385–408, цит. с. 386.
(обратно)
1064
См. замечания Классена относительно Фанка: там же, с. 386, прим. 4.
(обратно)
1065
Быть может, «фальсификация» (в том смысле, который вкладывал в этот термин Поппер, то есть реальность опровержения) любой психологической гипотезы об Иисусе должна стать важным элементом исследования исторического Иисуса – и тогда мы смогли бы избежать любой предвзятости и заранее готовых выводов, которые мешают нам создать точный образ Иисуса; см.: J. Wentzel van Huyssteen, Theology and the Justification of Faith: Constructing Theories in Systematic Theology (trans. H. F. Snijders; Grand Rapids: Eerdmans, 1989), с. 29–32. На практике такая «фальсификация» работала бы как «нулевая гипотеза» в статистике, где вслед за каким-то положением (например, «Иисус бредил») совершается попытка это опровергнуть. Это бы сделало психобиологический подход более «жизнеспособным» при исследовании Иисуса – и появилась бы возможность «противостоять попыткам фальсифицировать данные». См.: Schultz, Handbook, с. 7. На протяжении нескольких десятилетий я призывал лучших студентов добавить к их методологиям попытку опровержения – иными словами, доказав правомерность своей гипотезы, тут же попытаться ее опровергнуть. Этот метод описан в моей книге: James H. Charlesworth, The Beloved Disciple (Valley Forge, Pa.: Trinity Press International, 1995).
(обратно)
1066
Соглашаясь «с Сандерсом в том, что мышление Иисуса носило апокалиптический характер», Кэппс тонко замечает, что при таком подходе Иисус «действует рациональнее… чем был склонен действовать на самом деле» (Donald Capps, Jesus: A Psychological Biography [St. Louis: Chalice, 2000], с. 221).
(обратно)
1067
Поиск ответов – в сб.: Chilton and Evans, eds., Authenticating the Activities of Jesus.
(обратно)
1068
Bultmann, Theology of the New Testament (trans. Konrad Grobel; 2 vols.; New York: Scribner, 1951–1955), 1:1. По-немецки первое предложение звучит так: «Die Verkündigung Jesu gehört zu den Voraussetzungen der Theologie des NT und ist nicht ein Teil dieser selbst» (Bultmann, Theologie des Neuen Testaments [9th ed.; rev. O. Merk; Tübingen: Mohr Siebeck, 1984], с. 1).
(обратно)
1069
См.: Charlesworth, «The Date of the Parables of Enoch (1 En 37–71)», Hen 20 (1998): 93–98; idem, «Summary and Conclusions: The Books of Enoch or 1 Enoch Matters: New Paradigms for Understanding Pre-70 Judaism», в кн.: Enoch and Qumran Origins: New Light on a Forgotten Connection (ed. G. Boccaccini; Grand Rapids: Eerdmans, 2005), с. 436–454; idem, «Can We Discern the Composition Date of the Parables of Enoch?» в кн.: Enoch and the Messiah Son of Man: Revisiting the Book of Parables (ed. G. Boccaccini; Grand Rapids: Eerdmans, 2007), с. 450–468.
(обратно)
1070
Леонгард Гоппельт отказался от постулата Бультмана, сказав: «Если мы хотим представить новозаветное богословие, сохранив его внутреннюю структуру, то нам следует начать с вопроса о земном Иисусе [nach dem irdischen Jesus zu fragen]» (Theology of the New Testament [ed. Jurgen Roloff; trans. John E. Alsup; 2 vols.; Grand Rapids: Eerdmans, 1981–1982], 1:7; оригинальное издание: Theologie des Neuen Testaments [ed. Jurgen Roloff; 2 vols. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1975–1980], 1:58). Первый том «Теологии Нового Завета» Гоппельта имеет такой подзаголовок: «Служение Иисуса и его богословское значение».
(обратно)
1071
Ранние варианты неопубликованного текста Кейса находятся в Южном колледже Флориды. Я признателен Уолтеру Уиверу за то, что он предоставил мне возможность изучить эти страницы.
(обратно)
1072
Gerd Theissen, Sociology of Early Palestinian Christianity (trans. John Bowden; Philadelphia: Fortress, 1978); кроме того, существует прекрасная книга, которая позволит вникнуть в жизнь в Палестине времен Иисуса: Theissen, Shadow of the Galilean.
(обратно)
1073
Как справедливо отмечает Джеймс Данн, «именно Герд Тайсен первым предпринял успешную попытку изучать новозаветные тексты с социологической точки зрения». См.: Dunn, Jesus Remembered (CM 1; Grand Rapids: Eerdmans, 2003). Кроме того, см.: разбор Данном представлений Барта и Бультмана в свете изучения исторического Иисуса.
(обратно)
1074
Richard A. Horsley, Sociology and the Jesus Movement (New York: Crossroad, 1989).
(обратно)
1075
Ekkehard W. Stegemann and Wolfgang Stegemann, The Jesus Movement: A Social History of Its First Century (trans. O. C. Dean Jr.; Minneapolis: Fortress, 1999).
(обратно)
1076
G. Le Bon, The Crowd: A Study of the Popular Mind (New York: Viking, 1960); E. Canetti, Crowds and Power (trans. C. Stewart; New York: Seabury, 1978).
(обратно)
1077
Среди многих прекрасных книг о паломничестве см. особенно: S. M. Bhardwaj and G. Rinschede, eds., Pilgrimage in World Religions (Berlin: Reimer, 1988); S. Coleman and J. Elsner, Pilgrimage: Past and Present in the World Religions (Cambridge: Harvard University Press, 1995); V. Elizondo and S. Freyne, Pilgrimage (London: SCM, 1996); D. Frankfurter, Pilgrimage and Holy Space in Late Antique Egypt (Leiden: Brill, 1998); L. K. Davidson and D. M. Gitlitz, Pilgrimage from the Ganges to Graceland: An Encyclopedia (Santa Barbara: ABC–CLIO, 2002); J. Dubisch and M. Winkelman, eds., Pilgrimage and Healing (Tucson: University of Arizona Press, 2005); J. Elsner and I. Rutherford, eds., Pilgrimage in Graeco-Roman and Early Christian Antiquity (Oxford: Oxford University Press, 2005).
(обратно)
1078
M. Hengel, Die Zeloten (Leiden: Brill, 1961); ET: The Zealots: Investigations into the Jewish Freedom Movement in the Period from Herod I until 70 A.D. (trans. D. Smith; Edinburgh: T&T Clark, 1989); David M. Rhoads, Israel in Revolution, 6–74 C.E.: A Political History Based on the Writings of Josephus (Philadelphia: Fortress, 1976).
(обратно)
1079
Напр.: M. Douglas, Purity and Danger: An Analysis of the Conceptions of Pollution and Taboo (London: Routledge & Kegan Paul, 1966); idem, Implicit Meanings (London: Routledge & Kegan Paul, 1975).
(обратно)
1080
Сперва Кэппс считал, что психологический подход к Библии «слишком специфичен и странен», но сейчас, в ретроспективе, он делает такое признание: «Психологическое изучение Библии было важнейшим, а возможно, и единственным средством, которое позволило мне сохранить верность религиозному наследию, полученному мною в детстве», см.: «Foreword», p. vii.
(обратно)
1081
См.: Schultz, Handbook, с. 11. И не только специалисты по Новому Завету, но и некоторые психологи (такие как Шульц и Раньян) согласятся с Кэппсом в том, что для создания психобиографии Иисуса нам не хватает данных.
(обратно)
1082
Явления Девы Марии сегодня хорошо известны, тогда как явления Христа обычно хранятся в тайне и не обсуждаются (хотя двое людей по секрету рассказали мне о своих видениях, причем оба они психически здоровы и пользуются глубоким уважением окружающих). Попытка изучить эти явления Христа серьезно и в свете уже вышедших книг Грегори Спэрроу и Честера Хёйсенса, а также труда Пола Фейерабенда, посвященного философии науки, предпринята в кн.: P. H. Wiebe, Visions of Jesus (New York: Oxford University Press, 1997).
(обратно)
1083
J. W. Miller, Jesus at Thirty: A Psychological and Historical Portrait (Minneapolis: Fortress, 1997).
(обратно)
1084
Кэппс считает (в чем его убедила книга: D. Jacobs-Malina, Beyond Patriarchy: The Images of Family in Jesus [New York: Paulist Press, 1993]), что Иаков, а не Иисус, «занимал такое положение в доме Иосифа», поскольку «Иисус не вел себя в соответствии с ролью старшего сына в патриархальной семье» (Jesus, с. 156).
(обратно)
1085
Miller, Jesus at Thirty, с. 80.
(обратно)
1086
Перевод мой; относительно еврейского оригинала см. критическое издание: Lawrence Schiffman et al., Temple Scroll and Related Documents (PTSDSSP 7; Louisville: Westminster John Knox, 2011), с. 50–51, 146–147.
(обратно)
1087
См. статьи в сб.: J. H. Charlesworth, M. Harding, and M. Kiley, The Lord’s Prayer and Other Prayer Texts from the Greco-Roman World (Valley Forge, Pa.: Trinity Press International, 1994).
(обратно)
1088
A. van Aarde, Fatherless in Galilee: Jesus as Child of God (Harrisburg: Trinity Press International, 2001).
(обратно)
1089
Этот вопрос интересует меня по той причине, что Некоторые деяния Торы («Галахическое послание», 4QMMT, один из свитков Мертвого моря) говорят о правилах, касающихся мамзера, в том числе о том, что он не принадлежит к Храму. Эти свежие данные подтверждают психологическое истолкование того, почему Иисус нарушил порядок в Храме (Jesus, с. 254). См.: J. H. Charlesworth, «Jesus, the Mamzer, and the Dead Sea Scrolls», в кн.: Jesus and Archaeology, ed. Charlesworth, с. 60–63; and B. Chilton, «Recovering Jesus’ Mamzerut», в кн.: Jesus and Archaeology, ed. Charlesworth, с. 84–110.
(обратно)
1090
См. также: D. Capps, «Beyond Schweitzer and the Psychiatrists: Jesus as Fictive Personality», в кн.: Psychology and the Bible, ed. Ellens and Rollins, 4:89–124.
(обратно)
1091
В том, что Иисус действительно совершал удивительные исцеления, не остается сомнений; это признавали даже его враги, говорившие, что это ему удается, потому что он сам одержим бесом. К числу ценных исследований исцелений Иисуса принадлежат следующие работы: S. L. Davies, Jesus the Healer (New York: Continuum, 1995); G. Theissen, Miracle Stories of the Early Christian Tradition (trans. F. McDonagh; Edinburgh: T&T Clark, 1983).
(обратно)
1092
Это положение развито в кн.: J. Schaberg, The Illegitimacy of Jesus (New York: Crossroad, 1990).
(обратно)
1093
Capps, Jesus, с. 260.
(обратно)
1094
Schultz, Handbook, с. 10.
(обратно)
1095
Capps, Jesus; idem, «За гранью Швейцера и психиатров», выше.
(обратно)
1096
Capps, Jesus.
(обратно)
1097
В этом я согласен с большинством библеистов и с Кэппсом; см.: D. Capps, Jesus.
(обратно)
1098
C. R. Joy, «Introduction», в кн.: A. Schweitzer, The Psychiatric Study of Jesus: Exposition and Criticism (trans. Joy; Boston: Beacon, 1948), с. 24.
(обратно)
1099
Schultz, Handbook, с. 10.
(обратно)
1100
Д. Кэппс, «За гранью Швейцера и психиатров», выше.
(обратно)
1101
См. размышления Сергея Аверинцева: S. Averintsev, «From Biography to Hagiography», в кн.: Mapping Lives: The Uses of Biography (ed. P. France and W. St. Clair; New York: Oxford University Press, 2002), с. 29–30.
(обратно)
1102
См. письмо Фрейда к Литтону Стрейчи от 25 декабря 1928 года в кн.: Bloomsbury/Freud: The Letters of James and Alix Strachey 1924–1925 (ed. P. Meisel and W. Kendrick; New York: Basic Books, 1985), с. 332–333; цит. по: L. Marcus, «The Newness of the “New Biography”», в кн.: Mapping Lives, ed. France and St. Clair, с. 216. Я благодарен Гранту Уодли за исследование, которое мне особенно пригодилось, когда я писал три последних абзаца. Этот автор – выпускник Принстонской богословской семинарии, который занимается психобиографическим методом.
(обратно)
1103
L. T. Johnson, The Real Jesus: The Misguided Quest for the Historical Jesus and the Truth of the Traditional Gospels (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1996).
(обратно)
1104
Якоб Лихт исследует ремесло создателя библейских повествований, его работа содержит много глубоких мыслей. См.: Jacob Licht, Storytelling in the Bible (2nd ed.; Jerusalem: Magnes, 1986).
(обратно)
1105
Глубокие рассуждения об основах языка, особенно когда в повествовании старые слова «воскресают», исполненные нового смысла, см.: George Aichele Jr., The Limits of Story (SemeiaSt; Chico, Calif.: Scholars Press, 1985).
(обратно)
1106
Этой идеей я обязан Эрнсту Кеземану, с которым вел частные беседы.
(обратно)
1107
J. W. van Huyssteen, The Shaping of Rationality: Toward Interdisciplinarity in Theology and Science (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), с. 130.
(обратно)
1108
Там же, с. 130–131.
(обратно)
1109
Обратите внимание на термин «эпистемологическая адекватность» в указанном исследовании ван Хёсстина.
(обратно)
1110
C. Keller, On the Mystery: Discerning Divinity in Process (Minneapolis: Fortress, 2008), с. 136.
(обратно)
1111
Я старался не давать ссылок на труды, написанные не на английском, но не могу не отметить одной крайне важной работы. Ее авторы рассуждают о критериях определения подлинности традиций, связанных с Иисусом и находящихся за гранью преданий: Theissen and Winter, Die Kriterienfrage in der Jesusforschung (NTOA 34; Fribourg: Universitätsverlag, 1997).
(обратно)
1112
См. особенно: Schweitzer, The Mystery of the Kingdom of God (trans. W. Lowrie; New York: Schocken, 1964).
(обратно)
1113
В 1913 году Швейцер выступил с критикой методов и заключений четырех приверженцев психопатологического подхода, которые полагали, что Иисус был психически болен. Они утверждали, что он видел галлюцинации и страдал какой-то формой паранойи. Им не удалось увидеть Иисуса на фоне его эпохи, когда появлялись претенденты на звание Мессии (часто из числа разбойников), когда апокалиптические надежды переполняли людей, живших в условиях социального и военного гнета. Швейцер критиковал этих психиатров не за использование психологии, но за то, что они неверно понимали историю создания Евангелий и не знали методов библеистики. Как показал в предыдущей главе Кэппс, Швейцер не думал, что Иисус бредил. И в самом деле, этот Иисус утверждал: «…вот, здесь больше Соломона», – это высказывание явно принадлежит Иисусу, потому что его не породила бы керигма, – и задавал вопрос «А вы за кого почитаете Меня?» – это показывает, что самопонимание Иисуса и его вопросы ученикам не носят характера ненормальности или бреда, особенно в контексте Палестины до 30 г. н. э. Швейцер и Бультман испытали глубокое влияние со стороны Мартина Келера, пришедшего к выводу о том, что необходимо отделять Христа веры от Иисуса истории и что для христиан имеет значение лишь прославляемый Христос, а создать биографию Иисуса невозможно, потому что мы лишены источников, которые дали бы нам основание размышлять о психологическом формировании Иисуса. См.: Kahler, The So-Called Historical Jesus and the Historic Biblical Christ (trans. C. E. Braaten; Philadelphia: Fortress, 1964; orig. 1896). Келер подходил к Евангелиям с богословской точки зрения; когда-то он оказывал огромное влияние на умы, но сегодня большинство библеистов придает куда большее значение контексту возникновения текстов, чем это делал он.
(обратно)
1114
На данный момент книга уже опубликована: Bas van Os, Psychological Analyses and the Historical Jesus: New Ways to Explore Christian Origins (LNTS 432; London: T&T Clark, 2011).
(обратно)
1115
David Stannard, Shrinking History: On Freud and the Failure of Psychohistory (Oxford: Oxford University Press, 1980).
(обратно)
1116
R. Bultmann, Jesus and the Word (trans. L. P. Smith and E. H. Lantero; 1934; repr., New York: Scribner, 1958), с. 8.
(обратно)
1117
Луц говорит здесь об эпохе «после лингвистического переворота», указывая на резкую смену ориентиров в европейской философии середины XX века.
(обратно)
1118
Знаменитое определение Четвертого Евангелия, данное ему во II в. Климентом Александрийским, согласно Евсевию (Церк. ист 6.14.7).
(обратно)
1119
См. также: Charlesworth, «The Historical Jesus in the Fourth Gospel: A Paradigm Shift?» JSHJ 8 (2010): 3–46.
(обратно)
1120
R. Bultmann, The History of the Synoptic Tradition (trans. J. Marsh; 2nd ed.; Oxford: Blackwell, 1968). Оригинал: Die Geschichte der synoptischen Tradition, (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht), 1921.
(обратно)
1121
M. Dibelius, From Tradition to Gospel (trans. B. L. Woolf; London: Nicholson & Watson, 1934). Оригинал: Die Formgeschichte des Evangelium (Tübingen: Mohr Siebeck), 1919.
(обратно)
1122
R. Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony (Grand Rapids: Eerdmans, 2006), с. 246–249. См. также: M. Hengel, «Eyewitness Memory and the Writing of the Gospels», в кн.: The Written Gospel (FS G. N. Stanton; ed. M. Bockmuehl and D. A. Hagner; Cambridge: Cambridge University Press, 2005), с. 70–96, особ. с. 76–88.
(обратно)
1123
Ср.: R. Finnegan, Literacy and Orality: Studies in the Technology of Communication (Oxford: Blackwell, 1988), с. 159, 175–177; J. Vansina, Oral Tradition as History (Madison: University of Wisconsin Press, 1985), с. 197.
(обратно)
1124
См., напр.: Finnegan, Literacy, с. 72–73; idem, «Tradition, but What Tradition and for Whom? The Milman Parry Lecture on Oral Tradition for 1989–1990», Oral Tradition 6.1 (1991): 104–124, см.: особенно с. 111; Vansina, Oral Tradition, с. 36–39; I. Okpewho, African Oral Literature: Background, Character, and Continuity (Bloomington: Indiana University Press, 1992), гл. 2. Это возражение против критики форм уже было сделано в книге: T. Boman, Die Jesus Überlieferung im Lichte der neueren Volkskunde (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1967), с. 10, 29.
(обратно)
1125
Vansina, Oral Tradition, с. 122, 129–130.
(обратно)
1126
Там же, с. 25–26, 53–54.
(обратно)
1127
Там же, с. 14.
(обратно)
1128
Okpewho, African Oral Literature, с. 183. Используемый им термин «легенда» не связан с фактической достоверностью или недостоверностью материала.
(обратно)
1129
A. B. Lord, The Singer of Tales (Cambridge: Harvard University Press, 1960); idem, The Singer Resumes the Tale (Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1995); A. Parry, ed., The Making of Homeric Verse: The Collected Papers of Milman Parry (Oxford: Clarendon, 1971). Об этом применительно к Евангелиям см.: A. B. Lord, «The Gospels as Oral Traditional Literature», в кн.: The Relationships among the Gospels: An Interdisciplinary Dialogue (ed. W. O. Walker Jr.; TUMSR 5; San Antonio: Trinity University Press, 1978), с. 33–91. Краткий обзор работ Пэрри и Лорда и их значения см. в статье: J. M. Foley, «Introduction», в кн.: Oral Tradition in Literature (ed. Foley; Columbia: University of Missouri Press, 1986), с. 1–18, цит. с. 2–5.
(обратно)
1130
Finnegan, Literacy, с. 173.
(обратно)
1131
J. D. G. Dunn, «Altering the Default Setting: Re-envisaging the Early Transmission of the Jesus Tradition», NTS 49 (2003): 139–175, цит. с. 144–145, 172; idem, Jesus Remembered (CM 1; Grand Rapids: Eerdmans, 2003), с. 194–195, 248–249; W. H. Kelber, «The Case of the Gospels: Memory’s Desire and the Limits of Historical Criticism», Oral Tradition 17.1 (2002): 55–86, цит. с. 64.
(обратно)
1132
В раввинистической литературе галаха сохраняется более верно и ревностно, нежели агада.
(обратно)
1133
B. A. Rosenberg, «The Complexity of Oral Tradition», Oral Tradition 2.1 (1987): 73–90, см.: 81–82; Finnegan, Literacy, с. 166–167, 174–175, 158, 173–174.
(обратно)
1134
Vansina, Oral Tradition, с. 41–42; Rosenberg, «Complexity», с. 85–86.
(обратно)
1135
Принято считать, что эту идею опроверг Эд Сандерс: E. P. Sanders, The Tendencies of the Synoptic Tradition (SNTSMS 9; Cambridge: Cambridge University Press, 1969).
(обратно)
1136
Vansina, Oral Tradition, с. 12–13, 27–29. Однако не все ученые различают эти два понятия точно так же. См. другое использование этих терминов: W. Schneider, …So They Understand: Cultural Issues in Oral History (Logan, Utah: Utah State University Press, 2002), с. 53–66.
(обратно)
1137
То, что авторы Евангелий писали еще при жизни по крайней мере некоторых очевидцев и знали об этом, очевидно, например, из Мф 16:28; 24:34, Мк 9:1; 13:30, Лк 9:27; 21:32, Ин 21:23.
(обратно)
1138
Подробнее о темах, затронутых в этом абзаце: Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses, с. 271–278.
(обратно)
1139
Там же, с. 286.
(обратно)
1140
Vansina, Oral Tradition, с. 100–102.
(обратно)
1141
V. Taylor, The Formation of the Gospel Tradition (2nd ed.; London: Macmillan, 1935), с. 41–42.
(обратно)
1142
Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony (Grand Rapids: Eerdmans, 2006). [Русский перевод: Иисус глазами очевидцев. Первые дни христианства. Живые голоса свидетелей (М.: Эксмо, 2014)].
(обратно)
1143
См.: A. C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians (NIGTC; Grand Rapids: Eerdmans, 2000), с. 1205.
(обратно)
1144
См.: R. Bauckham, «For Whom Were Gospels Written?» в кн.: The Gospels for All Christians: Rethinking the Gospel Audiences (ed. Bauckham; Grand Rapids: Eerdmans, 1998), с. 9–48, особ. с. 33–37.
(обратно)
1145
О Евангелиях как устной истории см.: Hengel, «Eye-witness Memory», с. 87; S. Byrskog, Story as History – History as Story: The Gospel Tradition in the Context of Ancient Oral History (WUNT 123; Tübingen: Mohr Siebeck, 2000; repr., Leiden: Brill, 2002).
(обратно)
1146
Byrskog, Story, с. 48–65, 146–176, 200–223.
(обратно)
1147
Особенно убедительно это показано в кн.: R. A. Burridge, What Are the Gospels? A Comparison with Graeco-Roman Biography (rev. ed.; Grand Rapids: Eerdmans, 2004).
(обратно)
1148
Byrskog, Story.
(обратно)
1149
Ср.: R. Bauckham, The Testimony of the Beloved Disciple: Narrative, History, and Theology in the Gospel of John (Grand Rapids: Baker Academic, 2007), с. 94–95.
(обратно)
1150
Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses, с. 231–233.
(обратно)
1151
См. особенно: Finnegan, Literacy.
(обратно)
1152
Хенгель (Hengel, «Eye-witness Memory», с. 86–87) независимо от меня, но очень коротко высказывает ту же аргументацию, которую я развиваю в третьей главе книги: Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses.
(обратно)
1153
В этом и следующем подразделе я вкратце привожу аргументы, подробно изложенные в кн.: Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses, гл. 6.
(обратно)
1154
Мф 10:2–4, Мк 3:16–19, Лк 6:13–16. См. также: Деян 1:13. О различиях между этими списками, которые, вопреки распространенному мнению, вовсе не свидетельствуют о том, что точный состав Двенадцати стерся из людской памяти, см.: Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses, с. 97–101.
(обратно)
1155
Мк 15:21, ср.: Мф 27:32, Лк 23:26.
(обратно)
1156
Мк 15:40–41, 47; 16:1, ср.: Мф 27:55–56, 61; 28:1, Лк 24:10.
(обратно)
1157
Мк 15:40, 47; 16:4, 5, 6; ср.: Мф 27:55; 28:1, 6; Лк 23:49, 55.
(обратно)
1158
Мк 1:16; 16:7. Первым, кто заметил, что перед нами сознательное риторическое применение инклюзио, призванное подчеркнуть роль Петра в этом Евангелии, был Мартин Хенгель: M. Hengel, Studies in the Gospel of Mark (trans. J. Bowden; Philadelphia: Fortress, 1985), с. 51; idem, The Four Gospels and the One Gospel of Jesus Christ (trans. J. Bowden; London: SCM, 2000), с. 82.
(обратно)
1159
Мк 1:16. Имеется в виду греческий текст: …Σίµωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίµωνος. Многие современные английские переводы дают вариант «Симон и брат его Андрей» (NRSV) [Ср.: …увидел Симона и Андрея, брата его. – Син. пер.]. Повторение имени Симона по-гречески так же необязательно, как и на других языках.
(обратно)
1160
Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses, с. 127–129, 390–393.
(обратно)
1161
В этом разделе я суммирую аргументы, приведенные в кн.: Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses, гл. 7 и 9.
(обратно)
1162
Он сохранился у Евсевия, Церк. ист 3.39.14–16.
(обратно)
1163
Другие возражения против утверждения Папия и их обсуждение см.: Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses, с. 239.
(обратно)
1164
Доказательства там же, с. 12–21.
(обратно)
1165
Там же, гл. 7.
(обратно)
1166
Даже те, кто признает, что ключевые аспекты критики форм ошибочны, часто стремятся доказать, что в целом этот подход сохраняет свою ценность. Например, Вернон Кэй Роббинс пишет: «Споры историков о традиционной критике форм зачастую отвлекают нас от неоспоримого вклада, внесенного ею в исследование и интерпретацию Нового Завета. Сильные стороны критики форм – это: а) признание значительных ограничений исторических исследований; б) неохотное привлечение поступающих со стороны данных об авторах при анализе новозаветных текстов; в) интерес к речевым и повествовательным формам; г) поиск динамической модели передачи и приспособления языковых формулировок; д) интерес к социальным аспектам литературы. Эти сильные стороны придают критике форм значимость и жизнестойкость, которые позволили ей выйти далеко за рамки ее первоначальной литературно-исторической системы отсчета и перейти к эстетическим и риторическим формам анализа и интерпретации» («Form Criticism [NT]», ABD 2:841–844, цит. с. 843). В дальнейшем он продолжает обсуждение двух упомянутых подходов, однако не причисляет ни одну из пяти «сильных сторон» к исключительному достоянию «традиционной критики форм».
(обратно)
1167
Albert Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus: A Critical Study of Its Progress from Reimarus to Wrede (trans. W. Montgomery; New York: Macmillan, 1968); German original: Von Reimarus zu Wrede: Eine Geschichte der Leben-Jesu Forschung (Tübingen: Mohr, 1906).
(обратно)
1168
James M. Robinson, A New Quest of the Historical Jesus (SBT 1/25; London: SCM, 1959).
(обратно)
1169
Robert W. Funk, The Acts of Jesus: The Search for the Authentic Deeds of Jesus (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1998).
(обратно)
1170
Van Austin Harvey, The Historian and the Believer: The Morality of Historical Knowledge and Christian Belief (New York: Macmillan, 1966), с. 38.
(обратно)
1171
John Dominic Crossan, In Fragments: The Aphorisms of Jesus (New York: Harper & Row, 1983); idem, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991).
(обратно)
1172
Rudolf Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition (8th ed; FRLANT 29, NS 12; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1970; 1st ed. 1921); ET: The History of the Synoptic Tradition (trans. J. Marsh; New York: Harper & Row, 1963).
(обратно)
1173
Bultmann, Geschichte, с. 4 (ET, с. 3).
(обратно)
1174
Там же, с. 4.
(обратно)
1175
Там же, с. 4.
(обратно)
1176
Там же, с. 7 (ET с. 6).
(обратно)
1177
Tom Thatcher, The Riddles of Jesus in John: A Study in Tradition and Folklore (SBLMS 53; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2000), с. 59.
(обратно)
1178
Там же, с. 66.
(обратно)
1179
Bultmann, Geschichte, с. 91 (ET, с. 87)
(обратно)
1180
Там же, с. 4.
(обратно)
1181
Там же, с. 7.
(обратно)
1182
Thatcher, Riddles, с. 66.
(обратно)
1183
Bultmann, Geschichte, с. 4.
(обратно)
1184
Там же, с. 88 (ET, с. 84).
(обратно)
1185
Thatcher, Riddles, с. 60.
(обратно)
1186
Norman Petersen, Literary Criticism for New Testament Critics (GBS: NT; Philadelphia: Fortress, 1978), с. 14.
(обратно)
1187
Там же.
(обратно)
1188
Там же, с. 18.
(обратно)
1189
Там же, с. 11.
(обратно)
1190
Там же, с. 14.
(обратно)
1191
Там же.
(обратно)
1192
James M. Robinson and Helmut Koester, Trajectories through Early Christianity (Philadelphia: Fortress, 1971).
(обратно)
1193
Petersen, Literary Criticism, с. 12–14
(обратно)
1194
Там же, с. 18.
(обратно)
1195
Bultmann, Geschichte, с. 395.
(обратно)
1196
Там же, с. 399.
(обратно)
1197
Там же, с. 347 (ET, с. 321).
(обратно)
1198
Albert Lord, The Singer of Tales (ed. Stephen Mitchell and Gregory Nagy; 2nd ed.; HSCL 24; Cambridge: Harvard University Press, 2000). Первое издание, опубликованное в 1960 году, основано на диссертации 1949 года.
(обратно)
1199
Там же, с. 101.
(обратно)
1200
Там же.
(обратно)
1201
Ruth Finnegan, Oral Poetry: Its Nature, Significance and Social Context (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), с. 28.
(обратно)
1202
David Rhoads, «Performance Criticism: An Emerging Methodology in Second Testament Studies – Part I», BTB 36 (2006): 118–133; idem, «Performance Criticism: An Emerging Methodology in Second Testament Studies – Part II», BTB 36 (2006): 164–184.
(обратно)
1203
Rhoads, «Performance Criticism – Part I», с. 126.
(обратно)
1204
Там же.
(обратно)
1205
Там же, с. 129.
(обратно)
1206
Walter J. Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London: Methuen, 1982), с. 101.
(обратно)
1207
John Miles Foley, How to Read an Oral Poem (Urbana: University of Illinois Press, 2002), с. 60.
(обратно)
1208
Ong, Orality and Literacy, с. 31.
(обратно)
1209
Lord, Singer of Tales, с. 101.
(обратно)
1210
Там же, с. 102.
(обратно)
1211
Erhardt Güttgemanns, Offene Fragen zur Formgeschichte des Evangeliums: Eine methodologische Skizze der Grundlagenproblematik der Form– und Redaktionsgeschichte (BEvT 54; Munich: Kaiser, 1970).
(обратно)
1212
Erhard Güttgemanns, Candid Questions Concerning Form Criticism: A Methodological Sketch of the Fundamental Problematics of Form and Redaction Criticism (trans. William G. Doty; PTMS 26; Pittsburgh: Pickwick, 1979).
(обратно)
1213
Elizabeth A. Clark, History, Theory, Text: Historians and the Linguistic Turn (Cambridge: Harvard University Press, 2004).
(обратно)
1214
Güttgemanns, Offene Fragen, с. 14.
(обратно)
1215
Там же, с. 137–138.
(обратно)
1216
Там же, с. 148.
(обратно)
1217
Там же, с. 143–150.
(обратно)
1218
Там же, с. 150.
(обратно)
1219
Там же, с. 201 (ET, с. 311).
(обратно)
1220
Там же, с. 224.
(обратно)
1221
Там же, с. 224.
(обратно)
1222
Там же, с. 89, прим. 45а.
(обратно)
1223
Там же, с. 134 (ET, с. 193).
(обратно)
1224
Там же, с. 135.
(обратно)
1225
Там же, с. 201.
(обратно)
1226
Там же, с. 211–223.
(обратно)
1227
Там же, с. 221.
(обратно)
1228
Jens Schröter, в кн.: Erinnerung an Jesu Worte: Studien zur Rezeption der Logien-überlieferung in Markus, Q, and Thomas (WMANT 76; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1997), недавно подкрепил и расширил эту критику критики форм. В своей масштабной работе о Евангелии от Марка, Q и Евангелии Фомы он поставил под сомнение основные предпосылки критики форм: текстуальное, литературное понимание устных текстов, понятие «оригинальной формы», представление об эволюционных тенденциях устной традиции, объяснение формы Евангелий, представление о «траектории текста» и, прежде всего, постулат о существовании досиноптических собраний преданий (Мк 3:20–35; 4; 6:7–13; 8:34–9:1; 13). Не отказываясь от критики форм полностью, Шрётер, однако, настолько явно не соглашается с ее концепциями, что даже воздерживается от употребления термина Formgeschichte в своей книге (с. 64).
(обратно)
1229
Güttgemanns, Offene Fragen, с. 197, 258 (ET, с. 307, 410).
(обратно)
1230
David M. Carr, Writing on the Tablet of the Heart: Origins of Scripture and Literature (Oxford: Oxford University Press, 2005).
(обратно)
1231
Там же, с. 27.
(обратно)
1232
Там же, с. 40.
(обратно)
1233
Jens Schröter, «Jesus and the Canon: The Early Jesus Traditions in the Context of the Origins of the New Testament Canon», в кн.: Performing the Gospel: Orality, Memory, and Mark (ed. R. A. Horsley, J. A. Draper, and J. M. Foley; Minneapolis: Fortress, 2006), с. 104–122, цит. с. 109.
(обратно)
1234
Eldon Jay Epp, «The Oxyrhynchus New Testament Papyri: “Not Without Honor Except in Their Hometown”?» JBL 123 (2004): 5–55.
(обратно)
1235
David C. Parker, The Living Text of the Gospels (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
(обратно)
1236
Там же, с. 6.
(обратно)
1237
Epp, «Oxyrhynchus», с. 8.
(обратно)
1238
Parker, Living Text, с. 200.
(обратно)
1239
Там же, с. 70.
(обратно)
1240
Там же, с. 75–94.
(обратно)
1241
Там же, с. 92.
(обратно)
1242
Там же, с. 94.
(обратно)
1243
James M. Robinson, Paul Hoffmann, and John S. Kloppenborg, eds., The Critical Edition of Q: Synopsis including the Gospels of Matthew and Luke, Mark and Thomas with English, German, and French Translations of Q and Thomas (Hermeneia; Minneapolis: Fortress, 2000).
(обратно)
1244
John Miles Foley, «The Riddle of Q: Oral Ancestor, Textual Precedent, or Ideological Creation?» Semeia 60 (2006): 123–140.
(обратно)
1245
Там же, с. 124.
(обратно)
1246
Ruth Finnegan, «Tradition, but What Tradition and for Whom?» Oral Tradition 6.1 (1991): 104–124.
(обратно)
1247
Этим понятием – хотя, насколько могу судить, не самим термином – я обязан Джону Фоули: John Miles Foley, Immanent Art: From Structure to Meaning in Traditional Oral Epic (Bloomington: Indiana University Press, 1991), с. 1–37.
(обратно)
1248
Трудов, посвященных этой проблеме – легион. Однако см. особенно: Howard Clark Kee, Community of the New Age: Studies in Mark’s Gospel (Philadelphia: Westminster, 1977); Richard A. Horsley, «A Prophet like Moses and Elijah: Popular Memory and Cultural Pattern», в кн.: Performing the Gospel, ed. Horsley et al., с. 166–190.
(обратно)
1249
Полезный обзор истории Поиска можно найти в подробной статье: V. P. Furnish, «The Jesus-Paul Debate from Baur to Bultmann», в кн.: Jesus and Paul: Collected Essays (ed. A. J. M. Wedderburn; JSNTSup 37; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1989), с. 17–50.
(обратно)
1250
R. Bultmann, Theology of the New Testament (trans. K. Grobel; 2 vols.; New York: Scribner, 1951–1955), 1:35.
(обратно)
1251
W. D. Davies, Paul and Rabbinic Judaism: Some Rabbinic Elements in Pauline Theology (5th ed.; Mifflintown, Pa.: Sigler, 1998), с. 140.
(обратно)
1252
См.: D. Häusser, Christusbekenntnis und Jesusüberlieferung bei Paulus (WUNT 2/210; Tübingen: Mohr Siebeck, 2006), с. 21; Todd Still, ed., Jesus and Paul Reconnected: Fresh Pathways into an Old Debate (Grand Rapids: Eerdmans, 2007).
(обратно)
1253
Ср.: U. Schnelle: «Невозможно доказать наличия каких-либо знаний нарративной традиции, связанной с Иисусом, и апостол Павел не цитирует слов Иисуса в развитии своего специфического богословия» в кн.: Paulus: Leben und Denken (Berlin: de Gruyter, 2003), с. 32.
(обратно)
1254
Об этом говорит Пола Фредриксен: «Если вкратце, то методы, введенные в поиск исторического Иисуса, превратили его, де-факто, в поиск исторического Евангелия»; в кн.: Paula Fredriksen, Jesus of Nazareth, King of the Jews: A Jewish Life and the Emergence of Christianity (London: Macmillan, 1999), с. 7. Критический обзор по этой проблеме см., напр.: R. Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony (Grand Rapids: Eerdmans, 2006), с. 1–11, 319–357.
(обратно)
1255
См.: Fredriksen, Jesus of Nazareth, с. 76–78.
(обратно)
1256
Напр.: J. D. Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991).
(обратно)
1257
E. Jüngel, Paulus und Jesus: Eine Untersuchung zur Präzisierung der Frage nach dem Ursprung der Christologie (HUT 2; Tübingen: Mohr Siebeck, 1962).
(обратно)
1258
Напр.: A. J. M. Wedderburn, «Paul and Jesus: Similarity and Continuity», в кн.: Paul and Jesus, ed. Wedderburn, с. 117–143.
(обратно)
1259
D. Wenham, Paul: Follower of Jesus or Founder of Christianity? (Grand Rapids: Eerdmans, 1995).
(обратно)
1260
G. Theissen, The Social Setting of Pauline Christianity: Essays on Corinth (trans. J. H. Schütz; Philadelphia: Fortress, 1982), с. 40–54.
(обратно)
1261
Обзор ранних феминистических подходов, основанных на этой парадигме: K. von Kellenbach, Anti-Judaism in Feminist Religious Writings (AARCC 1; Atlanta: Scholars Press, 1994), с. 58–74.
(обратно)
1262
См.: F. C. Baur, Paul the Apostle of Jesus Christ: His Life and Works, His Epistles and Teachings (ed. E. Zeller; trans. A. Menzies; 1873; repr., Peabody, Mass.: Hendrickson, 2003).
(обратно)
1263
См. рассуждение Дэниела Боярина о заголовке Йодера «Этого могло и не случиться». Боярин хвалит Йодера за понимание того, что «несправедливо по отношению к людям, жившим в прошлом, полагать, будто все исторические события непременно должны были произойти, причем только так, как они произошли, и никак иначе, и будто каждый момент, в который принимались решения, был однозначно определен еще прежде, чем кто-либо переходил свой Рубикон»; цит. по: «Judaism as a Free Church: Footnotes to John Howard Yoder’s ‘The Jewish-Christian Schism Revisited’», в кн.: Cross Currents 56.4 (2007): 6–21, цит. с. 10–11. См. также: W. S. Campbell, Paul and the Creation of Christian Identity (LNTS 322; London: T&T Clark, 2006), с. 7–8.
(обратно)
1264
W. Wrede, Paul (trans. E. Lummis; London: Philip Green, 1907), с. 179; цит. по: Furnish, «Jesus-Paul Debate», с. 25. См. также: Campbell, Paul and Christian Identity, с. 86–89.
(обратно)
1265
См. выше, а также: C. A. Evans, «Assessing Progress in the Third Quest of the Historical Jesus», JSHJ 4.1 (2006): 35–54.
(обратно)
1266
Следы этой концепции заметны в некоторых феминистических мифах о происхождении христианства, где Павел изображается как первый исказитель идей Движения Иисуса, основанного на равенстве – и равном ученичестве! См.: K. Corley, «Feminist Myths of Christian Origins», в кн.: Reimagining Christian Origins (ed. E. A. Castelli and H. Taussig; Valley Forge, Pa: Trinity Press International, 1996), с. 51–67. Критическая оценка такого представления об апостоле Павле, а также предложение бикультурализма как альтернативной парадигмы для исследования взаимодействия культур в Павловых посланиях, приведена в источнике: K. Ehrensperger, Paul at the Crossroads of Cultures: Theologizing in the Space-Between (London: T&T Clark, 2013), особ. гл. 2–5.
(обратно)
1267
H. H. Wendt, «Die Lehre des Paulus verglichen mit der Lehre Jesu», ZTK 4 (1894): 1–78, цит. с. 78; цит. по: Furnish, «Jesus-Paul Debate», с. 20.
(обратно)
1268
См.: K. Ehrensperger, That We May Be Mutually Encouraged: Feminism and the New Perspective in Pauline Studies (London: T&T Clark, 2004), с. 19–27.
(обратно)
1269
См.: C. H. Dodd, The Epistle to the Romans (Moffatt NT Commentary; London: Hodder & Stoughton, 1932), с. 43.
(обратно)
1270
Об этом см.: S. Heschel, The Aryan Jesus: Christian Theologians and the Bible in Nazi Germany (Princeton: Princeton University Press, 2008).
(обратно)
1271
Так, Альфред Розенберг полагал, что Павел фальсифицировал (т. е. иудаизировал) благую весть, объявив Иисуса иудейским Мессией: см.: A. Rosenberg, Der Mythus des 20. Jahrhunderts: Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltungskämpfe unserer Zeit (Munich: Hoheneichen, 1930), с. 605 (цит. по: Furnish, «Jesus-Paul Debate», с. 33, прим. 54).
(обратно)
1272
Разумеется, Дэвис не был единственным, см.: Campbell, Paul and Christian Identity, с. 17–21.
(обратно)
1273
Обзор этих исследований см. в специальном выпуске BibInt 13.3 (2005): Paul Between Jews and Christians, особ. статьи Уильяма Кэмпбелла (W. S. Campbell, с. 298–316); Нила Элиота (N. Elliott, с. 239–249); Памелы Эйзенбаум (P. Eisenbaum, с. 224–238) и Марка Наноса (M. D. Nanos, с. 255–269). См. также, например, Campbell, Paul and the Creation of Christian Identity, с. 17–21; Kathy Ehrensperger, Paul at the Crossroads of Cultures, гл. 5; Mark Nanos, «Paul and the Jewish Tradition: The Ideology of the Shema», в кн.: Celebrating Paul: Festschrift in Honor of Jerome Murphy-O’Connor and Joseph Fitzmyer (ed. P. Spitaler; Washington, DC: Catholic Biblical Quarterly Monograph Series, 2011), с. 62–80; Pamela Eisenbaum, Paul Was Not a Christian: The Real Message of a Misunderstood Apostle (New York: HarperOne, 2009).
(обратно)
1274
В этом вопросе, на мой взгляд, чрезвычайно важен акцент на аспекте памяти, запоминания и устной традиции. См.: S. Byrskog, Story as History – History as Story: The Gospel Tradition in the Context of Ancient Oral History (WUNT 123; Tübingen: Mohr Siebeck, 2000); Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses, с. 264–318.
(обратно)
1275
Об этом сообщает книга: Fredriksen, Jesus of Nazareth.
(обратно)
1276
Несмотря на интригующие гипотезы Ричарда Бокэма, литературным материалом, ближайшим ко времени Иисуса и его первых последователей, остаются послания Павла, – те из них, которые неоспоримо принадлежат апостолу. См.: Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses, с. 114–154.
(обратно)
1277
Подробнее об этом см.: K. Ehrensperger, Paul and the Dynamics of Power: Communication and Interaction in the Early Christ-Movement (LNTS 325; London: T&T Clark, 2007), с. 31–62.
(обратно)
1278
См.: Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses, с. 312–313. Также см.: B. A. Misztal, Theories of Social Remembering (Philadelphia: Open University, 2003), с. 6.
(обратно)
1279
Критику некоторых феминистических подходов, оперирующих этой парадигмой, см.: Corley, «Feminist Myths of Christian Origins».
(обратно)
1280
Ср.: D. Boyarin, Borderlines: The Partition of Judaeo-Christianity (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004).
(обратно)
1281
Ср.: C. Wolff, «Humility and Self-Denial in Jesus’ Life and Message and in the Apostolic Existence of Paul», в кн.: Paul and Jesus, ed. Wedderburn, с. 145–160, цит. с. 145.
(обратно)
1282
Ср.: S. Freyne, Jesus: A Jewish Galilean: A New Reading of the Jesus Story (London: T&T Clark, 2004). Из многочисленных трудов Гезы Вермеша см.: G. Vermes, Jesus in His Jewish Context (Minneapolis: Fortress, 2003); однако возражения на это мнение см.: J. H. Elliott, «Jesus the Israelite Was Neither a ‘Jew’ Nor a ‘Christian’: On Correcting a Misleading Nomenclature», JSHJ 5 (2007): 119–154.
(обратно)
1283
То, что Павел называет себя фарисеем, указывает на то, что он учился в Иерусалиме, поскольку у нас нет никаких сведений о том, что подобное образование можно было получить в Диаспоре. См.: A. L. A. Hogeterp, Paul and God’s Temple: A Historical Interpretation of Cultic Imagery in the Corinthian Correspondence (BibTS 2; Leuven: Peeters, 2006), с. 235 и далее.
(обратно)
1284
Ср.: Ehrensperger, Paul and Dynamics of Power, с. 4–11.
(обратно)
1285
Вопрос, читал ли апостол Павел Священное Писание по-еврейски или по-гречески, мы обсуждать не будем. Вопрос о том, какие именно тексты Павел и его помощники считали «Священным Писанием», также нуждается в дальнейшем исследовании. Ср.: C. Tuckett, «Paul and Jesus Tradition: The Evidence of 1 Corinthians 2:9 and Gospel of Thomas 17», в кн.: Paul and the Corinthians: Studies on a Community in Conflict (ed. T. J. Burke and J. K. Elliott; NovTSup 109; Leiden: Brill, 2003), с. 55–73. О значении Писаний как нарратива, причастного к передаче благой вести, см.: Kathy Ehrensperger, Paul at the Crossroads of Cultures, гл. 6.
(обратно)
1286
Bultmann, Theology of the New Testament, 1:3–32.
(обратно)
1287
Более подробный анализ понятия «подражания Христу» у Павла см. в кн.: Ehrensperger, Paul and Dynamics of Power, с. 137–154; также см.: D. A. Brondos, Paul on the Cross: Reconstructing the Apostle’s Story of Redemption (Minneapolis: Fortress, 2006), с. 70–72.
(обратно)
1288
См., напр.: Wedderburn, «Paul and the Story of Jesus», в кн.: Jesus and Paul, ed. Wedderburn, с. 161–189.
(обратно)
1289
Однако Уильям Кэмпбелл ясно показывает, что это не так, см.: «Perceptions of Compatibility between Christianity and Judaism in Pauline Interpretation», BibInt 13.3 (2005): 298–316.
(обратно)
1290
Джеймс Данн пишет: «Случай в Антиохии убедил Павла, что оправдание верой и соблюдение закона – не взаимодополняющие части одного целого, что они прямо друг другу противоречат»; в кн.: J. Dunn, Jesus, Paul and the Law: Studies in Mark and Galatians (London: SPCK, 1990), с. 162. Хотя Данн сознает, что отделение христианства от иудаизма происходило постепенно и на ранних стадиях, он считает, что именно Павел задал парадигму несовместимости иудаизма и «бытия во Христе».
(обратно)
1291
Вопрос о том, соглашается ли Павел в 1 Кор 11:19 с необходимостью «фракций» или иронизирует, требует серьезного обсуждения.
(обратно)
1292
Эта важнейшая черта общей трапезы как зримого выражения единства общины, разумеется, не уникальна для христианского движения. Обзор вопроса см. в соответствующих главах книг: A. Arterbury, Entertaining Angels: Early Christian Hospitality in Its Mediterranean Setting (NTM 8; Sheffield: Phoenix, 2005); D. E. Smith, From Symposium to Eucharist: The Banquet in the Early Christian World (Minneapolis: Fortress, 2003); Mary Douglas, «Deciphering a Meal», в кн.: Implicit Meanings (London: Routledge, 1975), с. 249–275.
(обратно)
1293
См., напр.: O. M. Van Nijf, The Civic World of Professional Associations in the Roman East (DMAHA 17; Amsterdam: Gieben, 1997), с. 149–135; P. Garnsey, Food and Society in Classical Antiquity (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), с. 113–143; также: W. Braun, «The Greco-Roman Meal: Typology of Form or Form of Typology?» (статья, представленная на ежегодной встрече SBL, Atlanta, ноябрь 2003).
(обратно)
1294
См.: E. W. Stegemann and W. Stegemann, The Jesus-Movement: A Social History of Its First Century (trans. O. C. Dean Jr.; Minneapolis: Fortress, 1999), с. 20–27.
(обратно)
1295
Аналогичным образом Павел аргументирует в 1 Кор 12:12–26. Об этом также см.: R. Jewett, Romans: A Commentary (Hermeneia; Minneapolis: Fortress, 2006), с. 838–839.
(обратно)
1296
Здесь я не могу на этом останавливаться, но в этой связи стоит задуматься о том, что же понимает Павел под христианскими добродетелями. См. также: Ehrensperger, Paul and Dynamics of Power, с. 98–116.
(обратно)
1297
См. содержательное замечание Джуэтта о совместных трапезах в Фессалониках и в Риме, где он подчеркивает, что «по всей видимости, пищу для вечери любви в Фессалониках приносили не покровители, а сами члены общины». Из своего анализа Джуэтт делает вывод, что существовала «социальная система… позволявшая группам верующих функционировать и без покровителей» (Romans, с. 68, 69; цит. с. 64–69).
(обратно)
1298
Я не утверждаю, что христианское движение было полностью эгалитарно; однако есть разница между созданием силовых или властных структур – и организацией согласно уже существующим, статичным социальным иерархическим структурам. Подробнее об этом см.: Ehrensperger, Paul and Dynamics of Power, с. 16–35 и 55–62.
(обратно)
1299
S. S. Bartchy, «When I’m Weak, I’m Strong: A Pauline Paradox in Cultural Context», в кн.: Kontexte der Schrift, vol. 2: Kultur, Politik, Religion, Sprache-Text (ed. C. Strecker; Stuttgart: Kohlhammer, 2005), с. 49–60.
(обратно)
1300
О значении ежедневных общих трапез, см.: R. Jewett, «Are There Allusions to the Love Feast in Rom 3:8–10?» в кн.: Common Life in the Early Church: Essays Honoring Graydon F. Snyder (ed. J. V. Hills et al.; Valley Forge, Pa.: Trinity Press International, 1998), с. 265–278. См. также: idem, Romans, с. 804–815. Подробный анализ этого вопроса см.: Ehrensperger, Paul at the Crossroads of Cultures.
(обратно)
1301
Стоит также обратить внимание на значение общих трапез в хавурах (ивр. хавура – «сообщество», «содружество») конца периода Второго Храма. См.: A. Oppenheimer, «Havurot in Jerusalem at the End of the Second Temple Period», в кн.: Between Rome and Babylon (ed. N. Oppenheimer; TSAJ 108; Tübingen: Mohr Siebeck, 2005), с. 102–109.
(обратно)
1302
J. A. Fitzmyer, Romans (AB 33; London: Doubleday, 1993), с. 689.
(обратно)
1303
Об этом cм. также: Jewett, Romans, с. 835–836.
(обратно)
1304
Ср.: J. D. G. Dunn, «The New Perspective on Paul», BJRL 65 (1983): 95–122.
(обратно)
1305
См.: Kathy Ehrensperger, Mutually Encouraged, с. 181–189; ср. также: P. J. Tomson, Paul and the Jewish Law: Halakha in the Letters of the Apostle to the Gentiles (CRINT 3/1; Minneapolis: Fortress, 1990), с. 236–245.
(обратно)
1306
Тот же акцент звучит и в позднейших евангельских преданиях. Достаточно одного примера: беседа о местах за столом (Мф 20:20–23/Мк 10:35–40/Лк 22:24–37; см. также: Ин 13:3–17) касается того же, что уже было выделено нами как основная забота Павла в вопросах общей трапезы: проблемы иерархии и позиционирования. Это не часть жизни во Христе – Христос в Евангелии подчеркивает: «Чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую – не от Меня зависит, но кому уготовано Отцем Моим» (Мф 20:23–28).
(обратно)
1307
Случай в Антиохии требует более подробного рассмотрения, предпринять которое здесь не позволяет объем статьи; однако и там на первом плане находится «разрыв» застольного братства в контексте, уже отмеченном растущим напряжением между иудеями и язычниками, радикализацией некоторых иудейских групп, впоследствии приведшей к иудейско-римской войне. См. также: M. Zetterholm, The Formation of Christianity at Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity (London: Routledge, 2001), с. 113–121.
(обратно)
1308
Seán P. Kealy, Mark’s Gospel: A History of Its Interpretation (New York: Paulist Press, 1982), с. 1.
(обратно)
1309
Об отсутствии комментариев на Евангелие от Марка сокрушался в V веке Виктор Антиохийский (Kealy, Mark’s Gospel, с. 28). Он собрал коллекцию упоминаний о Марке, извлеченных из комментариев на другие Евангелия за авторством таких светил прошлого, как Ориген, Тит Бострийский, Феодор Мопсуестийский, Иоанн Златоуст и Кирилл Александрийский. Чуть позже Григорий Великий наконец составил комментарий на Марка. Августин, напротив, считал Марка подражателем и компилятором Матфея (Согл 1.2.4).
(обратно)
1310
E. P. Sanders, Jesus and Judaism (Philadelphia: Fortress, 1985), с. 1–58. Уже в более близкие к нам времена тем же вопросом задается Дейл Эллисон: Dale Allison, «The Historians’ Jesus and the Church», в кн.: Seeking the Identity of Jesus: A Pilgrimage (ed. B. R. Gaventa and R. B. Hays; Grand Rapids: Eerdmans, 2008), с. 79–95, цит. с. 79–83. Ключевые, чаще всего используемые критерии – это критерий несходства, критерий множественных свидетельств и критерий когерентности.
(обратно)
1311
Sanders, Jesus and Judaism, с. 18. Здесь он работает с исходным пунктом Иосифа Клаузнера, взятым из книги: Joseph Klausner, Jesus of Nazareth: His Life, Times, and Teachings (trans. Herbert Danby; New York: Macmillan, 1957).
(обратно)
1312
John P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, vol. 1: The Roots of the Problem and the Person (ABRL; New York: Doubleday, 1991), с. 41.
(обратно)
1313
Там же, с. 44.
(обратно)
1314
James D. G. Dunn, Jesus Remembered (CM 1; Grand Rapids: Eerdmans, 2003).
(обратно)
1315
Там же, с. 144–146.
(обратно)
1316
Я вернусь к его аргументам и подробно поговорю о первенстве Марка далее, в следующем подразделе.
(обратно)
1317
H. J. Holtzmann, Die synoptischen Evangelien: Ihr Ursprung und geschichtlicher Charakter (Leipzig: Engelmann, 1863).
(обратно)
1318
B. H. Streeter, The Four Gospels (London: Macmillan, 1924).
(обратно)
1319
Robert Stein, Studying the Synoptic Gospels: Origin and Interpretation (2nd ed.; Grand Rapids: Baker, 2001), с. 49–96.
(обратно)
1320
Выдвигались и другие теории – например, теория Августина о том, что первым евангелистом был Матфей, а Марк вторым, а также «теория двух Евангелий», гласившая, что Матфей был первым, а Марк третьим. Решительная защита этой позиции: William Farmer, The Synoptic Problem: A Critical Analysis (New York: Macmillan, 1964) сделала ее второй по популярности среди гипотез о порядке создания Евангелий. В Древней Церкви первым письменным источником считался Матфей, однако для этого не приводилось никаких оснований, кроме мнения Климента Александрийского в «Ипотипосах» о том, что первыми были написаны Евангелия с генеалогиями (об этом сообщает Евсевий, Церк. ист 6.14.5).
(обратно)
1321
Stein, Studying the Synoptic Gospels, с. 50.
(обратно)
1322
Стейн (там же, с. 53–55) приводит таблицы, подробно исследующие этот феномен. Из 51 совпадающих эпизодов – в 21 случаях длиннее Марк, в 11 случаях Матфей, в 10 Лука, а еще в 10 во всех Евангелиях эпизоды имеют одинаковую длину.
(обратно)
1323
В Мф 24:36 мысль о незнании Сына выражена неопределенно, возможно, в результате смягчения «неудобного» текста. Схожая мысль, но без всяких упоминаний о незнании Сына, выражена в Деян 1:7–8.
(обратно)
1324
Гипотезу о том, что Марк «пересказывал» других синоптиков, мы упоминали выше.
(обратно)
1325
Другие ранние свидетельства: II в. – Антимаркионовские прологи и Климент Александрийский через Евсевия, Церк. ист 2.15.2; 6.14.6–7; III в. – Тертуллиан, Против Маркиона 4.5.3 (также Церк. ист 6.25.5); IV столетия – Иероним, Знам. муж, о Симоне Петре 1.1, Чет. толк. Мф, предисл. 6 (также Церк. ист 2.16.24). См. также: M. Eugene Boring, Mark (NTL; Louisville: Westminster John Knox, 2006), с. 10. По этому разделу см. также: Joel Marcus, Mark 1–8: A New Translation with Introduction and Commentary (AB 27; New York: Doubleday, 2000), с. 17–24. Заявление Маркуса о том, что на некоторых рукописях, имевших хождение в IV в., отсутствовало название, возможно, основано на неверном прочтении Адамантия, который говорил, что имя Марка в Евангелии не упоминается. Вполне возможно, что это относилось лишь к самому тексту Евангелия, а не к его названию, каким-либо примечаниям или дополнениям. См.: Диалог об истинной вере в Бога, сочинение IV в., обычно приписываемое Адамантию. Соответствующий отрывок из него см. в кн.: C. Clifton Black, Mark: Images of an Apostolic Interpreter (Studies on Personalities of the New Testament; 1994; repr., Minneapolis: Fortress, 2001), с. 150.
(обратно)
1326
Полная цитата о Евангелиях, включая и слова о Марке, находится в Церк. ист 3.39.14–16. Не будем входить здесь в дискуссию о том, может ли старец Иоанн оказаться апостолом Иоанном, хотя это вполне вероятно. Для наших целей в этой статье я предполагаю, что это другой человек. Об их отождествлении см.: Robert H. Gundry, Mark: A Commentary on His Apology for the Cross (Grand Rapids: Eerdmans, 1993), с. 1029–1034; он полагает, что Евсевий не понял Папия, имевшего в виду одного и того же человека.
(обратно)
1327
Филипп Сидский, фрагмент 16: J. Kürzinger, Papias von Hieropolis und die Evangelien des Neuen Testaments (Regensburg: Pustet, 1983), с. 116–117 = фрагмент 5, в кн.: J. B. Lightfoot, J. R. Harmer, and M. W. Holmes, The Apostolic Fathers (2nd ed.; Grand Rapids: Baker, 1989), с. 317–318. Филипп писал, что некоторые из воскрешенных Иисусом дожили до царствования Адриана (117–138 гг. н. э.) Поскольку Папий появляется у Евсевия в то же время, что и Климент Римский и Игнатий, по-видимому, его труд следует относить ко времени до мученичества Игнатия в 107 г.; см. также: Gundry, Mark, с. 1027–1034; см.: Церк. ист 3.36.1–2; 3.39.1. То, что о Папии Евсевий в целом отзывается нелестно, осуждая его милленаристские взгляды, также говорит в пользу достоверности сведений о нем. Говоря о своих исследованиях, Папий описывает период несколькими десятилетиями ранее 130 года – традиционной даты выхода его книги. Важно и то, что Папий проживал в Иераполе – городе с древней и крупной христианской общиной, расположенном на дороге из Эфеса в Антиохию Сирийскую. В этом крупном «перевалочном пункте» и экономическом центре империи Папий мог иметь доступ к множеству христианских преданий. См. весьма содержательное рассуждение Роберта Гандри о достоверности сведений Папия (Robert H. Gundry, Mark: A Commentary on His Apology for the Cross, с. 1027–1044).
(обратно)
1328
См.: Richard Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony (Grand Rapids; Eerdmans, 2006), с. 12–21 о Папии, с. 155–182 о Марке и Петре. Свои выводы о Папии Бокэм суммирует в главе 22 данной книги: «Евангельские предания: анонимные сказания общины или свидетельства очевидцев?» Бокэм демонстрирует неадекватность подхода критики форм и доказывает, что к свидетельству Папия необходимо относиться серьезно. Другие его аргументы против критики Марка и в пользу точности его преданий я упомяну далее. Как отмечает Бокэм: «Нет никаких причин видеть в этих утверждениях Папия апологетическое преувеличение, поскольку они чрезвычайно скромны» (Jesus and the Eyewitnesses, с. 20). Папий нигде не утверждает, что лично разговаривал с кем-либо из двенадцати апостолов – их предания известны ему только из вторых рук. К «апологетическому» аргументу мы скоро вернемся и рассмотрим его под другим углом.
(обратно)
1329
Джоэл Маркус (Mark 1–8, с. 18) цитирует Стритера, приводящего тот же аргумент: Streeter, Burnett, Four Gospels, с. 560–562.
(обратно)
1330
Наиболее подробно эта точка зрения излагается в ст.: Kurt Niederwimmer, «Johannes Markus und die Frage nach dem Verfasser des zweiten Evangeliums», ZNW 58 (1967): 172–188. Важна также серия статей: D. E. Nineham, «Eyewitness Testimony and the Gospel Tradition, I, II, III», JTS 9 (1958): 13–25, 243–252; JTS 11 (1960): 253–264. Аргументы в пользу более позитивного прочтения: Robert Yarbrough, «The Date of Papias: A Reassessment», JETS 26 (1983): 181–191.
(обратно)
1331
Black, Mark, с. 4–7. Блэк подробно разбирает эти аргументы на с. 195–250. Боринг (Mark, с. 10–12) задает многочисленные вопросы о связи Марка и Петра, стремясь показать, что мнение об этой связи сложилось во II–III вв. Он полагает, что в основе его лежала богословская и апологетическая легитимизация Марка, а вовсе не вера в его точность и достоверность. Кроме того, по его мнению, свидетельства показывают, что материалы Евангелия «несут на себе следы восприятия их автором не от какой-либо конкретной личности, а от общины, учившей, проповедовавшей, молившейся на протяжении целого поколения». Это последнее мнение голословно: Боринг не подкрепляет его никакими аргументами, кроме отсылки к результатам критики форм; статья Бокэма в настоящем издании ясно показывает, чего стоит такая аргументация. Более того, он даже не рассматривает вероятность того, что источниками Марка были как предания общины, так и конкретные лица. Маркус (Mark 1–8, с. 18–24) также задается вопросом, знал ли Марк Петра.
(обратно)
1332
Напомним: «минималисты» считают, что имя Марка было присвоено этому Евангелию «задним числом», возможно, где-то во II веке.
(обратно)
1333
Об этом пишет F. G. Lang, «“Über Sidon mitten ins Gebeit der Dekapolis”: Geographie und Theologie in Markus 7:31», ZDPV 94 (1978): 145–160, то же мнение отстаивается в кн.: Robert Guelich, Mark 1–8:26 (WBC 34A; Dallas: Word, 1989), с. 391–393.
(обратно)
1334
Guelich, Mark 1–8:26, с. 364.
(обратно)
1335
David Instone-Brewer, «Jewish Women Divorcing Their Husbands in Early Judaism: The Background to Papyrus Sie’elim 13», HTR 92 (1999): 349–357.
(обратно)
1336
Robert Stein, Mark (BECNT; Grand Rapids: Baker Academic, 2008), с. 458.
(обратно)
1337
R. T. France, The Gospel of Mark (NIGTC; Grand Rapids: Eerdmans, 2002), с. 394.
(обратно)
1338
Разумеется, в римском контексте женщина имела право на развод, – поэтому многие считают, что в этом эпизоде Евангелия отражена языческая точка зрения.
(обратно)
1339
Leonhard Goppelt, A Commentary on 1 Peter (trans. John E. Alsup; Grand Rapids: Eerdmans, 1993), с. 373–378. Об этом отождествлении в раннехристианской литературе см.: Евсевий, Церк. ист 2.15.2; в минускуле 2318 в 1 Пет 5:13 читается «Рим». Гоппельт отстаивает здесь традиционный взгляд на авторство Петра. Противоположный взгляд на это послание как на псевдэпиграф: Norbert Brox, Der erste Petrusbrief (EKKNT 21; Zürich: Benzinger, 1979), с. 246–248.
(обратно)
1340
Karen Jobes, 1 Peter (BECNT; Grand Rapids: Baker Academic, 2005), с. 5–41. О том, верно ли, что убежденность Древней Церкви в связи между Марком и Петром была чисто апологетической, см.: Boring, Mark, с. 10–12.
(обратно)
1341
Boring, Mark, с. 10–11.
(обратно)
1342
Martin Hengel, Studies in the Gospel of Mark (trans. John Bowden; Philadelphia: Fortress, 1985), с. 68–69.
(обратно)
1343
Ср.: Иустин, Разговор с Трифоном иудеем, 106, о Евангелии от Марка как воспоминаниях Петра. Бокэм (Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses, с. 213) отмечает, что и Папий, и Иустин говорят именно о воспоминаниях (αποµνηµονεύµατα). Хенгель также считает, что эти замечания связаны с традицией, восходящей к концу I столетия и связывающей названия Евангелий с тем же ранним периодом (Hengel, Studies, с. 72–84).
(обратно)
1344
Подробное исследование Иоанна Крестителя и его апокалиптических взглядов: Robert Webb, John the Baptizer and Prophet: A Socio-Historical Study (JSNTSup 62; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1991).
(обратно)
1345
Об отличиях Иисуса от ессеев см.: James Charlesworth, «The Dead Sea Scrolls and the Historical Jesus», в кн.: Jesus and the Dead Sea Scrolls (ed. Charlesworth; ABRL; New York; Doubleday, 1992), с. 22–30.
(обратно)
1346
Адела Ярбро Коллинз считает, что Евангелие от Марка представляет собой «эсхатологическую историческую монографию» (Collins, Adela Yarbro, Mark [Hermeneia; Minneapolis: Fortress, 2007], с. 42–44, также с. 11–14). По ее мнению, историческая монография, сфокусированная на отдельном человеке – эллинистический жанр, в то время как ее апокалиптические и эсхатологические мотивы пришли из иудаизма.
(обратно)
1347
Смысл этого самоназвания для Иисуса в галилейском контексте рассматривается в кн.: Darrell L. Bock and James H. Charlesworth, eds., Parables of Enoch: A Paradigm Shift (New York: Bloomsbury, 2013). В этом сборнике мы наравне с другими авторами утверждаем, что выражение «Сын Человеческий» в Галилее I в. было предметом размышлений и споров. Моя статья в этой книге посвящена датировке «Подобий», которые я отношу к концу I в. до н. э. или началу I в. н. э.
(обратно)
1348
Подробнее о проблемах, связанных с окончанием Евангелия от Марка, см.: Perspectives on the Ending of Mark: Four Views (ed. D. A. Black; Nashville: Broadman & Holman Academic, 2008), особенно: Darrell L. Bock, «The Ending of Mark: A Response to the Essays», с. 124–142. Я считаю оригинальным краткое окончание, хотя веду диалог и с другими мнениями. По логике повествования, сами женщины должны были отринуть страх, – иначе того, о чем рассказывает Марк в гл. 16, никто бы не узнал.
(обратно)
1349
Представление о Евангелии от Марка как апокалиптическом идет вразрез с документальным фильмом PBS From Jesus to Christ: The First Christians (M. Mellowes and W. Cran; Burbank, Calif.: Warner Home Video, 1998), где утверждается, что в этом Евангелии содержатся лишь темы премудрости – без всякой апокалиптики. Однако один только эпизод с бесплодной смоковницей полностью опровергает это мнение.
(обратно)
1350
Целый раздел Первой книги Еноха носит название Подобия, или «Притчи» (гл. 37–71).
(обратно)
1351
Говоря об этом, необходимо помнить, что притчи характерны не только для иудаизма и используются в различных культурных контекстах, см.: Klyne Snodgrass, Stories of Intent: A Comprehensive Guide to the Parables of Jesus (Grand Rapids: Eerdmans, 2008), с. 37–39. На с. 42–46 Снодграсс рассматривает присутствие притч в литературе конца периода Второго Храма. Он отмечает, что в греко-римском контексте притчи чаще всего звучат из уст философов, а также тех, кто упрекает людей за какие-либо прегрешения (с. 46).
(обратно)
1352
Другой пример – «Повесть об Акире Премудром».
(обратно)
1353
Эдуард Швейцер (Eduard Schweizer, The Good News according to Mark [trans. D. H. Madvig; Atlanta: John Knox, 1970], с. 145–147) считает весь этот рассказ отражением церковного взгляда на иудейское законничество и лишь о ст. 15 делает предположение, что этот стих может восходить к самому Иисусу.
(обратно)
1354
Gundry, Mark, с. 348.
(обратно)
1355
Jonathan Klawans, «Moral and Ritual Purity», в кн.: The Historical Jesus in Context (ed. Amy-Jill Levine, Dale C. Allison Jr., and John Dominic Crossan; PRR; Princeton: Princeton University Press, 2006), с. 266–284.
(обратно)
1356
См. также: Мф 15:11, 23:25–26; Ев. Фом 14; P.Oxy. 840.
(обратно)
1357
Klawans, «Moral and Ritual Purity», с. 281. Такую же внутреннюю двусмысленность мы видим у Марка еще в нескольких местах. Я уже показывал, что она присутствует в сцене воскресения, и далее покажу, что она звучит и в том, как Иисус относится к титулу Мессии. Она показывает отсутствие полемической направленности и, следовательно, указывает на древнее предание.
(обратно)
1358
Clinton Wahlen, Jesus and the Impurity of Spirits in the Synoptic Gospels (WUNT 2/185; Tübingen: Mohr Siebeck, 2004), с. 75.
(обратно)
1359
Thomas Kazen, Jesus and Purity Halakhah: Was Jesus Indifferent to Impurity? (ConBNT 38; Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2002), с. 161–164. О Мк 7 он пишет на с. 86–88. Он подчеркивает, что вопрос о мытье рук естественным образом связан с темой телесной нечистоты.
(обратно)
1360
Роланд Дейнес (Roland Deines, Jüdische Steingefäße und pharisäische Frömmigkeit: Ein archäologisch-historischer Beitrag zum Verständnis vom Joh 2,6 und der jüdischen Reinheitshalacha zur Zeit Jesu [WUNT 2/52; Tübingen: Mohr Siebeck, 1993]) подробно обсуждает эту тему и показывает, что забота о ритуальной чистоте повсеместно распространяется в Палестине начиная с конца I в. до н. э.
(обратно)
1361
T. Kazen, Jesus and Purity Halakhah, с. 72–78.
(обратно)
1362
Томас Казен (T. Kazen, Jesus and Purity Halakhah, с. 73–74) отмечает, что в Мишне и Тосефте ограничительные и экспансионистские предписания приводятся рядом.
(обратно)
1363
Подробно о хронологической дискуссии: Raymond E. Brown, The Death of the Messiah (2 vols.; ABRL; New York: Doubleday, 1994), 2:1350–1378.
(обратно)
1364
Joachim Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus (trans. Norman Perrin; Philadelphia: Fortress, 1977), с. 74–79. Одна из проблем здесь – поздняя датировка источников, которыми пользуется Иеремиас.
(обратно)
1365
Другую точку зрения на представление праздников в Четвертом Евангелии см. в статье Майкла Дейза в данной книге.
(обратно)
1366
Подробный и тщательный обзор темы «археология и Новый Завет», включая взаимоотношения археологии и древних текстов: James H. Charlesworth, ed., Jesus and Archaeology (Grand Rapids: Eerdmans, 2006), особ. см. вступительную статью Чарлзворта, «Jesus Research and Archaeology: A New Perspective», с. 11–63. В этой статье он говорит о том, чего может достичь археология и почему исследователи-новозаветники должны уделять внимание реалиям (с. 26–27).
(обратно)
1367
Charlesworth, «Jesus Research and Archaeology», с. 29–30; Paul Anderson, «Aspects of Historicity in the Gospel of John: Implications for Investigations of Jesus and Archaeology», в кн.: Jesus and Archaeology, ed. Charlesworth, с. 587–618, цит. с. 591.
(обратно)
1368
Charlesworth, «Jesus Research and Archaeology», с. 49–50; idem, Jesus within Judaism: New Light from Exciting Archaeological Discoveries (ABRL; New York: Doubleday, 1988), с. 109–112. Он отмечает также, что в этом доме есть центральное помещение с особой штукатуркой, предназначенной для комнат особого назначения. См.: J. Murphy-O’Connor, The Holy Land: An Oxford Archaeological Guide from Earliest Times to 1700 (4th ed.; Oxford: Oxford University Press, 1998), с. 220.
(обратно)
1369
См. схожее заключение: Shimon Gibson, The Final Days of Jesus: The Archaeological Evidence (New York: HarperCollins, 2009), с. 116–122.
(обратно)
1370
Anderson, «Aspects of Historicity», с. 591, 594. Андерсон ссылается на Иоанна, однако об этом месте пишет и Марк (Мк 15:22).
(обратно)
1371
Ключевые исследования по этому вопросу: J. Neusner, W. S. Green, and E. S. Frerichs, eds., Judaisms and Their Messiahs at the Turn of the Christian Era (Cambridge: Cambridge University Press, 2008); John J. Collins, The Scepter and the Star (ABRL; New York: Doubleday, 1995); Adela Yarbro Collins and John J. Collins, King and Messiah as Son of God: Divine, Human, and Angelic Messianic Figures in Biblical and Related Literature (Grand Rapids: Eerdmans, 2008).
(обратно)
1372
Martin Hengel, «Jesus, the Messiah of Israel», в кн.: Studies in Early Christology (trans. Paul Cathey; Edinburgh: T&T Clark, 1995), с. 1–72, особ. с. 1–19.
(обратно)
1373
Книга Вильяма Вреде (William Wrede, Das Messiasgeheimnis in den Evangelium) наделала немало шума в 1901 году, сразу после своей публикации (ET: The Messianic Secret [trans. J. C. G. Greig; London: James Clarke, 1971]). Дискуссия, сопровождавшая этот труд, оказала огромное влияние на исследования Евангелия от Марка и практически стала предпосылкой появления критики редакций. Она рассмотрена в исследовании: Christopher Tuckett, ed., The Messianic Secret (IRT; London: SPCK, 1983).
(обратно)
1374
Martin Hengel and Anna Maria Schwemer, Jesus und das Judentum (GfC 1; Tübingen: Mohr Siebeck, 2007), с. 507–510; также: H. Rollmann and W. Zager, «Unveröffentlichte Briefe William Wredes zur Problematisierung des messianischen Selbtverständnisses Jesu», ZNThG 8 (2001): 274–322, особ. с. 317; Andrew Chester, Messiah and Exaltation (WUNT 207; Tübingen: Mohr Siebeck, 2007), с. 309.
(обратно)
1375
Защищая мнение о том, будто эта сцена вымышлена, необходимо помнить, кем считала Иисуса Древняя Церковь.
(обратно)
1376
Есть предположение, что кумраниты отводили роль страдающей жертвы всем, кто в их представлениях был связан с эсхатологией, однако оно не доказано. За этим исключением акцент Иисуса на страданиях Мессии уникален для иудейского контекста.
(обратно)
1377
Eckart Reinmuth, Neutestamentliche Historik: Probleme und Perspektiven (ThLZF 8; Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2003), с. 59 и далее.
(обратно)
1378
Это верно для Марка, Матфея и Иоанна. О Матфее см.: David V. Howell, Matthew’s Inclusive Story (JSNTSup 42; Sheffield: JSOT Press, 1990); Ulrich Luz, Matthew 1–7 (trans. James Crouch; Hermeneia; Minneapolis: Fortress, 2007), с. 11–12.
(обратно)
1379
См. описание устной традиции у Джеймса Данна: «сочетание стабильности и гибкости» (J. Dunn, Jesus Remembered [CM 1; Grand Rapids: Eerdmans, 2003], с. 254.)
(обратно)
1380
Ulrich Luz, «The Gospel of Matthew: A New Story of Jesus or a Rewritten One?» в кн.: Studies in Matthew (trans. Rosemary Selle; Grand Rapids: Eerdmans, 2005), с. 18–36, цит. с. 20–22.
(обратно)
1381
Перемещение отдельных сюжетов ради «гладкости рассказа» или прояснения «общего смысла» (σύµπασα γνώµη) было достаточно обычной техникой как для евангелистов (см.: Лк 4:16–30; 5:1–11; 8:19–21; Ин 2:14–22), так и для библейской (см., напр.: 1 Пар 11:10–41; 13:1 – 14:17) и греческой историографии, см.: Knut Backhaus, «Lukas der Maler: Die Apostelgeschichte als intentionale Geschichte der christlichen Erstepoche», в кн.: Historiographie und fiktionales Erzählen (ed. K. Backhaus and G. Häfner; ThSt 86; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2007), с. 30–66, цит. с. 65, с примером из Плутарха. Выражение σύµπασα γνώµη взято у Фукидида, История 1.22.1. См.: Knut Backhaus, «Spielräume der Wahrheit: Zur Konstruktivität in der hellenistisch-reichsrömischen Geschichtsschreibung», в кн.: Historiographie, ed. Backhaus and Häfner, с. 1–29, цит. с. 11.
(обратно)
1382
Дублирование в греческой историографии также было небезызвестно: см.: Klaus Meister, Die griechische Geschichtsschreibung (Stuttgart: Kohlhammer, 1990), с. 88–89 (Эфор Кимский).
(обратно)
1383
Типичные сцены у Матфея – это «исцеление слепого»: 9:27–31/20:29–34, см.: 11:4; 12:22 (с редактурой); 15:30–31 (с редактурой); 21:14. Схожие случаи в изложении учения Иисуса: Мф 10:17–22/24:9–14; 7:15–18/12:33–35, а также шесть антитез (число их у Матфея удвоено сравнительно с письменным источником антитез; об этом см.: Luz, Matthew 1–7, с. 226–227).
(обратно)
1384
Мф 9:32–34 – «решающая сцена» для окончания гл. 8–9, где упоминается раскол между ὄχλοι и вождями. То же верно для Мф 12:22–23 – вступительной сцене к «малой речи» 12:22–37. См. также пятикратное повторение сцен «ухода» в Мф 12:15 (= Мк 3:7); 13:36 (с редактурой); 14:13 (= Мк 6:32); 16:5 (с редактурой); и наконец в 24:1–2.
(обратно)
1385
Именно это происходит с вопросом о знамениях в Мф 12:38–40 (= Q)/16:1–4 (= Мк); с учением Иисуса в Мф 5:32–33 (= Q)/19:9 (= Мк); Мф 10:32–33 (= Q)/16:27–28 (= Мк); Мф 10:38 (= Q)/16:24 (= Мк); Мф 10:39 (= Q)/16:25 (= Мк). Сравнивая это со случаями, когда Матфей избегает дубликатов, можно заключить, что он дублировал те учения Иисуса, которые считал особенно важными.
(обратно)
1386
См.: Ulrich Luz, Matthew 21–28 (trans. James Crouch; Hermeneia; Minneapolis: Fortress, 2005), с. 492–494, 499–503, 506–508.
(обратно)
1387
Комментаторы практически не дают этому объяснений. Роберт Гандри (Robert H. Gundry, Matthew: A Commentary on His Literary and Theological Art [Grand Rapids: Eerdmans, 1982], с. 10) полагает, что в начальных главах Евангелия Матфей активно работал с источниками и располагал их материал свободно, но затем «ощутил редакторскую усталость». Дейл Эллисон (D. C. Allison, «Matthew: Structure, Biographical Impulse and the Imitatio Christi», в кн.: The Four Gospels 1992: Festschrift Frans Neirynck [ed. F.van Segbroeck et al.; 3 vols.; BETL 100; Leuven: Peeters, 1992], 2:1203–1221, цит. с. 1206) объясняет, что, дойдя до гл. 14, Матфей «уже использовал… большую часть Q» и «хотел поберечь [оставшееся]… для глав 18 и 24–25». Поэтому, мол, у него не было иного выхода, как только рабски переписывать Марка. Оба автора считают Матфея простым составителем и редактором.
(обратно)
1388
О возможных пропусках Q у Матфея см.: Ulrich Luz, «Matthew and Q», в кн.: Studies in Matthew, с. 39–53.
(обратно)
1389
См.: Фукидид, История 1.22 (цит. 1.22.1–2). И пусть даже Фукидид признает, что его исследование, при отсутствии в нем всего баснословного, кому-то может показаться малопривлекательным (τὸ µὴ µυθῶδες αὐτῶν ἀτερπέστερον φανεῖται, I, 22.4), мифологические рассказы в историографии недопустимы.
(обратно)
1390
Это очень вероятно для Мф 27:3–8, 51b–53; 28:9–10, возможно для Мф 27:19, 62–66; 28:11–15, 16–18; маловероятно для Мф 27:24–25, 43; 28:19–20; см.: Luz, Matthew 21–28, соотв. места.
(обратно)
1391
Таков критерий Фукидида: историк должен строго придерживаться исторических фактов (τῶν… γενοµένων τὸ σαφὲς, История I, 22.4). См. схожее правило у Лукиана, Как следует писать историю, 40: «Одной лишь (исторической) истине (ἀληθεία) должно совершать жертвоприношения – все прочее не имеет значения. Тот, кто при описании прошлого заботится о настоящем (τὸ παραυτίκα) – попросту льстец (κολακεύων)».
(обратно)
1392
Аристотель, Поэтика 9. В отличие от историка, поэт может говорить не только о τὰ γενόµενα («о происшедшем»), но – οἷα ἂν γένοιτο καὶ τὰ δυνατὰ κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαῖον. […о том, что могло бы случиться, о возможном по вероятности или необходимости].
(обратно)
1393
«История – произведение, вымышленное людьми», – пишет Йорн Рюзен (Jörn Rüsen, «Geschichtsschreibung als Theorieproblem der Geschichtswissenschaft», в кн.: Theorie und Erzählung in der Geschichte [ed. J. Kocka and T. Nipperdey; Munich: DTV, 1979], с. 14–35, цит. с. 27–28).
(обратно)
1394
Такие прозрения, как в Ин 13:7 и 14:26, верны не только в свете постпасхальной христологии – они имеют аналогию и в современном понимании истории. Значение исторических фактов проявляется только в их позднейшей интерпретации.
(обратно)
1395
Hayden White, Auch Klio dichtet oder: Die Fiktion des Faktischen (SuG 10; Stuttgart: Klett-Cotta, 1986), особенно с. 120–122; Hans Robert Jauss, «Der Gebrauch der Fiktion in Formen der Anschauung und Darstellung der Geschichte», в кн.: Formen der Geschichtsschreibung: Theorie der Geschichte (ed. Reinhart Koselleck, Heinrich Lutz, and Jörn Rüsen; BH 4; Munich: DTV, 1982), с. 415–427. См. также: Yairah Amit, History and Ideology: Introduction to Historiography in the Hebrew Bible (trans. Yael Lotan; Biblical Seminar 60; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999), с. 108.
(обратно)
1396
См.: Jörn Rüsen, «Die vier Typen des historischen Erzählens», в кн.: Formen der Geschichtsschreibung, ed. Koselleck et al., с. 514–605, цит. с. 526–527.
(обратно)
1397
Aleida Assmann, Die Legitimität der Fiktion: Ein Beitrag zur Geschichte der literarischen Kommunikation (TGLSK 55; Munich: Fink, 1980), с. 16–17.
(обратно)
1398
Примечательное исключение – Jens Schröter, Jesus von Nazaret: Jude aus Galiläa – Retter der Welt (BibG 15; Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2006).
(обратно)
1399
Таково мнение Саллюстия (О заговоре Катилины 3.2; 5.9; Югуртинская война 4.6 – память о прошлом должна побуждать к добродетели) и Тацита, для которого основной долг историографа – ne virtutes sileantur, сохранить память о проявлениях добродетели (Анналы 3.65.1).
(обратно)
1400
Различие между этими двумя жанрами относительно. См.: Arnaldo Momigliano, The Development of Greek Biography (Cambridge: Harvard University Press, 1971), с. 56: «…граница между вымыслом и реальностью в биографии тоньше, чем в обычной историографии»; Albrecht Dihle, «Zur antiken Biographie», в кн.: La biographie antique (ed. B. Grange and C. Budwalder; EnAC 44; Geneva: Fondation Hardt, 1998), с. 124–140: цель биографии – моральное воспитание, предполагается, что биографии читают не правители, а частные лица. Кристофер Пеллинг (Christopher B. R. Pelling, «Truth and Fiction in Plutarch’s Lives», в кн.: Antonine Literature [ed. D. A. Russell; Oxford: Clarendon, 1990], с. 19–52) так подводит итог своего исследования литературных вымыслов (по крайней мере, отчасти сознательных) у Плутарха: «Граница между истиной и ложью не так важна, как между приемлемыми и неприемлемыми выдумками… Истина важна; но порою с истиной можно обращаться свободно» (с. 43).
(обратно)
1401
Meister, Geschichtsschreibung, с. 83–93. О Дионе Кассии см.: Martin Hose, Erneuerung der Vergangenheit: Die Historiker im Imperium Romanum von Florus bis Cassius Dio (BzAl 45; Stuttgart: Teubner, 1994), с. 437–444.
(обратно)
1402
Felix Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, vol. 2 (Berlin: Weidman, 1926), фраг. 1, с. 138. См.: Backhaus, «Spielräume», с. 13–20, о миметическом искусстве в античной историографии.
(обратно)
1403
Ктесий получал самые нелицеприятные оценки как от древних, так и от современных авторов: см.: Felix Jacoby, «Ktesias», PW 11.2:2032–2073, цит. с. 2046–2047: «Чтобы написать такую “Персидскую историю”, ему даже не требовалось отправляться в Персию».
(обратно)
1404
John Van Seters, Der Jahwist als Historiker (ThSt 134; Zürich: Theologischer Verlag, 1987), с. 31–63; Sara Japhet, «Chronicles: A History», в кн.: Das Alte Testament – ein Geschichtsbuch? (ed. E. Blum et al.; ATM 10; Münster: Lit, 2005), с. 129–146.
(обратно)
1405
Здесь это выражение, естественно, означает нечто иное, чем у Фукидида (История 1.22.1).
(обратно)
1406
Лукиан, Как следует писать историю, 51 (LCL).
(обратно)
1407
Естественнее всего понимать περὶ τῶν πεπληροφορηµένων ἐν ἡµῖν (Лк 1:1) в сочетании с αὐτόπται в Лк 1:2 не как историю спасения – иными словами, не как «события, пришедшие к своему исполнению» в смысле исполнения Писания, – а именно так понимают эту фразу большинство комментаторов, например, Joseph A. Fitzmyer, The Gospel according to Luke I–IX (AB 28; Garden City, N. Y.: Doubleday, 1983), с. 293; François Bovon, Das Evangelium nach Lukas (Lk 1:1–9:50) (EKKNT 3/1; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1989), с. 35. Я предпочитаю историческое понимание: «События, которые свершились среди нас», – те, о которых могут свидетельствовать очевидцы (см.: BDAG с. 827, s.v. 1: «То, что произошло среди нас»).
(обратно)
1408
Уильям Дэвис, Дейл Эллисон (W. D. Davies and D. C. Allison Jr., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to Saint Matthew [3 vols.; ICC; Edinburgh: T&T Clark, 1988–1997], 1:149–155) и Мойзес Майордомо-Марин (Moises Mayordomo-Marín, Den Anfang hören [FRLANT 180; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998], с. 208–214) понимают Евангелие от Матфея как «книгу Нового Бытия» (Davies and Allison, Matthew, 1:153). Согласно им Матфей считает свою книгу «новой Библией», а историю Иисуса Христа – основанием истории Церкви.
(обратно)
1409
О начальной истории Израиля повествуют такие книги, как Пятикнижие, Книга Юбилеев, Храмовый Свиток и т. д.; ко второй группе исторических сочинений относятся, например, 1–4 Книги Царств, 1–2 Книги Паралипоменон, Книги Ездры, Неемии, Руфь и Товита. Концепция «традиционного исторического повествования» заимствована мною в источнике: Rüsen, «Vier Typen». Разумеется, в более широком смысле слова «традиционны» все библейские «исторические» книги, хотя и не все из них рассказывают мифическую «начальную историю» Израиля.
(обратно)
1410
Никаких источников, кроме Библии, Матфей не упоминает.
(обратно)
1411
«Когда автор отходит на второй план – или, точнее говоря, отводит себе роль в самом тексте, – это [подразумевает] его непосредственное притязание на значимость повествования»; E. Blum, «Historiographie oder Dichtung? Zur Eigenart alttestamentlicher Geschichtsüberlieferung», в кн.: Alte Testament, ed. Blum et al., с. 65–86, цит. с. 73.
(обратно)
1412
См.: Ulrich Luz, «Fictionality and Loyalty to Tradition in Matthew’s Gospel in the Light of Greek Literature», в кн.: Studies in Matthew, с. 54–79. Для меня не так важно, следовали ли в самом деле греческие и римские историки своим историографическим идеалам. Важно общее сознание различия между фактами (= истинами), вымыслами, дополняющими и украшающими факты (= argumenta, πλάσµατα) и выдуманными историями (fabulae, µῦθοι). См. также: Andreas Mehl, Römische Geschichtsschreibung (Stuttgart: Kohlhammer, 2001), с. 29–34.
(обратно)
1413
См.: Фукидид, История 1.20.21.
(обратно)
1414
Blum («Historiographie», с. 73) говорит о герменевтике отождествления и действия по соглашению («Einverständnis»), характерной для ветхозаветных исторических книг – а также для Матфея!
(обратно)
1415
См.: Mircea Eliade, Myth and Reality (trans. Willard R. Trask; New York: Harper & Row, 1963), с. 4–6, 8–10.
(обратно)
1416
См.: Luz, Matthew 1–7, с. 640; idem, Studies in Matthew, с. 34–35, 238–240.
(обратно)
1417
См.: U. Luz, «Der frühchristliche Christusmythos: Ein Gespräch mit Gerd Theissen zu seinem Verständnis der Religion des Urchristentums», ThLZ 128 (2003): 1243–1258, цит. с. 1249.
(обратно)
1418
Схожий взгляд: Blum, «Historiographie». О том же пишет Томас Болин (Thomas M. Bolin, The Limits of Historiography: Genre and Narrative in Ancient Historical Texts [ed. C. S. Kraus; Mnemosyne 191; Leiden: Brill, 1999], с. 113–140, цит. с. 113–114). Болин видит резкое различие между античной историографией и Библией, которая, на его взгляд, представляет собой «пример античного сочинения о древних временах, которое следует отличать от античной историографии» (с. 131). Еврейская Библия «вообще не имеет отношения к историографии» (с. 137) так, как она понималась в Античности. Хуберт Канцик (Hubert Cancik, «Zur Verwissenschaftlichung des historischen Diskurses bei den Griechen», в кн.: Alte Testament, ed. Blum et al., с. 87–100) видит разницу в том научном повороте античного исторического дискурса, который произошел в Греции, начиная от Геродота и далее, а в библейском мире остался неизвестен.
(обратно)
1419
Gerhard von Rad, «The Beginnings of Historical Writing in Ancient Israel», в кн.: The Problem of the Hexateuch and Other Essays (trans. E. W. Trueman Dicken; New York: McGraw-Hill, 1966), с. 166–204.
(обратно)
1420
Согласно следующей статье: Mario Puelma-Piwonka, «Der Dichter und die Wahrheit in der griechischen Poetik», в кн.: Labor et Lima (ed. I. Fasel; Basel: Schwabe, 1995), с. 111–151, для повествования Гомера характерно «единство поэтического вымысла и истины» (с. 119).
(обратно)
1421
См. там же, особ. с. 120–125.
(обратно)
1422
В текстах древнегреческих историков τύχη достаточно часто не имеет значения сверхъестественной силы. По мнению Отто Лендле (Otto Lendle, Einführung in die griechische Geschichtsschreibung von Hekataios bis Zosimos [Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992], с. 233), даже Полибий относит к τύχη все, чего не может объяснить рационально.
(обратно)
1423
Эти понятия в исторических трудах встречаются редко. Важное исключение в обоих случаях – Иосиф. προνοία встречается также у Диодора Сицилийского, 1.30.1; 14.67.2.
(обратно)
1424
См.: Геродот, История VIII, 13.60 (ὁ θεός); VIII, 109 (θεοί τε καἰ ἥρωες). Взгляд Ксенофонта на историю также религиозен, если не суеверен. Возражения против религиозного взгляда Геродота: Полибий 36.17.1. Об Аппиане см.: Barbara Kuhn-Chen, Geschichtskonzeptionen griechischer Historiker im 2.und 3. Jahrhundert n. Chr. (EHS 15/84; Frankfurt: Lang, 2002), с. 100–112. За сведения, приведенные в данном и двух последующих примечаниях сердечно благодарю доктора Гунтера Мартина, Оксфорд. Вообще нам очень не хватает монографии о роли Бога (богов) и сверхъестественных сил в мировоззрении античных историков!
(обратно)
1425
Rüsen, «Vier Typen».
(обратно)
1426
См. там же, с. 551–555. По Рюзену, такой способ рассказывать историю «уничтожает представление о последовательности» и создает для читателей «возможность смены норм» (Rüsen, «Vier Typen», с. 552). Для того, как обращается Матфей с ветхозаветной историей и ветхозаветными преданиями, это верно лишь отчасти, поскольку: 1) Матфей рассказывает не ветхозаветную историю, а историю Иисуса; и 2) его предполагаемые читатели – люди, уже обладающие «новым» взглядом на Библию и библейскую историю.
(обратно)
1427
Rüsen, «Vier Typen», с. 545.
(обратно)
1428
См. прим. 1, с. 640.
(обратно)
1429
Собрание антитез (Мф 5:21–22 [23–24?], 27–28 [33–37]; так называемые культовые поучения, Мф 6:2–6, 16–18), а также, возможно, собрание притч: см., напр.: Eduard Schweizer, The Good News according to Matthew (trans. David E. Green; Atlanta: John Knox, 1975), с. 275–276, 302–303, 376; Davies and Allison, Matthew, 1:125–126.
(обратно)
1430
См. выше подраздел 1.2, пункт 3.
(обратно)
1431
Напр.: J. Andrew Overman, Church and Community in Crisis: The Gospel according to Matthew (NTC; Valley Forge, Pa.: Trinity Press International, 1996), с. 16–19.
(обратно)
1432
Матфей и его читатели неверно трактуют побелку гробниц как украшение (Мф 23:27) и называют тфилин «амулетами» (φυλακτήρια, Мф 23:5). Это указывает, что они придерживались народного иудейского благочестия, весьма далекого от ритуальных законов.
(обратно)
1433
Стоит отметить: Мф 10:5–6 сохранилась несмотря на то, что воскресший Иисус отменил эту заповедь в Мф 28:19–20.
(обратно)
1434
Хотя это и чересчур смелое обобщение: ведь не только христианство, но и иудаизм со временем претерпел большие изменения.
(обратно)
1435
Возможно, именно Матфей сформулировал Мф 5:17 и тщательно работал над формулировками в Мф 5:18–19. С другой стороны, возможно, именно он увеличил число традиционных антитез с трех до шести. См.: Luz, Matthew 1–7, с. 211–13 и 227–228.
(обратно)
1436
Это верно для Мф 5:17–20, 31, 33, 35–36, 38, 43.
(обратно)
1437
Возможно, свидетельством этого станет и моя попытка согласовать провозглашение Суда с общим изображением Иисуса у Матфея; см.: Matthew 21–28 (trans. James E. Crouch; Hermeneia; Minneapolis: Fortress, 2005), с. 290–293. Поражает пропасть между нашим стремлением все систематизировать и явным отсутствием интереса к этому у Матфея.
(обратно)
1438
Это широко распространенное убеждение прекрасно выражает Юрген Беккер (Jürgen Becker, Jesus of Nazareth [trans. James E. Crouch; New York: de Gruyter, 1998], с. 78–80), особ. с. 79: «Иисус не подвергает сомнению авторитет Иоанна Крестителя, но и не принимает мысль о том, будто учение Иоанна – это последнее слово Бога, обращенное к Его народу».
(обратно)
1439
Craig S. Keener, The Historical Jesus of the Gospels (Grand Rapids: Eerdmans, 2009); idem, A Commentary on the Gospel of Matthew (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), с. 8–36, особ. с. 51–70; см. также: idem, The Gospel of John: A Commentary (2 vols.; Peabody, Mass.: Hendrickson, 2003), с. 3–52.
(обратно)
1440
См. особенно: Martin Hengel, Between Jesus and Paul: Studies in the History of Earliest Christianity (trans. John Bowden; Philadelphia: Fortress, 1983), с. 97–128 (Хенгель более впечатлен знакомством Луки с Иерусалимом и побережьем Иудеи). Впрочем, о слабости географических познаний Луки можно и поспорить: см. примеры из Евангелия от Луки среди важных замечаний Джеймса Чарлзворта и Мордехая Авиама в данной книге.
(обратно)
1441
Даже если мы примем позднейшее предание (из «Антимаркионитского пролога» к Евангелию от Луки), согласно которому Лука жил в Антиохии Сирийской, – и которое, как мне кажется, представляет собой ничем не подтвержденный вывод из Деян 13:1, – то и в этом случае он должен был бы говорить в основном по-гречески.
(обратно)
1442
Ричард Перво выступает за начало II в. (Richard I. Pervo, Dating Acts: Between the Evangelists and the Apologists [Santa Rosa, Calif.: Polebridge, 2006], с. 359–363), но приводит перечень, в котором, по примерным подсчетам, 31 ученый относит время создания к 60-м гг. I в., 48 – к 70–80-м, 20 – к 90-м, 11 – к 100 г. или к первым десятилетиям II в.
(обратно)
1443
Вероятность эта повышается даже для непосредственных учеников Иисуса, если – а у нас есть все основания так полагать, – большинство их в годы следования за Иисусом были очень молоды: так и бывало обычно с учениками знаменитых учителей в ту эпоху (см., напр.: Иосиф Флавий, Жизнь 10; Плиний, Письма 5.8.8; D. L. Stamps, «Children in Late Antiquity», DNTB, с. 197–201, цит. с. 198).
(обратно)
1444
C. H. Talbert, What Is a Gospel? The Genre of the Canonical Gospels (Philadelphia: Fortress, 1977); R. A. Burridge, What Are the Gospels? A Comparison with Graeco-Roman Biography (SNTSMS 70; Cambridge: Cambridge University Press, 1992); см. также: Philip L. Shuler, A Genre for the Gospels: The Biographical Character of Matthew (Philadelphia: Fortress, 1982); David E. Aune, The New Testament in Its Literary Environment (LEC 8; Philadelphia: Westminster, 1987), с. 46–76; Dirk Frickenschmidt, Evangelium als Biographie: Die vier Evangelien im Rahmen antiker Erzählkunst (TANZ 22; Tübingen: Francke, 1997); Maria Ytterbrink, The Third Gospel for the First Time: Luke within the Context of Ancient Biography (Lund: Lund University – Centrum för teologi och religionsvetenskap, 2004). Craig S. Keener, «Assumptions in Historical Jesus Research: Using Ancient Biographies and Disciples’ Traditioning as a Control», JSHJ 9.1 (2011): 26–58.
(обратно)
1445
Альтернативной гипотезе, согласно которой Евангелие – роман, недостает убедительности по нескольким причинам, начиная с того, что большинство романов в этот период были посвящены любви и приключениям героя и героини (тема, от которой Евангелия очень далеки); более того, при описании исторических фигур романы крайне редко пользовались историческими источниками (Киропедия Ксенофонта и История Александра Великого псевдо-Каллисфена – наиболее значительные исключения из обычного правила); наконец, насколько нам известно, ни один античный романист не использовал источники так, как это делают апостолы Матфей и Лука.
(обратно)
1446
Напр.: Benedetto Bravo, «Antiquarianism and History», в кн.: A Companion to Greek and Roman Historiography (ed. John Marincola; 2 vols.; Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2007), 1:515–527, цит. с. 516; границы между этими двумя жанрами весьма «текучи»: (Philip Stadter, «Biography and History», в кн.: Companion, ed. Marincola, 1:528–540, цит. с. 528); см. также: Burridge, What Are The Gospels? с. 62–67. Границы между биографией и историей в Римской империи к концу I в. размылись (Martin Hose, «Historiography: Rome», BNP 6:422–26).
(обратно)
1447
George A. Kennedy, «Classical and Christian Source Criticism», в кн.: The Relationships among the Gospels: An Interdisciplinary Dialogue (ed. W. O. Walker Jr.; San Antonio: Trinity University Press, 1978), с. 125–155, цит. с. 136.
(обратно)
1448
David E. Aune, «Greco-Roman Biography», в кн.: Greco-Roman Literature and the New Testament: Selected Forms and Genres (ed. Aune; SBLSBS 21; Atlanta: Scholars Press, 1988), с. 107–126, цит. с. 125.
(обратно)
1449
«Otho: A Targeted Comparison of Suetonius’ Biography and Tacitus’ History, with Implications for the Gospels’ Historical Reliability», BBR 21.3 (2011): 331–355.
(обратно)
1450
История часто сосредотачивается на нескольких центральных персонажах: см., напр.: C. W. Fornara, The Nature of History in Ancient Greece and Rome (Berkeley: University of California Press, 1983), с. 34–36, 116, 185; о том, что Евангелие от Луки и Деяния сочетают в себе несколько жанров, см., напр.: C. K. Barrett, A Critical and Exegetical Commentary on the Acts of the Apostles (2 vols.; ICC; Edinburgh: T&T Clark, 1994–1998), 1:lxxviii – lxxix; I. Howard Marshall, «Acts and the “Former Treatise”», в кн.: The Book of Acts in Its Ancient Literary Setting (ed. B. W. Winter and A. D. Clarke; Book of Acts in Its First Century Setting 1; Grand Rapids: Eerdmans, 1993), с. 163–182, цит. с. 180; Joseph Verheyden, «The Unity of Luke-Acts: What Are We Up To?» в кн.: The Unity of Luke-Acts (ed. Verheyden; BETL 142; Leuven: Leuven University Press, 1999), с. 3–56, цит. с. 47; Todd Penner, In Praise of Christian Origins: Stephen and the Hellenists in Lukan Apologetic Historiography (ESEC; New York: T&T Clark, 2004), с. 59.
(обратно)
1451
Martin Dibelius, Studies in the Acts of the Apostles (ed. H. Greeven; trans. M. Ling; New York: Scribner, 1956), с. 123–137; Henry J. Cadbury, The Book of Acts in History (London: Adam & Charles Black, 1955), passim.
(обратно)
1452
См., напр.: Gary Gilbert, «Roman Propaganda and Christian Identity in the Worldview of Luke-Acts», в кн.: Contextualizing Acts: Lukan Narrative and Greco-Roman Discourse (ed. T. Penner and C. Vander Stichele; SBLSymS 20; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2003), с. 233–256, цит. с. 235–236; Todd Penner, «Civilizing Discourse: Acts, Declamation, and the Rhetoric of the Polis», в кн.: Contextualizing Acts, ed. Penner and Vander Stichele, с. 65–104, цит. с. 66–67; Thomas E. Phillips, «The Genre of Acts: Moving toward a Consensus?» CBR 4.3 (2006): 365–396.
(обратно)
1453
См.: Eckhard Plümacher, «The Mission Speeches in Acts and Dionysius of Halicarnassus», в кн.: Jesus and the Heritage of Israel: Luke’s Narrative Claim upon Israel’s Legacy (ed. D. P. Moessner; Luke the Interpreter of Israel 1; Harrisburg: Trinity Press International, 1999), с. 251–266; idem, «Die Missionsreden der Apostelgeschichte und Dionys von Halikarnass», NTS 39.2 (1993): 161–177; idem, «Luke as Historian» (trans. D. Martin), ABD 4:398–402, цит. с. 398; G. H. R. Horsley, «Speeches and Dialogue in Acts», NTS 32.4 (1986): 609–614, цит. с. 613.
(обратно)
1454
Лк 2:1–2; 3:1–2; Деян 18:12; см., напр.: Luke Timothy Johnson, «Luke-Acts, Book of», ABD 4:403–420, цит. с. 406.
(обратно)
1455
См., напр., аргументы в издании: Johnson, «Luke-Acts», с. 406.
(обратно)
1456
См.: Darryl W. Palmer, «Acts and the Ancient Historical Monograph», в кн.: Acts, ed. Winter and Clarke, с. 1–29, цит. с. 3; Mikeal C. Parsons, «The Unity of Luke-Acts: Rethinking the Opinio Communio», в кн.: With Steadfast Purpose: Essays on Acts in Honor of Henry Jackson Flanders Jr. (ed. N. H. Keathley; Waco, Tex.: Baylor University Press, 1990), с. 29–53, особенно с. 45–48.
(обратно)
1457
См., напр.: M. D. Goulder, Type and History in Acts (London: SPCK, 1964); Charles H. Talbert, Literary Patterns, Theological Themes, and the Genre of Luke-Acts (SBLMS 20; Missoula, Mont.: Scholars Press, 1974); Robert C. Tannehill, The Narrative Unity of Luke-Acts: A Literary Interpretation (2 vols.; Philadelphia: Fortress, 1986–1990).
(обратно)
1458
Burridge, What Are the Gospels? с. 246 (цит. Диод. Сицил. 17); David L. Balch, «ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΠΟΛΙΤΕΙΏΝ – Jesus as Founder of the Church in Luke-Acts: Form and Function», в кн.: Contextualizing Acts, ed. Penner and Vander Stichele, с. 139–188, цит. с. 143 (цит.: Дионисий Галикарнасский, Рим. древн 4.41–85).
(обратно)
1459
См., напр.: Плиний, Письма 1.16.4; Stefan Rebenich, «Historical Prose», в кн.: Handbook of Classical Rhetoric in the Hellenistic Period 330 B.C. – A.D. 400 (ed. S. E. Porter; Leiden: Brill, 1997), с. 265–337; особенно Clare K. Rothschild, Luke-Acts and the Rhetoric of History: An Investigation of Early Christian Historiography (WUNT 2/175; Tübingen: Mohr Siebeck, 2004).
(обратно)
1460
См., напр.: Аппиан, Рим. ист 7.8.53; Плутарх, Демосфен 3.2; Серторий 1.1; далее об этом см.: John T. Squires, The Plan of God in Luke-Acts (SNTSMS 76; Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
(обратно)
1461
Кимон 3.1–3.
(обратно)
1462
Серторий 1.1. Цицерон в речах допускал большую свободу (Брут 11.42), а «Собрание параллельных греческих и римских историй» псевдо-Плутарха (Мор 305А–316B) часто предлагают параллели столь близкие, что не приходится сомневаться в «творческой переработке» материала автором.
(обратно)
1463
См., напр.: Сравн. Алк. Кор 3.1; Сравн. Лис. Сул 5.5. Даже когда Плутарх гиперболически заявляет, что те или иные два персонажа почти неразличимы (Сравн. Арист. Кат 1.1), на самом деле он видит и замечает различия между ними (5.1, 3–4; 6.1).
(обратно)
1464
Ср., напр., типологию библейского исхода, скажем, в кн.: David Daube, The Exodus Pattern in the Bible (All Souls Studies 2; London: Faber & Faber, 1963); Richard B. Hays, Echoes of Scripture in the Letters of Paul (New Haven: Yale University Press, 1989), с. 101; о типичных сюжетных ходах, прежде воспринимавшихся как дублеты, см., напр.: Philip E. Satterthwaite, «Acts Against the Background of Classical Rhetoric», в кн.: Acts, ed. Winter and Clarke, с. 337–379, цит. с. 363.
(обратно)
1465
Об интерпретативной функции речей см., напр.: Henry J. Cadbury, The Making of Luke-Acts (London: SPCK, 1968), с. 185; Eckhard Plümacher, Geschichte und Geschichten: Aufsätze zur Apostelgeschichte und zu den Johannesakten (ed. J. Schröter and R. Brucker; WUNT 170; Tübingen: Mohr Siebeck, 2004), с. 109–126; об их композиции см., напр.: Dibelius, Studies in Acts, с. 138–185.
(обратно)
1466
См.: Cadbury, Making, с. 186–187; Conrad Gempf, «Public Speaking and Published Accounts», в кн.: Acts, ed. Winter and Clarke, с. 259–303, цит. с. 264, 283, 299; также о переписывании речей, приведенных у более ранних историков, см.: Fornara, Nature of History, с. 143–168; Nigel G. L. Hammond, «The Speeches in Arrian’s Indica and Anabasis», CQ 49.1 (1999): 238–253.
(обратно)
1467
О современных философских предпосылках для такого подхода см., напр., дискуссию в кн.: Pierre Benoit, Jesus and the Gospel (trans. B. Weatherhead; 2 vols.; vol. 1, New York: Herder & Herder, 1973; vol. 2, New York: Seabury, 1974), 1:39; Howard Clark Kee, Miracle in the Early Christian World: A Study in Sociohistorical Method (New Haven: Yale University Press, 1983), с. 3–16; John P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, vol. 2: Mentor, Message, and Miracles (ABRL; New York: Doubleday, 1994), с. 519–520; подробнее: Brad S. Gregory, «The Other Confessional History: On Secular Bias in the Study of Religion», History and Theory, Theme Issue, 45 (Dec. 2006): 132–149; Craig Keener, Miracles: The Credibility of the New Testament Accounts (2 vols.; Grand Rapids: Baker Academic, 2011); idem, «A Reassessment of Hume’s Case against Miracles in Light of Testimony from the Majority World Today», PRSt 38.3 (Fall 2011): 289–310. Незападные подходы зачастую значительно отличаются; см., напр.: Lamin Sanneh, Whose Religion Is Christianity? The Gospel beyond the West (Grand Rapids: Eerdmans, 2003), с. 26; Philip Jenkins, The Next Christendom: The Coming of Global Christianity (New York: Oxford University Press, 2002), с. 122–131; Craig Keener, «Cultural Comparisons for Healing and Exorcism Narratives in Matthew’s Gospel», HTS/TS 66 (2010); idem, «Spirit Possession as a Cross-Cultural Experience», BBR 20 (2010): 161–182.
(обратно)
1468
См., напр.: Фукидид 1.22.4; Полибий 7.7.1; см сообщения о знамениях (у многих историков, включая Ливия) и о знаках (возможно, пропаганда в духе Флавия у Тацита, Ист 4.81; Светоний, Веспасиан 7.2–3). Иосиф Флавий пишет о сверхъестественном в достаточно бесстрастном ключе, однако хочет, чтобы читатели верили его рассказам о чудесах: см.: Otto Betz, «Miracles in the Writings of Flavius Josephus», в кн.: Josephus, Judaism and Christianity (ed. L. H. Feldman and G. Hata; Detroit: Wayne State University Press, 1987), с. 212–235, цит. с. 212–213.
(обратно)
1469
Экхард Плюмахер (Eckhard Plümacher, «ΤΕΡΑΤΕΙΑ: Fiktion und Wunder in der hellenistisch-römischen Geschichtsschreibung und in der Apostelgeschichte», ZNW 89 [1998]: 66–90) сравнивает Луку с «сенсационными» историками; однако, несмотря на интерес Луки к знамениям, ему недостает риторической утонченности и большинства драматически-трагических элементов, характерных для сочинений этого рода.
(обратно)
1470
Даже в наши дни историки, работая над темами, которые так или иначе связаны с сообщениями о чудесах, вынуждены отводить место и самим этим сообщениям (напр.: Amanda Porterfield, Healing in the History of Christianity [New York: Oxford University Press, 2005]; James Opp, The Lord for the Body: Religion, Medicine, and Protestant Faith Healing in Canada, 1880–1930 [Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2005]; Heather D. Curtis, Faith in the Great Physician: Suffering and Divine Healing in American Culture, 1860–1900 [Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2007]), хотя писать о них обычно стараются в нейтральном академическом ключе. Рэмси Макмюллен (Ramsay MacMullen, Christianizing the Roman Empire [New Haven: Yale University Press, 1984], с. 7, 24) отмечает, что историк – как историк – может передавать сообщения о чудесах (например, связанных с именами Симона Кимбангу и других), воздерживаясь от суждений о сути и причинах самих этих явлений.
(обратно)
1471
См., напр.: Steve Mason, Josephus and the New Testament (Peabody, Mass.: Hendrickson, 1992), с. 63; Penner, In Praise, с. 129, 179; подробнее об этом см.: Colin J. Hemer, The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History (ed. C. H. Gempf; WUNT 49; Tübingen: Mohr Siebeck, 1989), с. 79–85.
(обратно)
1472
Например, проримский уклон Полибия (Полибий 36.9.1–17; Arnaldo Momigliano, Essays in Ancient and Modern Historiography [Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1977], с. 71–73); у других, скажем, у Тита Ливия, этот подход доводится до крайности. Геродот (История 2.4.32, 50, 58, 77, 82; Klaus Meister, «Herodotus», BNP 6:265–71, цит. с. 268) и Фукидид более нейтральны, чем можно ожидать, – но даже здесь есть исключения, ср.: Henry Theodore Wade-Gery, «Thucydides», OCD, с. 1516–1519, цит. с. 1519.
(обратно)
1473
Напр.: Дионисий Галикарнасский, Рим. древн 1.2.1; 1.6.3–5; Диод. Сицил. 15.1.1; 37.4.1; ср.: Полибий 1.1.1; Валерий Максим, 2 предисл.; Тацит, Агрикола 1; Максим Тирский, Рассуждения, 22.5; даже Лукиан, Как следует писать историю, 59. Подробнее об этом см.: Daniel Marguerat, La première histoire du christianisme (Les Actes des apôtres) (LD 180; Paris: Cerf, 1999), с. 28–29; Fornara, Nature of History, с. 113–116. Среди иудейских источников см., напр.: Филон, Авр 4; Иосиф Флавий, Пр. Ап 2.204. См. также: 1 Кор 10:11.
(обратно)
1474
Напр.: Дионисий Галикарнасский, Рим. древн 5.56.1; 6.80.1; Полибий 3.31.11–13; ср.: Суд 11:26–27; 2 Цар 11:21; 4 Цар 9:31.
(обратно)
1475
Напр.: Полибий 1.35.1–10; Диод. Сицил. 31.10.2; Дионисий Галикарнасский, Рим. древн 7.65.2; Тацит, Анн 4.33; Дион Кассий 1.5.4; Арриан, Анаб 4.10.8; Корн. Неп. 16 (Пелопид), 3.1; ср. обсуждение: Steven M. Sheeley, Narrative Asides in Luke-Acts (JSNTSup 72; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1992), с. 56–93.
(обратно)
1476
См., напр.: S. von Dobbeler, «Geschichte und Geschichten: Der theologische Gehalt und die politische Problematik von 1 und 2 Makkabäer», BK 57.3 (2002): 62–67; Eckart Reinmuth, «Zwischen Investitur und Testament: Beobachtungen zur Rezeption des Josua-buches im Liber Antiquitatum Biblicarum», SJOT 16.1 (2002): 24–43; Theodore A. Bergren, «Nehemiah in 2 Maccabees 1:10–2:18», JSJ 28.3 (1997): 249–270; Peder Borgen, «Philo of Alexandria: Reviewing and Rewriting Biblical Material», SPhilo 9 (1997): 37–53; а также многочисленные статьи Кристофера Бегга и Луиса Фельдмана о пересказе библейских повествований у Иосифа Флавия.
(обратно)
1477
Напр.: Полибий 3.4.1; 8.8.3–6; 10.26.9; ср.: Плиний, Письма 5.8.1–2.
(обратно)
1478
Напр.: Дионисий Галикарнасский, Рим. древн 8.56.1. Историки «включали» богословие в историю (Rothschild, Rhetoric of History, с. 59; см. также: с. 295).
(обратно)
1479
См., напр.: Marguerat, Histoire, с. 36–37; и особ.: Squires, Plan, с. 15–17 (о Дионисии), 18–20 (об Иосифе Флавии) и 20–36 (о Луке).
(обратно)
1480
Напр.: Полибий, 8.8.7–9; Иосиф Флавий, И. Д. ХХ, 8.3; Лукиан, Как следует писать историю, 7–9.
(обратно)
1481
Penner, «Civilizing Discourse», с. 72–73; ср.: idem, Praise, с. 179. Он справедливо отмечает предрассудки историков (Penner, Praise, с. 77–78, 179, 217), однако история, полная предрассудков – еще не вымысел. Напротив, Gerd Lüdemann (assisted by Tom Hall, The Acts of the Apostles: What Really Happened in the Earliest Days of the Church [Amherst, N. Y.: Prometheus, 2005], с. 22) обвиняет библеистов в том, что из апологетических побуждений они отвергают фактические требования античной историографии.
(обратно)
1482
В некоторых жанрах факты и вымысел могут сочетаться (Loveday Alexander, «Fact, Fiction and The Genre of Acts», NTS 44.3 [1998]: 380–399, цит. с. 385–391), но в подавляющем большинстве случаев они принадлежат к различным жанрам.
(обратно)
1483
Об этом совершенно верно пишет Geza Vermes, Jesus and the World of Judaism (Philadelphia: Fortress, 1984), с. 19–20.
(обратно)
1484
Можно только поразиться тому, как часто ночные птицы из леса влетали средь бела дня в общественные здания! Поскольку это предзнаменование, по-видимому, уже появлялось ранее (И. Д. XVIII, 6.7), вполне возможно, что Иосиф добавил его, дабы придать повествованию связность; сравните с тем, как Лука, обычно сохраняющий последовательность событий Марка, отступает от нее в своей вступительной перикопе, связанной с Назаретом.
(обратно)
1485
Rothschild, Rhetoric of History, с. 69–70; ср.: Дион Кассий 1.1.1–2.
(обратно)
1486
Например, Максим Тирский 22.5; 2 Мак 2:24–25; ср.: Fornara, Rhetoric of History, с. 120–134. Лукиан, однако, подчеркивает, что хороший историограф должен ценить истину превыше увлекательности (Как следует писать историю 9).
(обратно)
1487
Gregory E. Sterling, Historiography and Self-Definition: Josephos, Luke-Acts and Apologetic Historiography (NovTSup 64; Leiden: Brill, 1992), с. 320; также: Aune, Literary Environment, с. 79.
(обратно)
1488
Лукиан, Как следует писать историю 9. Некоторые историки, как Геродот, писали больше для удовольствия публики, чем другие, как Фукидид; однако даже Геродот, прославленный своим очарованием (Дион Хрисостом, Речи 18.10), использовал достоверные источники, хотя порой неверно их понимал (Meister, «Herodotus», с. 267–268), и греческих предрассудков у него вообще намного меньше, чем можно было бы ожидать (с. 268–269).
(обратно)
1489
См., напр.: Talbert, Gospel, с. 17.
(обратно)
1490
Дион Кассий, 1.1.1–2; Fornara, Rhetoric of History, с. 120–133; Palmer, «Monograph», с. 3, 29; Aune, Literary Environment, с. 80; idem, The Westminster Dictionary of New Testament and Early Christian Literature and Rhetoric (Louisville: Westminster John Knox, 2003), с. 285; ср.: Дионисий Галикарнасский, Демосф 47. О биографиях см.: Burridge, What Are the Gospels?, с. 149–151.
(обратно)
1491
См., напр.: A. W. Mosley, «Historical Reporting in the Ancient World», NTS 12.1 (1965): 10–26, цит. с. 26; Hemer, Acts in History, с. 63–70; далее см., напр.: Дионисий Галикарнасский, Фук 8; Иосиф Флавий, Пр. Ап 1.26; И. Д. XX, 8.3; ср.: Жизнь 336–339. Форнара (Fornara, Rhetoric of History, с. 72, 100, 104) подчеркивает объективность (хотя в этом вопросе он может и преувеличивать). О том, как пишется история, см. далее: Keener, John, с. 17–25; более полно эти вопросы исследованы в кн.: Keener, Acts: An Exegetical Commentary, vol. 1: Introduction and 1:1–2:47 (4 vols.; Grand Rapids: Baker Academic, 2012), особенно с. 51–361.
(обратно)
1492
Например, Диод. Сицил. 21.17.1; Дионисий Галикарнасский, Помпей 3; Иосиф Флавий, Жизнь 336–339; Арриан, Индика 7.1.; Плутарх Злок. Гер (?) 3–7 (Мор 855С–856B); Алк 3.1; Лукиан, Как следует писать историю 24–25.
(обратно)
1493
Аристотель, Поэт 9.2.1451b; ср.: схожее замечание у Лукиана, Как следует писать историю 8, 40. Полибий, признавая ценность мифа, указывает, что цель истории – говорить одну только правду (Полибий 34.4.1–3, особ. 2).
(обратно)
1494
Дионисий Галикарнасский, Рим. древн 1.1.2–4; 1.4.2; Фук 8, 55; Геродиан 1.1.1–3. Цитируя этих авторов, я не имею в виду, что они всегда следовали этому идеалу сами. Большинство из них относились к искажению истины ради риторических целей не так непримиримо, как Полибий (2.56.7; 12.7.1).
(обратно)
1495
Похвалы исторической точности см. также в кн.: Плиний, Письма 5.5.3; 5.8.5.
(обратно)
1496
Иосиф часто приукрашивает библейские источники в своих Древностях (он обращается с Библией куда более свободно, чем Лука с Марком), порой даже свободно составляет новые речи. Однако библейские события он обычно оставляет в неприкосновенности; некоторые его украшения также основаны на предшествующей (хоть и легендарной) традиции; и археология часто подтверждает его проверяемые детали. Лука определенно не развивает сцены так, как советовали это делать риторы (практика, восходящая еще к Гомеру, впоследствии получившая название экфрасис) и не пишет в «грандиозном» стиле, который использовала для историографии Вторая софистика (Фронтон, Письма к Веру 2.1.14; об уровне Луки ср., напр.: Aune, Literary Environment, с. 77.
(обратно)
1497
Klaus Meister, «Historiography: Greece», BNP 6:418–421, цит. с. 421.
(обратно)
1498
Например, Дионисий Галикарнасский, Фук 19; Ливий 3.8.10; Павсаний, Оп. Элл 1.3.3; ср.: Фукидид 1.3.2–3.
(обратно)
1499
Арриан, Анаб 6.28.2.
(обратно)
1500
Например, Диог. Лаэрт. 1.23: «Однако, если верить другим…»; 6.1.13; 8.2.67–72; Плутарх, Ликург 1.1; Филострат, Жизн. соф 1.21.516; 2.5.576; иер. Сота 9:13, § 2.
(обратно)
1501
См., напр.: Фукидид 1.21.1; Диод. Сицил. 1.6.2; Дионисий Галикарнасский, Рим. древн 1.12.3; Фукидид 5; Ливий 7.6.6; 25.11.20.
(обратно)
1502
По античным историографическим представлениям, промежуток совсем недолгий: см.: W. D. Davies, Invitation to the New Testament: A Guide to Its Main Witnesses (Garden City, N. Y.: Doubleday, 1966), с. 115–116.
(обратно)
1503
См.: Luke Timothy Johnson, The Acts of the Apostles (SP 5; Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1992), с. 4; Rainer Riesner, Paul’s Early Period: Chronology, Mission Strategy, Theology (trans. D. Stott; Grand Rapids: Eerdmans, 1998), с. 413. О том, что древние историографы предпочитали иметь дело с очевидцами событий, см., напр.: Ксенофонт, Греч. ист 6.2.31; Лисий, Речи 20.22, § 160; Сенека, Иссл. прир 4.3.1; особ. (для соответствующих жанров) Ксенофонт, Агес 3.1; Фукидид 1.22.2–3; Иосиф Флавий, Жизнь 361.
(обратно)
1504
См.: Thomas H. Campbell, «Paul’s ’Missionary Journeys’ as Reflected in His Letters», JBL 74.2 (1955): 80–87, особенно с. 87. Лавдэй Александер (Loveday Alexander, «Chronology of Paul», DPL, с. 115–123) делает исключение лишь для двух пунктов, где Луке недостает полной информации. Несомненно, Лука подробнее Павла говорит о противостоянии ему со стороны иудеев, однако это вопрос разных акцентов, а не противоречия (ср.: 2 Кор 11:24, 26; 1 Фес 2:14–16, Деян 16:20–21). Древние биографии часто стремились дополнить сведения «первоначальных» документов (см.: T. Hillard, A. Nobbs, and B. Winter, «Acts and the Pauline Corpus, I: Ancient Literary Parallels», в кн.: Acts, ed. Winter and Clarke, с. 183–213).
(обратно)
1505
См.: Adolf Harnack, The Acts of the Apostles (New Testament Studies 3; trans. J. R. Wilkinson; New York: Putnam’s, 1909), с. 264–274. Чарльз Тэлберт (Charles H. Talbert, Reading Luke-Acts in Its Mediterranean Milieu [NovTSup 107; Leiden: Brill, 2003], с. 207–208) одобрительно отзывается о трудах Кэмпбелла и Гарнака; в кн.: Keener, Acts о соотношении Деяний и Павла говорится более пространно. О Деяниях и внешних источниках см.: Hemer, Acts in History, с. 108–220, особ. с. 108–158.
(обратно)
1506
Этот раздел я мог бы значительно расширить примерами, – однако полагаю, что большинство читателей этой книги без труда поймут, о чем речь, и вспомнят эти примеры сами. Матфей взял у Марка намного больше, чем Лука, хотя и сократил его материал.
(обратно)
1507
Одни исследователи делают акцент на верности Луки своим источникам, другие – на том, как он изменяет источники в зависимости от того, чего от него ждут; однако я смотрю на это более широко, в контексте того, как вообще обращались с источниками античные историки. Ученые богословского направления признают, что и иудейские, и христианские источники, как правило, и сохраняли, и в то же время изменяли более ранние предания: см., напр.: W. D. Davies, «Reflexions on Tradition: The Aboth Revisited», в кн.: Christian History and Interpretation: Studies Presented to John Knox (ed. W. R. Farmer, C. F. D. Moule, and R. R. Niebuhr; Cambridge: Cambridge University Press, 1967), с. 129–137, цит. с. 156; E. P. Sanders, The Historical Figure of Jesus (New York: Penguin, 1993), с. 193.
(обратно)
1508
Цит. по: Полибий 12.11.7–8; 12.12.1–3. Даже Лукиан относит наиболее «творческую» историографию к описанию далеких экзотических стран.
(обратно)
1509
О соответствии предисловия Луки историческим трудам см., напр.: Terrance Callan, «The Preface of Luke-Acts and Historiography», NTS 31 (1985): 576–581; W. C. van Unnik, «Once More St. Luke’s Prologue», Neot 7 (1973): 7–26; Johnson, «Luke-Acts», с. 406, 407; Penner, Praise, с. 219–222; Rothschild, Rhetoric of History, с. 93–94; Odile Flichy, L’oeuvre de Luc: L’Évangile et les Actes des Apôtres (CaE 114; Paris: Cerf, 2000). Напротив, Лавдэй Александер не считает, что предисловие само по себе маркирует труд Луки как исторический – хотя, несомненно, отличает его от таких жанров, как, например, эпос: см.: Loveday Alexander, Acts in Its Ancient Literary Context: A Classicist Looks at the Acts of the Apostles (LNTS 298; London: T&T Clark, 2005), с. 21–42.
(обратно)
1510
Plümacher, «Luke as Historian», с. 398.
(обратно)
1511
См., напр.: Рит. Алекс 29, 1436а, 33–39; Полибий 3.1.3–3.5.9 (особ. 3.1.7); 11.1.1–5; Дионисий Галикарнасский, Лис 24; Фук 19; Цицерон, Ор. Брут 40.137; Квинтилиан, Наст. ор 4.1.34; Дион Хрисостом, Ником 38.8; Авл Геллий, Аттические ночи, пред. 25.
(обратно)
1512
Callan, «Preface and Historiography», с. 577. На с. 577–578 Терренс Каллан сравнивает Геродота (История 1.1) и Лукиана (Как следует писать историю 7–14, 39–40).
(обратно)
1513
David P. Moessner, «Dionysius’s Narrative “Arrangement” (οἰκονοµίᾳ) as the Hermeneutical Key to Luke’s Re-Vision of the “Many”», в кн.: Paul, Luke and the Graeco-Roman World: Essays in Honour of Alexander J. M. Wedderburn (ed. Alf Christophersen et al.; JSNTSup 217; Sheffield: Sheffield Academic Press, 2002), с. 149–164, цит. с. 158 (с особенным вниманием к Дионисию; см. также: с. 159–163); Rothschild, Rhetoric of History, с. 67–69; Penner, Praise, с. 219–221.
(обратно)
1514
Alexander, Context, с. 12–13. Важно отметить, что научные трактаты, о которых идет речь, имеют дело с фактической информацией, а не с вымыслом (см.: idem, «Formal Elements and Genre: Which Greco-Roman Prologues Most Closely Parallel the Lukan Prologues?» в кн.: Jesus and Heritage, ed. Moessner, с. 9–26, цит. с. 23–24). Другие встречают те же характеристики в предисловиях к некоторым историческим сочинениям (напр.: David E. Aune, «Luke 1.1–4: Historical or Scientific Prooimion?» в кн.: Paul, Luke and the Graeco-Roman World, ed. Christophersen et al., с. 138–148).
(обратно)
1515
Напр.: Полибий 12.25d.1; далее см.: Keener, John, с. 22–23; Marguerat, Histoire, с. 30.
(обратно)
1516
См., напр.: 3 Цар 14:19, 29; 15:7, 23, 31; Дионисий Галикарнасский, Рим. древн 1.6.1; Арриан, Анаб 6.2.4; Плутарх, Алекс 30.7; 31.2–3; 38.4.
(обратно)
1517
Авторы часто открыто называли свои источники, если те противоречили друг другу, напр.: Дионисий Галикарнасский, Рим. древн 1.87.4; 3.35.1–4; Ливий 9.44.6; 23.19.17; Аппиан, Рим. ист 11.9.56; 12.1.1; Плутарх, Алекс 31.3; Арриан, Анаб 4.9.2–3; Филострат, Жизн. соф 2.4.570.
(обратно)
1518
См. также некоторые традиционные иудейские модели (например, в 3 Ездр книги Паралипоменон, Ездры и Неемии смешиваются с мидрашами; Ор. Сив 2:56–148 заимствуют у псевдо-Фокилида, и т. д.). Откровенный плагиат осуждался, но также был достаточно распространен (см.: Ulrich Schmitzer, «Copyright», BNP 3:778–779, цит. с. 778; Плиний Старший, Ест. ист, предисл. 21–23). Однако аллюзии на труды, которые читатель мог узнать (как на Евангелие от Марка у ранних христиан) плагиатом не считались, скорее, расценивались как показатель литературного мастерства автора (Сенека Старший, Сваз 3.7).
(обратно)
1519
Хотя встречаются и возражения, защиту этой точки зрения см., напр.: C. M. Tuckett, The Revival of the Griesbach Hypothesis: An Analysis and Appraisal (SNTSMS 44; Cambridge: Cambridge University Press, 1983).
(обратно)
1520
Нет нужды упоминать, что большинство источников, доступных древним авторам, не сохранились до наших дней (см., напр.: Иосиф Флавий, И. Д. XX, 8.3).
(обратно)
1521
Квинтилиан, Наст. ор 1.3.1; 2.4.15; Исократ, Демоник 18; псевдо-Плутарх, Восп. дет 13 (Мор 9Е); Helmut Koester, Introduction to the New Testament (2 vols.; Philadelphia: Fortress, 1982), 1:93; о поразительной способности запоминать см., напр.: Сенека Старший, Контроверсии 1, пред. 2, 17–19; Плиний, Письма 2.3.3; менее вероятно – Вал. Макс. 8.7, доб. 16; Плиний Старший, Ест. ист 7.24.88. Схожим образом и римские ораторы заучивали наизусть свои пространные речи (Квинтилиан, Наст. ор 11.2.1–51; ср.: Евнапий, Жизн. соф 502); memoria представляла собой важнейший элемент в подготовке оратора (Satterthwaite, «Acts against Background of Rhetoric», с. 344). Некоторые осуждали за скудоумие тех, кто просто заучивал наизусть гомеровские поэмы, не понимая их как следует (Ксенофонт, Симп 3.5–6).
(обратно)
1522
Теон, Прогимн 1.93–171.
(обратно)
1523
Устное обучение и запоминание обеспечивали как гибкость, так и стабильность традиции: см., напр.: Richard Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony (Grand Rapids: Eerdmans, 2006), с. 333–334, 344–345; ср.: James D. G. Dunn, A New Perspective on Jesus: What the Quest for the Historical Jesus Missed (Grand Rapids: Baker Academic, 2005), с. 112.
(обратно)
1524
См.: Диог. Лаэрт. 10.1.12; Диод. Сицил. 10.5.1; Авл Геллий, Аттич. ночи 7.10.1; псевдо-Сократ, Письма 20. По сообщениям, в некоторых школах тренировка памяти заходила еще дальше (напр., Диод. Сицил. 10.5.1; Ямвлих, Жизн. Пифаг 29.164–165; 35.256).
(обратно)
1525
Иосиф Флавий, Жизнь 8; м. Авот 6:6; Birger Gerhardsson, Memory and Manuscript: Oral Tradition and Written Transmission in Rabbinic Judaism and Early Christianity (ASNU 22; Uppsala: Gleerup, 1961), с. 124–125; Rainer Riesner, «Education élémentaire juive et tradition évangélique», Hok 21 (1982): 51–64; об учениках см.: т. Иевам 3:1; Мех 1:135–136; Сифрей Дв 48:1.1–4; 48:2.3, 6; Martin Goodman, State and Society in Roman Galilee, A.D. 132–212 (Oxford Centre for Postgraduate Hebrew Studies; Totowa, N. J.: Rowman & Allanheld, 1983), с. 79.
(обратно)
1526
Напр.: Лукиан, Гермотим 1 (хотя это сатира); Ямвлих, Жизн. Пифаг 31.188 (исключительный пример); Сифрей Дв 306:19.3. О техниках запоминания в древности см., напр.: Christine Walde, «Mnemonics», DNP 9:96–97; J. P. Small, Wax Tablets of the Mind: Cognitive Studies of Memory and Literacy in Classical Antiquity (London: Routledge, 1997).
(обратно)
1527
Напр.: Сенека, Нрав. пис 108.17, 20, 22; 110.14, 20.
(обратно)
1528
Исключительным случаем, изображенным как крайность, стал ученик, который столь смутился риторическим стилем учителя, что устранил из его учения некоторые пассажи (Филострат, Жизн. соф 2.29.621); однако это – не выдумка чего-то нового. (Более того, как Арриан в отношении к Эпиктету, так и Квинтилиан в отношении к своим ученикам показывают, что зачастую ученики сохраняли даже стиль учителя. См. также: Ксенофонт, Апол. Сокр 1, о стиле Сократа, – хотя Платон, по-видимому, проявляет в этом отношении больше свободы, чем источники, более близкие к эпохе Луки.) От учеников, считавших своего учителя «Господом», едва ли стоит ожидать несогласия с ним.
(обратно)
1529
Davies, Invitation, с. 115–116; Benoit, Jesus, 1:33; подробнее см.: Paul R. Eddy and Gregory A. Boyd, The Jesus Legend: A Case for the Historical Reliability of the Synoptic Jesus Tradition (Grand Rapids: Baker Academic, 2007), с. 235–306, 364–376, 452–453. Зависимость в этом случае не столько от индивидуальной, сколько от групповой памяти (иначе говоря, это скорее передача по сети, а не по цепочке) также повышает достоверность воспоминаний (см., напр.: Dunn, New Perspective, с. 43–46); см.: Филострат, Жизн. соф 1.22.524. О воспоминаниях, связанных с евангельской традицией, см.: Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses, с. 319–357.
(обратно)
1530
См., напр.: Лукиан, Гермотим 2; Stanley K. Stowers, «The Diatribe», в кн.: Greco-Roman Literature and the New Testament: Selected Forms and Genres (ed. D. E. Aune; SBLSBS 21; Atlanta: Scholars Press, 1988), с. 71–83, цит. с. 74; Conrad Gempf, «Public Speaking and Published Accounts», в кн.: Acts, ed. Winter and Clarke, с. 259–303, цит. с. 299. Противоположная практика выглядит необычной (например, Ямвлих, Жизн. Пифаг 32.226).
(обратно)
1531
George A. Kennedy, Classical Rhetoric and Its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980), с. 19; Эпиктет, Диатр 1, предисл.
(обратно)
1532
Квинтилиан, Наст. ор 1, пред. 7–8; ср.: Диод. Сицил. 40.8.1.
(обратно)
1533
Например, Сенека, Нрав. пис 108.6; Арий Дидим, Эпит 2.7.11k (с. 80, строка 35 – с. 82, строка 5, в кн.: Arius Didymus, Epitome of Stoic Ethics [ed. A. J. Pomeroy; SBLTT 44; Atlanta: Society of Biblical Literature, 1999]); Диог. Лаэрт. 6.1.5.
(обратно)
1534
См.: Gerhardsson, Memory and Manuscript, с. 160–162; S. Safrai, «Education and the Study of the Torah», в кн.: The Jewish People in the First Century: Historical Geography, Political History, Social, Cultural and Religious Life and Institutions (2 vols.; ed. S. Safrai et al.; CRINT 1/1–2; Philadelphia: Fortress, 1974–1976), 2:945–970, цит. с. 966.
(обратно)
1535
Несомненно, были причины, по которым язычники смотрели на иудеев как на «народ философов» (Menahem Stern, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism [3 vols.; Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities, 1974–1984], 1:8–11, 46–50); и галилеяне, несмотря на некоторые обвинения против них, очевидно, были верны закону не менее жителей Иудеи (см.: Richard A. Horsley, Galilee: History, Politics, People [Valley Forge, Pa.: Trinity Press International, 1995], с. 152–155).
(обратно)
1536
Ср. аргументы в пользу Евангелий как собраний воспоминаний очевидцев в кн.: Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses. Даже если некоторые детальные аспекты тезиса Бокэма доказать невозможно, в целом его тезисы разоблачают неверность (или, по крайней мере, очень малую вероятность правдоподобия) радикальных предпосылок критики форм.
(обратно)
1537
Об этом значении слова παρακολουθέω см.: Loveday Alexander, The Preface to Luke’s Gospel: Literary Convention and Social Context in Luke 1.1–4 and Acts 1.1 (SNTSMS 78; Cambridge: Cambridge University Press, 1993), с. 128–130.
(обратно)
1538
См.: David P. Moessner, «The Appeal and Power of Poetics (Luke 1:1–4): Luke’s Superior Credentials (παρηκολουθηκότι), Narrative Sequence (καθεξῆς), and Firmness of Understanding (ἡ ἀσφάλεια) for the Reader», в кн.: Jesus and Heritage, ed. Moessner, с. 84–123, цит. с. 85–97; idem, «The Lukan Prologues in the Light of Ancient Narrative Hermeneutics: Παρηκολουθηκότι and the Credentialed Author», в кн.: Unity of Luke-Acts, ed. Verheyden, с. 399–417, цит. с. 413.
(обратно)
1539
См., напр.: Фукидид 1.22.2; 5.26; Полибий 12.3.1–2; 14.4c.2–5; 12.4d.1–2; 12.9.2; 12.25e.1, 7; Диод. Сицил. 1.4.1; Аппиан, Рим. ист, пред. 12; далее об этом: Fornara, Nature of History, с. 47; Aune, Literary Environment, с. 81–82; Meister, «Historiography: Greece», с. 421; ср.: Геродот, История 1.1.
(обратно)
1540
О ценности личного участия историка в описываемых событиях см., напр.: Samuel Byrskog, Story as History – History as Story: The Gospel Tradition in the Context of Ancient Oral History (WUNT 123; Tübingen: Mohr Siebeck, 2000; repr., Leiden: Brill, 2002), с. 58–64, 153–157.
(обратно)
1541
См., напр.: Dibelius, Studies in Acts, с. 136; Joseph A. Fitzmyer, Luke the Theologian: Aspects of His Teaching (Mahwah, N. J.: Paulist Press, 1989), с. 11–16; William S. Kurz, Reading Luke-Acts: Dynamics of Biblical Narrative (Louisville: Westminster John Knox, 1993), с. 112–113.
(обратно)
1542
См., напр.: Martin Hengel and Anna Maria Schwemer, Paul Between Damascus and Antioch: The Unknown Years (trans. John Bowden; Louisville: Westminster John Knox, 1997), с. 7; William Neil, The Acts of the Apostles (NCB; London: Marshall, Morgan & Scott, 1973), с. 22–23.
(обратно)
1543
Богословские взгляды Луки и Павла действительно различаются, но эти различия часто оказываются преувеличены, особенно см.: Philipp Vielhauer, «On the “Paulinism” of Acts», в кн.: Studies in Luke-Acts: Essays in Honor of Paul Schubert (ed. L. E. Keck and J. L. Martyn; Nashville: Abingdon, 1966), с. 33–50; см. критику: Peder Borgen, «From Paul to Luke: Observations toward Clarification of the Theology of Luke-Acts», CBQ 31 (1969): 168–182; Karl P. Donfried, Paul, Thessalonica, and Early Christianity (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), с. 90–96; Stanley Porter, Paul in Acts (Peabody, Mass.: Hendrickson, 2001; orig. WUNT 115; Tübingen: Mohr Siebeck, 1999), с. 189–206.
(обратно)
1544
Многие указывают также, что стиль этого материала неотличим от основного текста Луки (напр.: Dibelius, Studies in Acts, с. 104, 136).
(обратно)
1545
Vernon K. Robbins, «The We-Passages in Acts and Ancient Sea Voyages», BR 20 (1975): 5–18; idem, «By Land and by Sea: The We-Passages and Ancient Sea Voyages», в кн.: Perspectives on Luke-Acts (ed. C. H. Talbert; Edinburgh: T&T Clark, 1978), с. 215–242.
(обратно)
1546
См.: Fitzmyer, Theologian, с. 16–22; Colin J. Hemer, «First Person Narrative in Acts 27–28», TynBul 36 (1985): 79–109; особ.: Susan Marie Praeder, «The Problem of First Person Narration in Acts», NovT 29.3 (1987): 193–218, особенно с. 210–214, где автор опровергает сравнения Роббинса.
(обратно)
1547
Псевдэпиграфы, как правило, приписываются авторам, жившим за несколько веков до их создания (напр.: Плутарх, Пир семи мудрецов 1 [Мор 146ВС]; 4Q537; 1 Ен; 3 Ездр, 2 Вар; и так далее).
(обратно)
1548
О предисловиях (в том числе с использованием первого лица), предваряющих «мы»-повествования, см.: Henry J. Cadbury, «“We” and “I” Passages in Luke-Acts», NTS 3 (1956–1957): 128–132; Jacques Dupont, The Sources of the Acts: The Present Position (trans. K. Pond; New York: Herder & Herder, 1964), с. 167.
(обратно)
1549
Напр.: Петроний, Сатирикон, Лукиан, Лукий, или Осел; Фаларид, Апулей, Метаморфозы; Stefan Merkle, «Telling the True Story of the Trojan War: The Eyewitness Account of Dictys of Crete», в кн.: The Search for the Ancient Novel (ed. J. Tatum; Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994), с. 183–196, цит. с. 183–184.
(обратно)
1550
Massimo Fusillo, «Novel: Greek», DNP 9:837–842, цит. с. 840.
(обратно)
1551
То же верно и для биографий (напр.: Филострат, Жизн. соф 2.21.602–604); см. подробнее об историческом повествовании в третьем и в первом лице: Keener, John, с. 918.
(обратно)
1552
Arthur Darby Nock, Essays on Religion and the Ancient World (ed. Z. Stewart; 2 vols.; Cambridge: Harvard University Press, 1972), 2:828; см. также: Porter, Paul in Acts, с. 24–27.
(обратно)
1553
Напр.: Cadbury, «We in Luke-Acts»; Dibelius, Studies in Acts, с. 135–137; Dupont, Sources, с. 164–165; J. W. Packer, Acts of the Apostles (CBC; Cambridge: Cambridge University Press, 1966), с. 3; Johannes Munck, The Acts of the Apostles (rev. W. F. Albright and C. S. Mann; AB 31; Garden City, N. Y.: Doubleday, 1967), с. xliii; R. P. C. Hanson, The Acts in the Revised Standard Version, with Introduction and Commentary (Oxford: Clarendon, 1967), с. 21–24; Neil, Acts, с. 22–23; James D. G. Dunn, The Acts of the Apostles (Narrative Commentaries; Valley Forge, Pa.: Trinity Press International, 1996), с. x; F. Scott Spencer, Acts (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997), с. 12–13; Joseph A. Fitzmyer, The Acts of the Apostles: A New Translation with Introduction and Commentary (AB 31; New York: Doubleday, 1998), с. 103.
(обратно)
1554
См.: Robert Maddox, The Purpose of Luke-Acts (FRLANT 126; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982), с. 21, 186; последнее, наиболее «нагруженное» слово в предисловии Луки – ἀσφάλεια.
(обратно)
1555
Возражения на это см. особенно в кн.: Richard Bauckham, ed., The Gospels for All Christians: Rethinking the Gospel Audiences (Grand Rapids: Eerdmans, 1998). Многие церкви в I веке знали о существовании довольно далеких церквей (Рим 1:8, 1 Кор 11:16; 14:33, 1 Фес 1:7–9) и даже обменивались с ними письмами (Кол 4:16); миссионеры рассказывали об одних церквях другим (Рим 15:26, 2 Кор 8:1–5; 9:2–4; Флп 4:16, 1 Фес 2:14–16).
(обратно)
1556
О двойственном изображении фарисеев у Луки см.: David B. Gowler, Host, Guest, Enemy and Friend: Portraits of the Pharisees in Luke and Acts (ESEC 2; New York: Peter Lang, 1991). Отмечая это, мы не сомневаемся в том, что Матфей – более иудейский автор, и не возражаем против чисто израильского подхода Матфея к истории, о котором пишет в данном томе Ульрих Луц; см.: Luz, Matthew 1–7: A Commentary (trans. W. C. Linss; CC; Minneapolis: Augsburg, 1989), с. 44–45.
(обратно)
1557
Дэвис отмечает, что эти материалы слишком «молоды», чтобы судить их по критериям традиций, передававшихся из уст в уста на протяжении многих поколений (Davies, Invitation, с. 115–116; см. ту же аргументацию в кн.: E. P. Sanders, The Tendencies of the Synoptic Tradition [SNTSMS 9; Cambridge: Cambridge University Press, 1969], с. 28; Keener, Matthew, с. 16–36, особ. с. 24–32; idem, John, с. 29–34, 40–47). Аргументы против некоторых традиционных критериев критики форм см., напр.: Sanders, Tendencies; Stanley E. Porter, The Criteria for Authenticity in Historical-Jesus Research: Previous Discussions and New Proposals (JSNTSup 91; Sheffield: Sheffield Academic Press, 2000). О текущем состоянии исследований исторического Иисуса наиболее подробно см. в кн.: Handbook for the Study of the Historical Jesus (4 vols.; Stanley E. Porter and Tom Holmén, eds.; Leiden: Brill, 2011).
(обратно)
1558
О школах, как иудейских, так и языческих, см. выше; также сравните сообщения об условиях обучения, напр.: Сенека Старший, Контроверсии; Филострат, Жизн. соф; Диоген Лаэртский, Жизнеописания философов, и позднее у Евнапия.
(обратно)
1559
Снова замечу, что романы предоставляют материал для литературных сравнений, однако это не означает, что жанр их идентичен жанру Евангелий I в., поскольку к тем же повествовательным техникам обращались историки, биографы и другие писатели.
(обратно)
1560
Здесь мне прежде всего вспоминается книга: Burton L. Mack, The Lost Gospel: The Book of Q and Christian Origins (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1993).
(обратно)
1561
Подробнее об этом см.: W. D. Davies and Dale C. Allison, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew (ICC; 3 vols.; Edinburgh: T&T Clark, 1988–1997), 3:700; Richard Bauckham, «For Whom Were the Gospels Written?», в кн.: Gospels for All Christians, ed. Bauckham, с. 9–48, цит. с. 33–44; Michael B. Thompson, «The Holy Internet: Communication between Churches in the First Christian Generation», в кн.: Gospels for All Christians, ed. Bauckham, с. 49–70.
(обратно)
1562
Еврипид, Электра 361–362; Демосфен, Письма 5.1; Цицерон, Аттик 2.11; Сенека, Нрав. пис 47.1; P.Oxy. 32; Апулей, Метам 1.26.
(обратно)
1563
Узнав, что кто-то будет проезжать мимо мест, где живут друзья, можно было отправить с путешественником письмо к ним (см., напр.: Цицерон, Аттик 1.10, 13; 4.1; 8.14). Такие письма доходили достаточно быстро: письмо от Цезаря из Британии достигло Цицерона меньше чем через месяц (Цицерон, Квинт 3.1.8.25). Даже в наши дни во многих частях Африки (откуда родом моя жена), несмотря на существование современной почтовой службы, многие предпочитают передавать письма со знакомыми.
(обратно)
1564
Церкви получали даже общие послания (Кол 4:16). Городские христиане путешествовали (1 Кор 16:10, 12, 17; Флп 2:30; 4:18), возили с собой письма (Рим 16:1–2; Флп 2:25), переезжали в другие места (Рим 16:3, 5; возможно, 16:6–15) или посылали приветствия другим церквям (Рим 16:21–23; 1 Кор 16:19; Флп 4:22; Кол 4:10–15).
(обратно)
1565
Ханс Виндиш (H. Windisch, Johannes und die Synoptiker: Wollte der vierte Evangelist die älteren Evangelien ergänzen oder ersetzen? [UNT 12; Leipzig: Hinrichs, 1926] на оборотной стороне заглавной страницы цитирует Ин 10:8 вместе с 2 Кор 5:16, то и другое в греческом оригинале (быть может, не желая обидеть невинного читателя-мирянина).
(обратно)
1566
P. Gardner-Smith, Saint John and the Synoptic Gospels (Cambridge: Cambridge University Press, 1938).
(обратно)
1567
Такова основная мысль аргументации Франса Нейринка, впервые изложенной в его статье: Frans Neirynck, «John and the Synoptics», в кн.: L’Évangile de Jean: Sources, rédaction, théologie (ed. M. de Jonge; BETL 44; Leuven: Leuven University Press, 1977), с. 73–106. Эта статья, впервые представленная в качестве доклада на Лувенской конференции, была призвана возобновить спор об Иоанне и синоптиках с учетом общего согласия в вопросе независимости Евангелия от Иоанна – и своей цели достигла.
(обратно)
1568
Bultmann, The Gospel of John: A Commentary (trans. G. R. Beasley-Murray, R. W. N. Hoare, and J. K. Riches; Philadelphia: Westminster, 1971), с. 83–97, особенно с. 84–85; ET: Das Evangelium des Johannes (KEK 10; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1941).
(обратно)
1569
См.: D. Moody Smith Jr., The Composition and Order of the Fourth Gospel: Bultmann’s Literary Theory (YPR 10; New Haven: Yale University Press, 1965), с. 119–125, особ. с. 124.
(обратно)
1570
Bultmann, Gospel of John, с. 108; ср.: Smith, Composition and Order, с. 1.
(обратно)
1571
См.: D. Moody Smith, John among the Gospels (2nd ed.; Columbia: University of South Carolina Press, 2001), с. 205–207.
(обратно)
1572
M. Casey, Is John’s Gospel True? (London: Routledge, 1996); ср.: Smith, John among the Gospels, с. 234–235.
(обратно)
1573
См.: Smith, John among the Gospels, с. 216–219.
(обратно)
1574
Там же, с. 204.
(обратно)
1575
См. все еще фундаментальный труд: R. A. Burridge, What Are the Gospels? A Comparison with Graeco-Roman Biography (SNTSMS 70; Cambridge: Cambridge University Press, 1992), с огромным обзором древней литературы и современных научных данных.
(обратно)
1576
То, что Евангелия складываются из отдельных рассказов или повествовательных единиц (о Страстях и т. д.), не противоречит ощущению античных читателей, что перед ними βιοῖ. Хотели ли евангелисты написать βιοῖ? Вопрос этот, без сомнения, слишком обширен, чтобы обсуждать его здесь. Лука явно стремился отвечать ожиданиям современных ему образованных читателей, персонификацией которых выступает Феофил, изображенный верующим.
(обратно)
1577
Простая мысль, однако отлично изложенная и подкрепленная в кн.: P. Fredriksen, Jesus of Nazareth, King of the Jews: A Jewish Life and the Emergence of Christianity (New York: Knopf, 2000), с. 34.
(обратно)
1578
См. особ.: Reynolds Price, Three Gospels (New York: Scribner, 1996), с. 17: «Однако легко заметить, что Марк, кем бы он ни был (у нас нет других книг, определенно принадлежащих его перу) – самый оригинальный рассказчик в истории, без труда и без усилий применяющий все навыки и таланты искусного строителя сюжета». В своей примечательной статье о Марке (с. 37–84) Прайс замечает также (с. 38), что «Евангелие от Марка оказалось влиятельнее всех иных книг, написанных людьми. Ни одной другой книге за тысячи лет – ни эпосу, ни поэзии, ни лирике, ни биографии – не удалось так мощно войти в человеческую жизнь».
(обратно)
1579
E. Käsemann, The Testament of Jesus: A Study of the Gospel of John in the Light of Chapter 17 (trans. G. Krodel; Philadelphia: Fortress, 1968), с. 9 прим. 6, где он приписывает этот образ Фердинанду Бауру.
(обратно)
1580
Классический труд, написанный два поколения назад: C. H. Dodd, The Apostolic Preaching and Its Developments (New York: Harper, 1936), больше не обсуждается и, видимо, не особо читается; однако в нем описана линия развития от первоначальной проповеди к появлению Евангелий, если не доказуемая, то вполне вероятная.
(обратно)
1581
См.: R. B. Hays, The Faith of Jesus Christ: The Narrative Substructure of Galatians 3:1 – 4:11 (2nd ed.; BRS; Grand Rapids: Eerdmans, 2002), с. 33–34, 209 («рассказ о Христе»), 218–220, 274. Хейз полагает, что Павел знаменует собой раннюю стадию процесса, со временем приведшего к появлению евангельских повествований (с. 218–220), и в этой связи цитирует Додда (с. 218).
(обратно)
1582
A. Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus: First Complete Edition (trans. W. Montgomery, J. R. Coates, S. Cupitt, and J. Bowden; Minneapolis: Fortress, 2001), с. 80–83; см. также: с. 59–64. (Немецкое издание, с которого сделан перевод, выпущено в 1913 году.)
(обратно)
1583
E. P. Sanders, Jesus and Judaism (Philadelphia: Fortress, 1985); idem, The Historical Figure of Jesus (London: Penguin, 1993).
(обратно)
1584
J. D. Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (New York: HarperSanFrancisco, 1991); N. T. Wright, Jesus and the Victory of God (COQG 2; Minneapolis: Fortress, 1996). См. также: G. Theissen and A. Merz, The Historical Jesus: A Comprehensive Guide (trans. J. Bowden; Minneapolis: Fortress, 1998); J. D. G. Dunn, Jesus Remembered (CM 1; Grand Rapids: Eerdmans, 2003).
(обратно)
1585
Fredriksen, Jesus of Nazareth; J. P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus (4 vols.; ABRL; New York: Doubleday, 1991–2009); R. E. Brown, The Death of the Messiah: From Gethsemane to the Grave (2 vols.; ABRL; New York: Doubleday, 1994).
(обратно)
1586
Schweitzer, Quest of the Historical Jesus, с. 487.
(обратно)
1587
J. L. Martyn, History and Theology in the Fourth Gospel (3rd ed.; NTL; Louisville: Westminster John Knox, 2003). Реконструкция Мартина многими оспаривается, однако его тезис об иудейском происхождении Евангелия от Иоанна сейчас широко принят.
(обратно)
1588
В важном исследовании эпизода с Синедрионом в изложении Луки (22:66–71), D. R. Catchpole, The Trial of Jesus: A Study in the Gospels and Jewish Historiography from 1770 to the Present Day (StPB 18; Leiden: Brill, 1971), с. 183–220, сделан вывод об общем предании или источнике; так же и в кн.: H. Klein, «Die lukanisch-johanneische Passionstradition», ZNW 67 (1976): 155–186. Однако убедительные свидетельства в пользу влияния Иоанна на Луку приводятся в кн.: M. A. Matson, In Dialogue with Another Gospel: The Influence of the Fourth Gospel on the Passion Narrative of the Gospel of Luke (SBLDS 178; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2001). Отправным пунктом для исследования Мэтсона стало замечание в издании: F. L. Cribbs, «St. Luke and the Johannine Tradition», JBL 90 (1971): 422–450, согласно которому отступления Луки от Марка совпадают с теми местами, где Иоанн также отступает от Марка или явно ему противоречит. Быть может, Лука пользовался Иоанновой традицией – или даже Евангелием от Иоанна в известной нам форме?
(обратно)
1589
H. Koester, Ancient Christian Gospels: Their History and Development (Philadelphia: Trinity Press International, 1990), с. 24–31.
(обратно)
1590
J. D. Crossan, Four Other Gospels: Shadows on the Contours of Canon (1985; repr. Sonoma, Calif.: Polebridge, 1992).
(обратно)
1591
R. W. Funk, R. W. Hoover, and the Jesus Seminar, The Five Gospels: The Search for the Authentic Words of Jesus (Sonoma, Calif.: Polebridge, 1993).
(обратно)
1592
Современные исследования Евангелия Фомы: M. W. Meyer, The Gospel of Thomas: The Hidden Sayings of Jesus (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1992); S. J. Patterson, The Gospel of Thomas and Jesus (Sonoma, Calif.: Polebridge, 1993); R. Valantasis, The Gospel of Thomas (NTR; London: Routledge, 1997); S. J. Patterson, J. M. Robinson, and H.-G. Bethge, The Fifth Gospel: The Gospel of Thomas Comes of Age (Harrisburg: Trinity Press International, 1998); E. Pagels, Beyond Belief: The Secret Gospel of Thomas (New York: Random House, 2003); R. Uro, Thomas: Seeking the Historical Context of the Gospel of Thomas (London: T&T Clark, 2003); H.-J. Klauck, Apocryphal Gospels: An Introduction (London: T&T Clark, 2003), с. 107–122.
(обратно)
1593
Критические издания со сравнением коптского и греческого текстов Евангелия Фомы см.: J.-E. Ménard, L’Évangile selon Thomas (NHS 5; Leiden: Brill, 1975); B. Layton, ed., Nag Hammadi Codices II, 2–7, Together with XIII, 2*, Brit. Lib. Or. 4926 (1) and P.Oxy. 1, 654, 655 (2 vols.; NHS 20–21; Leiden: Brill, 1989). Издание с параллельным коптским и английским текстом: A. Guillaumont et al., The Gospel According to Thomas: Coptic Text, Established and Translated (2nd ed.; Leiden: Brill, 1976). Греческие тексты с восстановленным текстом в скобках: A. S. Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, Edited with Translations and Notes (London: Egypt Exploration Fund, 1891), с. 1–3 (= P.Oxy. 1); idem, New Sayings of Jesus and a Fragment of a Lost Gospel from Oxyrhynchus (London: Frowde, 1904) (= P.Oxy. 654); idem, The Oxyrhynchus Papyri: Part IV (London: Egypt Exploration Fund, 1904), с. 1–22 (= P.Oxy. 654), 22–28 (= P.Oxy. 655).
(обратно)
1594
Подборку исследований ученых, полагающих, что в «Евангелии Фомы» сохранена древняя, досиноптическая традиция, см.: G. Quispel, «The Gospel of Thomas and the New Testament», VC 11 (1957): 189–207; H. Koester, «Q and Its Relatives», в кн.: Gospel Origins and Christian Beginnings (ed. J. E. Goehring et al.; FS J. M. Robinson; Sonoma, Calif.: Polebridge, 1990), с. 49–63, цит. с. 61–63; R. D. Cameron, «The Gospel of Thomas: A Forschungsbericht and Analysis», ANRW II.25.6 (1988): 4195–4251; Patterson, Gospel of Thomas and Jesus, с. 241; U.-K. Plisch, The Gospel of Thomas: Original Text with Commentary (trans. G. S. Robinson; Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2008), с. 15–34; S. L. Davies, «Thomas: The Fourth Synoptic Gospel», BA 46 (1983): 6–9, 12–14, где сделано удивительное заявление о том, что Евангелие Фомы – «возможно, лучший наш источник по учению Иисуса» (с. 9). См. также: S. L. Davies, The Gospel of Thomas and Christian Wisdom (New York: Seabury, 1983). Дэвис чересчур быстро отметает возможную гностическую ориентацию многих речений: несомненно, неточно говорить, что ученые считают Евангелие Фомы гностическим «главным образом потому, что оно найдено в библиотеке Наг-Хаммади» (с. 3, курсив мой). Большинство ученых считает, что Евангелие Фомы в своей окончательной форме гностично, хотя о том, до какой степени, продолжаются споры. См.: Patterson, Gospel of Thomas and Jesus, с. 227: «Гностицизм предлагает наиболее вероятный богословский контекст, в котором находит свое объяснение эзотерический уклон, столь явственно звучащий у Фомы». Упомяну и недавние исследования: April D. DeConick, Recovering the Original Gospel of Thomas: A History of the Gospel and Its Growth (LNTS 286; London: T&T Clark, 2005); idem, The Original Gospel of Thomas in Translation: With a Commentary and New English Translation of the Complete Gospel (LNTS 287; London: T&T Clark, 2006). Эйприл Деконик считает, что ей удалось обнаружить и выделить древнюю палестинскую традицию речений Господних, восходящую к 30–50 гг. н. э., затем дополненную позднейшими вставками и переделками, датирующимися 50–60, 60–100 и 100–120 гг. н. э. К манипуляциям со свидетельствами с целью найти «древнюю» форму этого документа я отношусь с сомнением. Критическую оценку трудов Эйприл Деконик см. в кн.: N. Perrin, Thomas, the Other Gospel (London: SPCK, 2007), с. 52–69.
(обратно)
1595
Синопсис параллелей между Ев. Фом и НЗ: C. A. Evans, R. L. Webb, and R. A. Wiebe, Nag Hammadi Texts and the Bible: A Synopsis and Index (NTTS 18; Leiden: Brill, 1993), с. 88–144. Среди ученых, считающих, что Ев. Фом зависит от НЗ – W. Schrage, Das Verhältnis des Thomas-Evangeliums zur synoptischen Tradition und zu den koptischen Evangelienübersetzungen (BZNW 29; Berlin: Töpelmann, 1964); C. L. Blomberg, «Tradition and Redaction in the Parables of the Gospel of Thomas», в кн.: The Jesus Tradition Outside the Gospels (ed. D. Wenham; Gospel Perspectives 5; Sheffield: JSOT Press, 1984), с. 177–205; R. E. Brown, «The Gospel of Thomas and St John’s Gospel», NTS 9 (1962–1963): 155–177; B. Dehandschutter, «L’évangile de Thomas comme collection de paroles de Jésus», в кн.: Logia: Les paroles de Jésus – The Sayings of Jesus (ed. J. Delobel; BETL 59; Leuven: Peeters, 1982), с. 507–515; idem, «Recent Research on the Gospel of Thomas», в кн.: The Four Gospels 1992 (ed. F. Van Segbroeck et al.; FS F. Neirynck; BETL 100; Leuven: Peeters, 1992), с. 2257–2262; M. Fieger, Das Thomasevangelium: Einleitung, Kommentar und Systematik (NTAbh 22; Münster: Aschendorff, 1991).
(обратно)
1596
В данном случае перевод дан согласно английскому тексту. В Синодальном переводе оба пассажа идентичны. – Прим. пер.
(обратно)
1597
О влиянии Луки на Евангелие Фомы см.: Meier, Marginal Jew, 1:136; C. M. Tuckett, «Thomas and the Synoptics», NovT 30 (1988): 132–157, особ. с. 146.
(обратно)
1598
Ев. Фом 10 создано под влиянием Лк 12:49; Ев. Фом 14 – под влиянием Лк 10:8–9; Ев. Фом 16 – под влиянием Лк 12:51–53, а также Мф 10:34–39; Ев. Фом 55 и 101 – под влиянием Лк 14:26–27, а также Мф 10:37; Ев. Фом 73–75 – под влиянием Лк 10:2.
(обратно)
1599
См.: R. M. Grant, The Secret Sayings of Jesus (Garden City, N. Y.: Doubleday, 1960), с. 113; B. Gärtner, The Theology of the Gospel according to Thomas (New York: Harper, 1961), с. 26–27, 34, 42–43; E. Haenchen, Die Botschaft des Thomas-Evangeliums (Berlin: Töpelmann, 1961), с. 67–68; R. Kasser, L’Évangile selon Thomas: Présentation et commentaire théologique (Neuchâtel: Delachaux et Niestlé, 1961); Ménard, Évangile selon Thomas; A. Lindemann, «Zur Gleichnisinterpretation im Thomas-Evangelium», ZNW 71 (1980): 214–243; Schrage, Verhältnis des Thomas-Evangeliums, с. 1–11. Схожие заключения сделаны в работах: H. K. McArthur, «The Dependence of the Gospel of Thomas on the Synoptics», ExpTim 71 (1959–1960): 286–287; W. R. Schoedel, «Parables in the Gospel of Thomas», CTM 43 (1972): 548–560; K. R. Snodgrass, «The Gospel of Thomas: A Secondary Gospel», SecCent 7 (1989–1990): 19–38; Tuckett, «Thomas and the Synoptics», с. 157; Meier, Marginal Jew, 1:130–139. Чарльз Карлстон (C. E. Carlston, The Parables of the Triple Tradition [Philadelphia: Fortress, 1975], с. xiii) полагает, что «неоднократное прочтение Евангелия Фомы и многие часы, проведенные с разного рода дополнительной литературой… все же не убедили меня в том, что хоть что-либо из притчевого материала Фомы независимо от синоптических Евангелий». Два недавних исследования подтвердили, что Евангелие Фомы зависит от синоптических Евангелий и не могло быть написано ранее середины II в. См.: S. J. Gathercole, The Composition of the Gospel of Thomas: Original Language and Influences (SNTSMS 151; Cambridge: Cambridge University Press, 2012); M. Goodacre, Thomas and the Gospels: The Case for Thomas’s Familiarity with the Synoptics (Grand Rapids: Eerdmans, 2012).
(обратно)
1600
É. Massaux, The Influence of the Gospel of Saint Matthew on Christian Literature before Saint Irenaeus (ed. A. J. Bellinzoni; 3 vols.; NGS 5.1–3; Macon, Ga.: Mercer University Press, 1990–1993). Нечто близкое к Ев. Фом 22 появляется в 2 Клим 12:2. Второе послание Климента написано, возможно, в середине II в. Климент Александрийский (Стром 3.13.92) пишет, что это речение из Евангелия египтян.
(обратно)
1601
Об апостоле Фоме в сирийской христианской традиции см.: H.-C. Puech, «Une collection de paroles de Jésus récemment retrouvée: L’Évangile selon Thomas», Comptes Rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Paris: Institut de France, 1957), с. 146–167; Beate Blatz, «The Coptic Gospel of Thomas», в кн.: The New Testament Apocrypha, vol. 1: Gospels and Related Writings (ed. W. Schneemelcher; trans. ed. R. McL. Wilson; rev. ed.; 2 vols.; Philadelphia: Westminster, 1991–1992), с. 110–133; Crossan, Four Other Gospels, с. 9–11; Patterson, Gospel of Thomas and Jesus, с. 118–120; idem, «Understanding the Gospel of Thomas Today», в кн.: Fifth Gospel, ed. Patterson, Robinson, and Bethge, с. 37–40.
(обратно)
1602
О предположении, согласно которому Евангелие Фомы датируется I в., см.: Davies, Gospel of Thomas, с. 146–147; J. D. Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991), с. 427–430; Patterson, Gospel of Thomas and Jesus, с. 118–120; idem, «Understanding the Gospel of Thomas Today», в кн.: Fifth Gospel, ed. Patterson, Robinson, and Bethge, с. 40–45. Редакторы греческих фрагментов Евангелия Фомы (т. е. P.Oxy. 1, 654 и 655) предположили, что оригинальный греческий текст, возможно, датируется 140 г. н. э. – Кроссан, Паттерсон и другие считают эту дату слишком поздней и основанной на бездоказательных и непроверенных предположениях.
(обратно)
1603
О том, что в Евангелии Фомы нет композиционной структуры, см.: Crossan, Four Other Gospels, с. 11–18.
(обратно)
1604
В Диатессароне (что по-гречески означает «по четырем» [Евангелиям]) сплавлены воедино четыре новозаветные Евангелия и добавлен некоторый материал из пятого евангельского источника. См.: S. Hemphill, The Diatessaron of Tatian: A Harmony of the Four Holy Gospels Compiled in the Third Quarter of the Second Century (London: Hodder & Stoughton, 1888); W. L. Petersen, Tatian’s Diatessaron: Its Creation, Dissemination, Significance and History in Scholarship (VCSup 25; Leiden: Brill, 1994); idem, «Tatian’s Diatessaron», в кн.: H. Koester, Ancient Christian Gospels: Their History and Development (Philadelphia: Trinity Press International, 1990), с. 403–430. Последняя статья предлагает очень полезный обзор. Жиль Киспель в своем подробном исследовании отмечает, что, в сравнении с греческими новозаветными Евангелиями, у Евангелия Фомы и Диатессарона Татиана много общих текстуальных вариантов. В сущности, такие варианты представляет собой почти половина речений Евангелия Фомы. См.: G. Quispel, Tatian and the Gospel of Thomas: Studies in the History of the Western Diatessaron (Leiden: Brill, 1975). Татиан (ок. 120–185), ученик Иустина Мученика (ок. 100–165), составил Диатессарон, по-видимому, в Сирии и на сирийском, между 172 и 185 гг. Диатессарон основан прежде всего на Евангелии от Матфея и, возможно, вдохновлен более ранним согласованием синоптических Евангелий, автором которого стал Иустин Мученик.
(обратно)
1605
О сирийском как оригинальном языке Евангелия Фомы см.: N. Perrin, Thomas and Tatian: The Relationship between the Gospel of Thomas and the Diatessaron (SBLAcBib 5; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2002), с. 49–155; idem, «NHC II, 2 and the Oxyrhynchus Fragments (P.Oxy 1, 654, 655): Overlooked Evidence for a Syriac Gospel of Thomas», VC 58 (2004): 138–151.
(обратно)
1606
Об этой проблеме см.: P. J. Williams, «Alleged Syriac Catchwords in the Gospel of Thomas», VC 63 (2009): 71–82.
(обратно)
1607
В данном случае перевод дан согласно английскому тексту. В синодальном переводе: «…блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». – Прим. пер.
(обратно)
1608
Анализ этой заповеди блаженства в Ев. Фом 54, см.: Crossan, Four Other Gospels, с. 18–19, цит. с. 19. См. также анализ: Patterson, Gospel of Thomas and Jesus, с. 42–44. Критика источников и экзегетические аргументы Кроссана и Паттерсона теряют всякую силу, стоит нам сопоставить их с сирийскими свидетельствами.
(обратно)
1609
Уве-Карстен Плиш (Plisch, Gospel of Thomas, с. 155) говорит, что у Фомы «логия выглядит проще и архаичнее» в сравнении с параллелью у Луки. В самом деле, она короче, может быть, проще (хотя об этом можно поспорить) – но едва ли архаичнее. Версия Луки, где описывается обильный урожай и необходимость в больших зернохранилищах, несомненно, более верно отражает реалии аграрного общества Галилеи, чем версия Фомы, в которой бизнесмен планирует инвестировать средства в коммерческое земледелие.
(обратно)
1610
Χρῆµα в единственном числе обычно означает «собственность». Однако коптский синтаксис указывает на множественное число, что, возможно, говорит о том, что имеются в виду «деньги» (χρήµατα) (ср.: LSJ; Мк 10:23). Поддерживает это чтение и контекст, в котором богач намерен вложить деньги в сельское хозяйство. Точка зрения Фомы в логии 63 предвосхищает коммерческое истолкование притчи о злых виноградарях в логии 65.
(обратно)
1611
Помимо пропуска большей части деталей из Ис 5:1–7, в Евангелии Фомы, как и у Луки, стоит вставное «может быть» (ἴσως в Лк 20:13), которого нет ни у Марка (Мк 12:6), ни у Матфея (Мф 21:37). Плиш (Plisch, Gospel of Thomas, с. 161) полагает, что этот редакторский элемент Луки проник в текст Фомы благодаря процессу передачи. Однако, учитывая сходство с Лукой и в других элементах, лучшим объяснением будет то, что перед нами дополнительное свидетельство вторичности Евангелия Фомы.
(обратно)
1612
Сторонники древности и независимости Евангелия Фомы, не имея возможности сопоставить эту притчу с ее аналогами из синоптических Евангелий, теряются в догадках, пытаясь понять ее смысл. Плиш (Plisch, Gospel of Thomas, с. 161) видит ее смысл в том, что нанятые виноградари имеют право на все, чтобы защититься от «неразумных требований хозяина» и «сберечь свое благосостояние». Ничто в контексте такую интерпретацию не поддерживает. Контекст Евангелия Фомы, особенно в свете логий 63 и 64, наводит на мысль, что притча о злых виноградарях изображает еще одну тщетную попытку найти себе прибежище в земном богатстве. Это вполне соответствует аскетизму сирийского христианства.
(обратно)
1613
Эту мысль можно проиллюстрировать, обратив внимание на недавно опубликованный сборник исследований: Jesus and Archaeology, ed. J. H. Charlesworth; Grand Rapids: Eerdmans, 2006. В этой толстой книге о Евангелии Фомы говорит лишь один автор (B. Chilton, «Recovering Jesus’ Mamzerut», с. 84–110), и лишь в связи с «литературным образом Иисуса». Отсутствие интереса к Евангелию Фомы – в отличие от новозаветных Евангелий, к которым авторы обращаются сотни раз – в книге, посвященной Иисусу и археологии Палестины I в., говорит о многом.
(обратно)
1614
О том, что жанр сборника речений свидетельствует о ранней датировке Евангелия Фомы, см.: J. M. Robinson, «LOGOI SOPHON: On the Gattung of Q», в кн.: Robinson and H. Koester, Trajectories through Early Christianity (Philadelphia: Fortress, 1971), с. 71–113; idem, «On Bridging the Gulf from Q to the Gospel of Thomas (or vice versa)», в кн.: Nag Hammadi, Gnosticism, and Early Christianity (ed. C. W. Hedrick and R. Hodgson Jr.; Peabody, Mass.: Hendrickson, 1986), с. 127–155; Davies, Gospel of Thomas, с. 145; Patterson, Gospel of Thomas and Jesus, с. 113–118.
(обратно)
1615
Возможно, именно с этим связано то, что порой текст Евангелия Фомы демонстрирует отсутствие прямой зависимости от синоптического материала, т. е. именно того, который содержится в греческих новозаветных Евангелиях как отдельных книгах.
(обратно)
1616
Ахмимский евангельский фрагмент был опубликован через пять лет после его открытия, в издании: U. Bouriant, «Fragments du texte grec du livre d’Enoch et de quelques écrits attribués à Saint Pierre», в кн.: Mémoires publiés par les membres de la Mission archéologique française au Caire 9.1 (Paris: Libraire de la Société asiatique, 1892), с. 137–142. Отредактированные и исправленные версии текста можно найти также в кн.: J. A. Robinson and M. R. James, The Gospel According to Peter, and The Revelation of Peter (London: Clay, 1892); H. von Schubert, Das Petrusevangelium (Berlin: Reuther & Reichard, 1893); idem, The Gospel of St. Peter (Edinburgh: T&T Clark, 1893); и уже ближе к нашему времени: M. G. Mara, Évangile de Pierre (SC 201; Paris: Cerf, 1973). Греческий текст «Евангелия Петра» содержится также в кн.: Synopsis Quattuor Evangeliorum (ed. K. Aland; Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1985), с. 479–480, 484, 489, 493–494, 498, 500, 507.
(обратно)
1617
Среди тех, кто полагал, что вновь открытый Ахмимский фрагмент зависим от новозаветных Евангелий – T. Zahn, Das Evangelium des Petrus (Erlangen: Deichert, 1893); H. B. Swete, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΠΕΤΡΟΝ: The Akhmîm Fragment of the Apocryphal Gospel of St. Peter (London: Macmillan, 1893), с. xiii – xx. Робинсон (Robinson, Gospel According to Peter, с. 32–33) говорит о «несомненном знакомстве автора с нашими четырьмя евангелистами… Он использует и переделывает каждого из них по очереди». Среди тех, кто полагал, что вновь открытый фрагмент независим от новозаветных Евангелий – A. Harnack, Bruchstücke des Evangeliums und der Apokalypse des Petrus (TU 9; Leipzig: Hinrichs, 1893); A. Harnack and H. von Schubert, «Das Petrus-evangelium», TLZ 19 (1894): 9–18; P. Gardner-Smith, «The Gospel of Peter», JTS 27 (1925–1926): 255–271; idem, «The Date of the Gospel of Peter», JTS 27 (1925–1926): 401–407.
(обратно)
1618
Реконструкцию P.Oxy. 2949 см. в ст.: R. A. Coles, «Fragments of an Apocryphal Gospel (?)», в кн.: The Oxyrhynchus Papyri (ed. G. M. Browne et al.; vol. 41; London: Egypt Exploration Society, 1972), с. 15–16 (+ pl. II). См. также: D. Lührmann, «POx 2949: EvPt 3–5 in einer Handschrift des 2. /3. Jahrhunderts», ZNW 72 (1981): 216–222. Самая ранняя датировка P.Oxy. 2949 – конец II в. Второй фрагмент, P.Oxy. 4009, возможно, также датируется II в. См.: D. Lührmann and P. J. Parsons, «4009. Gospel of Peter?» в кн.: The Oxyrhynchus Papyri (ed. Parsons et al.; vol. 60; London: Egypt Exploration Society, 1993), с. 1–5 (+ pl. I); D. Lührmann, «POx 4009: Ein neues Fragment des Petrusevangeliums?» NovT 35 (1993): 390–410. О предположении, что Фаюмский фрагмент также относится к Евангелию Петра, см.: D. Lührmann, E. Schlarb, Fragmente apokryph gewordener Evangelien in griechischer und lateinischer Sprache (MTS 59; Marburg: Elwert, 2000), с. 80–81.
(обратно)
1619
Koester, Introduction to the New Testament (2nd ed.; 2 vols.; New York: de Gruyter, 1995–2000), 2:163; ср.: idem, «Überlieferung und Geschichte der frühchristlichen Evangelienliteratur», ANRW II. 25.2 (1984): 1463–1542, особенно 1487–1488, 1525–1527.
(обратно)
1620
R. D. Cameron, The Other Gospels: Non-Canonical Gospel Texts (Philadelphia: Westminster, 1982), с. 78. Еще один ученик Кёстера, Б. А. Джонсон (B. A. Johnson, «The Empty Tomb Tradition in the Gospel of Peter» [Ph.D. diss., Harvard University, 1966]), утверждает, что предание о пустой гробнице у Петра основано не на канонических Евангелиях, но на более ранней традиции.
(обратно)
1621
О теории, что Евангелие Петра в своей ранней форме лежит в основе рассказов о Страстях в новозаветных Евангелиях, см.: J. D. Crossan, The Cross that Spoke: The Origins of the Passion Narrative (San Francisco: Harper & Row, 1988), с. 404: «В этой книге я утверждаю существование документа, который я назвал Евангелием креста, и то, что этот документ – единственный известный нам источник повествования о Страстях и воскресении. Он перетек в Марка, вместе с Марком – в Матфея и Луку, вместе со всеми тремя синоптиками – в Иоанна, и наконец, вместе с внутриканонической традицией – в псевдэпиграфическое Евангелие Петра». Я не нахожу убедительных свидетельств тому, что на этом пути, начиная от самого Евангелия креста, в текст вносились какие-либо изменения, кроме редакторских».
(обратно)
1622
Ахм. фр 9.35, ἐπέφωσκεν ἡ κυριακῇ («рассвело в День Господень»); ср.: Откр 1:10, ἐν τῇ κυριακῇ ἡµέρᾳ («в день Господень»); Игнатий, Магн 9:1, κατὰ κυριακῇ («согласно дню Господню»).
(обратно)
1623
Ахм. фр 11.45: ἀληθῶς υἱός ἦν θεοῦ; Мф 27:54: ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος; ср.: Мк 15:39: ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν; Лк 23:47; ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν.
(обратно)
1624
О поздней датировке и вторичности Ахмимского фрагмента (или Евангелия Петра) см.: L. Vaganay, L’évangile de Pierre (EBib; Paris: Gabalda, 1930), с. 83–90; T. W. Manson, «The Life of Jesus: A Study of the Available Materials», BJRL 27 (1942–1943): 323–337; C. H. Dodd, «A New Gospel», в кн.: New Testament Studies (Manchester: Manchester University Press, 1953), с. 12–52; K. Beyschlag, «Das Petrusevangelium», в кн.: Die verborgene Überlieferung von Christus (Munich: Siebenstern Taschenbuch, 1969), с. 27–64; J. B. Green, «The Gospel of Peter: Sources for a Pre-Canonical Passion Narrative?» ZNW 78 (1987): 293–301; Massaux, Influence, 2:202–214. Додд (Dodd, «New Gospel», с. 46) заключает, что Ахмимский фрагмент (который он признает Евангелием Петра) «зависит от всех четырех канонических Евангелий и, вполне возможно, не содержит в себе никаких независимых преданий». Карлман Бейшлаг (K. Beyschlag, «Petrusevangelium», с. 62, 64) также считает, что в Ахмимском фрагменте отразились все четыре Евангелия. О вторичности предания о страже в Ахмимском фрагменте см.: S. E. Schaeffer, «The Guard at the Tomb (Gos. Pet. 8:28–11:49 and Matt 27:62–66; 28:2–4, 11–16): A Case of Intertextuality?» в кн.: SBL 1991 Seminar Papers (ed. E. H. Lovering; SBLSP 30; Atlanta: Scholars Press, 1991), с. 499–507; Massaux, Influence, 2:202–204.
(обратно)
1625
Об огромном росте Иисуса см.: Ерм, Под 83:1 («человек такого высокого роста, что голова его возвышалась над башней»). «Пастырь» Ерма был составлен где-то между 110 и 140 гг. н. э. Апокалипсис Ездры, или Третья книга Ездры, созданная в середине II в., описывает «Сына Божьего» такими словами: «…юноша величественный, превосходящий всех их» (3 Ездр 2:43–47). Описанный в Ахмимском евангельском фрагменте Иисус, у которого голова выше неба, видимо, представляет собой дальнейшее развитие и приукрашивание этих преданий. Описание в Ахмимском евангельском фрагменте креста, который выходит из гробницы вместе с воскресшим Иисусом и в сопровождении ангелов, составляет параллель поздней эфиопской традиции, засвидетельствованной в двух текстах, греческий оригинал которой, скорее всего, возник не ранее середины II в. Согласно Посл. апост 16, Иисус уверяет своих учеников: «Я явлюсь, как взошедшее солнце; и так, воссияв всемеро ярче его во славе, пока на крыльях облаков носим я буду в блистающем величии, с крестом моим, идущим предо мною, сойду я на землю судить живых и мертвых» (J. K. Elliott, The Apocryphal New Testament [Oxford: Clarendon, 1993], с. 566). Это предание, с вариациями, повторяется в эфиопском Апок. Пет 1: «С крестом моим, идущим пред лицом моим, явлюсь я в своем величии: сияя всемеро ярче солнца, явлюсь я со всеми святыми своими, ангелами своими» (Elliott, The Apocryphal New Testament, с. 600). Ахмимский евангельский фрагмент изображает буквально (Иисус-великан, вместе с которым своим ходом идет крест) то, что в этих источниках II в. было символическими, аллегорическими изображениями славы и величия воскресшего Христа. Убедительную оценку Ахмимского евангельского фрагмента как позднего и вторичного см. в ст.: C. L. Quarles, «The Gospel of Peter: Does It Contain a Precanonical Resurrection Narrative?» в кн.: The Resurrection of Jesus: John Dominic Crossan and N. T. Wright in Dialogue (ed. R. B. Stewart; Minneapolis: Fortress, 2006), с. 106–120, 205–210.
(обратно)
1626
Предполагаемый «докетизм» Ахмимского евангельского фрагмента вызывает серьезные вопросы. В Ахм. фр 4.10 говорится, что Иисус «молчал, как будто не испытывал боли» (αὑτός δὲ ἐσιώπα, ὡς µηδὲν πόνων ἔχων). Однако здесь не говорится, что Иисус в самом деле не чувствовал боли – подразумевается, что он молчал, хотя на самом деле ему было больно. Крик Иисуса с креста: «Сила моя, сила, ты оставила меня!» (Ἡ δύναµίς µου, ἡ δύναµις [µου], κατέλειψάς µε) некоторые также расценивают как признак докетизма. Однако, возможно, перед нами всего лишь влияние вариантной формы Пс 21:2, который в одной из греческих версий переводит как «сила» (или «власть»), а не «Бог». Подробнее об этом см.: McCant, «Gospel of Peter». Одним словом, у нас нет убедительных оснований видеть в Ахмимском евангельском фрагменте докетические тенденции.
(обратно)
1627
О проблеме отождествления ранних греческих фрагментов с Ахмимским евангельским фрагментом см.: P. Foster, «Are There Any Early Fragments of the So-Called Gospel of Peter?» NTS 52 (2006): 1–28. Фостер показывает: достаточно маловероятно, что маленькие греческие фрагменты P.Oxy. 2949, P.Oxy. 4009 и P.Vindob. G 2325, а также фрагментарный P.Egerton 2 (который мы вскоре рассмотрим) относятся к Евангелию Петра, о котором упоминает Серапион; маловероятно и то, что остракон, указанный в каталоге ван Хельста под номером 741 [van Haelst Nr. 741], в самом деле называет Петра евангелистом. Фостер справедливо предостерегает от порочного круга в интерпретации свидетельств, когда Ахмимский фрагмент IX в. голословно объявляется Евангелием Петра, а затем папирусы начала III в. реконструируются на основе Ахмимского фрагмента, чем, в свою очередь, подтверждается предположение, что Ахмимский фрагмент – Евангелие Петра. На мой взгляд, Фостер (Foster, «The Disputed Early Fragments of the So-Called Gospel of Peter – Once Again», NovT 49 [2007]: 402–406) убедительно опровергает возражения против его исследования, выдвинутые в источнике: D. Lührmann, «Kann es wirklich keine frühe Handschrift des Petrusevangeliums geben? Corrigenda zu einem Aufsatz von Paul Foster», NovT 48 (2006): 379–383.
(обратно)
1628
Греческий текст Лондонских фрагментов P.Egerton 2: H. I. Bell and T. C. Skeat, Fragments of an Unknown Gospel and Other Early Christian Papyri (London: British Museum, 1935), с. 8–15, 26; idem, The New Gospel Fragments (London: British Museum, 1951), с. 29–33. Критическое издание: G. Mayeda, Das Leben-Jesu-Fragment Papyrus Egerton 2 und seine Stellung in der urchristlichen Literaturgeschichte (Bern: Haupt, 1946), с. 7–11. См. также: Aland, Synopsis, с. 60, 323, 332, 340, 422.
Текст открытого позднее фрагмента Кельнского папируса доступен в ст.: M. Gronewald, «Unbekanntes Evangelium oder Evangelienharmonie (Fragment aus dem Evangelium Egerton)», в кн.: Kölner Papyri (P.Köln) (ed. M. Gronewald et al.; vol. 6; ARWAW; Sonderreihe Papyrologica Coloniensia 7; Cologne: Bibliothèque Bodmer, 1987), с. 136–145; также в ст.: D. Lürhmann, «Das neue Fragment des PEgerton 2 (PKöln 255)», в кн.: Four Gospels 1992, ed. Segbroeck et al., 3:2239–2255.
(обратно)
1629
О нумерации строк в папирусе Эджертона и Кельнском папирусе: строки 22а и 23а, основанные на P.Köln 255, обозначены так, чтобы отличить их от P.Egerton 2 (строки 22 и 23, фрагмент 1, лицевая сторона). То же самое сделано со строками 42а–44а, также основанными на P.Köln 255, в конце того же фрагмента, дабы отличить их от P.Egerton 2 (строки 42–44, фрагмент 2, лицевая сторона).
(обратно)
1630
О древности P.Egerton 2 и его независимости от новозаветных Евангелий см.: Crossan, Four Other Gospels, с. 183; Koester, Ancient Christian Gospels, с. 207, 215; см.: idem, «Überlieferung und Geschichte», с. 1488–1490, 1522; Jeremias and Schneemelcher, «Papyrus Egerton 2», в кн.: New Testament Apocrypha, ed. Schneemelcher, с. 97. Кроссан (Crossan, Four Other Gospels, с. 86) утверждает, что Евангелие от Марка «в сущности, зависит от этого папирусного текста».
(обратно)
1631
Например, ср.: P.Egerton 2, строка 32 – Мк 1:40; Мф 8:2; Лк 5:12; или P.Egerton 2, строки 39–41 – Мк 1:44; Мф 8:4; Лк 17:14.
(обратно)
1632
См. примеры в Ев. евр 2 («Сын мой, из всех пророков ждал я тебя, что ты придешь, и я утешусь тобою»), сохр. у Иеронима, Толк. Ис, кн. 4, на Ис 11:2; и у Иосифа Флавия, И. Д. XVIII, 3.3 («Около этого времени жил Иисус, человек мудрый… на третий день он вновь явился им живой, как возвестили о Нем и о многих других Его чудесах боговдохновенные пророки»); датировка этой христианской глоссы неизвестна.
(обратно)
1633
Евангелие детства Фомы, возможно, было написано уже в конце II в., см.: O. Cullmann, «Infancy Gospels», в кн.: New Testament Apocrypha, ed. Schneemelcher, с. 442. Евангелие детства Фомы, дошедшее до нас в различных греческих, сирийских, латинских и арабских вариантах, не следует путать с Евангелием Фомы, полностью обнаруженном в Наг-Хаммади и в трех фрагментах – в Оксиринхе.
(обратно)
1634
То же заключение делает T. Nicklas, «Papyrus Egerton 2 – The “Unknown Gospel”», ExpTim 118 (2007): 261–266.
(обратно)
1635
Это послание можно прочесть в кн.: Isaac Voss, Epistolae genuinae S. Ignatii Martyriis (Amsterdam: Ioannes Blaeu, 1646). Восс публикует послания Игнатия параллельными текстами по-гречески и по-латыни, в две колонки, вместе с примечаниями и комментариями. В приложении к книге – «Послание Варнавы» и статья о вставках позднейших переписчиков.
(обратно)
1636
M. Smith, Clement of Alexandria and a Secret Gospel of Mark (Cambridge: Harvard University Press, 1973); idem, The Secret Gospel: The Discovery and Interpretation of the Secret Gospel according to Mark (New York: Harper & Row, 1973).
(обратно)
1637
Достаточно ранний и выдающийся критический обзор книг Смита: Q. Quesnell, «The Mar Saba Clementine: A Question of Evidence», CBQ 37 (1975): 48–67. Проницательная критика Квеснелла подняла много «неудобных» вопросов о подлинности этого Климентова послания. Негодующий ответ Смита Квеснеллу: «On the Authenticity of the Mar Saba Letter of Clement», CBQ 38 (1976): 196–199; ответ Квеснелла: «A Reply to Morton Smith», CBQ 38 (1976): 200–203.
(обратно)
1638
«И по прошествии шести дней Иисус дал ему наставление: и вот, юноша приходит к нему вечером, завернувшись в льняное покрывало по нагому телу. И оставался с ним в ту ночь, ибо Иисус учил его тайнам Царства Божьего» (1:8–9).
(обратно)
1639
P. Sellew, «Secret Mark and the History of Canonical Mark», в кн.: The Future of Early Christianity: Essays in Honor of Helmut Koester (ed. B. A. Pearson; Minneapolis: Fortress, 1991), с. 242–257; J.-D. Kaestli, «L’Évangile secret de Marc: Une version longue de l’Évangile de Marc réservée aux chrétiens avancés dans l’Église d’Alexandrie», также: «Fragment d’une lettre de Clément d’Alexandrie au sujet de l’Évangile secret de Marc», в кн.: Le mystère apocryphe: Introduction à une littérature méconnue (ed. J.-D. Kaestli and D. Marguerat; EssBib 26; Geneva: Labor & Fides, 1995), с. 85–102, 103–106; S. G. Brown, «On the Composition History of the Longer (“Secret”) Gospel of Mark», JBL 122 (2003): 89–110; C. W. Hedrick, «The Secret Gospel of Mark: Stalemate in the Academy», JECS 11 (2003): 133–145; M. W. Meyer, Secret Gospels: Essays on Thomas and the Secret Gospel of Mark (Harrisburg: Trinity Press International, 2003).
(обратно)
1640
См.: E. Rau, Das geheime Markusevangelium: Ein Schriftfund voller Rätsel (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2003); S. G. Brown, Mark’s Other Gospel: Rethinking Morton Smith’s Controversial Discovery (SCJ 15; Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 2005); S. C. Carlson, The Gospel Hoax: Morton Smith’s Invention of Secret Mark (Waco, Tex.: Baylor University Press, 2005); and P. Jeffery, The Secret Gospel of Mark Unveiled: Imagined Rituals of Sex, Death, and Madness in a Biblical Forgery (New Haven: Yale University Press, 2007).
(обратно)
1641
Фотографии послания Климента, цветные и хорошего качества: C. W. Hedrick, «Secret Mark: New Photographs, New Witnesses», The Fourth R 13.5 (2000): 3–16. Хедрик считал, что эти снимки станут аргументом в пользу подлинности послания Климента – однако они сыграли обратную роль.
(обратно)
1642
Впечатляющие свидетельства того, что послание Климента с цитатами из «Тайного Евангелия от Марка» и упоминающее о нем, поддельно: Carlson, Gospel Hoax; Jeffery, Secret Gospel of Mark Unveiled. В статье: Scott Brown «The Question of Motive in the Case against Morton Smith», JBL 125 (2006): 351–383, Скотт Браун пытается подвергнуть сомнению выводы Карлсона, особенно в отношении мотивов Смита. См. также пространный отзыв Брауна на труд Джеффри, в ист.: RBL (в Сети), на который Джеффри опубликовал печатный отклик. См. также рецензию Карлсона на книгу Брауна: S. Carlson, «Reply to Scott Brown», ExpTim 117 (2005–2006): 185–188, а также краткие отзывы и комментарии Фостера (P. Foster, «Secret Mark: Its Discovery and the State of Research», «Secret Mark Is No Secret Anymore», ExpTim 117 [2005–2006]: 46–52, 64–68). Вопрос мотива остается и, видимо, останется – если только не будет найдено письменное признание – самой загадочной частью этой странной истории.
(обратно)
1643
А именно Джули Эдисон, профессионального эксперта по рукописным документам, не раз дававшую экспертные заключения в судах США и Австралии. См.: Carlson, Gospel Hoax, с. xix, 112, прим. 9.
(обратно)
1644
Еще до «открытия» послания Климента и включенных в него цитат из «Тайного Марка» Смит связывал идею тайного христианского учения, на которое, по его мысли, намекает Мк 4:11 («вам дано знать тайны Царствия Божия»), с т. Хаг 2:1, где обсуждаются запрещенные в Лев 18 сексуальные практики и указывается, что это учение не должно преподаваться публично. См.: M. Smith, Tannaitic Parallels to the Gospels (JBLMS 6; Philadelphia: Society of Biblical Literature, 1951), с. 155–156. Непосредственно перед посещением монастыря Мар-Саба в 1958 году Смит публикует статью, в которой вновь упоминает т. Хаг 2:1, но на этот раз он связывает этот текст с Климентом Александрийским. См.: M. Smith, «The Image of God: Notes on the Hellenization of Judaism, with Especial Reference to Goodenough’s Work on Jewish Symbols», BJRL 40 (1958): 473–512, цит. с. 507. Это сочетание – «тайны Царства Божия», т. Хаг 2:1, раввинистический отрывок о запретных сексуальных практиках и Климент Александрийский – встречается только в трудах Мортона Смита. Оно же обнаруживается в послании из Мар-Сабы, якобы принадлежащем Клименту Александрийскому, в котором «тайны Царства Божия» (выражение из Мк 4:11) преподаются юноше, одетому лишь в льняную ткань, наброшенную поверх нагого тела, вслед за чем идет замечание о «нагом [мужчине] с нагим [мужчиной]» – очевидно, указание на одну из запрещенных сексуальных практик. Дополнительные анахронизмы в тексте: F. Watson, «Beyond Suspicion: On the Authorship of the Mar Saba Letter And the Secret Gospel of Mark», JTS 61 (2010): 128–170. Уотсон считает почти несомненным, что автор письма – Мортон Смит.
(обратно)
1645
J. H. Hunter, The Mystery of Mar Saba (New York: Evangelical Publishers, 1940, а также множество переизданий). Вполне возможно, что книга Хантера вдохновила также подделку Коулмен-Нортона.
(обратно)
1646
Два уважаемых историка – не библеисты, но специалисты по историографии – также полагают, что вся история с открытием послания Климента в монастыре Мар-Саба – по всей видимости, обман. См.: Philip Jenkins, Hidden Gospels: How the Search for Jesus Lost Its Way (New York: Oxford University Press, 2001), с. 102; Donald Harman Akenson, Saint Paul: A Skeleton Key to the Historical Jesus (Oxford: Oxford University Press, 2000), с. 84–89. Эйкенсон замечает: «Хоть и существуют солидные ученые, не дающие одурачить себя сварганенными на скорую руку подделками под древность вроде “Тайного Марка” (к таким относятся, например, двое страстных искателей Иешуа: Джон Мейер и Эд Сандерс), в целом методы многих из тех, кто занимается поисками исторического Иешуа, вызывают у меня, как у профессионального историка, большие сомнения, а иногда, откровенно говоря, и отвращение» (с. 89). И Дженкинс, и Эйкенсон с сомнением относятся к тому, как многие ученые используют Евангелие Фомы и Евангелие Петра. Дженкинс – заслуженный профессор истории и религиоведения Университета штата Пенсильвания. Эйкенсон – профессор истории в Королевском Университете в Кингстоне, провинция Онтарио, и почетный профессор исследований Ирландии в Ливерпульском университете.
(обратно)
1647
Спекуляций, связанных с так называемым Тайным Евангелием от Марка, мы касаться не будем, поскольку предполагаемое послание Климента Александрийского, в котором содержатся цитаты из Тайного Евангелия, с первых дней вызывало сомнения в его подлинности, и после недавних исследований эти сомнения только усилились. Пока не доказано иное, приходится считать Тайного Марка подделкой или, быть может, современным апокрифом. Стивен Карлсон обвиняет в подделке самого первооткрывателя рукописи, Мортона Смита: Stephen C. Carlson, The Gospel Hoax: Morton’s Smith Invention of Secret Mark (Waco, Tex.: Baylor University Press, 2005). Другие ученые не высказывают определенного мнения о происхождении этих цитат: см., напр.: Bart Ehrman, Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew (New York: Oxford University Press, 2003), с. 70–89.
(обратно)
1648
См. подробные сравнительные таблицы и анализ: Raymond E. Brown, Death of the Messiah (2 vols.; ABRL; New York: Doubleday, 1994), 2:1394–1418. Скудные обрывки греческого текста, которые, как предполагается, принадлежат более ранним версиям Евангелия Петра, не выдерживают тщательного исследования: см.: Paul Foster, «Are There Any Early Fragments of the So-Called Gospel of Peter?» NTS 52 (2006): 1–28.
(обратно)
1649
Хотя и не без вопросов о том, как переводить такие логии и каково их соотношение с вариантами речений Иисуса, встречающимися у христианских авторов II–III вв. См., напр.: Peter Nagel, «Die Neuübersetzung des Thomasevangeliums in der Synopsis quattor Evangeliorum und in Nag Hammadi Deutsch Bd. 1», ZNW 95 (2004): 209–257. О том, что в Евангелии Фомы встречаются элементы всех четырех канонических Евангелий, и оно должно рассматриваться наряду с другими сочинениями христианских авторов II в., см.: John Halsey Wood, «The New Testament Gospels and the Gospel of Thomas: A New Direction», NTS 51 (2005): 579–595. О стратегиях вычленения древнейшего традиционного слоя в Евангелии Фомы см.: April DeConick, «The Original Gospel of Thomas», VC 56 (2002): 167–199; idem, The Original Gospel of Thomas in Translation (LNTS 287; London: T&T Clark, 2006).
(обратно)
1650
M. Robinson, P. Hoffmann, and J. S. Kloppenborg, The Critical Edition of Q (Hermeneia; Minneapolis: Fortress, 2000). Издатели считают Евангелие Фомы источником речений, не затронутых ни апокалиптическими преданиями о Сыне Человеческом, ни эллинистической керигмой: «Однако, по-видимому, ни одно из этих новшеств не затронуло традицию λόγοι, сохраненную в Евангелии Фомы. Критерий, по которому отбирались речения в Фоме, по всей видимости, тесно связан с внутренним принципом передачи речений Иисуса: авторитет слова премудрости как такового, покоящийся на убеждении, что в учителе, произносящем это слово, присутствует Мудрость» (с. lix – lx).
(обратно)
1651
G. W. E. Nickelsburg, 1 Enoch 1: A Commentary on the Book of 1 Enoch, Chapters 1–36; 81–108 (Hermeneia; Minneapolis: Fortress, 2001), с. 1–125.
(обратно)
1652
См. рассуждение о подобных методологических проблемах при формировании сборников т. н. новозаветных апокрифов: Tobias Nicklas, «“Écrits apocryphes chrétiens”: Ein Sammelband als Spiegel eines Weitreichenden Paradigmenwechsels in der Apokryphenforschung», VC 61 (2007): 70–95. Никлас указывает, что академический маятник качнулся теперь к другой крайности: многие готовы полагать, что неканонические тексты вроде Тайного Евангелия от Марка содержат больше значимой информации об историческом Иисусе и изначальном христианстве, чем канонические тексты, исказившие или скрывшие подлинную историю христианской религии. Однако практического смысла в таком убеждении не больше, чем в противоположной тенденции прошлого, предлагавшей использовать канонические тексты как меру литературного качества, богословской глубины и исторической достоверности (с. 71–73).
(обратно)
1653
Это методологическое убеждение получает больше оснований, если мы примем тезис Ричарда Бокэма, согласно которому Папий прав насчет канонических текстов и в них заключены свидетельства очевидцев событий – самих последователей Иисуса и их первых учеников; см.: Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony (Grand Rapids: Eerdmans, 2006), с. 5–37.
(обратно)
1654
Robinson, Hoffmann, and Kloppenborg, Critical Edition, lix – lxvi.
(обратно)
1655
Pagels and Koester, «Introduction», Nag Hammadi Codex III, 5: The Dialogue of the Savior (ed. S. Emmel, H. Koester, and E. Pagels; NHS 26; Leiden: Brill, 1984), с. 1–17, цит. с. 15. Авторы предполагают, что Диалог Спасителя представляет собой несколько более раннюю, чем Четвертое Евангелие, стадию в этом размышлении об изречениях Иисуса (особ. см. с. 2–8, 15–16). Большая часть их интерпретации полагается на использование Евангелия Фомы как основы для прочтения фрагментов Диалога Спасителя. Против таких интерпретаций, выходящих за любые границы, выступает Ристо Уро: Risto Uro, Seeking the Historical Context of the Gospel of Thomas (London: T&T Clark, 2003), c. 35–48. Несколько параллелей с изречениями в Евангелии Фомы не определяют его структуру. Другие изречения показывают, что его автор опирается на матфеанскую традицию (с. 47–48). Пьер Ле́турно предполагает, что среди источников, использованных автором в ходе работе, был и диалоговый источник, подразумевающий стремительную череду вопросов и ответов в беседах Иисуса с его учениками, «поучительный» источник. Летурно относит его к 100 г. н. э. и высказывает предположение о наличии двух космологических источников, восходящих к кругам валентиниан в середине II в.; см.: Le Dialogue du Sauveur (NH III,5) (BCNH “Textes” 29; Leuven: Peeters, 2003), c. 18–41.
(обратно)
1656
Ron Cameron, Sayings Traditions in the Apocryphon of James (HTS 34; Philadelphia: Fortress, 1984).
(обратно)
1657
Там же, с. 32–33. Вопрос о том, в какой степени Апокриф Иакова опирается на ранние сборники речений, а в какой – на канонические Евангелия, составление которых, наряду с составлением внеканонических работ, также приписанных различным ученикам, изображено в начале этой книги (2, 7–16), остается спорным. По-видимому, Апокриф Иакова адресован читателям, знакомым с каноническими Евангелиями: об этом см.: Judith Hartenstein and Uwe-Karsten Plisch, «Der Brief des Jakobus (NHC I, 2)», в кн.: Nag Hammadi Deutsch 1. Band: NHC I,1–V,1 (ed. H.-M. Schenke, H.-G. Bethge, and U. U. Kaiser; GCS N.F. 8; Berlin: de Gruyter, 2001), с. 14–15.
(обратно)
1658
Cameron, Sayings, с. 8–18.
(обратно)
1659
Rouleau, Épître, с. 113–118.
(обратно)
1660
Там же, с. 112.
(обратно)
1661
Там же, с. 98–100. Введение Петра как пассивной фигуры в заключительное откровение, завершающееся вознесением Иисуса, говорит о том, что это эзотерическое учение предназначалось и для ортодоксальных христиан (с. 100).
(обратно)
1662
Cameron, Sayings, с. 82–87. Как и в синоптических Евангелиях, этот диалог начинается с того, что ученик отказывается соглашаться со словами Иисуса о предстоящих ему страдании и смерти.
(обратно)
1663
Таким образом, Апокриф Иакова во многих отношениях ближе к ортодоксии, чем другие гностические апокрифы, однако в целом, очевидно, представляет неортодоксальное богословское мировоззрение: см.: Francis E. Williams, «The Apocryphon of James», в кн.: Nag Hammadi Codex I (The Jung Codex) (ed. H. W. Attridge; NHS 22; Leiden: Brill, 1985), с. 21–24. Уильямс делает довольно смелое предположение, связывая отказ от пророчеств, следующий за этим диалогом, с монтанистским повествованием о мученичестве Перпетуи и Фелицитаты. Он полагает, что этот текст указывает на контекст конца II в., в котором мученичество и пророчество были взаимосвязаны (с. 24). Дэниел Руло (Rouleau, Épître, с. 17–18) полагает, что автор Апокрифа Иакова критически относится к событиям в «великой Церкви», однако, по всей видимости, не хочет дистанцироваться от христианского сообщества в целом.
(обратно)
1664
Тот же эпитет мы встречаем в Ев. Фом 12, где говорится об «Иакове праведном, ради которого явились в бытие небо и земля»; в Евангелии евреев, цитируемом Иеронимом (Знам. муж 2), а также, с особым подчеркиванием его иудейского благочестия, в истории его мученичества, составленной Егесиппом (Евсевий, Церк. ист 2.23).
(обратно)
1665
Термин «евангелие» применительно к гностическим трактатам не служит для обозначения книги, хотя бы отдаленно напоминающей рассказ о служении Иисуса, его учении и смерти, подобно тем, какие мы находим в канонических Евангелиях и других христианских апокрифах, как Евангелие Петра (если считать, что рассказ о Страстях и воскресении, скопированный в VIII в., был частью какого-то более пространного повествования). Беседы между Иисусом и различными учениками или группами учеников после воскресения – или откровения незадолго до Страстей, как в первой части (Первого) Апокалипсиса Иакова – любимый жанр тех преданий об Иисусе, которые можно назвать «сокрытыми книгами» или «откровениями». Название «Евангелие», скорее всего, дано многим из этих сочинений позднейшими переписчиками.
(обратно)
1666
Подобный же отход от специфики римского доминирования предполагается в диалоге о повиновении требованиям царей в P.Egerton 2, фрг. 2, лицевая сторона – отголоске вопроса об уплате подати кесарю (Мк 12:13–17). Об этом см.: Tobias Nicklas, «Papyrus Egerton 2 – the “Unknown Gospel”», ExpTim 118 (2007): 261–266, цит. с. 265.
(обратно)
1667
Это стандартное объяснение Страстей служит основой для отвержения обычной христианской веры в необходимость спасения через крест в текстах, явно связанных с внутрихристианской полемикой, таких как Второй трактат Великого Сифа (NHC VII, 2): против «тех, кто держится за учение мертвеца» (60, 22); «это рабство – говорить, что мы должны умереть вместе с Христом!» (49, 26–27); и в Апокалипсисе Петра (NHC VII, 3): оппоненты лживо обвиняют Петра в том, что он призывает «поститься во имя мертвеца и думать, что это их очистит» (73, 13–15). Обзор антистрастной полемики в гностических источниках, см.: Klaus Koschorke, Die Polemik der Gnostiker gegen das kirchliche Christentum (NHS 12; Leiden: Brill, 1978), с. 44–48.
(обратно)
1668
Во многих случаях герменевтические маневры авторов-гностиков разрушают знакомые нам сюжеты канонических или иных христианских повествований; поэтому в дискуссии о Марии Магдалине большую путаницу вносит априорное предположение многих ученых, согласно которому Мария Магдалина из гностических откровений представляет собой историческое свидетельство о женщинах, связанных с Движением Иисуса. Как отмечает Силке Петерсен, гностические Евангелия не принимают биографические повествования канона и не рассматривают себя как замену канонических текстов: см.: Silke Peterson, Zerstört die Werke der Weiblichkeit! Maria Magdalena: Salome und andere Jüngerinnen Jesu in christlich-gnostischen Schriften (NHMS 48; Leiden: Brill, 1999), с. 2–3.
(обратно)
1669
Hans-Josef Klauck, Apocryphal Gospels: An Introduction (trans. B. McNeil; London: T&T Clark, 2003), с. 1–3.
(обратно)
1670
Christine M. Thomas, The Acts of Peter, Gospel Literature, and the Ancient Novel: Rewriting the Past (New York: Oxford University Press, 2003), с. vii, 41–81. Кристина Томас, как и Боуэрсок, полагает, что даже в канонических Евангелиях отсутствуют отличительные элементы историографии и что лучше всего классифицировать их как новеллистические повествования (с. 93). Решительные возражения на это в случае канонических Евангелий: Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses. Бокэм считает, что жанр канонических Евангелий лучше всего описывается категорией «устной истории» (с. 6–9).
(обратно)
1671
Karel van der Toorn, Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible (Cambridge: Harvard University Press, 2007), с. 9–49. Хотя ранние христиане и принимали определенные правила циркуляции своих текстов, следует быть осторожными, применяя к этим текстам современные понятия авторства и даже «книги». Примеры «межтекстовой экспансии» и компиляции преданий, непрерывного процесса собирания и редактирования, которые описывает Карел ван дер Торн у ближневосточных книжников (с. 108–141), вполне подходят и гностическим апокрифам. В некоторых случаях, как показывает ван дер Торн, писцы работали с текстовыми материалами, составляя из них новый авторитетный текст. Эта деятельность служила интересам их царствующих покровителей: «Собирая воедино документы, написанные с различными целями и с различных точек зрения, писцы создавали единый корпус национального письменного наследия, в котором сглаживались противоречия прошлого» (с. 141).
(обратно)
1672
Перевод: Williams, «Apocryphon of James», с. 29–31.
(обратно)
1673
John Lewis Gaddis, The Landscape of History: How Historians Map the Past (New York: Oxford University Press, 2002), с. 4. Гэддис отличает задачу историка – создать осмысленное повествование – от задачи летописца: записать все, что произошло (с. 19). Воображение историка, например, воссоздающего античность в телевизионных документальных фильмах, также не соответствует требованию буквальной репрезентации, на что указывает Питер Ричардсон: Richardson, Peter, Building Jewish in the Roman East (Waco, Tex.: Baylor University Press, 2004), с. 39–53.
(обратно)
1674
Amy-Jill Levine, The Misunderstood Jew: The Church and the Scandal of the Jewish Jesus (San Francisco: HarperSanFrancisco, 2006), с. 62.
(обратно)
1675
Там же, с. 66–67.
(обратно)
1676
Так утверждается в источнике: François Bovon, «Fragment Oxyrhynchus 840: Fragments of a Lost Gospel Witness of an Early Christian Controversy over Purity», JBL 119 (2000): 705–728; возражения, а также утверждение, согласно которому этот фрагмент – свидетельство раннего иудеохристианства, см.: Nicklas, «Écrits apocryphes chrétiens», с. 80–81. Поскольку P.Oxy. 840 – листок из миниатюрной «брошюры», он может быть отрывком не из Евангелия, а из книги-амулета: см.: J. K. Elliott, The Apocryphal New Testament (Oxford: Clarendon, 1993), с. 31.
(обратно)
1677
Thomas Kazen, «Sectarian Gospels for Some Christians? Intention and Mirror Reading in the Light of Extra-Canonical Texts», NTS 51 (2005): 570–571; Elliott, Apocryphal New Testament, с. 38. Попытки отнести его к иудеохристианской традиции конца I в. неубедительны: см.: Nicklas, «Papyrus Egerton», с. 261–262.
(обратно)
1678
Nicklas, «Papyrus Egerton», с. 263.
(обратно)
1679
Там же, с. 264.
(обратно)
1680
Charles W. Hedrick and Paul A. Mirecki, Gospel of the Savior: A New Ancient Gospel (Santa Rosa, Calif.: Polebridge, 1999).
(обратно)
1681
Stephen Emmel, «The Recently Published Gospel of the Savior (‘Unbekanntes Berliner Evangelium’): Righting the Order of Pages and Events», HTR 95 (2002): 45–72.
(обратно)
1682
Попытки Хедрика и Миреки показать, что Евангелие Спасителя представляет собой запись устных преданий об Иисусе начала или середины II века, неубедительны: см.: Emmel, «Recently Published», с. 51; Peter Nagel, «“Gespräche Jesu mit seinen Jüngern vor der Auferstehung”: Zur Herkunft und Datierung des “Unbekannten Berliner Evangeliums”», ZNW 94 (2003): 215–257, цит. с. 223–225. Нагель аргументирует по богословским основаниям, что UBE не может быть древнее начала III в. (Nagel, с. 225). По его предположениям, коптский текст мог быть не переведен с греческого оригинала, а составлен и позже переписан в скриптории монахов-пахомиан, что сдвигает его создание в IV в.
(обратно)
1683
Emmel, «Recently Published», с. 54–57.
(обратно)
1684
Там же, с. 57–60.
(обратно)
1685
Там же, с. 51, прим. 30.
(обратно)
1686
Вместе с Протоевангелием Иакова оно также попутно упоминается у Оригена (Толк. Мф 10.17).
(обратно)
1687
Kazen, «Sectarian Gospels», с. 568–569.
(обратно)
1688
Brown, Death of the Messiah, 2:1317–1347. В дошедшем до нас тексте есть несколько фраз, которые читатель, настроенный на поиск докетизма, может счесть докетическими: «…он молчал, как будто не испытывал боли», последние слова: «Сила моя, сила, ты оставила меня», и затем: «Он был взят на небо» (Ев. Пет 4.10; 5.19). Однако характерного для сектантов пересмотра Страстей мы в тексте не видим (Kazen, «Sectarian Gospels», с. 569).
(обратно)
1689
Brown, Death, 2:1334–1335.
(обратно)
1690
Elliott, Apocryphal New Testament, с. 151.
(обратно)
1691
Brown, Death, 2:1331–1339.
(обратно)
1692
См. обсуждение: Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses, с. 19–31. Бокэм признает, что гностики второго века также заявляли, что слова Иисуса известны им через посредников, слышавших их от одного или нескольких апостолов. Евангелие Фомы прямо заявляет, что в нем содержатся тайные речения, записанные тем, кто их получил, Дидимом Иудой Фомой. В еще одном апокрифе от Фомы, в том же кодексе из Наг-Хаммади, составителем книги оказывается Матфайас, писец, сопровождавший Иисуса и Иуду Фому, когда Спаситель сообщал им тайные слова (Фом. Атл II 138, 1–3).
(обратно)
1693
Напр.: W. Arnal, «The Rhetoric of Marginality: Apocalypticism, Gnosticism and Sayings Gospels», HTR 88 (1995): 471–494.
(обратно)
1694
DeConick, «Original Gospel of Thomas», с. 167–172; idem, Recovering the Original Gospel of Thomas: A History of the Gospel and Its Growth (London: T&T Clark, 2005).
(обратно)
1695
DeConick, Original Gospel, с. 25–31.
(обратно)
1696
DeConick, Original Gospel, с. 198.
(обратно)
1697
Uro, Thomas, с. 125–132. Уро не предлагает никакой замены этим теориям, поскольку все попытки в этом направлении сталкиваются с методологическими трудностями (с. 130).
(обратно)
1698
А именно, логии 4, 11, 18, 19, 37, 49, 50, 77, 83–85, также неявно 22, 24, 61 и 70. См.: Elaine Pagels, «Exegesis of Genesis 1 in the Gospels of Thomas and John», JBL 118 (1999): 477–496.
(обратно)
1699
DeConick, Original Gospel, с. 3–9.
(обратно)
1700
DeConick, Original Gospel, с. 12–13.
(обратно)
1701
Там же, с. 275. Точно так же вариант истории о спрятанном сокровище в Ев. Фом 109 выглядит вторичным, более «гладким» вариантом мотива, известного нам по версии Матфея, в которой работник, случайно нашедший сокровище, продает все, чтобы его приобрести (Мф 13:44). О сравнении этих вариантов см.: W. D. Davies and Dale C. Allison, The Gospel according to Saint Matthew, vol. 2: Matthew VIII–XVIII (ICC; Edinburgh: T&T Clark, 1991), с. 436–437. Ев. Фом 109 ближе к еврейской версии, которую мы находим в Мидраше на Песнь Песней 4:13. Версия Матфея предполагает, что главный герой притчи – бедняк, ради сокровища отказывающийся от всего, что имел; в Ев. Фом 109 подчеркивается неведение о существовании сокровища. Предложение «одалживать в рост», которым заканчивается эта притча в Евангелии Фомы, противоречит призыву не давать в долг, звучащему в Ев. Фом 95: «Если имеете деньги – не давайте их в рост, но отдайте тому, от кого не получите их обратно», отдаленный вариант Мф 5:42 // Лк 6:30 (Q). Деконик, отмечая энкратитское отвержение материальных благ в Евангелии Фомы, считает, однако, что это речение об истинном обетовании (с. 267), а не об экономических реалиях. Быть может; но, если так, значит, древняя иерусалимская община, согласно теории Эйприл Деконик, создавшая до 50-х гг. н. э. «Стержневое Евангелие», не только сильно отличается от Движения Иисуса, как представляют его себе другие ученые, но и полностью лишена тех экономических забот, которые стоят за призывами Павла о том, «чтобы мы помнили нищих» (Гал 2:10) или за рассказом о пророках, призывающих к избавлению от голода (Деян 11:27–30).
(обратно)
1702
DeConick, Original Gospel, с. 52.
(обратно)
1703
Попытки интерпретировать неприятие Господа, создавшего космос и человеческое тело, через отказ от общественно-политической жизни методологически некорректны. Ту же позицию можно трактовать и как дозволяющую ассимиляцию, что показал Майкл Уильямс (Michael A. Williams, Rethinking «Gnosticism»: An Argument for Dismantling a Dubious Category [Princeton: Princeton University Press, 1996], с. 96–115). Некоторые гностические трактаты, как, например, Апокалипсис Петра, прямо связывают враждебные «силы» с лидерами более крупной христианской общины. Сектантские перебранки среди христиан, спорящих о том, кто имеет право наследовать авторитету Петра, указывают на социальный контекст конца II–III вв., а не на традиции социальной организации, которые сохранились со времен Движения Иисуса I в.
(обратно)
1704
Перевод: James Brashler, в кн.: Nag Hammadi Codex VII (ed. B. A. Pearson; NHMS 30; Leiden: Brill, 1996), с. 227.
(обратно)
1705
Koschorke, Polemik, с. 25.
(обратно)
1706
Троевидная Протенойя (XIII 50, 12b–15a) повествует о том, как небесная Премудрость снимает «Иисуса» с дерева (с креста) и переносит «в дом его Отца» (Ин 14:2). Однако что подразумевается под «домом Отца», остается неясным. Поль-Юбер Пуарье полагает, что речь идет о некоей низшей области царства самой Премудрости: см.: Paul-Hubert Poirier, La pensée première à la triple forme (NH XIII,1) (BCNH «Textes» 32; Leuven: Peeters, 2006), с. 366–367.
(обратно)
1707
См. протесты Карен Кинг против ложных новостных сообщений о том, что «реабилитация Иуды» должна якобы преодолеть антисемитизм канонического христианского рассказа о Страстях, – притом что само Евангелие Иуды явно враждебно иудейским священникам и культовым практикам, а об участии римлян в этих событиях не упоминает вообще; см.: Elaine Pagels and Karen L. King, Reading Judas: The Gospel of Judas and the Shaping of Christianity (New York: Viking, 2006), с. 154–155. Более подробную критику лживого пиара Евангелия Иуды, включая и роль некоторых ученых, см.: Stanley E. Porter and Gordon L. Heath, The Lost Gospel of Judas: Separating Fact from Fiction (Grand Rapids: Eerdmans, 2006). Они полагают, что Евангелие Иуды было написано в III в. или даже IV в. и не имеет никакой ценности для понимания Нового Завета. Портер заключает: «Это одно из “реабилитационных сочинений”, на которые были так горазды гностики: они брали персонажей с периферии христианства, “реабилитировали” их и делали центральными фигурами своей системы верований» (с. 115). Сейчас, когда опубликован ряд критических изданий Евангелия Иуды, некоторые из первых переводов, в которых Иуда превозносится над прочими учениками и становится соработником в искупительном плане Спасителя, порицаются за неточность. См.: Johanna Brankaer and Hans-Gebhard Bethge, eds., Codex Tchacos: Texte und Analysen (TU 161; Berlin: de Gruyter, 2007); April DeConick, The Thirteenth Apostle: What the Gospel of Judas Really Says (New York: Continuum, 2007).
(обратно)
1708
См.: Marvin Meyer, «NHC VIII, 2: The Letter of Peter to Philip», в кн.: Nag Hammadi Codex VIII (ed. J. H. Sieber; NHS 31; Leiden: Brill, 1991), с. 232.
(обратно)
1709
Вариантные чтения представлены в примечаниях в новейшем английском переводе материалов из Наг-Хаммади: Marvin Meyer, ed., The Nag Hammadi Scriptures (New York: HarperCollins, 2007).
(обратно)
1710
Herbert Krosney, The Lost Gospel: The Quest for the Gospel of Judas Iscariot (Washington, D. C.: National Geographic Society, 2006), с. 222, 298. Издание, подготовленное командой Национального географического общества, см.: Rodolphe Kasser, Gregor Wurst, Marvin Meyer, and François Gaudard, The Gospel of Judas, together with the Letter of Peter to Philip, James, and a Book of Allogenes from Codex Tchacos: Critical Edition (Washington, D. C.: National Geographic Society, 2007).
(обратно)
1711
Madeleine Scopello, Femme, Gnose et Manichéism: De l’espace mythique au territoire du réel (NHMS 53; Leiden: Brill, 2005), с. 128.
(обратно)
1712
Некоторые названия присвоены современными издателями для удобства ссылок, как то: Апокриф Иакова, Евангелие Истины, Трехчастный трактат и О происхождении мира.
(обратно)
1713
Scopello, Femme, с. 129, 139. Заглавия без жанровых обозначений – как правило, имена персонажей-мужчин, вознесенных на небеса, получивших откровение и по возвращении его записавших (Зостриан, VIII, 1; Марсан, X, 1; Аллоген, XI, 3); упоминается Мелхиседек, единственный в этом ряду библейский персонаж (IX, 1); или же присутствуют тематические заглавия, указывающие на определенные гностические мифы (Ипостась архонтов, II, 4; Понятие нашей великой силы, VI, 4; Объяснение знания, XI, 1) (с. 129–139).
(обратно)
1714
Scopello, Femme, с. 128.
(обратно)
1715
См.: Michael Williams, Rethinking Gnosticism, с. 235–262. Более спекулятивное предположение Уильямса о том, что перед нами квази-Писание, «история откровения» (с. 245–255), явно опровергается порядковым расположением текстов в некоторых кодексах. Однако оно, вместе с его замечанием о том, что восхождение к божественной реальности неотделимо от эсхатологии, может объяснить порядок расположения текстов в кодексах V и VI.
(обратно)
1716
Перевод: Frederik Wisse, в кн.: Nag Hammadi Codex VIII, ed. Sieber, с. 247–249.
(обратно)
1717
Кодекс Чакос сохранился столь фрагментарно, что большая часть речи Петра утеряна. Сохранилась лишь последняя фраза: «…он восстал из мертвых». От текста из Наг-Хаммади она отличается тем, что за этим следует комментарий Петра. Там, где в NHC VIII, 139, 21–22 мы читаем: «Братья мои, Иисус этому страданию чужд», в Кодексе Чакос 9, 2–3 говорится: «…братья мои, Иисус смерти чужд».
(обратно)
1718
Так утверждается в источниках: Armand Veilleux, La première apocalypse de Jacques (NH V, 3); La seconde apocalypse de Jacques (NH V, 4) (BCNH «Textes» 17; Quebec: Presses de l’Université Laval, 1986), с. 81–97.
(обратно)
1719
Так утверждается в источнике: King, Reading Judas, с. 164.
(обратно)
1720
Перевод по источнику: Rodolphe Kasser, Marvin Meyer, and Gregor Wurst, The Gospel of Judas: From Codex Tchacos (Washington, D. C.: National Geographic, 2006).
(обратно)
1721
В коптском тексте этот раздел визуально отделен от других: см. фото там же, с. 210.
(обратно)
1722
Подробный обзор этих текстов: John D. Turner, Sethian Gnosticism and the Platonic Tradition (BCNH «Études» 6; Leuven: Peeters, 2001).
(обратно)
1723
Если только версия Евангелия Иуды, представленная в кодексе, не отличается существенно от той, что найдена в Наг-Хаммади. Однако несколько строк, различимые на фотографии 1991 года, не подтверждают каких-либо значительных отличий.
(обратно)
1724
Некоторые ученые, особенно Эйприл Деконик (DeConick, Thirteenth Apostle), считают, что в Евангелии Иуды Иуда изображен не как «ученик, прозревший истину» – чего бы стоило ожидать от жанра гностических откровений, – но осужден наряду с другими учениками как слуга главного архонта.
(обратно)
1725
Porter and Heath, Lost Gospel, с. 95. Они полагают, что Евангелие Иуды полностью происходит от канонических Евангелий и Деяний в сочетании с гностическим богословствованием.
(обратно)
1726
О том, где (точнее, когда) и на чем заканчивается эта группа апокрифов, трудно судить с определенностью. Поскольку они не являются альтернативами или заменами канонических текстов, то конец IV в. – время появления зафиксированного канона – не является априорной верхней границей. См.: Klauck, Apocryphal Gospels, с. 1–2; Nicklas, «Écrits apocryphes», с. 71–78.
(обратно)
1727
См.: Nicklas, «Écrits apocryphes», с. 79–81.
(обратно)
1728
Klauck, Apocryphal Gospels, с. 3; этот процесс особенно очевиден в случаях, когда материалы пересекают языковые и культурные границы; см.: Nicklas («Écrits apocryphes», с. 84–85) и рассуждения Кристины Томас о том, что она называет «гомеостатической организацией» текста или группы текстов (Christine Thomas, Acts of Peter, с. vii).
(обратно)
1729
Joseph Klausner, Jesus of Nazareth: His Life, Times, and Teaching (trans. Herbert Danby; New York: Macmillan, 1925), с. 55.
(обратно)
1730
«Редко случается, чтобы какие-то десять строк вызывали такие споры», – пишет Генри Сен-Джон Теккерей (Henry St. John Thackeray, Josephus: The Man and the Historian [1929; repr., New York: Ktav, 1967], с. 137). Подробные и содержательные истории дискуссий вокруг этого отрывка можно найти в кн.: Robert Eisler, ΙΗΣΟΎΣ ΒΑΣΙΛΕΎΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΎΣΑΣ: Die messianische Unabhängigkeitsbewegung vom Auftreten Johannes des Täufers bis zum Untergang Jakobs des Gerechten… (2 vols.; Heidelberg: C. Winter, 1929–1930), 1:19–90; Paul Winter, «Excursus II – Josephus on Jesus and James: Ant. XVIII, 3.3 (63–4) and XX, 9.1 (200–203)», в кн.: Emil Schürer, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (ed. G. Vermes et al.; trans. T. Burkill et al.; 3 vols. in 4; Edinburgh: T&T Clark, 1973–1987), 1:428–441, цит. с. 428–430; André Pelletier, «L’originalité du témoignage de Flavius Josèphe sur Jésus», RSR 52 (1964): 177–203; Louis Feldman, «The Testimonium Flavianum: The State of the Question», в кн.: Christological Perspectives: Essays in Honor of Harvey K. McArthur (ed. R. Berkey and S. Edwards; New York: Pilgrim, 1982), с. 179–199, 288–293, цит. с. 194–195; и последнее по времени: Alice Whealey, Josephus on Jesus: The Testimonium Flavianum Controversy from Late Antiquity to Modern Times (New York: Peter Lang, 2003), с. 53–119.
(обратно)
1731
Включены и другие отрывки, иллюстрирующие характерные черты стиля Иосифа, а также отрывки из других авторов, поясняющие значение терминологии, использованной во «Флавиевом свидетельстве».
(обратно)
1732
A. Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus: First Complete Edition (ed. J. Bowden; trans. W. Montgomery et al.; Minneapolis: Fortress, 2001; orig. 1906), с. 359.
(обратно)
1733
Eisler, ΙΗΣΟΎΣ ΒΑΣΙΛΕΎΣ, 1:19.
(обратно)
1734
B. Niese, De Testimonio Christiano quod est apud Iosephum Ant. Iud. XVIII, 63 sq. disputatio (Marburg: Friedrich, 1894).
(обратно)
1735
E. Schürer, «Josephus», RE 9 (1901): 377–386.
(обратно)
1736
E. Norden, «Josephus und Tacitus über Jesus Christus und eine messianische Prophetie», в кн.: Zur Josephus-Forschung (ed. A. Schalit; WF 84; Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1973), с. 27–69. Это репринт его статьи 1913 года: NJahrb, с. 637–666.
(обратно)
1737
H. Conzelmann, «Jesus Christ», RGG (3rd ed.), 3:619–653.
(обратно)
1738
Норден справедливо сравнивает это с формулировками керигмы: Мф 16:20, Лк 23:35 и Ин 7:26 («Josephus und Tacitus», с. 648).
(обратно)
1739
Pelletier, «Flavius Josèphe sur Jésus», с. 190–192; John Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus (4 vols.; ABRL; New York: Doubleday, 1991–2009), 1:60; Graham Stanton, The Gospels and Jesus (2nd ed.; Oxford Bible Series; Oxford: Oxford University Press, 2004), с. 149–150; Craig A. Evans, «Jesus in Non-Christian Sources», в кн.: Studying the Historical Jesus: Evaluations of the State of Current Research (ed. B. Chilton and Evans; NTTS 19; Leiden: Brill, 1994), с. 443–478, цит. с. 451–453; Mark Allan Powell, Jesus as a Figure in History: How Modern Historians View the Man from Galilee (Louisville: Westminster John Knox, 1998), с. 33; John Dominic Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991), с. 373; Paula Fredriksen, Jesus of Nazareth, King of the Jews: A Jewish Life and the Emergence of Christianity (New York: Knopf, 2000), с. 249; Robert E. Van Voorst, Jesus outside the New Testament: An Introduction to the Ancient Evidence (SHJ; Grand Rapids: Eerdmans, 2000), с. 91; Claudia Setzer, Jewish Responses to Early Christians, History and Polemics, 30–15 °C.E. (Minneapolis: Fortress, 1994), с. 107; Zvi Baras, «Testimonium Flavianum: The State of Recent Scholarship», в кн.: Society and Religion in the Second Temple Period (ed. M. Avi-Yonah and Baras; WHJP 1/8; Jerusalem: Massada, 1977), с. 306; C. K. Barrett, ed., The New Testament Background: Selected Documents (rev. ed.; San Francisco: Harper & Row, 1989), с. 278; Graham Twelftree, «Jesus in Jewish Traditions», в кн.: Jesus Tradition outside the Gospels (ed. D. Wenham; Gospel Perspectives 5; Sheffield: JSOT Press, 1984), с. 289–341, цит. с. 304; S. G. F. Brandon, Jesus and the Zealots: A Study of the Political Factor in Primitive Christianity (Cambridge: Manchester University Press, 1967), с. 361; Steve Mason, Josephus and the New Testament (Peabody, Mass.: Hendrickson, 1992), с. 171; Raymond Brown, The Death of the Messiah: From Gethsemane to the Grave: A Commentary on the Passion Narratives in the Four Gospels (2 vols.; ABRL; New York: Doubleday, 1994), 1:373.
В поддержку подлинности этой части фразы см. изобретательные аргументы: Thackeray, Josephus, с. 145; Ernst Bammel, «Zum Testimonium Flavianum (Jos. Ant. 18.63–64)», в кн.: Josephus-Studien: Untersuchungen zu Josephus, dem antiken Judentum und dem N. T. (ed. O. Betz et al.; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1974), с. 9–22; A.-M. Dubarle, «Le témoignage de Josèphe sur Jésus d’après des publications récentes», RB 84 (1977): 38–58, цит. с. 51. По сообщению Эйслера, Эмери Барнс понимал эту фразу как «поскольку подобает именовать его человеком» (Eisler, ΙΗΣΟΎΣ ΒΑΣΙΛΕΎΣ, 1:55); однако такая передача εἴγε выглядит маловероятной.
(обратно)
1740
Абрахам Шалит считает, что этот перелом произошел в 1930–1940-х годах («Josephus», EncJud 11:440); см. также: Thackeray, Josephus, с. 137. Однако были и более ранние прецеденты, как показывает источник: Pelletier, «Flavius Josèphe sur Jésus», с. 177–181.
(обратно)
1741
Meier, Marginal Jew, 1:59; см. также: Stanton, Gospels and Jesus, с. 149; Morton Smith, Jesus the Magician (San Francisco: Harper & Row, 1978), с. 45; Evans, «Jesus in Non-Christian Sources», с. 466–468; E. P. Sanders, The Historical Figure of Jesus (New York: Penguin, 1995), с. 50; Louis H. Feldman, «Josephus», ABD 3:981–998, цит. с. 990; idem, «State of the Question», с. 199; Setzer, Jewish Responses, с. 106; Zvi Baras, «Testimonium Flavianum», с. 303; Mason, Josephus and the New Testament, с. 165–171; Brown, Death of the Messiah, 1:374. К. Олсон, хотя и не согласный с ними по вопросу о подлинности, согласен с оценкой современного критического контекста: см.: K. A. Olson, «Eusebius and the Testimonium Flavianum», CBQ 61 (1999): 305–322.
(обратно)
1742
Schweitzer, Quest of the Historical Jesus, с. 359.
(обратно)
1743
Winter, «Josephus on Jesus and James», с. 433–434; Brown, Death of the Messiah, 1:374.
(обратно)
1744
Thackeray, Josephus, с. 130–131.
(обратно)
1745
Geza Vermes, «The Jesus Notice of Josephus Re-Examined», в кн.: Jesus in His Jewish Context (Minneapolis: Fortress, 2003), с. 91–98, цит. с. 92–93.
(обратно)
1746
Klausner, Jesus of Nazareth, с. 57–58; Gerd Theissen and Annette Merz, The Historical Jesus: A Comprehensive Guide (trans. J. Bowden; Minneapolis: Fortress, 1998), с. 67; Vermes, «Jesus Notice», с. 93.
(обратно)
1747
Подробнее об этом см.: Mason, Josephus and the New Testament, с. 165–171.
(обратно)
1748
Meier, Marginal Jew, 1:68.
(обратно)
1749
Thackeray, Josephus, с. 144; Vermes, «Jesus Notice», с. 94–98; Van Voorst, Jesus outside the New Testament, с. 89; Setzer, Jewish Responses, с. 107.
(обратно)
1750
Thackeray, Josephus, с. 141; Van Voorst, Jesus outside the New Testament, с. 90; Feldman, «Josephus», с. 991; Dubarle, «Témoignage de Josèphe sur Jésus», с. 51–52. Подлинность этих слов отвергает Сандерс: Sanders, Historical Figure of Jesus, с. 50.
(обратно)
1751
Thackeray, Josephus, с. 146; Van Voorst, Jesus outside the New Testament, с. 90; Dubarle, «Témoignage de Josèphe sur Jésus», с. 52.
(обратно)
1752
Thackeray, Josephus, с. 147; Evans, Jesus and His Contemporaries: Comparative Studies (Boston: Brill, 2001), с. 44–45; Dubarle, «Témoignage de Josèphe sur Jésus», с. 53.
(обратно)
1753
Thackeray, Josephus, с. 148; Van Voorst, Jesus outside the New Testament, с. 91; Setzer, Jewish Responses, с. 107.
(обратно)
1754
Thackeray, Josephus, с. 138.
(обратно)
1755
J. H. Charlesworth, «Jewish and Christian Self-Definition in Light of the Christian Additions to the Apocryphal Writings», в кн.: Jewish and Christian Self-Definition (ed. E. P. Sanders et al.; 3 vols.; Philadelphia: Fortress, 1980–1982), 2:27–55, цит. с. 27.
(обратно)
1756
Pierre Prigent, «Thallos, Phlégon et le Testimonium Flavianum: Témoins de Jésus», в кн.: Paganisme, Judaïsme, Christianisme: Influences et affrontements dans le monde antique (ed. A. Benoit, M. Philonenko, and C. Vogel; Paris: de Boccard, 1978), с. 329–334. Сам контекст, в котором Евсевий цитирует Свидетельство, иллюстрирует использование Иосифа для противодействия «запискам» противников Иисуса.
(обратно)
1757
О роли замечаний Оригена в дискуссии о Флавиевом свидетельстве см.: Feldman, «State of the Question», с. 181–185; Serge Bardet, Le Testimonium Flavianum: Examen historique considérations historiographiques (Josèphe et son temps 5; Paris: Cerf, 2002), с. 79–85; Whealey, Josephus on Jesus, с. 3–52.
(обратно)
1758
Thackeray, Josephus, с. 139; Meier, Marginal Jew, 1:68, 87–88; Van Voorst, Jesus outside the New Testament, с. 97; Solomon Zeitlin, «The Christ Passage in Josephus», JQR 18 (1928): 231–255, цит. с. 237; Bardet, Testimonium Flavianum, с. 150–154.
(обратно)
1759
В этих трех цитатах Ориген использует текст Иосифа как косвенное подтверждение того, что мученичество Иакова повлекло за собой гибель Второго Храма; Ориген постоянно заявляет, что Иосиф не верил в Иисуса; далее сам он несколько противоречит собственному использованию Иосифа, утверждая, что разрушение Храма вызвала смерть не Иакова, но самого Иисуса.
(обратно)
1760
Ch. Martin, «Le ‘Testimonium Flavianum’: Vers une solution definitive», RBPH 20 (1941): 409–465, цит. с. 458–465. По Фельдману, Мартин полагает, что Иосиф, возможно, описал происхождение и развитие χριστιανοί в отрывке, который «скорректировал» Ориген, а затем привел к нынешнему облику Евсевий («State of the Question», с. 189).
(обратно)
1761
Zeitlin, «Christ Passage», с. 237–240; idem, Josephus on Jesus (Philadelphia: Dropsie College, 1931), с. 61–70. Цейтлин полагается особенно на параллели в использовании Иосифом и Евсевием слова «племя» или «род» (φῦλον; tribus); ср.: особенно с τό Χριστιανόν φῦλον (Евсевий, Церк. ист 3.33) и τό Σαµαρειτῶν φῦλον (Толк. Пс 23). Давид Флуссер заключает, что именно Евсевий переписал изначальное Свидетельство, приведя его в соответствие с ортодоксальным христианским учением («The Evidence of Josephus on Jesus», в кн.: Jewish Sources in Early Christianity: Studies and Essays [Hebrew] [Tel Aviv: Poalim, 1979], с. 72–80). Об этом см.: Feldman, «State of the Question», с. 197–198. Сам Фельдман, по-видимому, также склоняется в пользу Евсевия (с. 198–199). Подробнее об этом см.: Édouard Reuss, «Flavius Joseph», Nouvelle revue de théologie (1859): 253–319, цит. с. 312–319. Современное состояние вопроса в Brown, Death of the Messiah, 1:375 прим. 108; Olson, «Eusebius and the Testimonium Flavianum», с. 305–322.
(обратно)
1762
Felix Scheidweiler, «Das Testimonium Flavianum», ZNW 45 (1954): 230–243; Pelletier, «Flavius Josèphe sur Jésus», с. 14–15; J. Spencer Kennard, «Gleanings from the Slavonic Josephus Controversy», JQR 39 (1948): 161–170, цит. с. 161–163.
(обратно)
1763
Martin, Testimonium Flavianum.
(обратно)
1764
Pelletier, «Flavius Josèphe sur Jésus», с. 191–192.
(обратно)
1765
Heinz Schreckenberg, Die Flavius-Josephus-Tradition in Antike und Mittelalter (ALGHJ 5; Leiden: Brill, 1972), с. 88–95.
(обратно)
1766
Feldman, «State of the Question», с. 184–185.
(обратно)
1767
ET: L. H. Feldman (LCL), с. 495–497.
(обратно)
1768
См.: Olson, «Eusebius and the Testimonium Flavianum», с. 315, прим. 19.
(обратно)
1769
Theissen and Merz, Historical Jesus, с. 65; Meier, Marginal Jew, 1:59; Stanton, Gospels and Jesus, с. 148; Smith, Jesus the Magician, с. 45; Evans, «Jesus in Non-Christian Sources», с. 469–470; Dmitri Merejkowski, Jesus the Unknown (trans. H. Chrouschoff Matheson; New York: Scribner, 1933), с. 36; Giuseppe Ricciotti, Life of Christ (trans. A. Zizzamia; Milwaukee: Bruce, 1947), с. 81; Van Voorst, Jesus outside the New Testament, с. 83; Feldman, «Josephus», с. 990; idem, «State of the Question», с. 183, 199; Thackeray, Josephus, с. 131; Setzer, Jewish Responses, с. 108.
(обратно)
1770
Théodore Reinach, «Josèphe sur Jésus», REJ 35 (1897): 1–18; Theissen and Merz, Historical Jesus, с. 66; Meier, Marginal Jew, 1:62; Winter, «Josephus on Jesus and James», с. 432; Maurice Goguel, The Life of Jesus (trans. O. Wyon; New York: Macmillan, 1944), с. 80; Smith, Jesus the Magician, с. 45; Evans, «Jesus in Non-Christian Sources», с. 470; Otto Betz, What Do We Know about Jesus? (Philadelphia: Westminster, 1968), с. 9; Darrell Bock, Studying the Historical Jesus: A Guide to Sources and Methods (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), с. 54; Merejkowski, Jesus the Unknown, с. 35; Roderic Dunkerley, Beyond the Gospels (Baltimore: Penguin, 1957), с. 35; Crossan, Historical Jesus, с. 372; Feldman, «Josephus», с. 990–991; idem, «State of the Question», с. 199; Bardet, Testimonium Flavianum, с. 77–79.
(обратно)
1771
Theissen and Merz, Historical Jesus, с. 69; F. F. Bruce, Jesus and Christian Origins outside the New Testament (London: Hodder & Stoughton, 1974), с. 96; Alphonse Tricot, «Le Témoignage de Josèphe sur Jésus», RAp 34 (1922): 73–85, 139–153, особенно с. 141–145. Неприятие аргумента: Meier, Marginal Jew, 1:61.
(обратно)
1772
Это оспаривается в источнике: Twelftree, «Jesus in Jewish Traditions», с. 300–301.
(обратно)
1773
См. также обвинение иудеев в адрес Иисуса, сына Анании, которого прокуратор Альбин предпочел освободить (И. В. VI, 5.3); Theissen and Merz, Historical Jesus, с. 460.
(обратно)
1774
Уинтер также полагает, что едва ли возможно ждать подобной объективности от христианской редактуры II–IV вв., эпохи, когда вина за эти события возлагалась целиком и полностью на евреев: «Josephus on Jesus and James», с. 433–434; см. также: idem, On the Trial of Jesus (SJ 1; Berlin: de Gruyter, 1961), с. 55–61; Ernst Bammel, «The Trial before Pilate», в кн.: Jesus and the Politics of His Day (ed. Bammel et al.; Cambridge: Cambridge University Press, 1984), с. 415–451, цит. с. 433–434.
(обратно)
1775
Иной биографический контекст, в котором Иосиф Флавий впервые узнал о христианах, предполагает Пеллетье: по его мнению, с Иисусом его познакомила громкая история ареста и тюремного заключения Павла, проповедника, прославленного и в Иерусалиме, и в Риме («Flavius Josèphe sur Jésus», с. 181–184); подробнее об этом см.: André Feuillet, «Les anciens historiens profanes et la connaissance de Jésus», Esprit et vie 87 (1977): 145–153, цит. с. 147–152. Хотя это возможно, думается, что казнь Иакова с куда большей вероятностью дала молодому иудейскому аристократу возможность познакомиться с христианством, его происхождением и основателем.
(обратно)
1776
Meier, Marginal Jew, 1:57–59. См. также: Goguel, Life of Jesus, с. 77; Zvi Baras, «The Testimonium Flavianum and the Martyrdom of James», в кн.: Josephus, Judaism, and Christianity (ed. L. Feldman and G. Hata; Detroit: Wayne State University Press, 1987), с. 338–348, цит. с. 341.
(обратно)
1777
Chronique de Michel le Syrien, patriarche jacobite d’Antioche, Éditée pour la première fois et traduite en français (ed. and trans. J. B. Chabot; 4 vols.; Brussels: Culture et Civilisation, 1963).
(обратно)
1778
Текст можно найти в кн.: P. L. Cheikho, ed., Agapius Episcopus Mabbugensis Historia Universalis (Beirut: E Typographeo Catholico, 1912); S. Pines, An Arabic Version of the Testimonium Flavianum and Its Implications (Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities, 1971). Более новое исследование этой версии (после Пайнса): Whealey, Josephus on Jesus, с. 28–43, 185–195.
(обратно)
1779
Эйслер, по-видимому, опирается именно на латинское свидетельство и переводит его на греческий как ὁ Χριστός εἶναι ἐνοµίζετο (ΙΗΣΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, 1:68).
(обратно)
1780
Отметим также у Агапия: «Они [ученики] рассказывали, что он прежде явился им». На этой основе некоторые ученые полагают, что примерно так же должен был звучать и изначальный греческий текст Свидетельства, т. е. «[ученики] без оснований утверждали, что он явился им живым». См.: Theissen and Merz, Historical Jesus, с. 72; Bammel, «Zum Testimonium Flavianum», с. 9–22.
(обратно)
1781
Thackeray, Josephus, с. 147; Baras, «Testimonium Flavianum», с. 304; Whealey, Josephus on Jesus, с. 43.
(обратно)
1782
Pines, Arabic Version, с. 70; Crossan, Historical Jesus, с. 374.
(обратно)
1783
Pines, Arabic Version, с. 70; Twelftree, «Jesus in Jewish Traditions», с. 308–309.
(обратно)
1784
Evans, «Jesus in Non-Christian Sources», с. 451–453; Van Voorst, Jesus outside the New Testament, с. 87–88; Zeitlin, «Christ Passage», с. 243–250; idem, Josephus on Jesus, с. 20–41; John Martin Creed, «The Slavonic Version of Josephus’ History of the Jewish War», HTR 25 (1932): 279–319; J. W. Jack, The Historic Christ: An Examination of Dr. Robert Eisler’s Theory according to the Slavonic Version of Josephus and Other Sources (London: James Clarke, 1933); A. Rubinstein, «Observations on the Old Russian Versions of Josephus’ Wars», JSS 2 (1957): 329–348.
(обратно)
1785
Thackeray, Josephus, с. 141; Barrett, New Testament Backgrounds, с. 198; Winter, «Josephus on Jesus and James», с. 437–439; Goguel, Life of Jesus, с. 81; Feldman, «State of the Question», с. 185; Norden, «Josephus und Tacitus», с. 27–46.
(обратно)
1786
Eisler, ΙΗΣΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, 1:24–32.
(обратно)
1787
Там же, 1:51–90.
(обратно)
1788
Clyde Pharr, «The Testimony of Jesus to Christianity», AJP 48 (1927): 137–147. См. также: Bammel, «Zum Testimonium Flavianum», с. 9–22; Albert Bell, «Josephus the Satirist? A Clue to the Original Form of the Testimonium Flavianum», JQR 67 (1976): 16–22. Критический обзор подобных теорий: Dubarle, «Témoignage de Josèphe sur Jésus», с. 38–58.
(обратно)
1789
Среди тех, кто поддерживает это предположение – Winter, «Josephus on Jesus and James», с. 437–439; Dubarle, «Témoignage de Josèphe sur Jésus», с. 48.
(обратно)
1790
Mason, Josephus and the New Testament, с. 165.
(обратно)
1791
Schweitzer, Quest of the Historical Jesus, с. 360; Klausner, Jesus of Nazareth, с. 56–57; Goguel, Life of Jesus, с. 81; см. также: Feldman, «Josephus», с. 991; idem, «State of the Question», с. 199.
(обратно)
1792
Sanders, Historical Figure of Jesus, с. 50–51. Подробнее об этом см.: Fredriksen, Historical Jesus, с. 249, где автор видит в этой относительной краткости показатель сравнительной значимости Иисуса и Иоанна Крестителя для современников.
(обратно)
1793
Feldman, «State of the Question», с. 186–187.
(обратно)
1794
Там же, с. 194–195; Twelftree, «Jesus in Jewish Traditions», с. 306.
(обратно)
1795
См. далее.
(обратно)
1796
Далее Уинтер предполагает, что Иосиф брал свои сведения у фарисеев, – и исходит из гипотезы, согласно которой некоторые фарисейские круги в то время еще не заклеймили Иисуса колдуном («Josephus on Jesus and James», с. 441). Другое предположение состоит в том, что некоторые сведения об Иисусе и христианах Иосиф мог получить через свои контакты с Агриппой (Жизнь 364–366; ср.: Деян 25:13); см.: Feuillet, «Anciens historiens profanes», с. 147–152.
(обратно)
1797
См. также: Деян 2:22–23: «Иисус Назорей, муж, засвидетельствованный вам от Бога силами и чудесами и знамениями»; Лк 24:19: «…пророк, сильный в деле и слове». Вермеш полагает, что Лука здесь зависит от «до-Павловых иудеохристианских преданий» («Jesus Notice», с. 96).
(обратно)
1798
Burton Mack, A Myth of Innocence: Mark and Christian Origins (Philadelphia: Fortress, 1988), с. 57–60.
(обратно)
1799
Theissen and Merz, Historical Jesus, с. 65; Van Voorst, Jesus outside the New Testament, с. 84. Упоминание об «Иисусе, именуемом Христом» (И. Д. XX, 9.1), по-видимому, отражает не греческое или римское словоупотребление, а скорее семитское, в котором слово «Христос» очень быстро стало не столько титулом, сколько вторым именем или «фамилией» Иисуса.
(обратно)
1800
Vermes, «Jesus Notice of Josephus Re-Examined», с. 96.
(обратно)
1801
Meier, Marginal Jew, 1:67–68. Теккерей, напротив, предполагает у Иосифа христианский источник (Josephus, с. 148). Однако он основывается на утверждении, что слова «и на третий день явился им снова живым» относятся к подлинному тексту Свидетельства и отражают краткое содержание раннехристианской проповеди. С этим согласиться труднее: многие полагают, что эта фраза – позднейшая христианская вставка, которой у Иосифа не было.
(обратно)
1802
Р. Эванс, «Иисус и неканонические писания», см. выше. См. также: Van Voorst, Jesus outside the New Testament, с. 102–103; Twelftree, «Jesus in Jewish Traditions», с. 295.
(обратно)
1803
Crossan, Historical Jesus, с. 372; Fredriksen, Jesus of Nazareth, с. 248; Evans, «Jesus in Non-Christian Sources», с. 473–474.
(обратно)
1804
Юридическая терминология здесь полностью согласуется с наименованием доноса (официального сообщения властям о преступлении) в классической литературе: ср.: Андокид 1.10; Демосфен 20.156 (Лепт 156), Аристотель, Аф. пол 29.4; 52.1.
(обратно)
1805
Evans, Jesus and His Contemporaries, с. 44–45; Van Voorst, Jesus outside the Gospels, с. 101; Theissen and Merz, Historical Jesus, с. 467; Crossan, Who Killed Jesus? Exposing the Roots of Anti-Semitism in the Gospel Story of the Death of Jesus (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1996), с. 147–150; Sanders, Historical Figure of Jesus, с. 269.
(обратно)
1806
Winter, «Josephus on Jesus and James», с. 433; idem, Trial of Jesus, с. 43, 54–56, 111–135; W. Barnes Tatum, In Quest of Jesus (2nd ed.; Nashville: Abingdon, 1999), с. 221–222; Sanders, Historical Figure of Jesus, с. 273–274; Haim Cohn, The Trial and Death of Jesus (New York: Harper & Row, 1971), с. 9–15.
(обратно)
1807
Об этом см.: Brown, Death of the Messiah, 1:383–397.
(обратно)
1808
Theissen and Merz, Historical Jesus, с. 67, 74; Meier, Marginal Jew, 1:64–65.
(обратно)
1809
Meier, Marginal Jew, 1:68.
(обратно)
1810
Там же, 1:76, прим. 19.
(обратно)
1811
Dunkerley, Beyond the Gospels, с. 34; совершенно нейтральное прочтение: Van Voorst, Jesus outside the New Testament, с. 95; Baras, «Testimonium Flavianum», с. 308, 313; idem, «Testimonium Flavianum and Martyrdom of James», с. 338–342.
(обратно)
1812
Crossan, Who Killed Jesus? с. 7.
(обратно)
1813
Пеллетье противопоставляет это описание описанию чудес Илии, которые Иосиф прямо приписывает Богу («Flavius Josèphe sur Jésus», с. 189).
(обратно)
1814
Pharr, «Testimony of Josephus to Christianity», с. 137–147; Bammel, «A New Variant Form of the Testimonium Flavianum», ExpTim 85 (1974): 145–147; idem, «Zum Testimonium Flavianum», с. 9–22; Bell, «Josephus the Satirist», с. 16–22; Stanton, Gospels and Jesus, с. 150; Smith, Jesus the Magician, с. 45–46; Evans, «Jesus in Non-Canonical Sources», с. 470–471; Merejkowski, Jesus the Unknown, с. 36; Bruce, Jesus and Christian Origins, с. 38; Thackeray, Josephus, с. 138; Reinach, «Josèph sur Jésus», с. 1–18; Pines, Arabic Version, с. 65–75; Twelftree, «Jesus in Jewish Traditions», с. 296–297; Brandon, Jesus and the Zealots, с. 361–362; Eisler, ΙΗΣΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, 1:38–88.
(обратно)
1815
Klausner, Jesus of Nazareth, с. 57; Vermes, «Jesus Notice», с. 98; Powell, Jesus as Figure in History, с. 33; Setzer, Jewish Responses, с. 107; Dubarle, «Témoignage de Josèphe sur Jésus», с. 55; Feuillet, «Anciens historiens profanes», с. 150.
(обратно)
1816
Eisler, ΙΗΣΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, 1:52–55, 62–64; Brandon, Jesus and the Zealots, с. 362–364; Twelftree, «Jesus in Jewish Traditions», с. 304–305.
(обратно)
1817
Bammel, «Zum Testimonium Flavianum», с. 9–22; idem, «New Variant Form», с. 145–147.
(обратно)
1818
Eisler, ΙΗΣΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, 1:37–39. С этим спорит Эванс (Evans, Jesus and His Contemporaries, с. 79).
(обратно)
1819
Brandon, Jesus and the Zealots, с. 362–363.
(обратно)
1820
По мнению Теккерея, это выражение принадлежит помощнику Иосифа, принадлежавшему к школе Фукидида (Josephus, с. 141, 144–45); см.: Eisler, ΙΗΣΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, 1:40.
(обратно)
1821
Reinach, «Josèphe sur Jésus», с. 9. Пеллетье, на мой взгляд, справедливо отвергает такое прочтение («Flavius Josèphe sur Jésus», с. 188). См.: в приложении к этой статье мои замечания об использовании Иосифом этого греческого прилагательного – как правило, в положительном контексте, при описании чудес и пророчеств.
(обратно)
1822
Bammel, «Zum Testimonium Flavianum», с. 18–21.
(обратно)
1823
См. изображение мудрецов египетских (И. Д. II, 13.3; Пр. Ап 1.236; ср.: 1.256, 2.140), вавилонских (И. Д. X, 10.3) и греческих (Пр. Ап 2.168). Важнее всего, см.: характеристики Моисея (И. В. III, 8.5), Зоровавеля (И. Д. XI, 1.3), Соломона (И. Д. VIII, 2.7; Пр. Ап 1.111) и особенно Даниила (И. Д. X, 10.4, 11.2, 11.3).
(обратно)
1824
R. Laqueur, Der jüdische Historiker Flavius Josephus (Giessen: Munchow, 1920), с. 274–277.
(обратно)
1825
Klausner, Jesus of Nazareth, с. 57. Аналогично и Баррет отмечает, что в описаниях Иоанна Крестителя и Иисуса у Иосифа проявляется «цивилизующая» тенденция – стремление сделать их более презентабельными в глазах греческой и римской аудитории (Klausner, New Testament Background, с. 278).
(обратно)
1826
Klausner, Jesus of Nazareth, с. 59–60.
(обратно)
1827
Зетцер отмечает здесь у Иосифа «ноты сострадания» (Setzer, Jewish Responses, с. 108).
(обратно)
1828
Сравнение Иоанна и Иакова см.: Theissen and Merz, Historical Jesus, с. 73–74; Thackeray, Josephus, с. 131.
(обратно)
1829
Об этих двух учителях см.: C. D. Elledge, Life after Death in Early Judaism: The Evidence of Josephus (WUNT 2/208; Tübingen: Mohr Siebeck, 2006), с. 64–67; Bernd Schröder, Die ‘väterlichen Gesetze’: Flavius Josephus als Vermittler von Halachah an Griechen und Römer (TSAJ 53; Tübingen: Mohr Siebeck, 1996), с. 35–36; Martin Hengel, The Zealots: Investigations into the Jewish Freedom Movement in the Period from Herod I until 70 A.D. (trans. D. Smith; Edinburgh: T&T Clark, 1989), с. 258–259; Richard A. Horsley and John S. Hanson, Bandits, Prophets, and Messiahs: Popular Movements in the Time of Jesus (NVBS; Minneapolis: Winston, 1985), с. 182–185; Cecil Roth, «An Ordinance against Images in Jerusalem, A.D. 66», HTR 44 (1956): 169–177; Julius Guttmann, «The ‘Second Commandment’ and the Image in Judaism», HUCA 32 (1961): 161–174.
(обратно)
1830
Winter, Trial of Jesus, с. 54–55.
(обратно)
1831
Для сравнения можно вспомнить, как Филон гневно осуждает Пилата, который внес изображения в Иерусалим.
(обратно)
1832
Winter, «Josephus on Jesus and James», с. 440–441; Brown, Death of the Messiah, 1:374.
(обратно)
1833
Setzer, Jewish Responses, с. 107. Однако не могу поддержать ее мнение, согласно которому «упоминание о казни Иакова подразумевает, что Иосиф считает христиан достойными римского покровительства и защиты» (с. 109). Более правдоподобен другой ее тезис: «Эта несправедливая казнь, по-видимому, вызвала у них опасения за собственное благополучие и побудила защищать его, как себя» (с. 109).
(обратно)
1834
Adalbert Hamman, «Chrétiens et Christianisme vus et jugés par Suetone, Tacite et Pline le Jeune», в кн.: Forma Futuri: Studi in onore del Cardinale Michele Pellegrino (ed. A. Maddalena; Turin: Bottega d’Erasmo, 1975), с. 91–109, цит. с. 101; Ronald Syme, Tacitus (2 vols.; repr. Oxford: Clarendon, 1979), 2:532–33; Ronald Martin, Tacitus (Berkeley: University of California Press, 1981), с. 183.
(обратно)
1835
Вполне возможно, что здесь применим «критерий Гамалиила», упомянутый в Деян 5:33–40; если какое-то движение выживает и сохраняется – это может свидетельствовать о том, что его принимает или одобряет Бог.
(обратно)
1836
Feldman, «Josephus», с. 990; idem, «State of the Question», с. 183.
(обратно)
1837
Robert J. Getty, «Nero’s Indictment of the Christians in A.D. 64: Tacitus’ Annals 5.44.2–4», в кн.: Classical Tradition: Literary and Historical Studies in Honor of Harry Caplan (ed. L. Wallach; Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1966), с. 285–292, цит. с. 286. Выражение subdidit reos, очевидно, имеет смысл «неправосудного» обвинения. Стивен Бенко переводит это выражение как «возложил ответственность» («Pagan Criticism of Christianity», ANRW II.23.2 (1980): 1062); Ван Ворст – «объявил виновниками» (Jesus outside the Gospels, с. 41); Мейер – «сделал козлами отпущения» (Marginal Jew, 1:89). То же выражение в другом контексте см.: Harald Fuchs, «Tacitus über die Christen», VC 4 (1950): 65–93, цит. с. 67–68, который перефразирует его так: «eine unwahre Beschuldigung vorgebracht habe» [ «выдвинул ложное обвинение»].
(обратно)
1838
Орфография по источнику: Медицейский кодекс 68 II fol. 38 r. Копию рукописи см. в издании: Fuchs, «Tacitus über die Christen», с. 71–73. Фукс предпочитает этот вариант написанию «Christiani», как и в кн.: Van Voorst, Jesus outside the New Testament, с. 43–44. Это слово у Тацита напоминает правописание Светония: Chrestus (Клавдий, 25.4). Другие использования написания «Хрестос» и «хрестиане», часто в связи с греческим словом χρηστός, см.: Тертуллиан Аполог 3.5; Лактанций, Устан 4.7.4; 1 Клим 14:4; Иустин, 1 Апол 4–5; Феофил, Автол 1.1; Климент Александрийский, Стром 2.4.18.
(обратно)
1839
В оригинале используется слово, означающее «автор», «основатель», «изобретатель», «вождь», «прародитель» (лат. auctor).
(обратно)
1840
Meier, Marginal Jew, 1:89.
(обратно)
1841
Аргументы в пользу обратного см.: Erich Koestermann, Cornelius Tacitus: Annalen II (Heidelberg: Winter, 1965), с. 28. Дальнейшее решение этого вопроса зависит от нашего мнения о так называемом «фрагменте 2» Тацита (Сульпиций Север, Хроника 2.30.7). Об истории исследования и возможной подлинности этого фрагмента см.: Eric Laupot, «Tacitus’ Fragment 2: The Anti-Roman Movement of the Christiani and the Nazoreans», VC 54 (2000): 233–247; idem, «The Christiani’s Rule over Israel during the Jewish War: Tacitus’ Fragment 2 and Histories 5.13, Suetonius Vespasian 4.5, and the Coins of the Jewish War», REJ 162 (2003): 69–96. Иисус в этом спорном отрывке напрямую не упоминается, однако в нем имеется следующее замечание о христианах: «Другие – и в их числе сам Тит – напротив, с этим не соглашались. Они указывали, что разрушить Храм совершенно необходимо для полного уничтожения религии иудеев и Christiani, ибо, хотя эти религии друг с другом в ссоре, они исходят из одного источника. Christiani выросли из иудеев; выкорчевав корень, легко будет разделаться и с ветвью» (пер. Лапо).
Вслед за более ранними исследователями Лапо заключает, что этот фрагмент «представляет собой практически первичный исторический источник, возможно, дошедший до нас благодаря Тациту, изображающий Christiani как значительную группу иудеев, действующую в оппозиции к Риму и в защиту Израиля» («Tacitus Fragment 2», 247). Однако другие ученые серьезнейшим образом оспаривают его подлинность. Даже если этот текст каким-либо образом связан с Тацитом, вполне резонно допустить, что до того, как в начале V в. его процитировал Сульпиций Север, пассаж подвергался значительному пересмотру и редактуре. На мой взгляд, этот отрывок отражает позднейшее и эгоцентричное толкование мотивов Тита, предпринятое явно христианским автором; Тит изображен здесь в первую очередь как преследователь христиан, настолько яростный, что исключительно ради борьбы с ними стремится уничтожить иудаизм, – древнюю историческую и религиозную традицию, из которой выросло и с которой сохраняло связь христианство. Пока не доказано, что этот фрагмент принадлежит Тациту или его более ранним источникам, разумнее считать, что Анн 15.44 – это единственное у Тацита историческое упоминание об Иисусе и христианах.
(обратно)
1842
Martin, Tacitus, с. 183.
(обратно)
1843
В очевидном несогласии с источником: Schweitzer, Quest of the Historical Jesus, с. 359–361.
(обратно)
1844
Об этой тенденции у Тацита см.: B. Walker, The Annals of Tacitus: A Study in the Writing of History (2nd ed.; Manchester: Manchester University Press, 1960), с. 244–247; Syme, Tacitus, 2:532–533; Benko, «Pagan Criticism of Christianity», с. 1063–1068.
(обратно)
1845
Adolf von Harnack, «Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus und Jesus Christus», IMWKT 7 (1913): 1037–1068; дальнейшую защиту предположения Гарнака см. в кн.: Franz Dornseiff, «Lukas der Schriftsteller, mit einem Anhang: Josephus und Tacitus», ZNW 35 (1936): 129–155, цит. с. 148–155.
(обратно)
1846
Meier, Marginal Jew, 1:101.
(обратно)
1847
Общая черта, характерная для Тацита, Плиния (Письма 10.96) и, по-видимому, Светония (Клавдий 25.4).
(обратно)
1848
Meier, Marginal Jew, 1:91; см. также: Norden, «Josephus und Tacitus», с. 650–652.
(обратно)
1849
Harald Fuchs, «Tacitus über die Christen», с. 72; Hamman, «Christianisme et écrivains payens», с. 97; Theissen and Merz, Historical Jesus, с. 82; Murray Harris, «References to Jesus in Early Classical Authors», в кн.: Jesus Tradition outside the Gospels, ed. Wenham, с. 343–368, цит. с. 351; Van Voorst, Jesus outside the New Testament, с. 52.
(обратно)
1850
Norden, «Josephus und Tacitus», с. 651.
(обратно)
1851
Плиний, Письма 10.96; Тацит, Анн 15.44; Syme, Tacitus, 2:469, прим. 3.
(обратно)
1852
О резких различиях в тоне и точке зрения см.: Hamman, «Christianisme et écrivains payens», с. 108.
(обратно)
1853
Этого, мне кажется, достаточно для того, чтобы не согласиться с мнением Швейцера, что Светоний и Тацит опирались на христианские источники (Quest of the Historical Jesus, с. 359–361).
(обратно)
1854
Бенко предполагает также, что эпизод с Титом Флавием Клементом и Флавией Домитиллой в Риме в 95 г. н. э. может пролить свет на биографический контекст, сформировавший понимание Тацитом христиан и христианства – разумеется, если Флавий и Домитилла действительно были христианами, а не просто практиковали «иудейские обычаи» («Pagan Criticism of Christianity», с. 1063).
(обратно)
1855
Ван Ворст полагает, что во время исполнения жреческих обязанностей в 88 г. н. э. Тацит мог получить немало сведений о различных распространенных в Риме религиозных культах, в том числе о христианстве (Jesus outside the New Testament, с. 52). Еще один возможный источник знаний – разговоры простонародья, того самого, среди которого, по словам Тацита, последователи новой религии были известны под именем «хрестиане».
(обратно)
1856
Harris, «References to Jesus», с. 349–352; Theissen and Merz, Historical Jesus, с. 83.
(обратно)
1857
Harris, «References to Jesus», с. 349–350.
(обратно)
1858
Josef Blinzler, The Trial of Jesus: The Jewish and Roman Proceedings against Jesus Christ Described and Assessed from the Earliest Accounts (trans. I. and F. McHugh; Westminster, Md.: Newman, 1959; orig. 1951), с. 33.
(обратно)
1859
Другие пункты перечня относятся к гражданам, не родившимся в Риме, а также к уроженцам Ахайи, Македонии, Ликии, Родоса, Илиона, германцам, парфянам, армянам и галльским друидам. Донна Хёрли отмечает, что Светоний располагает этот эпизод «в списке проблем с чужими народами, а не с чужими религиями» (25.5): Suetonius: Divvs Clavdivs (Cambridge Greek and Latin Classics; Cambridge: Cambridge University Press, 2001), с. 176–177.
(обратно)
1860
ET: J. C. Rolfe (LCL), с. 53. Ван Ворст переводит impulsore как имя существительное, прилагаемое к слову Chresto: «Он изгнал евреев из Рима, поскольку они вечно бунтовали из-за подстрекателя Хреста» (Jesus outside the New Testament, с. 30).
(обратно)
1861
Аргументы в пользу этого см.: у Stephen Benko, «The Edict of Claudius of A.D. 49», TZ 25 (1969): 406–418; H. Dixon Slingerland, Claudian Policymaking and the Early Imperial Repression of Judaism at Rome (SFSHJ 160; Atlanta: Scholars Press, 1997). О других ученых, защищающих такое прочтение, см.: Van Voorst, Jesus outside the New Testament, с. 32, прим. 36.
(обратно)
1862
С другой стороны, его описание христиан (Нерон 16.2) имеет много общего с описанием Тацита, однако прямых упоминаний Иисуса не содержит.
(обратно)
1863
Краткую историю этих теорий, с конца XVIII в. и по наши дни, см.: Van Voorst, Jesus outside the Gospels, с. 6–16; и Goguel, Life of Jesus, с. 61–69.
(обратно)
1864
Греческий текст в данном случае приводится по LCL. Другие чтения приводятся по: Иероним, Знам. муж 13; Михаил Сириец, Хроника 5.91 (ed. and trans. J.-B. Chabot, Chronique de Michelle Syrien [4 vols.; 1899–1910; repr. Brussels: Culture et civilisation, 1963], 1:144); Агапий, Всем. ист, т. 6, ed. Vasiliev; ed. Cheikho; Pines, Arabic Version; Евсевий, Церк. ист 1.11.7–8; Док. Ев 3–5; Eisler, ΙΗΣΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, vol. 1; Bammel, «Zum Testimonium Flavianum».
(обратно)
1865
κατὰ… χρόνον; ср.: И. Д. 13.46; 18.39 [Нумерация в данном случае и далее в сносках к главе – по греческому первоисточнику и LCL. – Прим. ред.].
(обратно)
1866
Ἰησοῦς; ср.: Ἰησοῦς τις (Евсевий, Церк. ист).
(обратно)
1867
σοφὸς; ср.: «мудрецы» Египта (И. Д. 2.285; Пр. Ап 1.236; ср.: 1.256; 2.140), Вавилона (И. Д. 10.197–198) и Греции (Пр. Ап 2.168), Моисей (И. В. 3.376), Зоровавель (И. Д. 11.57–58), Соломон (И. Д. 8.53; Пр. Ап 1.111) и Даниил (И. Д. 10.203, 237, 241; ср.: καἰ τις ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα τούτῳ [Мк 6:2]; ср.: σοφιστής) [Eisler, ΙΗΣΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, 1:61]).
(обратно)
1868
εἴγε ἄνδρα αὐτὸν λέγειν χρή; ср.: ειπερ ἄρα τὸν τοιαὐτὸν ἄνθρωπον δεῖ λέγειν καἰ µὴ θεον (Малала, Хроногр). Использование εἴγε у Иосифа Флавия см.: И. Д. 2.36; 17.181; 20.41; И. В. 5.19.
(обратно)
1869
παραδόξων ἔργων ποιητής; ср.: παραδόξος, о чудесных событиях и знамениях (И. Д. 2.267, 295, 345; 3.1, 14, 30; 5.28; 9.14, 58, 182; 10.24, 214, 235); о пророчествах (И. Д. 13.282; ср.: 15.379); ср.: mirabilium patrator operum (Иероним, Знам. муж); s‘wr’ d‘bd’ kbys’ (Михаил, Хрон).
(обратно)
1870
διδασκαλος; ср.: И. Д. 1.61; 3.49; 13.114; 15.373; 17.325, 334; 18.16; 19.172; 20.41, 46; Пр. Ап 1.178; 2.145; И. В. 7.442, 444; Жизнь 274. Ср.: wmlpn’ dkrr’ (Михаил, Хрон); παραδόξων ἔργων διδασκαλος (Eisler, ΙΗΣΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, 1:61).
(обратно)
1871
ἡδονῇ; ср.: libenter (Иероним, Знам. муж).
(обратно)
1872
τἀληθῆ; ср.: τὰ ἀήθη (Eisler, ΙΗΣΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, 1:61); ср.: И. Д. 17.328; 18.6.
(обратно)
1873
τῶν ἡδονῇ τἀληθῆ δεχοµένων; ср.: И. Д. 18.6, 59; 19.185; ср.: τἀληθῆ σεβοµένων.
(обратно)
1874
Ἰουδαίους; ср.: του Ἰουδαίκου (Евсевий, Док. Ев).
(обратно)
1875
καὶ πολλοὺς µὲν Ἰουδαίους, πολλοὺς δὲ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ; ср.: plurimos quoque tam de Iudaeis, quam de gentilibus (Иероним, Знам. муж).
(обратно)
1876
ἐπηγάγετο; ср.: И. В. 7.164; И. Д. 17.327; ср.: απήγαγετo (Eisler, ΙΗΣΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, 1:61); ср.: habuit sectatores (Иероним, Знам. муж).
(обратно)
1877
ὁ χριστὸς οὗτος ἦν; ср.: лат. credebatur esse Christus (Иероним, Знам. муж); сир. mstbr’ dmkys’ ’ytw hw’ (Михаил, Хрон); араб. fa-la‘allahu huwa al-masīh (Агапий, Всем. ист); ср.: τὸν ἀδελφὸν Ἰησοῦ τοῦ λεγοµένου Χριστοῦ (И. Д. 20.200).
(обратно)
1878
ἐνδείξει; ср.: И. Д. 19.131–133; Андокид 1.10; Демосфен 20.156, Аристотель, Аф. пол 29.4; 52.1; ср.: invidia (Иероним, Знам. муж).
(обратно)
1879
τῶν πρώτων ἀνδρῶν παρ᾽ ἡµῖν; ср.: οἱ πρώτων ἀνδρες (И. Д. 18.7, 98–99, 121, 376); ср.: παρ᾽ ἡµῖν (И. Д. 20.198; Пр. Ап 2.136); см.: Meier, Marginal Jew, 1:81–83. Ср.: τῶν παρ᾽ ἡµῖν ἀρχόντων (Евсевий, Док. Ев).
(обратно)
1880
σταυρῷ; ср.: И. В. 2.308; 5.451 (см. также: И. Д. 11.261, 266–267; И. В. 5.470; 7.202).
(обратно)
1881
ἐπιτετιµηκότος; ср.: adfixisset (Иероним, Знам. муж). Ср.: И. Д. 5.105; 18.107; И. В. 2.264; 4.383.
(обратно)
1882
ἐπαύσαντο; ср.: perseverarunt (Иероним, Знам. муж); lam yatrukū talmadhatahu (Агапий, Всем. ист).
(обратно)
1883
ἀγαπήσαντες; ср.: ἀπατήσαντες (Eisler, ΙΗΣΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, 1:61).
(обратно)
1884
ἐφάνη γὰρ αὐτοῖς; ср.: φάσκοντες ὅτι ἐφάνη… (Bammel, 20); φανῆ[ναι] γὰρ αὐτοῖς (ἔδοξε) (Eisler, ΙΗΣΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, 1:61); dhakarū (Агапий, Всем. ист).
(обратно)
1885
εἰς ἔτι τε; ср.: ὅθεν εἰσέτι (Евсевий, Док. Ев); usque hodie (Иероним, Знам. муж); w‘dm’ lywmn’ (Михаил, Хрон).
(обратно)
1886
Подобное выражение имени с ὀνοµάζεσθαι, см.: И. Д. 1.123, 126, 134, 212, 241; 3.299; 15.335; 19.8; Пр. Ап 1.48, 245, 311; 2.20, 39; И. В. 1.118; 5.67, 70, 170.
(обратно)
1887
τὸ φῦλον; ср.: gens (Иероним, Знам. муж); ‘m’ (Михаил, Хрон). О евреях: И. Д. 14.115; И. В. 2.397; 3.353; 7.327; о других «племенах»; И. В. 2.366, 374, 379, 381; о «воинстве» саранчи, И. Д. 2.306. Ср.: τό Χριστιανόν φῦλον (Евсевий, Церк. ист 3.33); τό Σαµαρειτῶν φῦλον (Евсевий, Толк. Пс 23).
(обратно)
1888
Климент Римский в своем Послании к Коринфянам цитирует речения Иисуса, отсутствующие в Евангелиях; в 13:2 он приводит серию из семи логий, сравнимых с Нагорной проповедью.
(обратно)
1889
Согласно ряду источников (Цицерон, Об ораторе, 2.51; Лукиан, Как следует писать историю, 48), история – это подраздел риторики. См. также: Дионисий Галикарнасский, Фук 5.
(обратно)
1890
См.: Peter M. Head, «Papyrological Perspectives on Luke’s Predecessors (Luke 1:1)», в кн.: The New Testament in Its First Century Setting (ed. P. J. Williams et al.; FS B. W. Winter; Grand Rapids: Eerdmans, 2004), с. 34–45.
(обратно)
1891
Тем более о Луке предание сообщает, что он записал Евангелие от Павла: см.: Ириней, Против ересей 3.1.1 (цит. по: Евсевий, Церк. ист 4.8.2–3).
(обратно)
1892
Некоторые ученые считают невозможным, чтобы Павел проповедовал благую весть, не рассказывая о речениях и деяниях Иисуса; см., напр.: David Seccombe, «The Story of Jesus and the Missionary Strategy of Paul», в кн.: The Gospel to the Nations (ed. P. Bolt and M. Thompson; FS P. T. O’Brien; Leicester: Apollos, 2000), с. 115–130.
(обратно)
1893
Это значение весьма отличается от изначального, – того, в каком понимала слово christianus римская власть: см.: Justin Taylor, «Why Were the Disciples First Called ‘Christians’ at Antioch? (Acts 11, 26)», RB 101 (1994): 75–94.
(обратно)
1894
Marie-Émile Boismard and Arnaud Lamouille, Le Texte occidental des Actes des Apôtres: Reconstitution et réhabilitation (Synthèse 17; Paris: Editions Recherche sur les civilizations, 1984). Выражение «западный текст» связано с тем, что изначально этот текст ассоциировался со старолатинским переводом Библии (Vetus Latina, вместе с ms. D), однако позже был засвидетельствован и на древнесирийском.
(обратно)
1895
См.: Jerome Murphy-O’Connor, St. Paul’s Corinth: Texts and Archaeology (GNS 6; Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1990), с. 138–148. Датировка 49 годом, принятая многими комментаторами, основана на довольно неопределенном тексте Павла Орозия, Ист. пр. яз 7.6.15–16; она предполагает простую на вид хронологию для Деян 18:1–17 между прибытием Акилы в Коринф (из-за эдикта Клавдия) и появлением Павла перед Юнием Галлионом, проконсулом Ахайи в 51–52 гг., что засвидетельствовано надписью в Дельфах; однако литературный анализ доказывает составной характер этого отрывка.
(обратно)
1896
См.: Деян 21:20: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители [ζηλωταί] закона».
(обратно)
1897
«Врата» здесь – не символ, а бытовая деталь. Формулировка «Иисуса распятого» указывает на официальный текст приговора (titulus), скорее всего, помещенный у врат Храма. Для греческих храмов это была обычная черта. Возможно, ссылка на это имеется также в старославянском тексте Иудейской войны; о ней см. далее.
(обратно)
1898
В псевдо-Климентовых писаниях, отражающих точку зрения наследников Иакова, Павел предстает как главный враг (см.: Воспом 1.70.7).
(обратно)
1899
См.: William Horbury, Jewish Messianism and the Cult of Christ (London: SCM, 1998).
(обратно)
1900
Так в Таргуме Онкелоса; Иустин, Разг 120.3–4; Ириней, Против ересей 4.10. И масоретский текст, и Септуагинта не столь понятны.
(обратно)
1901
Johann Jakob Griesbach, «Commentatio qua Marci Evangelium totum e Matthaei et Lucae commentariis decerptum esse monstratur», в кн.: Opuscula academica (ed. J. P. Gabler; 2 vols.; Jena: Frommanni, 1825), 2:358–425. В наше время гипотеза Грисбаха именуется теорией «двух Евангелий».
(обратно)
1902
Friedrich E. D. Schleiermacher, «Über die Zeugnisse des Papias von unsern beiden ersten Evangelien», в кн.: Sämmtliche Werke (31 vols.; Berlin: Reimer, 1834), 1.2:361–392.
(обратно)
1903
Adolf von Harnack, Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius (2 vols.; Leipzig: Hinrichs, 1893–1897), 2:711–722.
(обратно)
1904
Классический синтез дал в Германии Генрих Гольцман: Heinrich J. Holtzmann et al., Hand-Commentar zum Neuen Testament, vol. 1: Die Synoptiker, die Apostelgeschichte (2nd ed.; 4 тома; Freiburg im Breisgau: Mohr, 1892). Позднее эта дискуссия была продолжена в Оксфорде, где свой синтез предложил Бёрнетт Стритер: Burnet Hillman Streeter, The Four Gospels: A Study of Origins (London: Macmillan, 1924).
(обратно)
1905
David L. Dungan, «Critique of the Main Arguments for Mark’s Priority as Formulated by B. H. Steeter», в кн.: The Two-Source Hypothesis: A Critical Appraisal (ed. A. J. Bellinzoni; Macon, Ga.: Mercer University Press, 1984), с. 143–161. Он заключает, что Стритер не смог доказать первенство Марка: во-первых, он не обратил внимания на случаи лексических совпадений; во-вторых, его суждение о неразработанности языка и богословия Марка произвольно, – некоторые ученые на основе тех же литературных фактов заключают прямо обратное, говоря о значительном латинском влиянии.
(обратно)
1906
Теорию двух источников по-прежнему защищают некоторые ученые: William R. Farmer, The Synoptic Problem: A Critical Appraisal (New York: Macmillan, 1964); Bernard Orchard, Matthew, Luke and Mark: The Griesbach Solution to the Synoptic Question (2nd ed.; Manchester: Koinonia, 1976); idem, «The Publication of Mark’s Gospel», в кн.: The Synoptic Gospels: Source Criticism and the New Literary Criticism (ed. C. Focant; BETL 110; Leuven: Leuven University Press, 1993), с. 518–520; David L. Dungan, «The Purpose and Provenance of the Gospel of Mark According to the Two-Gospel (Owen-Griesbach) Hypothesis», в кн.: New Synoptic Studies: The Cambridge Conference and Beyond (ed. W. R. Farmer; Macon, Ga.: Mercer University Press, 1983), с. 411–440.
(обратно)
1907
Adolf von Harnack, Die Entstehung des Neuen Testaments und die wichtigsten Folgen der neuen Schöpfung (Leipzig: Hinrichs, 1914), с. 65–90. См. также: Yves-Marie Blanchard, Aux sources du canon: Le témoignage d’Irénée (Cogitatio Fidei 175; Paris: Cerf, 1993); Lee M. McDonald, The Biblical Canon: Its Origin, Transmission, and Authority (Peabody, Mass.: Hendrickson, 2007).
(обратно)
1908
Аполлинарий цитирует фрагмент из Папия, в котором содержится рассказ о смерти Иуды, явно противоречащий Мф 27:3–5 и Деян 1:18; см.: Enrico Norelli, ed., Papia di Hierapolis, Esposizione degli oracoli del signore, I frammenti: Introduzione, testo, traduzione e note (LCPM 36; Milan: Paoline, 2005), с. 336–350. Возможно, Аполлинарий пользовался той же версией Евангелия от Матфея, что и Папий Иерапольский.
(обратно)
1909
См.: Raymond E. Brown, The Gospel According to John (I–XII) (AB 29A; Garden City, N. Y.: Doubleday, 1966), с. xcviii – cii.
(обратно)
1910
В IV в. Амвросий Медиоланский (Таин 4.4) упоминает использование при Евхаристии обычного хлеба (usitatus). См.: Josef A. Jungmann, Missarum sollemnia: The Mass of the Roman Rite: Its Origins and Development (trans. F. A. Brunner; 2 vols.; New York: Benziger, 1951–1955), 2:72–75.
(обратно)
1911
См.: Étienne Nodet, «De Josué à Jésus, via Qumrân et le ‘pain quotidian’», RB 114 (2007): 208–236. Иоахим Иеремиас (Joachim Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus [trans. Norman Perrin; Philadelphia: Fortress, 1977]) стремится показать, что синоптики точнее Иоанна, однако это ему не удается, см.: Étienne Nodet and Justin Taylor, The Origins of Christianity: An Exploration (Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1998), с. 88–122.
(обратно)
1912
M.-É. Boismard, Arnaud Lamouille, Le Diatessaron: de Tatien à Justin (EBib 15; Paris: Gabalda, 1992); Dominique Barthélemy, «Appendice 1: Justin et le texte de la Bible», в кн.: Justin Martyr, Oeuvres Complètes (Bibliothèque 1; Paris: Migne, 1994), с. 369–377.
(обратно)
1913
Поэтому большое значение могут иметь древние переводы: см.: M.-É. Boismard, «Critique textuelle et citations patristiques», RB 57 (1950): 383–408.
(обратно)
1914
Чтение βαρουχ вторично (первичное βᾶρις), однако подтверждается старославянским текстом (см. далее). Для этого имени более вероятна путаница с похожим именем отца пророка: Варахия.
(обратно)
1915
Такое мнение защищает Альфред Луази: Alfred Loisy, Les Évangiles synoptiques (2 vols.; Ceffonds: Loisy, 1907–1908), 2:436.
(обратно)
1916
Четко указано в Деян 4:6, где он председательствует на импровизированном собрании. В западном тексте он также назван Анной.
(обратно)
1917
Как показано в подробном исследовании: Hermann Detering, «The Synoptic Apocalypse (Mk 13 par): A Document from the Time of Bar Kokhba», JHC 7 (2000): 161–210. Он отмечает, что здесь, по-видимому, Марк зависит от Матфея, а не наоборот.
(обратно)
1918
Об этом подробнее и со множеством примеров см. прил. 2 к статье: É. Nodet, «Pharisees, Sadducees, Essenes, Herodians», в кн.: The Study of Jesus, vol. 2, Handbook for the Study of the Historical Jesus, ed. T. Holmén and S. E. Porter (Leiden: Brill, 2011), с. 1525–1543.
(обратно)
1919
V. M. Istrin, A. Vaillant, and P. Pascal, La «Prise de Jérusalem» de Josèphe le Juif (2 vols.; Paris: Institut d’Études slaves, 1934–1938). Оно включает в себя перевод на французский язык и примечания, однако критическое введение к нему так и не было опубликовано.
(обратно)
1920
H. Leeming and K. Leeming, with L. V. Osinkina, Josephus’ Jewish War and Its Slavonic Version: A Synoptic Comparison (AGJU 46; Leiden: Brill, 2003).
(обратно)
1921
Цит. по: Robert Eisler, ΙΗΣΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣΑΣ: Die messianische Unabhängigkeitsbewegung vom Auftreten Johannes des Täufers bis zum Untergang Jakobs des Gerechten (2 vols.; Heidelberg: C. Winter, 1929–1930), 2:545.
(обратно)
1922
Втор 18:15 (в МТ и в Септ.) можно понять либо как «Воздвигнет тебе Господь Бог твой […] пророка из братьев твоих, как меня», либо как «Господь Бог вернет к жизни пророка…»
(обратно)
1923
Говорить в субботу не запрещено: разговор – не работа. Однако раввинистическая традиция запрещает судьям выносить решения в субботу или в праздники (м. Бейца 5:2), поскольку произнесенное решение судьи имеет материальные последствия.
(обратно)
1924
Или делатели палаток, как Павел, согласно Деян 18:3 (в отличие от западного текста; см. выше «Разнообразное Движение Иисуса»).
(обратно)
1925
Или кожевники – профессия Симона из Иоппии (или Яффы), у которого останавливался Петр (Деян 9:43).
(обратно)
1926
Это аргумент Гамалиила (Деян 5:34–42).
(обратно)
1927
Подробное филологическое исследование этого отрывка, а также иные выводы, см. в статье выше: Кейси Элледж «Иосиф, Тацит и Светоний: Иисус глазами античных историков».
(обратно)
1928
Дошедшие до нас тексты, а также древние цитаты и переводы свидетельствуют здесь о слове τἀληθῆ – «истинное»; однако поправка τααηθη (с очень похожим написанием унциальным письмом), которую в 1749 году предложил Сиварт Хаверкамп и приняли Эйслер и Теккерей (однако не LCL), весьма вероятна, поскольку: 1) вполне естественно, что редкое слово было заменено более распространенным и привычным, особенно для христианских копиистов (для которых, естественно, Иисус учил истине); и 2) эта поправка усиливает позицию Иосифа, ибо предполагает, что он не согласен с учением Иисуса.
(обратно)
1929
Хороший обзор этих дискуссий: Louis H. Feldman, Josephus and Modern Scholarship (1937–1980) (Berlin: de Gruyter, 1984), с. 690–695.
(обратно)
1930
См.: Shlomo Pines, «An Arabic Version of the Testimonium Flavianum and Its Implications», в кн.: Studies in the History of Religion (ed. G. G. Stroumsa; Collected Works of Shlomo Pines 4; Jerusalem: Magnes, 1996 [orig. 1971]), с. 37–115.
(обратно)
1931
Ms. D. συνεχύθησαν (против συναχθῆναι). Этот глагол и однокоренное с ним существительное σύγχυσις (Септ. перевод еврейского bābel в Быт. 11:9) характерны для новозаветных Деяний: в Деян 2:6 они описывают общее волнение в день Пятидесятницы, в Деян 9:22 Павел «приводит в замешательство» иудеев в Дамаске, в Деян 19:29–32 волнения распространяются в Эфесе, а в Деян 21:27–31 иудеи из Асии собирают толпу в Иерусалиме.
(обратно)
1932
См.: Jerry Vardaman, «A New Inscription which Mentions Pilate as “Prefect”», JBL 81 (1962): 70–71; Tibor Gröll, «Pilate’s Tiberium: A New Approach», AAntHung 41 (2001): 267–278.
(обратно)
1933
Этот вопрос подробно рассмотрен в кн.: Serge Bardet, Le Testimonium Flavianum: Examen historique, considérations historiographiques (Josèphe et son temps 5; Paris: Cerf, 2002). Автор заключает, что все «исправления» Свидетельства создают больше новых проблем, чем решают старых.
(обратно)
1934
См. замечательное исследование: Elias J. Bickerman, «Sur la version vieux-russe de Flavius Josèphe», в кн.: Studies in Jewish and Christian History (3 vols.; AGJU 9; Leiden: Brill, 1985 [orig. 1936]), с. 172–195.
(обратно)
1935
См.: Étienne Nodet, «Josephus and Discrepant Sources», в кн.: Josephus Colloquium: Haifa 2006 (ed. M. Mor, J. Pastor, and Z. Rodgers; Leiden: Brill, 2011).
(обратно)
1936
О «движении Мухаммеда», а не просто о Мухаммеде я говорю потому, что и Коран, и исторические данные свидетельствуют об активной роли последователей Мухаммеда в формировании того религиозного феномена, из которого впоследствии вырос ислам. Идея, что Мухаммед был единственным создателем ислама, принадлежит позднейшим мусульманским поколениям.
(обратно)
1937
Русский текст Корана цитируется по переводу Э. Кулиева, с заменой арабских слов и форм (Иса, Марьям, Исраиль) на русифицированные. – Прим. пер.
(обратно)
1938
Цит. в кн.: Ibn Hisham (d. 833 CE), al-Sira al-nabawiyya (ed. I.al-Saqqa et al.; Beirut: Dar al-Khayr, 1990), 1:187–188; idem, The Life of Muhammad: A Translation of Ishaq’s Sirat Rasul Allah (trans. A. Guillaume; Lahore: Oxford University Press, 1967), с. 103–104.
(обратно)
1939
См.: A. S. Lewis and M. D. Gibson, The Palestinian Syriac Lectionary of the Gospels (London: Paul, Trench, Trübner, 1899).
(обратно)
1940
Об Ибн Исхаке и его использовании евангельского повествования см.: Sidney Griffith, «The Gospel in Arabic: An Inquiry into Its Appearance in the First Abbasid Century», OrChr 69 (1985): 126–167, цит. с. 137–143; Alfred Guillaume, «The Version of the Gospels Used in Medina c.a.d. 700», Al-Andalus 15 (1950): 289–296; и Josef Schacht, «Une citation de l’Evangile de St. Jean dans la Sira d’Ibn Ishaq», Al-Andalus 16 (1951): 489–490. Я не согласен с Гриффитом и Гийомом в том, что под словом аль-намус Ибн Исхак здесь понимает архангела Гавриила: фраза в целом ясно указывает на нечто, написанное в тексте под названием аль-намус, то есть в еврейском Писании – и действительно, фраза «они ненавидели меня безвинно» взята из Пс 34:19 и 68:5.
(обратно)
1941
О сходстве между двумя рассказами о благовещении в Коране и в раннехристианских текстах см.: Suleiman A. Mourad, «On the Qur’anic Stories about Mary and Jesus», BRIIFS 1.2 (1999): 13–24.
(обратно)
1942
См., напр.: E. E. Elder, «The Crucifixion in the Koran», MW 13 (1923): 242–258; Henri Michaud, Jésus selon le Coran (Neuchâtel: Delachaux & Niestlé, 1960), с. 59–71; Geoffrey Parrinder, Jesus in the Qur’an (New York: Oxford University Press, 1977), с. 105–121; Mahmoud M. Ayoub, «Towards an Islamic Christology, 2: The Death of Jesus – Reality or Illusion?» MW 70 (1980): 91–121; Giuseppe Rizzardi, Il problema della cristologia coranica (Milano: Istituto Propaganda Libraria, 1982), с. 141–143; Nilo Geagea, Mary in the Koran: A Meeting Point between Christianity and Islam (ed. and trans. L. T. Fares; New York: Philosophical Library, 1984), с. 107–108; and A. H. Mathias Zahniser, «The Forms of Tawaffa in the Qur’an: A Contribution to Christian-Muslim Dialogue», MW 79.1 (1989): 14–24.
(обратно)
1943
См., напр.: Neal Robinson, Christ in Islam and Christianity (Albany: SUNY Press, 1991), с. 117–126.
(обратно)
1944
Согласно легенде, эти надписи гласили: «Вот могила Иисуса, сына Марии, посланника Аллаха к людям земли сей»; см.: al-T‘abarī, Ta’rikh al-rusul wa-l-muluk (ed. M. J. De Goeje et al.; 15 vols.; Leiden: Brill, 1879–1901), 1:738–739; idem, The History of al-T‘abarī: The Ancient Kingdoms (ed. and trans. M. Perlmann; vol. 4 of The History of al-T‘abarī; SUNY Series in Near Eastern Studies; Albany: SUNY Press, 1987), с. 123–124.
(обратно)
1945
Обзор экзегетических мнений мусульман по проблеме распятия см.: Benjamin T. Lawson, «The Crucifixion of Jesus in the Qur’an and Qur’anic Commentary: A Historical Survey», BHMIIS 10.2 (1991): 34–62; BHMIIS 10.3 (1991): 6–40; idem, The Crucifixion and the Qur’an: A Study in the History of Muslim Thought (Oxford: Oneworld, 2009).
(обратно)
1946
См., напр.: Michaud, Jésus selon le Coran, с. 68–71; Rizzardi, Il problema della cristologia coranica, с. 143; Claus Schedl, Muhammad und Jesus: Die christologisch relevanten Texte des Korans (Vienna: Herder, 1978), с. 435–436. См. также: Parrinder, Jesus in the Qur’an, с. 118–119.
(обратно)
1947
О значении выражения мутаваффик ученые спорят по сей день. Обзор различных его истолкований: Ayoub, «Towards an Islamic Christology»; Zahniser, «Forms of Tawaffa».
(обратно)
1948
Если предположить, что этот стих указывает на будущее воскресение Иисуса, т. е. на то, что он умрет до Страшного суда, то этот же принцип необходимо применить и к случаю Иоанна Крестителя, о котором Коран говорит так же: «Мир ему в тот день, когда родился, в тот день, когда он скончался, и в тот день, когда он будет воскрешен к жизни» (Коран 19.15). Однако абсурдно предполагать, будто, согласно Корану, Иоанн еще не умер. См. также: Suleiman A. Mourad, «Does the Qur’an Deny or Assert Jesus’ Crucifixion and Death?» в кн.: The Qur’an in Its Historical Context, vol. 2: New Perspectives on the Qur’an (ed. G. S. Reynolds; London: Routledge, 2011).
(обратно)
1949
Блестящий обзор и анализ представлений об Иисусе в мусульманской литературе: Tarif Khalidi, The Muslim Jesus: Sayings and Stories in Islamic Literature (Cambridge: Harvard University Press, 2001), с. 3–45.
(обратно)
1950
Цит. в кн.: Ibn ‘Asakir (d. 1175), Ta’rikh madinat Dimashq; см.: Suleiman A. Mourad, «A Twelfth Century Muslim Biography of Jesus», ICMR 7 (1996): 39–45, цит. с. 40. Эта легенда – пример материала, приписанного исламскими авторами Иисусу. Она очень напоминает описание Иакова, брата Иисуса, у Евсевия (Церк. ист 2.23.4–5).
(обратно)
1951
Цит. в кн.: Ibn Hanbal (d. 855), Kitab al-Zuhd (ed. M. Zaghlul; Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1994), с. 143. См. также: Khalidi, Muslim Jesus, с. 86 (№ 61).
(обратно)
1952
Цит. в кн.: al-Jahiz (d. 868), Kitab al-Bayan wa-l-Tabyyin (ed. ‘ABD al-Salam Harun; Cairo: Mat’at Lajnat al-Ta’lif wa-l-Tarjama wa-l-Nashr, 1949), 3:166. См. также: Khalidi, Muslim Jesus, с. 98–99 (№ 85).
(обратно)
1953
Цит. в кн.: Ibn Hanbal (d. 855), Kitab al-Zuhd, с. 95. См. также: Khalidi, Muslim Jesus, с. 71–72 (№ 33). Это речение из Евангелия от Матфея (6:19).
(обратно)
1954
Цит. в кн.: al-Abi (d. 1030), Nathr al-Durr (ed. M. ‘Ali Qarna; Cairo: al-Hay’aal-Misriyya al-‘Amma, 1981–1991), 7:31. См. также: Khalidi, Muslim Jesus, с. 149–150 (№ 176).
(обратно)
1955
Цит. в кн.: Ibn ‘Asakir (d. 1176); см.: Mourad, Sirat al-Sayyid al-Masih, с. 245–246 (№ 309).
(обратно)
1956
О Втором Пришествии Иисуса см.: Suleiman A. Mourad, «Jesus according to Ibn ‘Asakir», в кн.: Ibn ‘Asakir and Early Islamic History (ed. J. E. Lindsay; Princeton: Darwin Press, 2001), с. 24–43, особ. 31–37.
(обратно)
1957
Исследование роли Иисуса во внутримусульманской полемике: Tarif Khalidi, «The Role of Jesus in Intra-Muslim Polemics in the First Two Islamic Centuries», в кн.: Christian Arabic Apologetics during the Abbasid Period (750–1258) (ed. S. K. Samir and J. S. Nielsen; Leiden: Brill, 1994), с. 146–156.
(обратно)
1958
Цит. в кн.: Abu Rifa‘a al-Fasawi, Les légendes prophétiques dans l’Islam (ed. R. G. Khoury; Wiesbaden: Harrassowitz, 1978), с. 339. См. также: Khalidi, «Role of Jesus», с. 152, прим. 12.
(обратно)
1959
Цит. в кн.: Ibn al-Mubarak (d. 797), Kitab al-Zuhd, с. 80; см. также: Khalidi, Muslim Jesus, с. 52–53 (№ 3).
(обратно)
1960
Цит. в кн.: Ibnal-Mubarak (d. 797), Kitab al-Zuhd (ed. Habib al-Rahman al-A‘zami; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1998), с. 117–118. См. также: Khalidi, Muslim Jesus, с. 55–56 (№ 8). В этом речении слышится отзвук евангельского: «Отдай кесарю кесарево, а Богу Божье» (Мф 22:21).
(обратно)
1961
Цит. в кн.: Ibn Sa‘d (d. 845), al-Tabaqat al-kubra, 6:29; см. также: Khalidi, Muslim Jesus, с. 67 (№ 24). Это речение из Книги Екклезиаста (Еккл 10:16, «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок»); оно относится к числу ближневосточных материалов, приписанных Иисусу.
(обратно)
1962
См.: Suleiman A. Mourad, «The Death of Jesus in Islam: Reality, Assumptions, and Implications», в кн.: Engaging Passions: The Death of Jesus and Its Legacies (ed. O. L. Yarbrough; готовится к печати); Lawson, Crucfixion and the Qur’an.
(обратно)
1963
О спорах с христианами и христианством в мусульманской литературе, особенно в книгах о жизни и деятельности Мухаммеда, см: Suleiman A. Mourad, «Christians and Christianity in the Sīra of Muhammad», в кн.: Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History (ed. David Thomas and Barbara Roggema; 3 vols.; Leiden: Brill, 2009–2011), 1:57–71.
(обратно)
1964
Если принять гипотезу, отраженную в кн.: Clare K. Rothschild, Baptist Traditions and Q (WUNT 190; Tübingen: Mohr Siebeck, 2005), то список наших преданий об Иоанне может значительно расшириться за счет других текстов. Ротшильд полагает, что Евангелие речений Q во многом, в том числе во фразах о Сыне Человеческом и в учении о Царстве Божьем, воспроизводит учение Иоанна Крестителя. Можно ли принять такую неожиданную гипотезу – пока неясно. См. рецензии: F. Gerald Downing, «Review of Clare K. Rothchild, Baptist Traditions and Q», JSNT 28.5 (2006): 35–36; John S. Kloppenborg, «Review of Clare K. Rothschild, Baptist Traditions and Q», RBL [http://www.bookreviews.org] (2007): 1–5.
(обратно)
1965
Хорошо известны сложности, возникающие при использовании в исследовании иудаизма Второго Храма позднейшей раввинистической литературы. В библеистике XX в. маятник колебался от широкого и некритичного обращения к ней до полного пренебрежения. Теперь, по-видимому, он возвращается к «золотой середине»: вдумчивому и критическому использованию источников с определенным контролем методик. См., напр.: Jacob Neusner, The Rabbinic Traditions about the Pharisees before 70 (3 vols.; 1971; repr. Eugene, Ore.: Wipf & Stock, 2005); David Instone-Brewer, Traditions of the Rabbis from the Era of the New Testament, vol. 1: Prayer and Agriculture (Grand Rapids: Eerdmans, 2004).
(обратно)
1966
Полезное введение в обширный и разнообразный корпус этой литературы: Craig A. Evans, Ancient Texts for New Testament Studies: A Guide to the Background Literature (Peabody, Mass.: Hendrickson, 2005).
(обратно)
1967
На эту тему, в особенности о том, какую роль в изучении исторического Иисуса играет археология, см. множество статей в сб.: James H. Charlesworth, ed., Jesus and Archaeology (Grand Rapids: Eerdmans, 2006).
(обратно)
1968
Shimon Gibson, The Cave of John the Baptist: The Stunning Archaeological Discovery That Has Redefined Christian History (New York: Doubleday, 2004). Краткое описание открытия и аргументы в пользу его связи с Иоанном можно найти в ст.: Shimon Gibson and James D. Tabor, «John the Baptist’s Cave: The Case in Favor», BAR 31.3 (2005): 36–41, 58. В упомянутой статье Гибсон более сдержан в своих заявлениях, чем в книге (см. далее). См. также краткое описание в книге второго руководителя раскопок, Джеймса Тейбора: James D. Tabor, The Jesus Dynasty: The Hidden History of Jesus, His Royal Family, and the Birth of Christianity (New York: Simon & Schuster, 2006), с. 129–133. Больше фотографий и подробностей можно найти в его блоге: http://jamestabor.com/2006/07/18/the-john-the-baptist-suba-cave/.
(обратно)
1969
Эти иконографические изображения они датируют более поздним периодом, от IV до XI в. н. э., и приписывают их византийским монахам.
(обратно)
1970
Gibson and Tabor, «John the Baptist’s Cave», с. 39–40.
(обратно)
1971
Там же, с. 58.
(обратно)
1972
Gibson, Cave of John the Baptist, с. 212.
(обратно)
1973
James F. Strange, «Review of Shimon Gibson, The Cave of John the Baptist: The Stunning Archaeological Discovery That Has Redefined Christian History», BAR 31.3 (2005): 54.
(обратно)
1974
Джеймс Стрэндж (James Strange, «Review of Gibson», с. 54) приходит к сходным выводам.
(обратно)
1975
См. также рецензию: Joan E. Taylor, «Review of Shimon Gibson, The Cave of John the Baptist: The First Archaeological Evidence of the Historical Reality of the Gospel Story», PEQ 173 (2005): 175–181, где выражены схожие сомнения, отмечает сложности, связанные с этой гипотезой, и предлагает ей альтернативы. Спекулятивность предположений Гибсона, возможно, связана с экстравагантными и сенсационными подзаголовками его книги в различных изданиях. Американское издание вышло с подзаголовком: Поразительное археологическое открытие, изменившее историю христианства (Doubleday), британское – Археологические находки впервые подтверждают: евангельская история правдива (Century), а кроме того, в Великобритании издали книгу в мягком переплете с заглавием: Первая в мире археологическая находка, подтвердившая историческую достоверность евангельских повествований (Arrow). Заявления Тейбора (Tabor, Jesus Dynasty, особ. с. 132–133) более сдержанны, выражаются обычно в вопросительной форме или с вступлением вроде: «Порой я думаю, не может ли оказаться так, что…» (с. 133).
(обратно)
1976
Ср. также: Ин 3:26; 10:40–42.
(обратно)
1977
См. их оценку: Rainer Riesner, «Bethany Beyond the Jordan (John 1:28): Topography, Theology and History in the Fourth Gospel», TynBul 38 (1987): 34–43.
(обратно)
1978
Отождествление Вифавары при Иордане с Батанеей поддерживается в статье: Riesner, «Bethany Beyond the Jordan», с. 29–63; см. также: idem, «Bethany Beyond the Jordan», ABD 1:703–705; idem, Bethanien jenseits des Jordan: Topographie und Theologie im Johannes-Evangelium (Giessen: Brunnen, 2002). Недавно аргументы Ризнера подверглись критике в статье: Michele Piccirillo, «The Sanctuaries of the Baptism on the East Bank of the Jordan River», в кн.: James H. Charlesworth, ed., Jesus and Archaeology, с. 433–443; автор считает, что Вифавара при Иордане – это Вади-эль-Харрар. См. также Ин 3:23, где еще одним местом, где крестил Иоанн, назван «Енон близ Салима». Об обоих этих местах см.: Jerome Murphy-O’Connor, «John the Baptist and Jesus: History and Hypotheses», NTS 36 (1990): 361–366; а также, из недавних исследований: Gibson, Cave of John the Baptist, с. 217–251.
(обратно)
1979
Подробнее о литературных и археологических источниках, касающихся ритуальных омовений и микв, см.: Jonathan David Lawrence, Washing in Water: Trajectories of Ritual Bathing in the Hebrew Bible and Second Temple Literature (SBLAcBib 23; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2007). См. также обсуждение в кн.: Robert L. Webb, John the Baptizer and Prophet: A Socio-Historical Study (JSNTSup 62; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1991; repr., Eugene, Ore.: Wipf & Stock, 2006), с. 95–162.
(обратно)
1980
Примеры таких споров: Eyal Regev, «The Ritual Baths near the Temple Mount and Extra-Purification before Entering the Temple Courts», IEJ 55 (2005): 194–204; см. также дебаты Ханана Эшеля (Hanan Eshel, «The Pools of Sepphoris – Ritual Baths or Bathtubs? They’re Not Ritual Baths», BAR 26.4 [2000]: 42–45) и Эрика Мейерса (Eric M. Meyers, «The Pools of Sepphoris – Ritual Baths or Bathtubs? Yes They Are», BAR 26.4 [2000]: 46–48), где спор ведется о том, относились ли к миквам бассейны, найденные в Сепфорисе (в Галилее). См. также: Ronny Reich, «They Are Ritual Baths: Immerse Yourself in the Ongoing Sepphoris Mikveh Debate», BAR 28.2 (2002): 50–55.
(обратно)
1981
Большинство ученых признает, что Иоанн крестил Иисуса, и из этого делаются определенные выводы о начале служения Иисуса. Впрочем, некоторые отрицают историчность этого события: Burton L. Mack, A Myth of Innocence: Mark and Christian Origins (Philadelphia: Fortress, 1988), с. 54, где это событие считается «мифическим»; Morton S. Enslin, «John and Jesus», NTS 66 (1975): 1–18, где приводятся аргументы против его подлинности. Защиту историчности крещения Иисуса Иоанном и опровержение аргументов Энслина см.: в кн.: Webb, «Jesus’ Baptism», с. 261–309.
(обратно)
1982
Термином «позднейшее служение Иисуса» или «поздний Иисус» я обозначаю служение Иисуса после смерти Иоанна (т. е. то, что можно назвать «зрелым» служением, описанию которого посвящена большая часть Евангелий), чтобы отличить его от «раннего Иисуса», т. е. раннего периода служения, возможно, тесно связанного с Иоанном, особенно до ареста и смерти последнего.
(обратно)
1983
Свои собственные взгляды по этому вопросу я излагаю в ст.: Robert L. Webb, «John the Baptist and His Relationship to Jesus», в кн.: Studying the Historical Jesus: Evaluations of the State of Current Research (ed. B. Chilton and C. A. Evans; NTTS 19; Leiden: Brill, 1994), с. 179–229; и в ст.: Robert L. Webb, «Jesus’ Baptism», с. 261–309, построенной на моем понимании Иоанна, изначально объясненном в кн.: Robert L. Webb, John the Baptizer.
(обратно)
1984
John Dominic Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991), с. 227–264.
(обратно)
1985
Там же, с. 227.
(обратно)
1986
Там же, с. 228. Стоит отметить: сам Клоппенборг не считает, что предания из Q2 непременно менее историчны. Он утверждает, например: «Я полагаю, что между основополагающим и вторичным слоем Q имеются значительные различия, однако связаны они не с введением нового, неизвестного ранее материала, и тем более не с переходом жанра самого документа от “неэсхатологического” к “апокалиптическому”»; «The Sayings Gospel Q and the Quest for the Historical Jesus», HTR 89 (1996): 307–344, цит. с. 336. Аналогично: «Стратиграфический анализ Q не предполагает, что материалы, включенные в него на второй стадии, на первой были неизвестны – только то, что для дискуссионных целей первой стадии они представлялись ненужными. Итак, Q2 отнюдь не фабрикует и не вводит извне какие-то новые пророческие или эпические предания» (с. 337).
(обратно)
1987
Crossan, Historical Jesus, с. 234.
(обратно)
1988
Там же, с. 235.
(обратно)
1989
Там же, с. 236–237.
(обратно)
1990
Там же, с. 237–238.
(обратно)
1991
Там же, с. 238.
(обратно)
1992
Маркус Борг, заметив, что эсхатология – понятие довольно расплывчатое, пишет: «По моему определению, неотъемлемый ее элемент – убеждение в том, что мир подходит к концу, включающее в себя традиционное ожидание последнего суда, воскресения и начала нового века. Эсхатологический Иисус – это тот Иисус, который полагал, что все это случится скоро и неизбежно. Итак, под термином «эсхатологический» я понимаю не «конец» в каком-либо метафорическом смысле, как, например, в смысле резких перемен в истории Израиля или перелома в субъективном характере личности, который подходил бы под описание конца старого мира и начала нового»: Marcus J. Borg, «A Temperate Case for a Non-Eschatological Jesus», FFF 2.3 (1986): 81–102, цит. с. 81–82, прим. 1.
(обратно)
1993
Crossan, Historical Jesus, с. 238. Необходимо отметить, что здесь Кроссан не дает определений другим формам эсхатологии и не объясняет, зачем ему «необходим» отдельный термин для обозначения «мироотверженности» (англ. world-negating), кроме того, что «он помогает понять, почему столь легок переход от одного к другому».
(обратно)
1994
Там же, с. 256.
(обратно)
1995
То же самое, только намного более кратко, изложено в кн.: J. D. Crossan, The Birth of Christianity: Discovering What Happened in the Years Immediately after the Execution of Jesus (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1998), с. 305–316.
(обратно)
1996
Об этом различии подробнее говорится в кн.: J. D. Crossan, Historical Jesus, с. 282–292. В том, что касается резкого несовпадения во взглядах Иисуса и Иоанна Крестителя (с. 282–283), Кроссан оценивает весь комплекс «Когда и где» (Q 17:23; Мк 13:21–23, и т. д.) как «корректирующие ответы», в которых источник споров «восходит к выступлениям Иисуса против Иоанна».
(обратно)
1997
Там же, с. 292.
(обратно)
1998
См. выше, а также J. D. Crossan, Historical Jesus, с. 238.
(обратно)
1999
Насколько я понимаю, в кн.: Historical Jesus Кроссан не использует выражения «этическая эсхатология»; однако, как он подтверждал в личной переписке (22.03.2007, 05.04.2007), этот термин верно отражает его мысль. Слова «этическая эсхатология» он использует в более поздней работе: J. D. Crossan, Birth of Christianity, с. 273–289, особ. с. 284–285. Там же, на с. 287, Кроссан поясняет разницу между двумя эсхатологиями на примере Иоанна и Иисуса, хотя и куда более кратко. В сокращенном популярном издании книги Historical Jesus Кроссан подходит ближе к этой терминологии, описывая «этическое царство» в эсхатологических выражениях: «Итак, это этическое царство – но оно может быть столь же эсхатологичным, как апокалиптическое» (J. D. Crossan, Jesus: A Revolutionary Biography [San Francisco: HarperSanFrancisco, 1994], с. 56). В более ранней работе Кроссан описывает мировоззрение Иисуса термином «пророческая эсхатология», противопоставляя ее «апокалиптической эсхатологии» (J. D. Crossan, In Parables: The Challenge of the Historical Jesus [San Francisco: Harper & Row, 1973], с. 23–29). Как он объясняет (с. 27), «Иисус не говорил, что Бог готов положить конец миру сему – он проповедовал Бога, потрясающего миры: сей, любые прошлые и любые грядущие».
(обратно)
2000
Crossan, Birth of Christianity, с. 284.
(обратно)
2001
Dale C. Allison, Jesus of Nazareth: Millenarian Prophet (Minneapolis: Fortress, 1998), с. 1–77 и 95–171. Также у меня будет случай поговорить о работе Эллисона: Dale C. Allison, «The Continuity between John and Jesus», JSHJ 1 (2003): 6–27. Немецкое слово ratlos, – «непонимающий, смущенный, сбитый с толку» во второй главе у Эллисона – аллюзия на кн.: Klaus Koch, The Rediscovery of Apocalyptic (trans. M. Kohl; SBT 1/22; London: SCM, 1972), оригинальное немецкое заглавие которой выглядит так: Ratlos vor der Apokalyptik. В переводе на английский смысл немецкого слова ratlos не сохранился.
(обратно)
2002
Allison, Jesus of Nazareth, с. 34.
(обратно)
2003
Там же, прим. 103.
(обратно)
2004
Там же, прим. 104. См. его рассуждение о «конце мира» в ст.: Allison, «A Plea for Thoroughgoing Eschatology», JBL 113 (1994): 651, прим. 2.
(обратно)
2005
Allison, Jesus of Nazareth, с. 36.
(обратно)
2006
Там же, с. 38.
(обратно)
2007
Там же, с. 39.
(обратно)
2008
В этих пяти причинах он кратко воспроизводит аргументы, приведенные им в других местах: Allison, «Plea for Thoroughgoing Eschatology», с. 651–668; idem, «The Eschatology of Jesus», в кн.: The Encyclopedia of Apocalypticism, vol. 1: The Origins of Apocalypticism in Judaism and Christianity (ed. J. J. Collins; New York: Continuum, 1998), с. 267–302.
(обратно)
2009
Allison, Jesus of Nazareth, с. 40. Эллисон отмечает (с. 40, прим. 119), что «в публичной дискуссии Кроссан опровергает этот аргумент такой аналогией: невозможно поверить, будто Ганди был пацифистом – ведь он вышел из окружения, практикующего насилие, и после его смерти насилие вновь разыгралось в полную силу». На это Эллисон отвечает: «…различие между Иисусом и Ганди в том, что свидетельств о пацифизме последнего множество и они вполне убедительны, – а о том, что Иисус якобы отвергал взгляды Иоанна Крестителя, свидетельств крайне мало, а точнее – нет совсем».
(обратно)
2010
Там же, с. 43.
(обратно)
2011
Там же, с. 61; см. также отдельное примечание в конце главы, «Некоторые общие черты движений милленариев» (“Some Common Features of Millenarianism,” с. 78–94).
(обратно)
2012
Там же, с. 97. Эллисон ссылается на кн.: E. P. Sanders, Jesus and Judaism (Philadelphia: Fortress, 1985), с. 91–95. Хотя этот аргумент наиболее известен в изложении Сандерса, Эллисон отмечает, что Сандерсу он не принадлежит; тот цитирует кн.: James D. G. Dunn, Jesus and the Spirit: A Study of the Religious and Charismatic Experience of Jesus and the First Christians as Reflected in the New Testament (London: SCM, 1975), с. 42; Jack T. Sanders, Ethics in the New Testament: Change and Development (Philadelphia: Fortress, 1975), с. 5. Данн же, в свою очередь, цитирует кн.: Koch, Rediscovery of Apocalyptic, с. 78. Впрочем, стоит отметить, что там, где Эллисон и Сандерс применяют термин «эсхатологический», Данн и Кох говорят об «апокалиптическом». Тот же аргумент Эллисон обнаруживает в кн.: B. Harvie Branscomb, The Teachings of Jesus (Nashville: Cokesbury, 1931), с. 131–133 и приходит к выводу (с. 97, прим. 4): «Несомненно, об этом говорили и раньше».
(обратно)
2013
Ответ Борга Сандерсу: “The Eschatology of Jesus” в кн.: Marcus J. Borg, Jesus in Contemporary Scholarship (Valley Forge, Pa.: Trinity Press International, 1994), с. 69–96, особ. с. 76–80.
(обратно)
2014
Allison, Jesus of Nazareth, с. 104.
(обратно)
2015
Там же, с. 105. См. также: Allison, «Plea for Thoroughgoing Eschatology», с. 654–655.
(обратно)
2016
О позиции Кроссана см. выше.
(обратно)
2017
Allison, Jesus of Nazareth, с. 106. В другом месте Эллисон говорит о том разобщении Q 7:26 и 7:28, которое проводит Кроссан: «Хочется также спросить Кроссана, почему, если Иисус отказался от апокалиптизма Иоанна, составители Q сочли нужным предпослать собранию речений Иисуса речения Иоанна об эсхатологии. Или они не понимали, что Иисус “передумал” и разработал совершенно иную систему взглядов? Не увидели то, что увидел Кроссан?» («Eschatology of Jesus», с. 277). Борг следом за Кроссаном отделяет Иисуса от эсхатологического Иоанна, однако утверждает также, что древнейшая Церковь (30-е гг. н. э.) не была вполне эсхатологической и что акцент на эсхатологии возник позже, вызванный событиями 40–60-х годов. Эллисон отвечает и на это, однако это уже выходит за пределы нашей темы (Jesus of Nazareth, с. 106–113).
(обратно)
2018
Borg, Jesus in Contemporary Scholarship, с. 8.
(обратно)
2019
Allison, Jesus of Nazareth, с. 117.
(обратно)
2020
Там же, с. 118.
(обратно)
2021
Там же, с. 119.
(обратно)
2022
См. также: Allison, «Eschatology of Jesus», с. 280–293.
(обратно)
2023
Allison, Jesus of Nazareth, с. 170.
(обратно)
2024
Там же, с. 171.
(обратно)
2025
Crossan, Historical Jesus, с. 260. В более популярной работе Кроссан, в своем обычном афористическом стиле, говорит о контрасте между «постами Иоанна и пирами Иисуса» (Crossan, Revolutionary Biography, с. 48).
(обратно)
2026
Crossan, Historical Jesus, с. 261.
(обратно)
2027
Там же, с. 263. См. то же противопоставление в эпилоге, с. 421.
(обратно)
2028
Кроссан (там же, с. 263–264) заканчивает главу обширной цитатой из ст.: James C. Scott, «Protest and Profanation: Agrarian Revolt and the Little Tradition, Part 2», Theory and Society 4 (1977): 211–246, цит. с. 225–226. Цитата и эта глава заканчиваются так: «Собственность, как правило – хотя и не всегда – должна находиться в совместном владении. Все несправедливые налоги и поборы должны быть отменены. В эту утопию включается также и изобильная плодами, дружественная человеку природа, и радикальное преображение самой человеческой натуры, избавленной от жадности, зависти и ненависти. Хотя эта земная утопия и отнесена в будущее, часто в ней имеются ссылки на мифический Эдем, оставшийся в прошлом, откуда падшее человечество было изгнано». Хотя Кроссан, очевидно, цитирует это с одобрением, слова о «земной утопии… отнесенной в будущее», в его описании этической эсхатологии настоящего не появляются.
(обратно)
2029
Allison, Jesus of Nazareth, с. 104.
(обратно)
2030
Здесь Эллисон (там же, с. 173) цитирует мою раннюю работу «Иоанн Креститель», с. 226. В свете аргументов, приведенных Эллисоном, я готов пересмотреть выражения, употребленные в этой работе.
(обратно)
2031
Allison, Jesus of Nazareth, с. 173. Далее он указывает, что это самое выражение, «ели и пили», используется Иисусом в негативном смысле в контексте суда в Q 17:26–30.
(обратно)
2032
См. там же, с. 174–188.
(обратно)
2033
Там же, с. 188–197.
(обратно)
2034
Там же, с. 193; см. также с. 188.
(обратно)
2035
Crossan, Historical Jesus, с. 330–331. О том же, хотя и в несколько иных выражениях, он говорит в эпилоге, с. 421; см. также: Crossan, Revolutionary Biography, с. 104.
(обратно)
2036
Crossan, Historical Jesus, с. 346; о несходстве с Иоанном см. с. 347, 355. См. также: Crossan, Revolutionary Biography, с. 106.
(обратно)
2037
Crossan, Historical Jesus, с. 352; ср.: с. xii.
(обратно)
2038
Там же, с. 355.
(обратно)
2039
См. схожее замечание: Allison, «Continuity», с. 7.
(обратно)
2040
Там же.
(обратно)
2041
Там же, «Continuity».
(обратно)
2042
Gerd Theissen and Annette Merz, The Historical Jesus: A Comprehensive Guide (trans. John Bowden; Minneapolis: Fortress, 1998), с. 208–211.
(обратно)
2043
Там же, с. 208.
(обратно)
2044
Там же, с. 209.
(обратно)
2045
Там же, с. 209–210.
(обратно)
2046
Там же.
(обратно)
2047
Там же, с. 209.
(обратно)
2048
Allison, «Continuity», с. 15. Не так давно я заметил, что при попытках сравнить Иоанна и Иисуса «необходимо соблюдать одну предосторожность: помнить, что об Иоанне нам известно куда меньше, чем об Иисусе, и не делать каких-либо сравнений там, где сведений об Иоанне у нас практически нет» (Webb, «John the Baptist», с. 226).
(обратно)
2049
Allison, «Continuity», с. 14–15.
(обратно)
2050
Там же, с. 16.
(обратно)
2051
Там же.
(обратно)
2052
Там же, с. 18. См. также: idem, «Jesus and the Covenant: A Response to E. P. Sanders», JSNT 29 (1987): 57–78.
(обратно)
2053
Allison, «Continuity», с. 19.
(обратно)
2054
Там же, с. 22; последняя фраза – цитата из кн.: Scot McKnight, A New Vision for Israel: The Teachings of Jesus in National Context (SHJ; Grand Rapids: Eerdmans, 1999), с. 4.
(обратно)
2055
Об этом см.: в Webb, John the Baptizer, с. 219–306, особенно с. 254–258, 282–288.
(обратно)
2056
Allison, «Continuity», с. 23.
(обратно)
2057
Там же, с. 23–26.
(обратно)
2058
Там же, с. 26–27.
(обратно)
2059
См. особенно: Crossan, Historical Jesus, с. 237–238.
(обратно)
2060
Allison, Jesus of Nazareth, с. 105.
(обратно)
2061
О том, что означают для меня термины «ранний Иисус» и «поздний Иисус», см. выше, прим. 1 на с. 839.
(обратно)
2062
Стоит отметить, что существует и другой путь решения этой проблемы – отрицание историчности крещения Иисуса Иоанном. Таков подход проявлен в кн.: F. Gerald Downing, Jesus and the Threat of Freedom (London: SCM, 1987), с. 154, где автор воссоздает образ Иисуса-киника, обходя вопрос о разобщении между ранним Иисусом и поздним и попросту отрицая историчность крещения Иисуса.
(обратно)
2063
Sanders, Jesus and Judaism, с. 11.
(обратно)
2064
Один из недавних примеров: Rothschild, Baptist Traditions and Q. Впрочем, рассуждения автора о преданиях, связанных с Иоанном, на мой взгляд, легковесны и не поддерживают выстроенную на них теорию.
(обратно)
2065
Allison, Jesus of Nazareth, с. 33–39. Он пишет (с. 36): «Нам необходимо найти нечто близкое к тому, что Томас Кун называл “парадигмой”, – объяснительную модель, позволяющую классифицировать данные…» См.: Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (3rd ed.; Chicago: University of Chicago Press, 1996).
(обратно)
2066
На самом деле подход Кроссана намного более сложен и тонок, чем можно объяснить в формате краткого пересказа. Он говорит о триадическом подходе; об этом см.: Historical Jesus, с. xxviii – xxxiv.
(обратно)
2067
John Dominic Crossan, «Materials and Methods in Historical Jesus Research», FFF 4.4 (1988): 3–24, цит. с. 10.
(обратно)
2068
Там же, с. 10–12.
(обратно)
2069
John Dominic Crossan, «Responses and Reflections», в кн.: Jesus and Faith: A Conversation on the Work of John Dominic Crossan (ed. J. Carlson and R. A. Ludwig; Maryknoll, N. Y.: Orbis, 1994), с. 146–147. Ср.: Allison, Jesus of Nazareth, с. 36, особ. прим. 108.
(обратно)
2070
Здесь я не имею в виду идеологические предрассудки, которые историк может внести в свою работу в целом или в изучение исторического Иисуса в частности. Они также играют важную роль, однако рассмотрение этого вопроса выходит за пределы нашей статьи.
(обратно)
2071
Crossan, Historical Jesus, с. 43–46.
(обратно)
2072
Allison, Jesus of Nazareth, с. 78–94.
(обратно)
2073
Эллисон намекает на это, но не развивает тему (там же, с. 92–93).
(обратно)
2074
Crossan, Historical Jesus, с. 237.
(обратно)
2075
Там же, с. 238.
(обратно)
2076
На мой взгляд, между Иисусом и Иоанном существует больше сходства, но я допускаю развитие мировоззрения Иисуса. Мои собственные размышления о причинах этого развития см. в ст.: Webb, «John the Baptist», с. 223–226.
(обратно)
2077
Cм., напр.: Benjamin G. Wright III and Lawrence M. Wills, eds., Conflicted Boundaries in Wisdom and Apocalypticism (SBLSymS 35; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2005). См. также комментарии: Allison, «Plea for Thoroughgoing Eschatology», с. 663–664.
(обратно)
2078
Этот доклад прочитан на Втором симпозиуме Принстон-Прага 18–21 апреля 2007 года; некоторые его части восходят к презентациям на Новозаветном Коллоквиуме профессора Германа Лихтенбергера (теологический факультет Тюбингенского университета),
27 октября 1999 года; на ежегодной встрече Общества Исследователей Нового Завета в Тель-Авиве, Израиль, 30 июля – 4 августа 2000 года; в Институте Античности и христианства Религиозного факультета Университета Клермонт в Клермонте, Калифорния, 5–8 сентября 2000 года. Благодарю всех, кто посещал мои лекции в Тюбингене, Тель-Авиве и Клермонте, за полезные предложения и замечания. См. также: Gerbern S. Oegema, Das Heil ist aus den Juden: Untersuchungen zum historischen Jesus und seiner Rezeption im Urchristentum (Schriftenreihe THEOS 50; Hamburg: Kovacs, 2001).
(обратно)
2079
A. Schweitzer, Von Reimarus zu Wrede: Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (1st ed., 1906; repr. of 7th ed.; Tübingen: Mohr Siebeck, 1984), с. 630. ET: The Quest for the Historical Jesus: A Critical Study of Its Progress from Reimarus to Wrede (New York: Macmillan, 1968), с. 487.
(обратно)
2080
J. Klausner, Die messianischen Vorstellungen des jüdischen Volkes im Zeitalter der Tannaiten, kritisch untersucht und im Rahmen der Zeitgeschichte dargestellt (Berlin: Poppelauer, 1904).
(обратно)
2081
J. Klausner, Jesus von Nazareth: Seine Zeit, sein Leben und seine Lehre (1st ed., 1907; 3rd ed., Jerusalem: Jewish Publishing House, 1952). Англ. перевод: Jesus of Nazareth: His Life, Times, and Teaching (trans. H. Danby; New York: Macmillan, 1925).
(обратно)
2082
Jesus von Nazareth, с. 115.
(обратно)
2083
Там же, с. 168.
(обратно)
2084
См. также историю исследований Иисуса: G. Theissen and D. Winter, Die Kriterienfrage in der Jesusforschung: Vom Differenzkriterium zum Plausibilitätskriterium (NTOA 34; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1997), с. 1–174; и библиографию в кн.: C. A. Evans, Life of Jesus Research: An Annotated Bibliography (NTTS 24; Leiden: Brill 1996), с. 127–146.
(обратно)
2085
R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments (8th ed.; Tübingen: Mohr Siebeck, 1980), с. 1–2.
(обратно)
2086
R. Bultmann, Jesus (Berlin: Deutsche Bibliothek, 1926). Англ. перевод: Jesus and the Word (trans. L. P. Smith and E. H. Lantero; New York: Scribner, 1934); см. также: idem, Jesus Christus und die Mythologie: Das Neue Testament im Licht der Bibelkritik (Hamburg: Furche, 1964), с. 11–12, 33.
(обратно)
2087
См.: E. Käsemann, «Das Problem des historischen Jesus», ZTK 51 (1954): 124–153; репринт в кн.: Exegetische Versuche und Besinnungen (2 vols.; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1960), 1:187–214. См. далее: J. Reumann, «Jesus and Christology», в кн.: The New Testament and Its Modern Interpreters (ed. E. J. Epp and G. W MacRae; SBLBMI 3; Atlanta: Scholars Press, 1989), с. 501–564; также: J. M. Robinson, «Introduction», в кн.: Schweitzer, Quest, с. 7–24.
(обратно)
2088
Käsemann, «Problem», с. 205. ET: E. Käsemann, «The Problem of the Historical Jesus», в кн.: Essays on New Testament Themes (SBT 1/41; London: SCM, 1964; repr., Philadelphia: Fortress, 1982), с. 37.
(обратно)
2089
Позднее к этому критерию были добавлены другие: критерии «множественного свидетельства, соответствия или согласованности с достоверным материалом об Иисусе, а также лингвистические и контекстуальные проверки (арамеизмы и иудейские реалии)». См.: Reumann, «Jesus and Christology», с. 524; M. A. Powell, Jesus as a Figure in History: How Modern Historians View the Man from Galilee (Louisville: Westminster John Knox, 1998), с. 31–50.
(обратно)
2090
G. Bornkamm, Jesus von Nazareth (1st ed., 1956; 13th ed.; Stuttgart: Kohlhammer, 1983); H. Braun, Jesus: Der Mann aus Nazareth und seine Zeit (1st ed., 1969; 3rd ed.; Stuttgart-Berlin: Kreuz, 1972); J. Jeremias, Die Gleichnisse Jesu (1st ed., ATANT 11; Zurich: Zwingli, 1947; 2nd ed.; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1952); idem, Neutestamentliche Theologie, vol. 1: Die Verkündigung Jesu (1st ed., 1971; 3rd ed.; Gütersloh: Gerd Mohn, 1979); K. Niederwimmer, Jesus (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1968); E. Schweizer, Jesus Christus im vielfältigen Zeugnis des Neuen Testaments (Munich: Siebenstern, 1968); E. Stauffer, Jesus: Gestalt und Geschichte (Bern: Philo, 1957). См. также библиографические источники в кн.: W. G. Kümmel, Dreißig Jahre Jesusforschung (1950–1980) (ed. K. Merklein; BBB 60; Bonn: Hanstein, 1985); Reumann, «Jesus and Christology», с. 525–564. См. также: J. M. Robinson, A New Quest of the Historical Jesus (SBT 1/25; London: SCM, 1959); idem, Kerygma und historischer Jesus (Zürich: Zwingli, 1960).
(обратно)
2091
Само выражение «Третий поиск» ввел Н. Т. Райт (см. далее). См. особ.: J. H. Charlesworth, Jesus within Judaism: New Light from Exciting Archaeological Discoveries (ABRL; New York: Doubleday, 1988); J. D. Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Peasant (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991); M. de Jonge, Jesus, the Servant Messiah (New Haven: Yale University Press, 1991); G. Vermes, The Religion of Jesus the Jew (Minneapolis: Fortress, 1993); B. L. Mack, A Myth of Innocence: Mark and Christian Origins (Philadelphia: Fortress, 1988); N. T. Wright, Jesus and the Victory of God (COQG 2; Minneapolis: Fortress, 1996), с. xiv – xv, с. 78 и дал.; idem, Who Was Jesus? (Grand Rapids: Eerdmans, 1992); R. W. Funk and R. W. Hoover, eds., The Five Gospels: The Search for the Authentic Words of Jesus (New York: Macmillan, 1993). См. также критические размышления: M. J. Borg, «Reflections on a Discipline: A North American Perspective», в кн.: Studying the Historical Jesus: Evaluations of the State of Current Research (ed. B. Chilton and C. A. Evans; NTTS 19; Leiden: Brill, 1994), с. 9–31; W. R Telford, «Major Trends and Interpretative Issues in the Study of Jesus», в кн.: Studying the Historical Jesus, ed. Chilton and Evans, с. 33–74; N. T. Wright, «Five Gospels but No Gospel: Jesus and the Seminar», в кн.: Authenticating the Activities of Jesus (ed. B. Chilton and C. A. Evans; NTTS 28/2; Leiden: Brill, 1999), с. 83–120.
(обратно)
2092
Theissen and Winter, Kriterienfrage, с. 145–171.
(обратно)
2093
См. также: T. Holmén, «Doubts about Double Dissimilarity: Restructuring the Main Criterion on Jesus-of-History Research», в кн.: Authenticating the Words of Jesus (ed. B. Chilton and C. A. Evans; NTTS 28/1; Leiden: Brill, 1999), с. 47–80.
(обратно)
2094
Theissen and Winter, Kriterienfrage, с. 171, 173. См. также герменевтические размышления: Gerbern S. Oegema, Für Israel und die Völker: Studien zum alttestamentlich-jüdischen Hintergrund der paulinischen Theologie (NovTSup 95; Leiden: Brill, 1998), с. 1–32, 253–279.
(обратно)
2095
Theissen and Winter, Kriterienfrage, с. 175.
(обратно)
2096
Там же, с. 192.
(обратно)
2097
Там же, с. 194. См. также: B. Witherington III, The Jesus Quest: The Third Search for the Jew of Nazareth (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1995), с. 42–92.
(обратно)
2098
В качестве второстепенных рассматриваются также следующие темы: 4) ученики Иисуса (Гнилка); 5) народ Божий (Гнилка); 6) чудеса Иисуса (Швейцер); 7) призыв к покаянию (Браун); 8) авторитет Иисуса (Браун); 9) образ Бога (Бультман); 10) воля Бога (Бультман). Полную библиографию по учению Иисуса см. в кн.: Evans, Life of Jesus Research, с. 147–194.
(обратно)
2099
Принято считать, что для воссоздания учения Иисуса имеют значение лишь те его слова, что соответствуют критерию двойного несходства. Этот критерий применяется к логиям, выражающим представление Иисуса о самом себе, к большей части притч в их допасхальной форме и к апофегмам, типичным для развития раннехристианской общины, однако не к тем логиям, что могли появиться только после Пасхи, поскольку включают в себя христологические или экклесиологические суждения.
(обратно)
2100
См.: M. de Jonge, Christology in Context: The Earliest Christian Response to Jesus (Philadelphia: Westminster, 1988); idem, Jesus: The Servant-Messiah (New Haven: Yale University Press, 1991); idem, Jezus als Messias: Hoe hij zijn zending zag (Boxtel: Katholieke Bijbelstichting, 1990).
(обратно)
2101
См. также: J. D. G. Dunn, «Can the Third Quest Hope to Succeed?»; ср.: E. E. Ellis, «The Synoptic Gospels and History», в кн.: Authenticating the Activities, ed. Chilton and Evans, с. 31–48 и с. 49–57.
(обратно)
2102
G. Vermes, Jesus the Jew: A Historian’s Reading of the Gospels (Minneapolis: Fortress, 1973), с. 19–41.
(обратно)
2103
См. также: G. S. Oegema, Der Gesalbte und sein Volk: Untersuchungen zum Konzeptualisierungsprozess der messianischen Erwartungen von den Makkabäern bis Bar Koziba (SIJD 2; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1994), с. 19–20; idem, «Der vorchristliche Paulus», в кн.: Israel, с. 33–56.
(обратно)
2104
L. M. McDonald, The Biblical Canon: Its Origin, Transmission, and Authority (Peabody, Mass.: Hendrickson, 2007), с. 190–223.
(обратно)
2105
См.: Юб 2:23–24. Иосиф Флавий говорит о числе книг, но не приводит их названий.
(обратно)
2106
См. 3 Ездр 14:22–48; вав. Б. Бат 14b–15a, и др.
(обратно)
2107
Т. е. 24 за вычетом Книги Даниила.
(обратно)
2108
См.: McDonald, Canon, с. 150–189.
(обратно)
2109
См. там же, с. 195, прим. 8; а также: R. T. France, Jesus and the Old Testament: His Application of Old Testament Passages to Himself and His Mission (London: Tyndale, 1971), с. 259–263.
(обратно)
2110
D. C. Allison, The Intertextual Jesus: Scripture in Q (Harrisburg: Trinity Press International, 2000).
(обратно)
2111
См.: McDonald, Canon, приложение D, основанное на NA27; Craig A. Evans, Ancient Texts for New Testament Studies: A Guide to the Background Literature (Peabody, Mass.: Hendrickson, 2005), прил. 2, с. 342–409.
(обратно)
2112
О Писаниях в древнем иудаизме в целом и в частности о том, как Иисус обращался к священным текстам, см.: S. E. Porter, ed., Hearing the Old Testament in the New Testament (MNTS; Grand Rapids: Eerdmans, 2006); B. D. Chilton, «Jesus and Israel’s Scriptures», в кн.: Studying the Historical Jesus, ed. Chilton and Evans, с. 281–335; T. Holmén, Jesus and Jewish Covenant Thinking (BInS 55; Leiden: Brill, 2001); L. M. McDonald, «The First Testament: Its Origin, Adaptability, and Stability», в кн.: The Quest for Context and Meaning: Studies in Biblical Intertextuality in Honor of James A. Sanders (ed. C. Evans and S. Talmon; BInS 28; Leiden: Brill, 1997), с. 287–326; см. также: Allison, Intertextual Jesus; B. D. Chilton, A Galilean Rabbi and His Bible: Jesus’ Use of the Interpreted Scripture of His Time (GNS 8;Wilmington, Del.: Glazier, 1984); C. A. Evans and J. A. Sanders, eds., Function of Scripture in Early Jewish and Christian Tradition (JSNTSup 154; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998); C. A. Evans and James A. Sanders, Luke and Scripture: The Function of Sacred Tradition in Luke-Acts (Minneapolis: Fortress, 1993); C. A. Evans, «The Scriptures of Jesus and His Earliest Followers», в кн.: The Canon Debate (ed. L. M. McDonald and J. A. Sanders; Peabody, Mass.: Hendrickson, 2002), с. 185–195; E. B. Powery, Jesus Reads Scripture: The Function of Jesus’ Use of Scripture in the Synoptic Gospels (BInS 63; Leiden: Brill, 2003); A. Segal, «Jesus in the Eyes of One Jewish Scholar», в кн.: The Historical Jesus through Catholic and Jewish Eyes (ed. L. Greenspoon, D. Hamm, and B. F. LeBeau; Harrisburg: Trinity Press International, 2000), с. 147–154; S. White Crawford, «The Fluid Bible: The Blurry Line between Biblical and Nonbiblical Texts», BRev 15.3 (1999): 34–39, 50–51.
(обратно)
2113
Оба автора, говоря о том, как Иисус цитировал Писание, выделяют четыре типа: 1) цитирование в согласии со смыслом и контекстом Еврейской Библии; 2) открытое цитирование с выбором определенной версии отрывка; 3) использование библейского выражения в его древней версии; и 4) использование библейской темы.
(обратно)
2114
B. D. Chilton and C. Evans, «Jesus and Israel’s Scriptures», в кн.: Studying the Historical Jesus, ed. Chilton and Evans, с. 281–335. См. также: Rimon Kasher, «The Interpretation of Scripture in Rabbinic Literature», в кн.: Mikra: Text, Translation, Reading, and Interpretation of the Hebrew Bible in Ancient Judaism and Early Christianity (ed. M. J. Mulder and H. Sysling; CRINT 1/1; Philadelphia: Fortress, 1988; repr., Peabody, Mass.: Hendrickson, 2004), с. 547–594.
(обратно)
2115
Chilton and Evans, «Jesus and Israel’s Scriptures», с. 285–299.
(обратно)
2116
См.: Michael Fishbane, «Use, Authority, and Interpretation of Mikra at Qumran», в кн.: Mikra, ed. Mulder and Sysling, с. 339–377.
(обратно)
2117
Chilton and Evans, «Jesus and Israel’s Scriptures», с. 314. Важные элементы этой священной традиции можно усмотреть во владении Землей Обетованной, в преемственности с еврейским народом и династией Давида, в победе над врагами Израиля, в нерушимости Иерусалима и Храма – и похоже, что Иисус подвергал сомнению как минимум некоторые из этих преданий (с. 314–315).
(обратно)
2118
Подробнее об этом см.: J. H. Charlesworth and L. L. Johns, eds., Hillel and Jesus: Comparative Studies of Two Major Religious Leaders (Minneapolis: Fortress, 1997), особ.: Craig Evans, «Reconstructing Jesus’ Teachings: Problems and Possibilities», с. 397–426; R. Bauckham, «Jesus’ Demonstration in the Temple», в кн.: Law and Religion: Essays on the Place of the Law in Israel and Early Christianity (ed. B. Lindars; Cambridge: James Clarke, 1988), с. 72–89; W. H. Kelber, The Oral and the Written Gospel: The Hermeneutics of Speaking and Writing in the Synoptic Tradition, Mark, Paul, and Q (Philadelphia: Fortress, 1983); G. Theissen and A. Merz, The Historical Jesus: A Comprehensive Guide (trans. J. Bowden; Minneapolis: Fortress, 1998); C. A. Evans, «On the Isaianic Background of the Sower Parable», CBQ 47 (1985): 464–468; J. A. Sanders, «Isaiah in Luke», Int 36 (1982): 144–155. Подробнее см.: Allison, Intertextual Jesus; E. Bradshaw Aitken, «Tradition in the Mouth of the Hero: Jesus as an Interpreter of Scripture», в кн.: Performing the Gospel: Orality, Memory, and Mark (ed. R. A. Horsley, J. A. Draper, and J. Miles Foley; FS W. Kelber; Minneapolis: Fortress, 2006); B. D. Chilton, «Jesus within Judaism», в кн.: Judaism in Late Antiquity, part 2: Historical Synthesis (ed. J. Neusner; HO 1; Der Nahe und Mittlere Osten 17; Leiden: Brill, 1995), с. 262–284; idem, «(The) Son of (the) Man and Jesus», в кн.: Authenticating the Words, ed. Chilton and Evans, с. 259–287; idem, Galilean Rabbi; C. A. Evans, «Aspects of Exile and Restoration in the Proclamation of Jesus and the Gospels», в кн.: Exile: Old Testament, Jewish, and Christian Connections (ed. J. M. Scott; JSJSup 56; Leiden: Brill, 1997), с. 299–328; C. A. Evans and J. A. Sanders, eds., Early Christian Interpretation of the Scriptures of Israel: Investigations and Proposals (JSNTSup 148; SSEJC 5; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997); Chilton, «From Gospel to Gospel: The Function of Isaiah in the New Testament», в кн.: Writing and Reading the Scroll of Isaiah: Studies of an Interpretative Tradition (ed. C. A. Evans and C. C. Broyles; 2 vols.; VTSup 70; FIOTL 1; Leiden: Brill, 1997), 2:651–691; idem, «From ‘House of Prayer’ to ‘Cave of Robbers’: Jesus’ Prophetic Criticism of the Temple Establishment», в кн.: Quest for Context and Meaning, ed. Evans and Talmon, с. 417–442; idem, «Obduracy and the Lord’s Servant: Some Observations on the Use of the Old Testament in the Fourth Gospel», в кн.: Early Jewish and Christian Exegesis: Studies in Memory of William Hugh Brownlee (ed. C. A. Evans and W. F. Stinespring; SPHS 10; Atlanta: Scholars Press, 1987), с. 211–236; idem, «Praise and Prophecy in the Psalter and the New Testament», в кн.: The Book of Psalms: Composition and Reception (ed. P. W. Flint et al.; VTSup 99; FIOTL 4; Leiden: Brill, 2005), с. 551–579; M. A. Daise, «‘Rivers of Living Water’ as New Creation and New Exodus: A Traditio-Historical Vantage Point for the Exegetical Problems and Theology of John 7:37–39» (Ph.D. diss., Princeton Theological Seminary, 2000); P. Perkins, «Apocalyptic Sectarianism and Love Commands: The Johannine Epistles and Revelation», в кн.: The Love of Enemy and Nonretaliation in the New Testament (ed. W. M. Swartley; SPS 3; Louisville: Westminster John Knox, 1992), с. 287–296; idem, Jesus as Teacher (UJT; Cambridge: Cambridge University Press, 1990); idem, «Matthew 28:16–20, Resurrection, Ecclesiology, and Mission», в кн.: Society of Biblical Literature 1993 Seminar Papers (SBLSP 32; Atlanta: Scholars Press, 1993), с. 574–588; Powery, Jesus Reads Scripture; J. A. Sanders, «The Ethic of Election in Luke’s Great Banquet Parable», в кн.: Essays in Old Testament Ethics: J. Philip Hyatt in Memoriam (ed. J. L. Crenshaw and J. T. Willis; New York: Ktav, 1974), с. 245–271; idem, «From Isaiah 61 to Luke 4», в кн.: Christianity, Judaism, and Other Greco-Roman Cults: Studies for Morton Smith at Sixty, part 1: New Testament (ed. J. Neusner; SJLA 12.1; Leiden: Brill, 1975), с. 75–106.
(обратно)
2119
См.: G. S. Oegema, «Paulus und die Ethik», в кн.: Für Israel und die Völker: Untersuchungen zum alttestamentlich-jüdischen Hintergrund der paulinischen Theologie (Leiden: Brill, 1998), с. 253–279; Chr. Burchard, «Das doppelte Liebesgebot in der frühen christlichen Überlieferung», в кн.: Der Ruf Jesu und die Antwort der Gemeinde: Exegetische Untersuchungen (ed. E. Lohse et al.; FS J. Jeremias; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1970), с. 39–62.
(обратно)
2120
См. классический труд: Albrecht Dihle, Die goldene Regel: Eine Einführung in die Geschichte der antiken und frühchristlichen Vulgärethik (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1962).
(обратно)
2121
См.: Oegema, «Paulus», в кн.: Israel, с. 255–261.
(обратно)
2122
См. там же, с. 261–263.
(обратно)
2123
См. там же, с. 258.
(обратно)
2124
См. там же, с. 264–272.
(обратно)
2125
См. там же, с. 263–264.
(обратно)
2126
См. там же, с. 272–273.
(обратно)
2127
См. там же, с. 274–276.
(обратно)
2128
U. Luz, Matthew (trans. J. E. Crouch; 3 vols.; Hermeneia; Minneapolis: Fortress, 2001), 1:285: «Утверждая, что заповедь Иисуса о любви к врагам – novum, отцы Церкви были правы лишь отчасти. Схожие призывы встречаем мы и в иудаизме, и в древнегреческой философии (особенно у стоиков), и в буддизме, и в даосизме».
(обратно)
2129
Завет двенадцати патриархов стоит на перепутье иудаизма и христианства – и, согласно нашей объяснительной модели, предлагает нам подлинное речение, так же как и Лк 6:27 содержит подлинное речение Иисуса: оно выводится и из Еврейской Библии и древнеиудейской традиции, и из его восприятия у ранних христиан.
(обратно)
2130
Глагол «любить» как в Еврейской Библии, так и в раввинистической литературе, а также в Септуагинте и Новом Завете, означает положительное отношение к другому, в то время как «враг» более или менее противоположен «ближнему» или «другу».
(обратно)
2131
См.: Oegema, «Paulus», в кн.: Oegema, Israel, с. 253–255.
(обратно)
2132
Хотя возможности датировать различные стадии эволюции этой перикопы у нас нет, для нее имеется целых пятнадцать источников, не считая различных досиноптических, синоптических и апокрифических редакций. Иными словами, процесс развития христологии на основе образа исторического Иисуса, занявший около пятидесяти лет, очень насыщен и вполне заслуживает названия «траектории ранней христологии».
(обратно)
2133
Об иудаизме Иисуса в целом см., напр.: J. H. Charlesworth, ed., Jesus’ Jewishness: Exploring the Place of Jesus within Early Judaism (New York: Crossroad, 1991); Vermes, Jesus the Jew; idem, Religion of Jesus the Jew; S. Freyne, Jesus, a Jewish Galilean: A New Reading of the Jesus Story (New York: T&T Clark, 2004); Chilton, «Jesus within Judaism»; idem, «Traditio-Historical Criticism and the Study of Jesus», в кн.: Religion and the Social Order: What Kinds of Lessons Does History Teach? (ed. Neusner; SFRSLSRSO 11; Atlanta: Scholars Press, 1994), с. 39–60.
(обратно)
2134
См., напр.: 2 Мак 7; Муч. Пол 2:1–4 и 17:3; Плиний, Письма 10.96–97.
(обратно)
2135
См., напр.: Деян 5:29.
(обратно)
2136
См. также: M. de Jonge, God’s Final Envoy: Early Christology and Jesus’ Own View of His Mission (SHJ; Grand Rapids: Eerdmans, 1998), с. 33, 109.
(обратно)
2137
См.: G. S. Oegema, «Paulus und die jüdische Bibelauslegung», в кн.: Israel, с. 57–138.
(обратно)
2138
Дальнейшие примеры см. в кн.: Bauckham, «Jesus’ Demonstration in the Temple»; D. Capps, Jesus: A Psychological Biography (St. Louis: Chalice, 1989); L. Novakovic, Messiah, the Healer of the Sick: A Study of Jesus as the Son of David in the Gospel of Matthew (WUNT 170; Mohr Siebeck, 2003); A. Segal, «Jesus the Jewish Revolutionary», в кн.: Jesus’ Jewishness: Exploring the Place of Jesus within Early Judaism (ed. J. H. Charlesworth; SGJC 2; New York: Crossroad, 1991), с. 199–225; M. A. Daise, «“If Anyone Thirsts, Let That One Come to Me and Drink”: The Literary Texture of John 7:37b–38a», JBL 122 (2003): 687–699; O. M. Hendricks, «Class, Political Conservatism, and Jesus», Cross Currents 55 (2005): 304–321; T. Holmén, Jesus and Jewish Covenant Thinking (BInS 55; Leiden: Brill, 2001); G. Parsenios, «‘No Longer in the World’ (John 17:11): The Transformation of the Tragic in the Fourth Gospel», HTR 98 (2005): 1–21; P. Perkins, «The Rejected Jesus and the Kingdom Sayings», Semeia 44 (1988): 79–94; B. D. Chilton, «The Purity of the Kingdom as Conveyed in Jesus’ Meals», в кн.: Society of Biblical Literature 1992 Seminar Papers (SBLSP 31; Atlanta: Scholars Press, 1992), с. 437–488; W. R. G. Loader, Jesus’ Attitude towards the Law: A Study of the Gospels (Grand Rapids: Eerdmans, 2002); P. Perkins, Hearing the Parables of Jesus (New York: Paulist Press, 1981); E. P. Sanders, The Historical Figure of Jesus (Toronto: Penguin, 1993).
(обратно)
2139
R. T. Beckwith, «Canon of the Hebrew Bible and the Old Testament», в кн.: The Oxford Companion to the Bible (ed. B. M. Metzger and M. D. Coogan; New York: Oxford University Press, 1993), с. 100–102, цит. с. 102.
(обратно)
2140
В дальнейшем термины «канонический» и «неканонический» я буду использовать для определения книг, содержащихся или не содержащихся в современной Еврейской Библии или в протестантском Ветхом Завете; однако эти термины анахроничны и применительно к временам Иисуса употребляются «задним числом». В дальнейшем я буду использовать их для определения литературы, составляющей современную Библию и принятой не позднее христианского новозаветного канона; однако повторю еще раз: это анахронические термины, чуждые как раннему христианству, так и древнему иудаизму.
(обратно)
2141
From Revelation to Canon: Studies in the Hebrew Bible and Second Temple Literature (JSJSup 62; Leiden: Brill, 2002), с. 2. Стоит отметить также, что есть разница между каноном и Писанием. Первый предполагает наличие второго; обратное неверно. Многие древние книги признавались священными текстами (Писанием) задолго до того, как были включены в непреложный библейский канон.
(обратно)
2142
Так же, например, Ириней в своей книге Против ересей цитирует множество книг, впоследствии включенных Церковью в Ветхий и Новый Заветы, однако далеко не все книги современного библейского канона; не приводит он и списка книг, которые считает священными. Мы ясно видим, какие Евангелия он признает входящими в Писание (четыре канонических Евангелия), и также очевидно, что он исключает из Писания некоторые другие книги, скажем, Евангелие Иуды (Против ересей 1.31.1). Поскольку Ириней спорил с определенными ересями, имевшими хождение в Церкви, понятно, что цитировал он лишь те произведения, в которых находил аргументы против своих противников. Таким же образом, мы не можем сказать с уверенностью, какие другие древние тексты мог включать в Писание Иисус, поскольку не знаем всего, о чем он говорил и чему учил (Ин 20:30).
(обратно)
2143
В кн.: R. Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony (Grand Rapids: Eerdmans, 2006) приведены сильные аргументы в пользу этой позиции.
(обратно)
2144
Эти внеканонические речения перечислены и обсуждаются в кн.: J. Jeremias, Unknown Sayings of Jesus (trans. R. H. Fuller; 2nd ed.; London: SPCK, 1964); W. D. Stroker, Extracanonical Sayings of Jesus (SBLRBS 18; Atlanta: Scholars Press, 1989); O. Hofius, «Unknown Sayings of Jesus», в кн.: New Testament Apocrypha (ed. W. Schneemelcher; trans. ed. R. McL. Wilson; rev. ed.; Louisville: Westminster John Knox, 1992), с. 88–91; idem, «Isolated Sayings of Jesus», в кн.: The Gospel and the Gospels (ed. P. Stuhlmacher; Grand Rapids: Eerdmans, 1991), с. 336–360; J. H. Charlesworth and C. A. Evans, «Jesus in the Agrapha and Apocryphal Gospels», в кн.: Studying the Historical Jesus: Evaluations of the State of Current Research (ed. B. Chilton and C. Evans; NTTS 19; Leiden: Brill, 1994), с. 479–533.
(обратно)
2145
Ср.: Мк 1:2, Мф 3:3 и Лк 3:4. В некоторых других случаях они также приглаживают, смягчают, даже меняют повествование Марка (ср.: Мк 1:10 с Мф 3:16 и Лк 3:22; Мк 8:29 с Мф 16:16 и Лк 9:20). См. также описание Ирода Антипы у Марка (ср.: Мк 1:10 с Мф 14:1 и т. д.) и беспокойство родных Иисуса о стабильности его рассудка и о мнимой непочтительности Иисуса к семье (ср.: Мк 3:21 и 33–34 с Мф 12:49 и Лк 8:21). Марк называет Иисуса «учителем» (Мк 4:38), в то время как Матфей – «Господом» (Мф 8:25), а Лука – «наставником» (Лк 8:24).
(обратно)
2146
Радикальное применение так называемого критерия несходства я отвергаю. Этот критерий часто используется для того, чтобы выделить в учении Иисуса уникальные элементы; однако как некоторые участники «Семинара по Иисусу», так и другие ученые порой используют его, чтобы отвергать элементы учения Иисуса, сходные с преданиями иудаизма и раннего христианства. Но на практике этот критерий исходит из неверного предположения о том, что ближайшие ученики Иисуса были менее всего заинтересованы в сохранении его учения. Несомненно, в раннем христианстве предания об Иисусе и развивались, и менялись; однако предположение, согласно которому сама его история не вызывала особого интереса (а именно на такой идее основано радикальное применение критерия несходства) вызывает суровую и заслуженную критику. Иисус был иудеем, и вполне логично, что его учение и практики во многом совпадали с учением и практиками какой-либо секты или нескольких сект иудаизма I столетия. При помощи этого критерия некоторые участники Семинара пытаются найти уникального Иисуса; однако это ни в коей мере не типичный Иисус – иудей, которого прекрасно помнили и чтили последователи. Прекрасное рассуждение об этом см. в кн.: B. Gerhardsson, Memory and Manuscript: Oral Tradition and Written Transmission in Rabbinic Judaism and Early Christianity with Tradition and Transmission in Early Christianity (BRS; Grand Rapids: Eerdmans, 1998). См. также: Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses, с. 264–289.
(обратно)
2147
J. A. Sanders, J. H. Charlesworth and H. Rietz, «Non-Masoretic Psalms», в кн.: Pseudepigraphic and Non-Masoretic Psalms and Prayers (ed. Charlesworth with Rietz; PTSDSSP 4A; Tübingen: Mohr Siebeck, 1997), с. 155–215.
(обратно)
2148
R. Beckwith, The Old Testament Canon of the New Testament Church (Grand Rapids: Eerdmans, 1985), с. 7–8.
(обратно)
2149
Там же, с. 387.
(обратно)
2150
См.: L. M. McDonald, The Biblical Canon: Its Origin, Transmission, and Authority (Grand Rapids: Baker Academic, 2007, с исправлениями, 2011), с. 191–194. Подробнее о том, что Первая книга Еноха считалась Священным Писанием как у Иуды, так и у ранних христиан в целом, см. в кн.: Vanderkam, From Revelation to Canon, с. 16–27.
(обратно)
2151
Никто не высказывает серьезных сомнений в том, что этот же псалом Иисус цитировал во время распятия. Такой текст Древняя Церковь не стала бы вкладывать в уста Иисуса, не имея на то исторических оснований, поскольку он, по-видимому, говорит о потере Иисусом веры. Старое, но любопытное истолкование значения этого отрывка см. в кн: M. Dibelius, From Tradition to Gospel (trans. B. L. Woolf; 1934; repr., Cambridge: James Clarke, 1982), с. 193–194, который полагает, что цитирование первой строки псалма является по сути ссылкой на весь псалом.
(обратно)
2152
В кн.: A. Segal, Sefer Ben-Sirah ha-Shalem [Jerusalem: Bialik, 1953] отмечено восемьдесят пять случаев цитирования Сираха в раввинистической литературе в X в. н. э.
(обратно)
2153
В данном случае оба библейских пассажа переведены согласно английскому тексту статьи. – Прим. ред.
(обратно)
2154
К этому списку можно добавить параллели: P. Stuhlmacher, «The Significance of the Old Testament Apocrypha and Pseudepigrapha for the Understanding of Jesus and Christology», в кн.: The Apocrypha in Ecumenical Perspective (ed. S. Meuer; UBSMS 6; New York: United Bible Societies, 1991), с. 8–10. Штульмахер отмечает также близкие параллели между Мф 11:25–28 и апокрифическим псалмом 154 (11QPsa xviii 3–6).
(обратно)
2155
См.: J. H. Charlesworth, «Summary and Conclusions: The Books of Enoch or 1 Enoch Matters: New Paradigms for Understanding Pre-70 Judaism», в кн.: Enoch and Qumran Origins: New Light on a Forgotten Connection (ed. G. Boccaccini; Grand Rapids: Eerdmans, 2005), с. 436–454.
(обратно)
2156
О Енохианской традиции в Кумране и о нынешнем состоянии изучения этого вопроса см.: полезные сведения во введении и итоговой главе Г. Боккаччини (с. 1–14 и 417–425), а также в итоговой главе Джеймса Чарлзворта (с. 436–454) в кн.: Boccaccini, Enoch and Qumran Origins. См. также: J. C. VanderKam, «1 Enoch, Enochic Motifs, and Enoch in Early Christian Literature», в кн.: The Jewish Apocalyptic Heritage in Early Christianity (ed. VanderKam and W. Adler; CRINT 3/4; Assen: Van Gorcum, 1996), с. 33–101. См. также: VanderKam, From Revelation to Canon, с. 19–27, где приведены несколько примеров влияния традиции Еноха на Кумран и на раннее христианство.
(обратно)
2157
У Матфея имеется целых 24 параллели (напр.: Мф 1:18–21 – Иос. Ас 21:1; Мф 5:13 – Иос. Ас 11:4; Мф 5:43–48 – Иос. Ас 29:5; Мф 6:19–21 – Иос. Ас 12:15; Мф 6:23 – Иос. Ас 6:6); у Марка 23 (напр.: Мк 1:10 – Иос. Ас 14:2; Мк 1:17 – Иос. Ас 21:21; Мк 6:3 – Иос. Ас 4:10; Мк 10:21 – Иос. Ас 10:11), у Луки 54 (напр.: Лк 1:5 – Иос. Ас 1:1; Лк 1:48 – Иос. Ас 11:12; Лк 2:52 – Иос. Ас 4:7; Лк 7:44 – Иос. Ас 7:1; Лк 11:7 – Иос. Ас 10:2; Лк 15:18 – Иос. Ас 7:4) и у Иоанна – 28 (напр.: Ин 1:4 – Иос. Ас 12:2; Ин 1:10 – Иос. Ас 12:2; Ин 1:27 – Иос. Ас 12:5; Ин 3:5 – Иос. Ас 8:9; Ин 13:23 – Иос. Ас 10:4; Ин 20:22 – Иос. Ас 19:11; Ин 20:28 – Иос. Ас 22:3). Дополнительные тексты см.: S. Delamarter, A Scripture Index to Charlesworth’s The Old Testament Pseudepigrapha (Sheffield: Sheffield Academic Press, 2002), с. 90–93. Он перечисляет еще больше параллелей, относящихся ко всему Новому Завету.
(обратно)
2158
О датировке этого документа см.: R. S. Kraemer, When Aseneth Met Joseph: A Late Antique Tale of the Biblical Patriarch and His Egyptian Wife, Reconsidered (New York: Oxford University Press, 1998), с. 5, 225 и дал. Автор подвергает сомнению общепринятую датировку этой книги периодом 135 г. до н. э. – 100 г. н. э., говоря, что для нее нет оснований и она зиждется скорее на предположениях, чем на фактах. С другой стороны, в обзоре книги в RBL [G. Bohak, http://www.bookreviews.org] (2000) делается заключение о том, что аргументы Кремер не опровергли устоявшееся мнение. В кн.: G. Bohak, Joseph and Aseneth and the Jewish Temple in Heliopolis (SBLEJL 10; Atlanta: Scholars Press, 1996), представлена позиция, достигнутая общими усилиями.
(обратно)
2159
Этот аргумент приведен в кн.: E. E. Ellis, The Old Testament in Early Christianity: Canon and Interpretation in the Light of Modern Research (Grand Rapids: Baker, 1991), с. 37–46 и 125–130; см. также: Beckwith, Old Testament Canon, с. 111–115, 221–222.
(обратно)
2160
Beckwith, Old Testament Canon, с. 111–115. См. также связанное с этим рассуждение о «пятерицах», с. 438–447.
(обратно)
2161
См.: McDonald, Biblical Canon, с. 103–113.
(обратно)
2162
Подробный и внимательный разбор вопроса о влиянии восточных раввинов на иудеев Западной диаспоры: A. Edrei and D. Mendels, «A Split Jewish Diaspora: Its Dramatic Consequences», JSP 16.2 (2007): 91–137. Они пишут о том, что ограничение списка священной иудейской литературы, предпринятое раввинами, достигло Западной диаспоры лишь столетия спустя; иудеи на западе продолжали, помимо книг Еврейской Библии, обращаться к апокрифам и псевдэпиграфам. Кроме того, Эдрей и Мендельс обращают наше внимание на то, что все упоминания о западных иудеях в Талмуде можно пересчитать по пальцам. Поскольку иудеи на западе обычно говорили только по-гречески, у них не было возможности читать Мишну и Талмуды, написанные на иврите и не переведенные на греческий.
(обратно)
2163
В ст.: Stuhlmacher, «Significance», с. 2–12 приведено множество новозаветных цитат, в которых имеются отсылки к неканоническим писаниям, а также словесные или тематические параллели с ними. Ряд таких мы рассмотрим далее. В ст.: D. J. Harrington, «The Old Testament Apocrypha in the Early Church and Today», в кн.: The Canon Debate [ed. L. M. McDonald and J. A. Sanders; Peabody, Mass.: Hendrickson, 2002], с. 196–210) подвергнута сомнению мысль о том, что в раннем христианстве имелась значительная зависимость от этой литературы. Автор признает использование Книги Товита, Второй книги Маккавейской и Сираха, однако призывает с осторожностью делать из этого выводы. По его словам, в иудаизме конца I в. н. э. наблюдались две отчетливые тенденции: к трехчастному канону Писания – и (среди христиан) к более широкому и объемному канону Ветхого Завета.
(обратно)
2164
Это наблюдение сделано в кн.: J. Barton, People of the Book? The Authority of the Bible in Christianity (2nd ed.; London: SPCK, 1993), с. 25, 34.
(обратно)
2165
Штульмахер убедительно показывает, что некоторые новозаветные темы исходят из апокрифической или псевдэпиграфической литературы, и цитирует вышеприведенные примеры как свидетельство этого (Stuhlmacher, «Significance», с. 1–12).
(обратно)
2166
О значении этой литературы для Кумрана и раннего христианства см.: VanderKam, From Revelation to Canon, с. 23–28. См. также: J. T. Milik, The Books of Enoch: Aramaic Fragments of Qumran Cave 4 (Oxford: Clarendon, 1976); Boccaccini, ed., Enoch and Qumran Origins.
(обратно)
2167
См.: Bastiaan Van Elderen, «Early Christian Libraries», в кн.: The Bible as Book: The Manuscript Tradition (ed. J. Sharpe and K. Van Kampen; London: British Library, 1998), с. 45–59, цит. с. 46–47.
(обратно)
2168
Примеры цитирования текстов Еноха в папирусах Честера Битти: VanderKam, «1 Enoch, Enochic Motifs».
(обратно)
2169
Подробнее о Первой книге Еноха в эфиопской церковной традиции: R. W. Cowley, «The Biblical Canon of the Ethiopian Orthodox Church Today», Ost 23 (1974): 318–323.
(обратно)
2170
ET: адаптированный перевод из ANF, выделение добавлено.
(обратно)
2171
Мысль из кн.: R. Grant, The Formation of the New Testament (New York: Harper & Row, 1965), с. 38–41.
(обратно)
2172
Там же, с. 41.
(обратно)
2173
Stuhlmacher, «Significance», с. 3.
(обратно)
2174
Это отмечено в кн.: Grant, Formation, с. 44.
(обратно)
2175
McDonald, Biblical Canon, с. 194–214.
(обратно)
2176
Grant, Formation, с. 46.
(обратно)
2177
Stuhlmacher, «Significance», с. 2.
(обратно)
2178
C. A. Evans, «The Scriptures of Jesus and His Earliest Followers», в кн.: Canon Debate, ed. McDonald and Sanders, с. 185–195, цит. с. 185–186.
(обратно)
2179
Там же, с. 186.
(обратно)
2180
Там же.
(обратно)
2181
Поскольку не все свитки происходят из Кумрана, обычно их обобщенно называют «свитками Мертвого моря», имея в виду, что все они найдены вблизи Мертвого моря, однако не в одном месте. Большая часть свитков обнаружена в пещерах близ Кумрана, однако некоторые – в других местах неподалеку, а также в Масаде (где найдены примерно три главы Сираха, фрагменты Псалтири, Книги Левит и Книги Бытия) и в Нахаль-Хевере (где в так называемой «Пещере писем», или «Пещере ужаса», оказались разнообразные документы, в том числе обрывки Малых Пророков и большое количество документов Бар-Кохбы). О содержании этих свитков в целом см.: F. M. Cross, The Ancient Library at Qumran (3rd ed.; Minneapolis: Fortress, 1995), с. 19–53. См. также: M. Abegg Jr., P. Flint, and E. Ulrich, The Dead Sea Scrolls Bible: The Oldest Known Bible Translated for the First Time into English (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1999), с. xiv – xv, также о содержании свитков. Заглавие книги [ «Древнейшая Библия: впервые на английском»], без сомнения, неверно, однако в ней содержится важная информация об этом древнем собрании писаний.
(обратно)
2182
Подробное обсуждение параллелей с Храмовым Свитком, 4QMMT и Свитком Войны, см: James H. Charlesworth, «A Study in Shared Symbolism and Language: The Qumran Community and the Johannine Community», в кн.: The Bible and the Dead Sea Scrolls: The Princeton Symposium on the Dead Sea Scrolls, vol. 3: The Scrolls and Christian Origins (ed. Charlesworth; 3 vols.; Waco, Tex.: Baylor University Press, 2006), с. 97–152; James D. G. Dunn and James H. Charlesworth, «Qumran’s Some Works of Torah (4Q394–399 [4QMMT]) and Paul’s Galatians», там же, с. 187–202; Loren L. Johns, «The Dead Sea Scrolls and the Apocalypse of John», там же, с. 255–280. Некоторые другие статьи в этом сборнике также касаются параллелей между кумранскими свитками и новозаветной литературой.
(обратно)
2183
Evans, «Scriptures of Jesus», с. 195.
(обратно)
2184
Перевод по источнику: Thackeray, LCL; выделение добавлено. Значение числа 22 и его связь с буквами еврейского алфавита обсуждается в кн.: McDonald, Biblical Canon, с. 150–169.
(обратно)
2185
А именно: Луис Фельдман, Дэниел Сильвер, Сид Лейман и Фрэнк Мур Кросс. Их интерпретация Иосифа Флавия обсуждается в кн.: McDonald, Biblical Canon, с. 151–158.
(обратно)
2186
Перевод в кн.: J. Neusner, Tosefta: Translated from the Hebrew, vol. 6: Sixth Division: Tohorot (New York: Ktav, 1977), с. 333, 2:1907.
(обратно)
2187
См.: 1 Мак 4:46; 9:27; 14:41; Иосиф, Пр. Ап 1.37–41; 2 Вар 85:3; С. Олам Раб 30; и особенно т. Сота 13:2. Подобный же взгляд встречается и в позднейших раввинистических текстах – таких как вав. Йома 9b; Сота 48а; Санх 11а.
(обратно)
2188
ET: Soncino Press, курсив добавлен.
(обратно)
2189
Ellis, Old Testament in Early Christianity, с. 50.
(обратно)
2190
D. E. Aune, Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World (Grand Rapids: Eerdmans, 1983), с. 106–152.
(обратно)
2191
Этот вопрос обсуждается в кн.: Biblical Canon, гл. 6.
(обратно)
2192
Аргумент представлен в кн.: R. L. Harris, Inspiration and Canonicity of the Bible (Grand Rapids: Zondervan, 1957), с. 219–235, 274–282. В кн.: C. D. Allert, A High View of Scripture? The Authority of the Bible and the Formation of the New Testament Canon (Grand Rapids: Baker Academic, 2007) указано, что об этом часто спорят в некоторых современных евангелических семинариях.
(обратно)
2193
Интересные замечания о понятии боговдохновенности в раннем христианстве, расходящиеся с изложенной точкой зрения: C. R. Holladay, A Critical Introduction to the New Testament (Nashville: Abingdon, 2005), с. 586; в расширенной электронной версии книги автор говорит об этом подробнее. Аргументы достаточно серьезны, однако, на мой взгляд, боговдохновенность – это скорее естественный результат, а не критерий. Те писания, в истинность которых верующие верили, считались боговдохновенными, – а если в истинность книг не верили, боговдохновенными те не считались.
(обратно)
2194
J. Z. Smith, «Canons, Catalogues, and Classics», в кн.: Canonization and Decanonization (ed. A. van der Kooij and K. van der Toorn; SHR 82; Leiden: Brill, 1998), с. 298.
(обратно)
2195
Ранее я уже упоминал о том, что многие документы в древности часто использовались или цитировались в качестве авторитетных источников, «как писания», задолго до того, как вошли в установленный свод Священного Писания. Для обозначения этого феномена трудно найти адекватный термин. Вслед за Аланом Шепардом я называю эту практику использования древних текстов как авторитетных источников до их помещения в какие-либо четко определенные собрания – «канон-1», в отличие от «канона-2», в котором эти книги получили общее название Писания и были собраны в единый и завершенный комплекс священной литературы. См.: McDonald, Biblical Canon, с. 55–58.
(обратно)
2196
См.: L. M. McDonald, «Identifying Scripture and Canon in the Early Church: The Criteria Question», в кн.: Canon Debate, ed. McDonald and Sanders, с. 416–439.
(обратно)
2197
F. F. Bruce, The Canon of Scripture (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1988), с. 42.
(обратно)
2198
См.: L. M. McDonald, «Wherein Lies Authority? A Discussion of Books, Texts, and Translations», в кн.: Exploring the Origins of the Bible (ed. C. A. Evans and E. Tov; Grand Rapids: Baker Academic, 2008), с. 203–240. Подробнее об этом см.: Daryl Schmidt, «The Greek New Testament as a Codex», в кн.: Canon Debate, ed. McDonald and Sanders, с. 469–484.
(обратно)
2199
B. M. Metzger, «Introduction to Apocryphal/Deuterocanonical Books», в кн.: The New Oxford Annotated Bible with the Apocryphal/Deuterocanonical Books, New Revised Standard Edition (ed. B. M. Metzger and R. E. Murphy; New York: Oxford University Press, 1991), с. viii – xi.
(обратно)
2200
NA27, с. 770–806, особ. с. 800–806. Более полное собрание ссылок можно найти в кн.: Steve Delamarter, A Scripture Index to Charlesworth’s The Old Testament Pseudepigrapha (Sheffield: Sheffield Academic Press, 2002). Наиболее полный из ныне существующих списков ссылок см. в собрании Кевина Эджкома. Эджком значительно расширил список аллюзий из NA27 и добавил к нему сравнения переводов. См. его сайт: http://bombaxo.com/allusions.html, а также пространный список сравнений с псевдэпиграфическими писаниями: http://www.bombaxo.com. В NA28 этот список был изменен; на него есть ссылка в кн.: Timothy H. Lim, Formation of the Jewish Canon (New Haven, CT: Yale University Press, 2013).
(обратно)
2201
Из этого обзора мы видим, что евангелисты атрибутируют Иисусу обращение к Пятикнижию (особенно к Второзаконию), Псалтири и Книге пророка Исаии.
(обратно)
2202
См.: P. N. Anderson, «Aspects of Historicity in the Gospel of John», в кн.: Jesus and Archaeology (ed. J. H. Charlesworth; Grand Rapids: Eerdmans, 2006), с. 587–618, цит. с. 596. Поддержка мнения: U. C. Von Wahlde, «Archaeology and John’s Gospel», там же, с. 523–586, особ. с. 583–586.
(обратно)
2203
Назовем несколько исследований, в которых описана эта переоценка исторических черт Евангелия от Иоанна: J. H. Charlesworth, Jesus within Judaism: New Light from Exciting Archaeological Discoveries (New York: Doubleday, 1988), с. 103–130, особ. с. 118–127; idem, The Beloved Disciple: Whose Witness Validates the Gospel of John? (Valley Forge, Pa.: Trinity Press International, 1995); von Wahlde, «Archaeology and John’s Gospel»; Anderson, «Aspects of Historicity»; idem, «John and Mark: The Bi-Optic Gospels», в кн.: Jesus in Johannine Tradition (ed. R. Fortna and T. Thatcher; Louisville: Westminster John Knox, 2001), с. 175–190; A. J. B. Higgins, The Historicity of the Fourth Gospel (London: Lutterworth, 1960); F. Müssner, The Historical Jesus in the Gospel of St. John (trans. W. J. O’Hara; New York: Herder & Herder, 1966); J. A. T. Robinson, The Priority of John (ed. J. F. Coakley; London: SCM, 1985).
(обратно)
2204
В кн.: Stuhlmacher, «Significance», с. 8–10 к этому списку добавлено еще несколько параллелей. Кроме того, как мы уже отмечали, Штульмахер видит параллели между Мф 11:25–28 и апокрифическим псалмом 11QPsa 154 (11Q5 xviii, 3–6).
(обратно)
2205
О различных истолкованиях этого отрывка см.: Margaret M. Mitchell, «Pauline Accommodation and ‘Condescension’ (συγκατάβασις): 1 Cor 9:19–23 and the History of Influence», в кн.: Paul Beyond the Judaism/Hellenism Divide (ed. T. Engberg-Pedersen; Louisville: Westminster John Knox, 2001), с. 197–214. О философской икономии в 1 Кор см. особенно: Clarence Glad, Paul and Philodemus: Adaptability in Epicurean and Early Christian Psychagogy (NovTSup 81; Leiden: Brill, 1995).
(обратно)
2206
Нрав. пис 64, ET: Abraham Malherbe, Moral Exhortation: A Greco-Roman Sourcebook (LEC 4; Philadelphia: Westminster, 1986), с. 66.
(обратно)
2207
Mitchell, «Pauline Accommodation», с. 206–208, откуда взяты отрывки из Филона.
(обратно)
2208
Пер. О. Левинской. ET: Colson (LCL).
(обратно)
2209
ET: Colson (LCL).
(обратно)
2210
Mitchell, «Pauline Accommodation», с. 206.
(обратно)
2211
ET: Colson (LCL).
(обратно)
2212
Mitchell, «Pauline Accommodation», с. 206.
(обратно)
2213
Классическое рассуждение о роли «восхождения и схождения» в Евангелии от Иоанна, см.: Wayne Meeks, «The Man from Heaven in Johannine Sectarianism», в кн.: The Interpretation of John (ed. John Ashton; IRT 9; Philadelphia: Fortress, 1986), с. 141–173; репринт JBL 91 (1972): 44–72. Цитаты приводятся по версии репринта.
(обратно)
2214
Связь трудов Филона и Четвертого Евангелия обсуждалась неоднократно и на самых разных уровнях. О проблемах, связанных с тем, что Иоанн именует Иисуса Логосом, см.: David T. Runia, Philo in Early Christian Literature: A Survey (CRINT 3/3; Minneapolis: Fortress, 1993), с. 78–83; C. H. Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel (Cambridge: Cambridge University Press, 1968), с. 54–73, 263–288; Harold W. Attridge, «Philo and John: Two Riffs on One Logos», SPhilo 17 (2005): 103–117.
(обратно)
2215
О συγκατάβασις у Златоуста см.: Margaret M. Mitchell, «Pauline Accommodation», с. 211–212; idem, «“A Variable and Many-Sorted Man”: John Chrysostom’s Treatment of Pauline Inconsistency», JECS 6 (1998): 93–111; Robert Charles Hill, вступление к кн.: Commentary on the Psalms by St. John Chrysostom (trans. R. C. Hill; 2 vols.; Brookline, Mass.: Holy Cross Orthodox Press), 1:21–41; Fabio Fabbi, «La Condiscendenza divina nell’inspirazione biblica secondo S. Giovanni Crisostomo», Bib 14 (1933): 330–347; а также особенно: David Rylaarsdam, «The Adaptability of Divine Pedagogy: Sunkatabasis in the Theology and Rhetoric of John Chrysostom» (Ph.D. diss., University of Notre Dame, 2000).
(обратно)
2216
Rylaarsdam, «Adaptability», с. 84 и далее.
(обратно)
2217
Там же, с. 93 и далее.
(обратно)
2218
Обзор интерпретаций и интерпретативных тенденций этого евангельского эпизода с древности до наших дней см.: Janeth Norfleete Day, The Woman at the Well: Interpretation of John 4:1–42 in Retrospect and Prospect (BInS 61; Leiden: Brill, 2002).
(обратно)
2219
Перевод цитат из гомилий Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна: George L. Parsenios, по источнику: M. E. Boismard and A. Lamouille, Un évangile pré-johannique (EBib 17–18, 24–25, 28–29; Paris: Gabalda, 1993–1996). Указаны гомилия и номер строки.
(обратно)
2220
См., напр.: David H. J. Larmour, «Making Parallels: Synkrisis and Plutarch’s “Themistocles and Camillus”», ANRW 33.6:4154–200. О характерах у Плутарха см. также: Timothy Duff, Plutarch’s Lives: Exploring Virtue and Vice (New York: Oxford University Press, 2002).
(обратно)
2221
Парадигматическое выражение этого подхода см. в кн.: R. Alan Culpepper, Anatomy of the Fourth Gospel: A Study in Literary Design (Philadelphia: Fortress, 1983), гл. 5, «Characters». Четкое, хотя и критическое описание современного литературно-критического подхода к Евангелиям в целом: Stephen D. Moore, Literary Criticism and the Gospels: The Theoretical Challenge (New Haven: Yale University Press, 1989), особенно: с. 15, 74–75.
(обратно)
2222
Culpepper, Anatomy, с. 136.
(обратно)
2223
О святоотеческих трактовках божественной адаптивности у апостола Павла см.: Mitchell, «Pauline Accommodation», с. 208–212.
(обратно)
2224
Перевод по источнику: Kathleen E. McVey, Ephrem the Syrian: Hymns (CWS; Mahwah, N. J.: Paulist Press, 1989), с. 360. О божественном приспособлении и духовном развитии у Ефрема и Оригена см.: idem, «Saint Ephrem’s Understanding of Spiritual Progress: Some Points of Comparison with Origen of Alexandria», The Harp 1 (1988): 117–128.
(обратно)
2225
О постепенном возрастании в вере см.: David Rensberger, Johannine Faith and Liberating Community (Philadelphia: Westminster, 1988), с. 37–51.
(обратно)
2226
Об этом пишет Эндрю Линкольн: «В его рассказе, в отличие от рассказа синоптиков, ничего не говорится об иудейском суде перед Синедрионом. Вместо этого на всем протяжении своего общественного служения Иисус находится как бы перед судом Израиля и его вождей» (A. Lincoln, Truth on Trial: The Lawsuit Motif in the Fourth Gospel [Peabody, Mass.: Hendrickson, 2000], с. 23).
(обратно)
2227
John among the Gospels (2nd ed.; Columbia: University of South Carolina Press, 2001), с. 216. Однако главная его забота – понять, что это обстоятельство говорит нам о взаимоотношениях Иоанна с синоптическими Евангелиями. Например, если Иоанн знал версию Марка, почему пропустил богословски многозначную сцену в суде? (с. 216–219). В своей недавней статье Смит пишет также о том, что отсутствие суда Синедриона в Ин 18 – не выражение богословского творчества автора, но нечто прямо противоположное: в этой сцене Иоанн ближе к исторической истине, чем Марк. Дело вот в чем: если вообразить, что Иоанн изменил текст Марка, мы должны будем признать версию Иоанна менее историчной. Однако вполне возможно, что Иоанн не менял те же предания, а попросту опирался на другие. См.: D. Moody Smith, «John: A Source for Jesus Research?» в кн.: John, Jesus, and History, vol. 1: Critical Appraisals of Critical Views (ed. P. N. Anderson, F. Just, and T. Thatcher; SBLSymS 44; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2007), с. 165–178, цит. с. 168–169. Тот же взгляд на историческую надежность Иоанна сравнительно с Марком: Paula Fredriksen, Jesus of Nazareth, King of the Jews: A Jewish Life and the Emergence of Christianity (New York: Knopf, 1999), с. 223–224. Впрочем, эта аргументация не противоречит вышеуказанным взглядам и не предполагает, что богословское творчество и историческая достоверность совершенно несовместимы. Об этом см.: Paul N. Anderson, «Prologue: Critical Views of John, Jesus and History», в кн.: Critical Appraisals of Critical Views, ed. Anderson et al., с. 1–6, цит. с. 2. См. также недавний труд: Richard Bauckham, The Testimony of the Beloved Disciple: Narrative, History, and Theology in the Gospel of John (Grand Rapids: Baker Academic, 2007), особ. с. 93–112.
(обратно)
2228
Об этом предположении см.: Hans Dieter Betz, «Jesus and the Cynics: Survey and Analysis of a Hypothesis», JR 74 (1994): 453–475.
(обратно)
2229
Интересующимся могу рекомендовать весьма полезные обзоры: K. Kertelge, «Die Wunder Jesu in der neueren Exegese», в кн.: Glaube und Geschichte (ThBer 5; Zürich: Benzinger, 1976), с. 71–105; D. E. Aune, «Magic in Early Christianity», ANRW 2.23.2 (ed. W. Haase; Berlin: de Gruyter, 1980), с. 1507–1557; A. Suhl, ed., Der Wunderbegriff im Neuen Testament (WF 295; Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980); G. Maier, «Zur neutestamentlichen Wunderexegese im 19. und 20. Jahrhundert», в кн.: The Miracles of Jesus (ed. D. Wenham and C. L. Blomberg; Gospel Perspectives 6; Sheffield: JSOT Press, 1986), с. 49–87; E. Koskenniemi, Apollonios von Tyana in der neutestamentlichen Exegese: Forschungsbericht und Weiterführung der Diskussion (WUNT 61; Tübingen: Mohr Siebeck, 1994). Практически исчерпывающее обсуждение обеих общих проблем, экзегетические исследования отдельных отрывков, а также обсуждение множества литературных трудов представлены в кн.: J. P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, vol. 2: Mentor, Message, and Miracles (ABRL; New York: Doubleday, 1994), part 3: «Miracles», с. 509–1038 (основные библиографические источники – на с. 522–524). См. также: M. Labahn and B. Lietaert Peerbolte, eds., Wonders Never Cease: The Purpose of Narrating Miracle Stories in the New Testament and Its Religious Environment (LNTS 288; London: T&T Clark, 2006).
(обратно)
2230
Я использую традиционную, широко распространенную терминологию, разделяющую три основные волны научного интереса к историческим вопросам, связанным с Иисусом: Первый поиск, итоги которому подвел Швейцер: А. Schweizer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (Tübingen: Mohr Siebeck, 1913); Новый поиск, начатый в 1950-х годах на основе трудов Бультмана; и Третий поиск, объединяющий в себе современные исследования, идущие весьма различными путями и достигающие весьма различных результатов. У схемы этой, безусловно, есть свои недостатки, однако основное ее достоинство – простота. Другое деление, на пять периодов, можно найти, например, в кн.: G. Theissen and A. Merz, Der historische Jesus: Ein Lehrbuch (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001), с. 22–29; стоит отметить, однако, что вторая и третья стадия у них такие же, лишь Первый поиск разделен на три этапа.
(обратно)
2231
Как пример типичного отношения участника Первого поиска, можно привести часто повторяемую цитату из источника: W. Bousset, Kyrios Christos: Geschichte des Christusglaubens von den Anfängen des Christentums bis Irenaeus (2nd ed.; FRLANT 21; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1921), с. 58: «Мы ясно видим, что древнейшие предания о жизни Иисуса были относительно свободны от чудесного» (ET: Kyrios Christos: A History of the Belief in Christ from the Beginnings of Christianity to Irenaeus [trans. J. E. Steely; Nashville: Abingdon, 1970], с. 98); ответственность на «ореол чудесного» Вильгельм Буссе возлагает на вторичную «веру общины». Типичный подход к этому вопросу «светского» интеллектуала мы видим на примере Томаса Джефферсона и его «Библии». О том и другом упоминается в кн.: Meier, Marginal Jew, 2:617–618.
(обратно)
2232
В кн.: Meier, Marginal Jew, 2:632–633 (прим. 4, с. 618) подсчитано, как мало страниц уделено этой проблеме в трудах Р. Бультмана, Х. Брауна, Х. Концельмана и Г. Борнкамма.
(обратно)
2233
Четыре характерных примера: 1) J. D. Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991), с. xxix: «Быть может, ключевая глава этой книги – тринадцатая, «Волшебство и пища». В этой главе Кроссан предпринимает специальное объяснение роли чудес в служении Иисуса (и его последователей), связывая их с мотивом «общей трапезы» как особой черты Иисусова служения, в которой проявлялось «эгалитарное распределение между людьми материальной и духовной силы» (с. 344), и духовным эквивалентом которой являлось исцеление. Вся его аргументация исходит из простого утверждения: «Иисус изгонял бесов и исцелял… Если бы не эти изгнания и исцеления, его видение Царства оставалось бы просто экстатической мечтой, не имеющей никаких последствий для общества». Путь «от чуда к столу» укреплял «связь между Царством и лекарством». 2) Meier, Marginal Jew, 2:970: «В целом утверждение, что Иисус во время своего общественного служения действовал и воспринимался как экзорцист и целитель, имеет под собой столько же исторических оснований, как и почти все остальные заключения, которые можем мы сделать об историческом Иисусе. В сущности, это общее утверждение об Иисусе и его служении засвидетельствовано куда серьезнее и надежнее, чем многие другие, которые мы часто принимаем как должное». 3) Theissen and Merz, Historische Jesus, с. 275: «An der exorzistischen und therapeutischen Wundertätigkeit Jesu… sollte kein Zweifel bestehen» [ «В чудотворениях Иисуса, связанных с экзорцизмом и исцелением… не должно быть никаких сомнений»] (см. также: с. 115, там же). 4) J. D. G. Dunn, Jesus Remembered (CM1; Grand Rapids: Eerdmans, 2003), с. 670: «Не будет преувеличением сказать, что это один из самых широко засвидетельствованных и твердо установленных исторических фактов, с которыми нам приходится иметь дело».
(обратно)
2234
См., напр., спорную книгу: M. Smith, Jesus the Magician (San Francisco: Harper & Row, 1978), и из недавних трудов: G. H. Twelftree, Jesus the Exorcist: A Contribution to the Study of the Historical Jesus (WUNT 2/54; Tübingen: Mohr Siebeck, 1993). Важна эта черта и для авторов, подчеркивающих апокалиптическую и пророческую стороны служения Иисуса, таких как Й. Вайс, А. Швейцер, а в наше время – Д. Эллисон: D. C. Allison, Jesus of Nazareth: Millenarian Prophet (Minneapolis: Fortress, 1998).
(обратно)
2235
Это, разумеется, не значит – как понимают иногда, – что, например, принцип неопределенности Гейзенберга или современные космогонические теории ставят под вопрос само рациональное мышление. Все эти теории вполне рациональны: не случайно они основаны на математике! Стоит также отметить, что это «расширенное» восприятие реальности не может применяться к рассказам о чудесах Иисуса. Ньютоновская механика по-прежнему верно описывает значительную часть нашего мира – и современного, и мира Галилеи I века. Подробнее об этом см.: M. Hesse, «Miracles and the Laws of Nature», в кн.: Miracles (ed. C. F. D. Moule; London: Mowbray, 1965), с. 33–42.
(обратно)
2236
Разумеется, общепринятого определения «чуда» не существует. Однако можно согласиться, что это в первую очередь категория восприятия, и что в определении «чуда» важную роль играет способность или неспособность объяснить этот феномен, т. е. найти ему место в известном нам порядке вещей; отсюда и мое простое и практичное понимание чуда как «необъяснимого феномена». (Более точное определение, вместе с обсуждением этого вопроса, см.: Meier, Marginal Jew, 2:512–515.) Иногда кажется, что эти феномены как-то связаны с восприятием окружающих: «чудеса» случаются чаще или даже на регулярной основе там, где для них есть место в обществе/культуре. Лишь отчасти можно объяснить это сниженной способностью таких обществ к критическому мышлению; иначе говоря, лишь некоторые из феноменов, необъяснимых в одном обществе, получают объяснение в другом, с более высоким потенциалом рационального мышления.
(обратно)
2237
Мейер упоминает медицински засвидетельствованные исцеления в Лурде (Marginal Jew, 2:515–17) и исцеления Сестры Эйми (с. 518, 530, прим. 26–27). Есть и «классический» протестантский пример Иоганна Кристофа Блюмгардта: см., напр.: D. Ising, Johann Christoph Blumhardt: Leben und Werk (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2002; ET: Johann Christoph Blumhardt, Life and Work: A New Biography [trans. M. Ledford; Eugene, Ore.: Cascade, 2009]). О современном взгляде на эти вопросы см., напр.: J. J. Pilch, Healing in the New Testament: Insights from Medical and Mediterranean Anthropology (Minneapolis: Fortress, 2000); R. Gardner, Healing Miracles: A Doctor Investigates (London: Darton, Longman, & Todd, 1986); Christiaan Rudolph de Wet, «Signs and Wonders in Church Growth» (M.A. diss., Fuller Theological Seminary, School of World Mission, 1981). (Последние три книги мне любезно подсказал д-р Крэйг Кинер.)
(обратно)
2238
Другую формулировку этих критериев см. в кн.: Theissen and Merz, Historische Jesus, с. 280: «Wirkungsplausibilität», «Kontextplausibilität». О критериях вообще см.: с. 116–120.
(обратно)
2239
См., напр., размышления об этой проблеме в кн.: R. Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony (Grand Rapids: Eerdmans, 2006), с. 2–5.
(обратно)
2240
Поздняя датировка таких замечаний подрывает их историческую ценность. См.: Aune, «Magic in Early Christianity», с. 1525: «Поскольку большая часть порочащих свидетельств – не старше II в., вполне возможно, что в ней отражается лишь отношение к образу Иисуса, сформированному в раннехристианской литературе и учении».
(обратно)
2241
По источнику: Theissen and Merz, Historische Jesus, с. 263: «Das Urchristentum gehört an die Spitze eines wachsenden Wunderglaubens in der Antike. Nirgendwo sonst werden so viele Wunder von einer einzigen Person überliefert wie in den Evangelien von Jesus». [ «Раннее христианство “стоит во главе” веры в чудеса, возраставшей в Античности. Нигде больше нет столь многих преданий об одном-единственном чудотворце, как в Евангелиях, повествующих об Иисусе».]
(обратно)
2242
Слова Иисуса как основа его исторического портрета – подход, типичный для Нового поиска (после эпохи Бультмана); по-видимому, этот подход тесно связан с методами критики форм и критики традиций, которые широко используют его сторонники. В последнее время методы эти подвергаются жесткой критике, главным образом потому, что создают искаженную картину сути и развития преданий об Иисусе. Тем не менее некоторые их достижения заслуживают внимания. У нас есть причины предпочитать речения сюжетным повествованиям в смысле их подлинности: слово может быть изречением самого Иисуса, в то время как рассказ о событии по определению и с самого начала сформирован восприятием тех, кто впервые о нем рассказал. См.: Theissen and Merz, Historische Jesus, с. 273: «Nur das Wunderverständnis der Wortüberlieferung entspricht Jesu Selbstverständnis» [ «Лишь понимание чудес в традиции речений соответствует представлению Иисуса о себе самом»]. Тайсен полагает, что в некоторых случаях изначальные «авторы» или «соавторы» историй о чудесах могли быть «посторонними»: «…die Wundergeschichten im ganzen Volk kursierten, wie die Evangelien bezeugen (vgl. Mk 1:28 u.ö.) und das Testimonium Flavianum bestätigt… Wir haben also in den Wundergeschichten eine Überlieferung, die im Unterschied zu allen anderen Jesusüberlieferungen auch von Fernstehenden mitgeformt worden ist» (с. 273) [ «Истории о чудесах распространялись в народе, как подтверждают Евангелия (ср.: Мк 1:28 и дал.), а также Флавиево свидетельство… И потому в историях о чудесах у нас есть традиция, которая, в отличие от всех остальных традиций, связанных с Иисусом, формировалась людьми не из ближнего круга»]. Куда более скептическое отношение к результатам исследования речений проявлено, например, в кн.: E. P. Sanders, Jesus and Judaism (Philadelphia: Fortress, 1985), с. 131 и далее.
(обратно)
2243
Мк 3:22/Мф 9:34; 12:24; Лк 11:15.
(обратно)
2244
Лк 11:20/Мф 12:28.
(обратно)
2245
В Матфеевском дублете (возможно, чисто редакционном) в Мф 9:32–35 обвинение остается без ответа; в этом пассаже оно дается лишь для противопоставления с реакцией толпы.
(обратно)
2246
Мк 3:28–30; Мф 12:31–32; другой контекст в Лк 12:10 выглядит вторичным. Появление той же логии в Ев. Фом 44 не обязательно свидетельствует против ее независимого распространения: тринитарная формулировка здесь, по-видимому, достаточно поздняя.
(обратно)
2247
Мк 3:30 – по-видимому, позднейшая (редакционная?) глосса.
(обратно)
2248
Лк 7:22–23/Мф 11:5–6: καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς πορευθέντεσ ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται καὶ µακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν µὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐµοί. Финальное благословение, возможно, добавлено позже (об этом с уверенностью [нем. sicher] – на основе критики форм: F. Bovon, Das Evangelium nach Lukas (EKKNT 3; 4 vols.; Zürich: Benziger, 1989–2008), 1:370; не столь уверенно: U. Luz, Matthew (trans. J. E. Crouch; 3 vols.; Hermeneia; Minneapolis: Fortress, 2001–2007), 2:131 (ориг.: Das Evangelium nach Matthäus [4 vols.; EKKNT 1.1–4; Zürich: Benziger, 1985–2002], 2:165): «Non liquet».
(обратно)
2249
См. подробно об этом: Luz, Matthew, 2:131–132 (ориг.: Matthäus, 2:165–166): если Иоанн ждал пришествия не Бога, но «Сына Человеческого», его вопрос, обращенный к Иисусу, исторически вполне возможен. В конце концов, куда сложнее вообразить себе какую-то послепасхальную ситуацию, которая заставила бы выдумать такую историю.
(обратно)
2250
Помимо сюжетов 3 и 4 Цар, см. особ.: Мал 3:1–2 и Сир 48:1–16.
(обратно)
2251
Об этом в целом см.: M. Öhler, Elia im Neuen Testament: Untersuchungen zur Bedeutung des alttestamentlichen Propheten im frühen Christentum (BZNW 88; Berlin: de Gruyter, 1997).
(обратно)
2252
Проблема Божьего суда («гнева») часто воспринимается как основное различие между Иоанном и Иисусом, особенно если благословение (Лк 7:23/Мф 11:6) принимается как аутентичная часть речения. Согласно кн.: Meier, Marginal Jew, 2:134–135 (а также с. 202, прим. 103), мотив суда в ответе выпадает полностью, однако подразумевается: все зависит от того, оскорбляешь ты Иисуса или не оскорбляешь. То, что разница между Иисусом и Иоанном проявляется уже на уровне композиции речений, ясно из того, что ответ Иисуса связан со следующей логией, где та же тема выражается открыто; см. также: P. Pokorný, «Demoniac and Drunkard: John the Baptist and Jesus According to Q 7:33–34», в кн.: An International Look at Jesus Research: Proceedings from the First Princeton-Prague Symposium on Jesus Research (ed. J. H. Charlesworth and Pokorný; Grand Rapids: Eerdmans, 2009), с. 170–181.
(обратно)
2253
Интерпретация чудесных деяний Иисуса в том ключе, который очевиден в терминологии Иоанна (σηµεία) и присущ многим синоптическим рассказам о чудесах – это, весьма вероятно, скорее послепасхальная тенденция, соответствующая представлению Иисуса о себе самом, а не прямое отражение общего восприятия участников событий.
(обратно)
2254
В традиции Марка это засвидетельствовано как короткий диалог, состоящий из вопроса и ответа (Мк 8:11–12/Мф 12:38–39; ср.: Лк 11:16), в источнике Q – как речение о знамении Ионы (Лк 12:54–56 // Мф 16:1–4), у Иоанна (Ин 6:30–31), и подтверждается сценой после распятия (Мк 15:30–32//Мф 27:40b, 42–43//Лк 23:35, 37), а также преданием об искушении в пустыне в источнике (Лк 4:9–12//Мф 4:5–7).
(обратно)
2255
Возможно, речь идет именно о миссии пророка, иными словами, человека, призванного возвещать другим волю Божью. С открытым вопросом о своем авторитете Иисус столкнулся, согласно синоптическим Евангелиям, во время своего последнего пребывания в Иерусалимском Храме (Мк 11:27–33 // Мф 21:23–27; Лк 20:1–8). Интересно, что вопрос этот касается власти делать нечто (ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς), хотя в контексте Матфея и Луки он становится реакцией на учение Иисуса. В синоптическом контексте он, возможно, относился к «очищению Храма» – символическому действию, явно выражавшему высокую степень власти и авторитета. И здесь, как и на требование «знамения с небес», Иисус отказывается дать какое-либо внешнее подтверждение своих притязаний.
(обратно)
2256
Тайсен справедливо описывает это как характерную черту понимания самим Иисусом своих чудес: «Die Wunder Jesu aber haben alle einen irdischen ‘Täter,’ sie sind Wundertaten Jesu…Alle Wunder werden von ihm (und seinen Anhängern) gewirkt» [ «Но у всех чудес Иисуса есть земной “исполнитель” – это чудеса Иисуса… Все чудеса сотворены им (и его последователями)»] (Theissen and Merz, Historische Jesus, с. 279).
(обратно)
2257
Возможно, в этом изначальный смысл логии из Q о знамении Ионы (Лк 11:29–30 // Мф 16:2–4; ср.: Мф 12:39). Символизм трех дней у Матфея явно вторичен, однако формулировка у Луки вполне может быть близка к изначальной мысли Иисуса: Иона действительно был пророком без всяких знамений и сам тяготился тем, что жители Ниневии повиновались его проповеди. Схожую мысль см., напр., в кн.: Luz, Matthew, 2:347–348 (orig.: Matthäus 2:278–280); Bovon, Lukas, 2:200.
(обратно)
2258
Об этом прямо говорится в Мк 6:4–6а. В сущности, мотив веры – одна из отличительных черт чудес Иисуса; см.: Theissen and Merz, Historische Jesus, с. 266: «Ohne Analogie in der antiken Wundertopik ist der Zuspruch: ‘Dein Glaube hat dich gerettet.’» [Ободрению “вера твоя спасла тебя” в античной теме, посвященной чудесам, нет аналогии.]
(обратно)
2259
Однако этого, на мой взгляд, еще недостаточно, чтобы принять мнение Твелфтри о чудесах как о «сердцевине» деятельности Иисуса, а о его способности творить чудеса – как о ключе к его представлению о себе самом (см.: Twelftree, Exorcist; idem, «The Miracles of Jesus: Marginal or Mainstream?» JSHJ 1 [2003]: 104–124). Дело именно в том, что «смущение» и двусмысленность события говорят в пользу его историчности.
(обратно)
2260
Вполне вероятное предположение Тайсена, согласно которому евангельские рассказы о чудесах могли сперва распространяться в народе, вне узкого круга последователей Иисуса, ни в коем случае не означает, что этот народ их выдумал. Кроме того, некоторые отмечают, что мы не наблюдаем тенденции приписывать чудеса тем, кто при жизни не имел славы чудотворцев, например Иоанну Крестителю или кумранскому Учителю Праведности; см.: L. Goppelt, Theology of the New Testament (ed. J. Roloff; trans. J. E. Alsup; 2 vols.; Grand Rapids: Eerdmans, 1981–1982), 1:144 (orig.: Theologie des Neuen Testaments [2 vols.; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985], 1:193); то же в кн.: Theissen and Merz, Historische Jesus, с. 275.
(обратно)
2261
Соглашусь с Сандерсом: у нас мало оснований полагать, будто Иисус (и те, кто его окружал) считали его чудеса уникальными (Sanders, Jesus and Judaism, с. 135, 172). Вопрос был не в их уникальности, а в их значении. Иисус настаивал, что весть о приближении Царства Божьего не требует лучших, более ясных свидетельств, чем те, что заключаются в его деяниях (и в поступках, совершаемых другими). Однако я, в отличие от Сандерса, считаю, что сам Иисус видел в своих деяниях ясное свидетельство своей божественной миссии.
(обратно)
2262
В классических исследованиях рассказов о чудесах, предпринимаемых критиками форм, об этом говорится как об основной характеристике греко-эллинистических текстов; см.: G. Theissen, The Miracle Stories of the Early Christian Tradition (trans. F. McDonagh; ed. J. Riches; Philadelphia: Fortress, 1983), с. 86 (orig.: Urchristliche Wundergeschichten: Ein Beitrag zur formgeschichtlichen Erforschung der synoptischen Evangelien [SNT 8; Gütersloh: Gerd Mohn, 1987], с. 95).
(обратно)
2263
Тайсен предпочитает здесь греческий термин «терапия».
(обратно)
2264
Иногда различие проводится в терминологии, касающейся как самого несчастья, так и соответствующей помощи (см.: Мк 1:34: καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας… καὶ δαιµόνια πολλὰ ἐξέβαλεν [И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал многих бесов], то же об учениках Иисуса в Мк 6:13), иногда же помощь в обоих видах несчастья именуется «исцелением» (например, Мф 4:24 – ἐθεράπευσεν или Лк 6:18 – ἐθεραπεύοντο; производные от θεραπεύειν).
(обратно)
2265
Помимо звучащей иногда терминологии πνεύµατα τὰ ἀκάθαρτα (напр.: Мк 1:26–27; 3:11, 30; 5:2, 8, 13; 6:7; 7:25), часто указывают на предание о Соломоне, засвидетельствованное у Иосифа (И. Д. VIII, 2.5); см. также: Завет Соломона. Однако остается непонятным, можно ли понимать слова «сын Давидов» в некоторых рассказах о чудесах как отсылку к этому преданию. В кн.: Dunn, Jesus Remembered, с. 669, приведены и другие примеры экзорцистов из древнеиудейских текстов. В самом Ветхом Завете изгнание бесов открыто не упоминается.
(обратно)
2266
Например: Theissen and Merz, Historische Jesus, с. 266, однако уже и в кн.: N. Perrin, Rediscovering the Teaching of Jesus (New York: Harper & Row, 1967): на с. 65 он вспоминает, как в беседе с ним Эрнст Кеземан подчеркивал, что «принимать историчность преданий о том, что Иисус был экзорцистом», необходимо не по каким-то идеологическим причинам, а просто для того, чтобы оставаться историком.
(обратно)
2267
Как мы уже отмечали (см. выше), при обобщении термин «исцеление» иногда используется как родовая категория, в которую входят и изгнания бесов, и исцеления как таковые. Кроме того, критика форм отмечает, что рассказы об исцелениях часто «заражены» мотивами изгнания бесов и наоборот (ср.: Theissen, Miracle Stories, с. 81–85 [orig.: Urchristliche Wunder geschichten, с. 94–102]).
(обратно)
2268
Smith, Magician. Предположения Смита базируются в основном на недавно открытых и опубликованных магических папирусах, а также на талмудических и других источниках, называющих Иисуса колдуном.
(обратно)
2269
Crossan, Historical Jesus, с. 305: «Магия и религия отличаются друг от друга… не по сути, не нейтральными и описательными определениями, а определениями политическими и нормативными. Религия – это магия, официально одобряемая и признанная; магия – не признанная и не одобряемая религия. Проще говоря: у “нас” религия, у “них” магия». Тот же вывод звучит в точном замечании в кн.: Sanders, Jesus and Judaism, с. 172: «Эти термины описывают не саму деятельность, а точку зрения на нее».
(обратно)
2270
Вероятнее всего, Марк сильно преувеличивает, рассказывая, что решение казнить Иисуса сперва явилось реакцией на то, что тот нарушил субботу, исцелив (одним лишь словом!) сухорукого (Мк 3:6; см. более четкое богословское объяснение в Ин 11:45–54). Но, возможно, историческое ядро этого умозаключения – в воспоминаниях о том, что Иисус был предан смерти как возмутитель спокойствия, причем это было связано с его способностями целителя, привлекавшими к нему людей. Например, Мейер считает, что чудеса Иисуса вполне отвечают критерию «распинаемости»: «Его чудотворения не только поддерживали, но и драматизировали и приводили в действие его эсхатологическую весть – и, возможно, в определенной степени внесли свой вклад в тревогу властей предержащих, которая, в конце концов, и привела Иисуса к смерти» (Meier, Marginal Jew, 2:970); так же и в кн.: Sanders, Jesus and Judaism, с. 173: «Вызовом для властей были не просто его слова, воспринимаемые абстрактно – но то, что он привлекал внимание и вызывал смятение».
(обратно)
2271
Подробнее всего об этом см.: Meier, Marginal Jew, 2:537–552; см. также: Dunn, Jesus Remembered, с. 689–694; Theissen and Merz, Historische Jesus, с. 276. Оун, описывая действия Иисуса в их милленаристском контексте, более склонен называть их «магическими», хотя воздерживается от именования «магом» самого Иисуса («Magic in Early Christianity», с. 1539). Понятие «магии», с акцентом на сверхъестественной силе и власти, вообще легче приживается в качестве общего термина там, где в качестве основной, даже «изначальной» формы чудес Иисуса рассматривается изгнание бесов.
(обратно)
2272
Обзор см., напр., в экскурсе: Meier, Marginal Jew, 2:576–601.
(обратно)
2273
См. особенно: G. Vermes, Jesus the Jew: A Historian’s Reading of the Gospels (New York: Macmillan, 1974); idem, Jesus in His Jewish Context (Minneapolis: Fortress, 2003).
(обратно)
2274
См.: B. L. Blackburn, Theios Aner and the Markan Miracle Traditions: A Critique of the Theios Aner Concept as an Interpretative Background of the Miracle Traditions Used by Mark (WUNT 2/40; Tübingen: Mohr Siebeck, 1991), с довольно скептическими итогами.
(обратно)
2275
См.: Koskenniemi, Apollonios von Tyana.
(обратно)
2276
См.: Мк 8:28; Лк 24:19. Ветхозаветный «фон» здесь важнее, чем сравнение с пророками у Иосифа (его представление о пророках, помимо прочего, также сформировано ветхозаветными текстами).
(обратно)
2277
В этом вопросе Бультман следует за Буссе. Об этом см.: Maier, Wunderexegese, с. 60.
(обратно)
2278
См.: Crossan, Historical Jesus, с. 310: «Можно было бы заключить, что чудеса приходят в традицию скорее на поздних, чем на ранних стадиях, более как благочестивая выдумка, чем как изначальные данные. Полагаю, однако, что такое заключение было бы совершенно неверным. На мой взгляд, верно как раз обратное. Чудеса на очень ранней стадии вымывались из традиции, а если и сохранялись, то при этом тщательно толковались (Халл)», здесь автор цитирует источник: J. M. Hull, Hellenistic Magic and the Synoptic Tradition (SBT 2/28; Naperville, Ill.: Allenson, 1974). См.: Theissen and Merz, Historische Jesus, с. 271: «Das Zurücktreten der Exorzismen ist auffälig – ein Indiz dafür, daß gerade dieser Teil des Wirkens Jesu Schwierigkeiten bereitete und historisch ist» [ «Устранение актов экзорцизма на второй план поразительно – и это указывает, что именно данная часть деяний Иисуса причиняла неудобства и является исторической»]. См. также замечание в ст.: R. Bauckham, «The Coin in the Fish’s Mouth», в кн.: Miracles, ed. Wenham and Blomberg, с. 219–252, цит. с. 234: «Если апокрифических речений Иисуса у нас множество, то апокрифических чудес (кроме как в “Евангелиях детства”) на удивление мало».
(обратно)
2279
В общей сложности в евангельских преданиях насчитывается шесть историй об изгнании бесов и четырнадцать – об исцелениях.
(обратно)
2280
Все синоптические Евангелия сообщают о воскрешении дочери Иаира; Лука добавляет из своего личного источника рассказ о воскрешении сына Наинской вдовы; серия «знамений» у Иоанна достигает кульминации в воскрешении Лазаря, тело которого уже начало разлагаться.
(обратно)
2281
Theissen, Miracle Stories, с. 90, прим. 25 (orig.: Urchristliche Wundergeschichte, с. 98, прим. 25); аналогично: Aune, «Magic in Early Christianity», с. 1523; Meier, Marginal Jew, 2:776, однако см. у него важное предостережение в прим. 9 (с. 840–841).
(обратно)
2282
3 Цар 17:17–24; 4 Цар 4:29–37.
(обратно)
2283
Проситель назван по имени, слова Иисуса приведены по-арамейски, отсутствуют христологические титулы; по рассказу, над Иисусом насмехаются, а он отвечает достаточно резким жестом. См.: Meier, Marginal Jew, 2:777–788.
(обратно)
2284
См.: Мк 6:1–16; 8:27–30. Некоторые аллюзии на историю Илии/Елисея звучат, возможно, и в рассказе Луки о воскрешении сына Наинской вдовы.
(обратно)
2285
Meier, Marginal Jew, 2:798: «Различные источники канонических Евангелий не проявляют никакой склонности и никакого интереса к умножению историй о чудесах, в которых Иисус воскрешает мертвых. Традиции Марка, Луки и Иоанна знают лишь по одной такой истории, и евангелисты не делают ни малейших попыток выдумывать подобные истории самостоятельно».
(обратно)
2286
R. Bultmann, Geschichte der synoptischen Tradition (FRLANT 29; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1957), с. 230–233.
(обратно)
2287
Theissen, Miracle Stories, с. 94–112 (orig.: Urchristliche Wundergeschichten, с. 102–20); см. также: Theissen and Merz, Historische Jesus, с. 267–268.
(обратно)
2288
Об этом см.: Meier, Marginal Jew, 2:874–880; и действительно, из всех перечисленных, пожалуй, лишь «чудеса дарования» составляют отдельный класс.
(обратно)
2289
Как отмечено, напр., в кн.: R. H. Fuller, Interpreting the Miracles (London: SCM, 1963), с. 37: «Ни один из авторов Нового Завета и не думал выделять “природные чудеса” в отдельный класс. Однако, быть может, бессознательно они все же делают различие между природными чудесами – и исцелениями и изгнаниями бесов. Ибо свидетелями природных чудес становятся одни лишь ученики… Древняя Церковь не рассматривала природные чудеса как характеристику общественного служения Иисуса». Аналогичное рассуждение: Goppelt, Theology, 1:144 (orig.: Theologie, 1:194).
(обратно)
2290
По-видимому, немногие исключения из этого правила – Мария Магдалина (Лк 8:2), теща Симона (Мк 1:29–31 и пар.) и Лазарь (Ин 11), более ближний круг последователей Иисуса. Однако никто из них не назван учеником прямо – и, например, в Ин 11 Лазарь и его сестры, хотя и описаны как близкие и дорогие друзья Иисуса, отделены от группы учеников. В Мк 5:18–20 гадаринскому бесноватому Иисус прямо отказывает в дозволении присоединиться к группе учеников, хотя и ставит ему такую же задачу, как и им.
(обратно)
2291
Именно после чуда в Кане ученики уверовали в Иисуса (Ин 2:11); в историях о насыщении множества народа странным образом недостает реакции накормленных людей (Ин 6:14–15 – возможно, добавление редактора), и история в целом позволяет читателю предположить, что нечто необычайное, «чудесное» в происходящем заметили только ученики.
(обратно)
2292
Мотив «соблазна» (σκανδαλίσω), хотя и заимствованный из традиции Марка, по-видимому, играет для Матфея важную роль. Лексика, связанная с мотивом свободы, звучит в духе апостола Павла, хотя и возможно представить, что слова, запечатленные в ст. 25–26, звучали во время земной жизни Иисуса; см.: Bauckham, «Coin», 223–224, 230–233; аналогично: Luz, Matthew, 2:416–18 (orig.: Matthäus, 2:534). Бокэм относит ко времени жизни Иисуса большую часть этой истории.
(обратно)
2293
См. рассказы об обнаружении пустой гробницы, а также метафорическую «ночь» в Рим 13:11–12.
(обратно)
2294
См.: Лк 24:28–29.
(обратно)
2295
См.: Лк 24:37; Ин 20:15–16; 21:4 и далее. См. также: Crossan, Historical Jesus, с. 405. Интересно, что эти мотивы присутствуют в рассказе о событиях после воскресения у Луки – и он ничего не говорит о хождении по воде.
(обратно)
2296
См., напр.: Crossan, Historical Jesus, с. 404: «“Природные” чудеса Иисуса – в сущности, не что иное, как вероучительные утверждения о его авторитете для Церкви, хотя в основе их и лежит величайшее “природное” чудо – воскресение Иисуса и победа его над смертью».
(обратно)
2297
Например, упоминание рыбы в истории о насыщении; название «Кана»; статир во рту рыбы, а не в желудке, как обычно в подобных фольклорных историях; возможно, также нахождение учеников в лодке в Галилее.
(обратно)
2298
Мотив пропитания (дарования пищи) – в центре историй о насыщении, о чуде в Кане Галилейской, а также о статире во рту у рыбы; божественная защита, которую обеспечивает своим последователям Иисус, очевидна в усмирении бури и косвенно проявляется в хождении по воде. См.: Лк 11:3–4: Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡµῖν τὸ καθ’ ἡµέραν·… Καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν [Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и не введи нас в искушение…]. Эсхатологический элемент чудес насыщения и чуда в Кане вполне может быть отголоском исторической памяти о том, что «земной» Иисус придавал эсхатологическое значение и, возможно, символизм тем совместным трапезам, которые он устраивал.
(обратно)
2299
Отличный пример разбора аргументации такого рода мы встречаем в рассуждении о чуде с дочерью Иаира в кн.: Meier, Marginal Jew, 2:784: «Если мы сосредоточимся на рассказе о воскрешении дочери Иаира и истории этого предания, то, на мой взгляд, ничто в самом этом повествовании не уверит нас в том, будто изначально это был рассказ об исцелении, а не о воскрешении мертвой. Разумеется, есть и возможность того, что изначально, при жизни Иисуса, то событие, которое положило начало этому рассказу, было именно исцелением… Поскольку мы признаем, что в христианском повествовании об Иисусе между ранней и поздней стадиями порой происходили значительные перемены, то мы должны рассмотреть и такую вероятность: быть может, серьезные изменения произошли за то время, которое прошло от самого события, произошедшего в жизни Иисуса, до появления той формы, в которой предстал самый древний христианский рассказ об этом событии».
(обратно)
2300
См.: Crossan, Historical Jesus, с. 320: «Под событием я понимаю действительную, имевшую место в истории помощь страдающему субъекту в определенный момент времени. Под процессом я понимаю более широкий социорелигиозный феномен, символизируемый этим отдельным происшествием».
(обратно)
2301
Приведем еще одну яркую цитату – из кн.: Dunn, Jesus Remembered, с. 673: «И здесь нет объективных событий исцеления людей, нет каких-то вовсе не чудесных происшествий, которые мы должны вытащить на свет, устранив пласты истолкований. Все, что у нас есть, по крайней мере во многих случаях – общие воспоминания о чуде, которое с первого дня (более-менее) воспринималось именно как чудо. Свидетели видели именно чудо, а не какое-то “ординарное” событие, которое сочли чудом позже. Очевидно, многие воспринимали деяния Иисуса, свершенные над ними, как чудеса; многие были в самом деле исцелены или освобождены от страданий, и успехи эти приписывались силе Божьей, действующей через Иисуса. Только так репутация Иисуса как целителя и экзорциста могла столь утвердиться и так быстро распространиться. О таких случаях мы можем говорить, что первым “историческим фактом” здесь было чудо, поскольку именно так – как чудо – воспринимали это событие последователи Иисуса, бывшие его свидетелями».
(обратно)
2302
В конце концов, быть может, не случайно исследование текстов и создание литературной истории Нового Завета явилось побочным эффектом Первого поиска.
(обратно)
2303
Кроссан предлагает обзор своего анализа преданий об Иисусе, однако у него это скорее реконструкция «подлинных» слов в духе «Семинара по Иисусу» (Crossan, Historical Jesus, с. xi – xxvi).
(обратно)
2304
См.: Dunn, Jesus Remembered, с. 672: «В историческом исследовании нет объективных фактов – лишь так или иначе интерпретируемые данные».
(обратно)
2305
Надо сказать, уже среди участников Первого поиска было немало таких (скажем, Карл-Фридрих Бардт или даже Генрих Паулус), кто не приписывал создание историй о чудесах христианам поздних времен и не сомневался, что определенные события с самого начала воспринимались как чудеса. Они только считали, что это восприятие было ошибочным.
(обратно)
2306
См.: P. Ricoeur, «The Hermeneutics of Testimony», в кн.: Essays on Biblical Interpretation (Philadelphia: Fortress, 1980), с. 119–154.
(обратно)
2307
В этом смысле мы можем понять, например, упомянутый выше спор о Вельзевуле. Базовая «логика» обвинения, брошенного оппонентами Иисуса, работает, лишь если исходить из предпосылки, которая, по-видимому, связана со взглядом на мир в целом: что бы нам ни говорили, чему бы нас ни учили, главная сила в мире – всегда сила зла. Важно обратить внимание на «если» в ответе Иисуса: решение, которого он требует, необходимо выносить не на каких-либо иных основаниях – но только на основе того, что происходит и о чем сообщается здесь. Главный вопрос в том, готовы ли мы принять эти конкретные события помощи тем или иным людям с истинным «удивлением» – с пониманием того, что реальность, казавшаяся нам незыблемой и единственной, трещит по швам, а из-под самоочевидного, казалось бы, «порядка вещей» проглядывает какой-то совсем иной порядок. Иногда говорят: чтобы принять чудеса Иисуса, нужно хотя бы на миг закрыть глаза. Важно, однако, что евангельские отрывки, которые мы обсуждали выше, предлагают совсем иную точку зрения: те, кто «имеют очи и не видят» (см.: Мк 8:18) – это те, кто не способны распознать за чудесами Иисуса иную (новую?) реальность – и остаются в неведении.
(обратно)
2308
Сформулирован в издании: Ernst Käsemann, “Das Problem des historischen Jesus,” в кн.: Exegetische Versuche und Besinnungen (4th ed.; 2 vols.; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1965), 1:187–214, цит. с. 205; Norman Perrin, Rediscovering the Teaching of Jesus (New York: Harper & Row, 1967), с. 43–44.
(обратно)
2309
Gerd Theissen and Dagmar Winter, Die Kriterienfrage in der Jesusforschung (NTOA 34; Fribourg: Universitätsverlag, 1997), с. 19 и дал., 183–184.
(обратно)
2310
Мартин Келер писал, что Евангелия, в сущности – не что иное, как история Страстей с долгим предисловием: Martin Kähler, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische Christus (ed. E. Wolf; 2nd ed.; TB 2; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1956), с. 59–60, прим. 1.
(обратно)
2311
См. особ.: John R. Donahue, “From Passion Tradition to Passion Narrative,” в кн.: The Passion in Mark: Studies on Mark 14–16 (ed. W. H. Kelber; Philadelphia: Fortress, 1976), с. 1–20, особ. с. 14; Werner H. Kelber, “From Passion Narrative to Gospel,” в кн.: Passion in Mark, с. 153–180, особ. с. 158; John Dominic Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991), особ. гл. 14.
(обратно)
2312
Wolfgang Reinbold, Der älteste Bericht über den Tod Jesu: Literarische Analyse und historische Kritik der Passionsdarstellungen der Evangelien (BZNW 69; Berlin: de Gruyter, 1994).
(обратно)
2313
См. реконструкцию: Rudolf Bultmann, Geschichte der synoptischen Tradition (9th ed.; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1979), с. 297; ср.: Josef Blinzler, The Trial of Jesus (trans. I. and F. McHugh; Westminster, Md.: Newman, 1959), с. 39 и дал.
(обратно)
2314
См.: Raymond Brown, “The Gospel of Peter and Canonical Gospel Priority,” NTS 33 (1987): 321–343; высокая историческая ценность приписана Евангелию Петра (и особенно «Евангелию Креста») в кн.: John Dominic Crossan, The Cross that Spoke: The Origins of the Passion Narrative (San Francisco: Harper & Row, 1988), с. 17.
(обратно)
2315
См.: Matti Myllykoski, Die letzten Tage Jesu: Markus und Johannes, ihre Traditionen und die historische Frage (2 vols.; AASF 256, 272; Helsinki: Suomalaisen Tiedeakatemia, 1991–1994), особ. 2:138 и дал.; ср.: Donahue, “From Passion Tradition,” с. 14.
(обратно)
2316
См. реконструкцию до-Маркова рассказа о Страстях, сделанную в ст.: Adela Yarbro Collins, “From Noble Death to Crucified Messiah,” NTS 40 (1994): 481–503, особ. с. 503. Detlev Dormeyer, Der Sinn des Leidens Jesu (SBS 96; Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 1979), с. 27, предлагает схожую реконструкцию, однако в ней нет сцены в Гефсимании.
(обратно)
2317
См., напр.: D. Dormeyer, “Joh 18:1–14 Par Mk 14:43–53: Methodologische Überlegungen zur Rekonstruktion einer vorsynoptischen Passionsgeschichte,” NTS 41 (1995): 218–235.
(обратно)
2318
Auerbach, Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature (trans. Willard R. Trask; 1953; repr., Princeton: Princeton University Press, 1974), гл. 2. [На русском: Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.-СПб.: Университетская книга, 2000.]
(обратно)
2319
Авторы Евангелий также добавляли в свои повествования отрывки народных устных преданий – скажем, сон жены Пилата (Мф 27:19).
(обратно)
2320
Греч. ὑπὲρ + генитив – конструкция, используемая для выражения представительства или замены.
(обратно)
2321
Раб Господень – олицетворение остатков истинного Израиля.
(обратно)
2322
Collins, “From Noble Death,” особ. с. 492–493, цит. с. 497.
(обратно)
2323
Исторически вторая часть псалма может быть более поздним добавлением, однако во времена Иисуса 21-й псалом воспринимался как единое целое.
(обратно)
2324
J. B. Souček, “Jesus’ Words from the Cross” (1968), репринт в кн.: Theological and Exegetical Studies [Czech] (Prague: CBS, 2002), с. 228–241, цит. с. 228; об апокалиптическом контексте см. также: Dale C. Allison Jr., The End of the Ages Has Come: An Early Interpretation of the Passion and Resurrection of Jesus (Philadelphia: Fortress, 1985), с. 33 и дал.
(обратно)
2325
Ее содержат Синайский кодекс (), Ефремов кодекс, византийская и латинская традиции – но ее не приводят папирусы Бодмера (p75), Ватиканский кодекс, Кодекс Безы, Кодекс Фриера, Коридефский кодекс и т. д. По-видимому, это намеренный пропуск, связанный с догматическими причинами: убить Сына Божьего – смертный грех. В Деян 7:60 эта фраза опущена – и похожая фраза Стефана, умирающего мученика, уже не выражает апостольского подражания Иисусу. Стих Лк 22:43 также опущен, по схожим причинам: помощь ангела умалит величие жертвы Иисуса.
(обратно)
2326
P. Pokorný, Theologie der lukanischen Schriften (FRLANT 174; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998), с. 150.
(обратно)
2327
Поэтому в версии Молитвы Господней у Луки мы вместо «ныне» читаем «на каждый день» (Лк 11:3).
(обратно)
2328
Collins, “From Noble Death.”
(обратно)
2329
В этом случае эсхатологическое событие описывается не как пришествие Царства Божьего, а как новое пришествие Иисуса как Господа.
(обратно)
2330
Предание Иисуса его противникам, выраженное глаголом παραδίδωµι (Мк 14:10, 11, 18, 21, 42, 44), означает, что страдающий Иисус находился в руках людей-грешников – а его воскресение из мертвых, напротив, было деянием Бога.
(обратно)
2331
Collins, “From Noble Death,” с. 490–491.
(обратно)
2332
Евр 5:7–8: «С сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение»; ср.: Евр 2:10–11; Ин 12:27–28; Лк 22:43–44 в Синайском кодексе; Евангелие Спасителя 8 (т. е. неизвестное Евангелие середины II в. из Берлина; см.: Gospel of the Savior: A New Ancient Gospel [ed. Ch. W. Hedrick and P. A. Mirecki; Santa Rosa, Calif.: Polebridge, 1999], с. 16 и дал.).
(обратно)
2333
Для описаний Луки и Иоанна крик богооставленности «звучит слишком жестоко», говорит Вернон Роббинс (Vernon K. Robbins, “The Crucifixion and the Speech of Jesus,” Forum 4 (1988): 33–46, цит. с. 45). Это ставит под вопрос общее убеждение множества христиан в том, что Иисус был Богом, облеченным в человеческое тело. Если говорить в плане догматов, то это монофизитское или наполовину гностическое представление.
(обратно)
2334
Heinz Schürmann, Jesus, Gestalt und Geheimnis: Gesammelte Beiträge (ed. K. Scholtissek; Paderborn: Bonifatius, 1994), с. 162–163.
(обратно)
2335
Ханс Каммлер (Hans-Christian Kammler, “Das Verständnis der Passion Jesu im Markusevangelium,” ZTK 103 [2006]: 461–491), критикует прежнюю идею, согласно которой Страсти Иисусовы понимаются у Марка как страдание праведника (passio iusti). Однако стоит прочесть то, как Каммлер излагает Гефсиманскую молитву в духе учения Ансельма о заместительной смерти, и мы поймем, что для Каммлера воссоздание того, что он называет «богословием Марка», совпадает с исторической реконструкцией. Это экзегетический просчет с его стороны.
(обратно)
2336
Чешский библеист Йозеф Соучек в 1930-х годах назвал такую эсхатологию «двойной»; см. Petr Pokorný, “In Honor of Josef B. Souček,” в кн.: Bibelauslegung als Theologie (ed. P. Pokorný and J. B. Souček; WUNT 100; Tübingen: Mohr Siebeck 1997), с. 13–33, цит. с. 13–14. Позднее этот феномен был назван «телескопической эсхатологией».
(обратно)
2337
Иосиф Флавий (И. В. VI, 5.3) писал об Иошуа, сыне Анана, который в 60-х гг. н. э. пророчествовал о падении Иерусалима и в результате попал в руки римского прокуратора Альбина. Иошуа был признан сумасшедшим, и после телесного наказания его отпустили.
(обратно)
2338
Согласно Мф 26:60, это было последнее свидетельство.
(обратно)
2339
См.: E. P. Sanders, Jesus and Judaism (Philadelphia: Fortress, 1985), с. 287.
(обратно)
2340
О порицании Храма см.: Martin Ebner, Jesus von Nazareth in seiner Zeit (SBS 196; Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 2003), с. 185.
(обратно)
2341
Пол Уинтер (Paul Winter, On the Trial of Jesus [SJ 1; Berlin: de Gruyter, 1973], с. 119) рассматривает сцену допроса как легендарную – как развитие эпизода, упомянутого в Ин 11:47–50, – но это не означает, будто он отрицает историчность самого суда над Иисусом.
(обратно)
2342
Прямых свидетельств у нас немного; однако то, что Иисус в этот момент был беспомощен и власти поощряли издевательство над ним, могло подтолкнуть солдат над ним «покуражиться». Джоэл Маркус (Joel Marcus, “Crucifixion as Parodic Exaltation,” JBL 125 [2006]: 73–87, цит. с. 85), упоминает связи с этим часто цитируемый рассказ Диона Хрисостома о персах (Речи 4.67–70).
(обратно)
2343
См., напр.: W. Zaeger, Gottesherrschaft und Endgericht in der Verkündigung Jesu: Eine Untersuchung zur markinischen Jesusüberlieferung einschließlich der Q-Parallelen (BZNW 82; Berlin: de Gruyter, 1996).
(обратно)
2344
Позднее оно было истолковано как пророчество об очищении Духом Святым.
(обратно)
2345
Здесь – в духовном смысле.
(обратно)
2346
Она говорит о «дидактическом пророчестве» (Collins, “From Noble Death,” с. 501).
(обратно)
2347
Christian Dietzfelbinger, “Die Antithesen der Bergpredigt,” ZNW 70 (1979): 1–5.
(обратно)
2348
См.: James D. G. Dunn, “Jesus and Purity: An Ongoing Debate,” NTS 48 (2002): 449–467.
(обратно)
2349
Ипполит, Облич 5.8.2; Соф. Иис. Хр 108, 13; Происх. мира 125, 2–6; 127, 10–15; ср.: Фом. Атл 145, 14–15; 2 Апок. Иак 56, 4–5; Апок. Адам 82, 19–20; Откр 3:21.
(обратно)
2350
См.: G. Theissen, “Jesusbewegung als charismatische Weltrevolution,” NTS 35 (1989): 343–360, особ. с. 358–360.
(обратно)
2351
Ernst Troeltsch, «Über historische und dogmatische Methode in der Theologie», первая публикация в издании: Studien des Rheinischen Predigervereins (1898). ET: «Historical and Dogmatic Method in Theology», в кн.: Religion in History (trans. James Luther Adams and Walter E. Bense; Minneapolis: Fortress, 1991), с. 11–32.
(обратно)
2352
Евангелие Петра 28–49. Этот источник обычно датируют первой половиной II в., см.: Gerd Theissen and Annette Merz, The Historical Jesus: A Comprehensive Guide (trans. J. Bowden; Minneapolis: Fortress, 1998), с. 49.
(обратно)
2353
В ст.: Ingolf Dalferth, «The Resurrection: The Grammar of “Raised”», в кн.: Biblical Concepts and Our World (ed. D. Z. Phillips and M. von der Ruhr; New York: Palgrave Macmillan, 2004), с. 190–208, цит. с. 204, эти два утверждения – то, что Иисус умер и что затем его видели живым, – создают когнитивную апорию, требующую разрешения. Теоретически можно сказать либо: 1) что Иисус на самом деле не был мертв, либо 2) что он на самом деле не был жив, либо 3) что тот, кто умер, и тот, кого видели живым, не был одним и тем же человеком. Христиане отвергают все три возможности… исповедуя, что Христа Бог воскресил из мертвых. Дальферт отмечает, что это не историческое, а герменевтическое решение, см.: idem., «Volles Grab, leerer Glaube? Zum Streit um die Auferweckung des Gekreuzigten», ZTK 95 (1998): 379–409, цит. с. 401.
(обратно)
2354
Wolfhart Pannenberg, Jesus – God and Man (trans. L. L. Wilkins and D. A. Priebe; Philadelphia: Westminster, 1968), с. 98; idem, Systematic Theology (trans. Geoffrey W. Bromiley; 3 vols.; Grand Rapids: Eerdmans, 1991–1998), 2:69.
(обратно)
2355
Jürgen Moltmann, Theology of Hope (trans. J. W. Leitch; London: SCM, 1967), с. 179.
(обратно)
2356
Sarah Coakley, «Is the Resurrection a “Historical” Event? Some Muddles and Mysteries», в кн.: The Resurrection of Jesus Christ (ed. P. Avis; London: Darton, Longman & Todd, 1993), с. 85–115, цит. с. 90.
(обратно)
2357
Ср.: Frank Tipler, The Physics of Immortality: Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead (New York: Doubleday, 1994); John Polkinghorne, The God of Hope and the End of the World (New Haven: Yale University Press, 2003). В ст.: Ted Peters, «The Future of the Resurrection», в кн.: The Resurrection of Jesus: John Dominic Crossan and N. T. Wright in Dialogue (ed. R. B. Stewart; Minneapolis: Fortress, 2006), с. 149–169, 213–216, цит. с. 166 предлагается богословская защита открытой вселенной. По мнению автора, «если Бог Израилев, описанный в Библии, существует, то законы природы, какими мы их знаем, не “последнее слово”. Они не окончательны. Законы природы принадлежат к тварному миру и установлены Творцом. Если же божественный творец решает их изменить – нам стоит ждать сюрпризов».
(обратно)
2358
См.: Coakley, «Is the Resurrection a ‘Historical’ Event?», с. 93–94. Это заключение основано на аксиоме Юма, согласно которой «никакого свидетельства недостаточно для удостоверения чуда [под которым понимается нарушение законов природы], разве что свидетельство будет такого рода, что опровержение его окажется более чудесным, чем тот факт, который оно пытается доказать» (David Hume, «Of Miracles», в кн.: An Enquiry Concerning Human Understanding, section x; репринт в кн.: Hume on Religion [ed. R. Wollheim; London: Collins, 1963], с. 205–229, цит. с. 211).
(обратно)
2359
В ст.: Wolfhart Pannenberg, «History and the Reality of the Resurrection», в кн.: Resurrection Reconsidered (ed. G. D’Costa; Oxford: Oneworld, 1996), с. 62–72, цит. с. 71, предлагается переопределить задачи исторического исследования, и аргументируется это тем, что «принятие воскресения Иисуса как исторического события, с одной стороны, и роли исторического рассуждения – с другой, могут идти рука об руку, если наша концепция истории оставляет место Богу в реальности исторических процессов».
(обратно)
2360
В кн.: Wolfhart Pannenberg, The Apostles’ Creed in the Light of Today’s Questions (trans. M. Kohl; London: SCM, 1972), с. 97, например, считается, что «если это [аргументация в пользу историчности воскресения Иисуса] рушится – рушится и все остальное, составляющее веру христиан».
(обратно)
2361
Отличный пример такого взгляда на вещи – замечание Панненберга: «Негативное суждение о телесном воскресении Иисуса как о реально бывшем историческом факте – не результат историко-критического исследования библейского пасхального предания, а постулат, предшествующий такому исследованию».
(обратно)
2362
В ст.: James G. Crossley, «Against the Historical Plausibility of the Empty Tomb Story and the Bodily Resurrection of Jesus: A Response to N. T. Wright», JSHJ 3.2 (2005): 171–186, автор критикует Николаса Томаса Райта за то, что тот не проявляет по отношению к евангельским повествованиям ни малейшего скепсиса – для историка позиция сомнительная! Кроссли предлагает такую иллюстрацию: «Например, обсуждая разговор римского императора с дочерью Гамалиила II (вав. Санх 90b–91a), он [Николас Томас Райт] говорит, что разговор этот, “несомненно, вымышленный”. Большинство из нас с этим согласится. Но такое подозрение ни разу не применяется к истории воскресения, к повествованию о пустой гробнице, ко всем странным рассказам, с этим связанным, – рассказам, возбуждающим у множества людей куда большее недоверие, чем история о встрече дочери раввина с императором» (с. 181).
(обратно)
2363
Схожая оценка споров о воскресении предлагается в ст.: Dale C. Allison Jr., «Explaining the Resurrection: Conflicting Convictions», JSHJ 3.2 (2005): 117–133, цит. с. 133: «За нашими аргументами в дискуссии о воскресении по большей части стоят глобальные суждения об устройстве мира в целом – суждения, которые чаще всего (а точнее, вообще никогда) не могут быть результатом исторического исследования. Гулдер предпочитает давать воскресению Иисуса натуралистическое объяснение не потому, что почерпнул его в древнехристианских материалах, – скорее, он насильно притягивает его к этим материалам. Также и страстная убежденность Райта в правоте традиционного христианского исповедания веры – не результат его исторических исследований, а вопрос веры, влиявшей на его научную работу с самого начала… Так исторический вопрос быстро превращается в вопрос о мировоззрении, хотя это ведь совершенно разные вещи».
(обратно)
2364
John Dominic Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991); idem, The Birth of Christianity: Discovering What Happened in the Years Immediately after the Execution of Jesus (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1998).
(обратно)
2365
Gerd Lüdemann, The Resurrection of Jesus: History, Experience, Theology (trans. J. Bowden; London: SCM, 1994); idem, The Resurrection of Christ: A Historical Inquiry (Amherst, N. Y.: Prometheus, 2004).
(обратно)
2366
William Lane Craig, Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the Resurrection of Jesus (SBEC 16; Lewiston, N. Y.: Mellen, 1989); idem, The Historical Argument for the Resurrection of Jesus (TSR 23; Lewiston: Edwin Mellen, 1985).
(обратно)
2367
N. T. Wright, The Resurrection of the Son of God (COQG 3; Minneapolis: Fortress, 2003).
(обратно)
2368
Dale C. Allison Jr., Resurrecting Jesus: The Earliest Christian Tradition and Its Interpreters (New York: T&T Clark, 2005).
(обратно)
2369
См.: William Lane Craig, John Dominic Crossan, and William F. Buckley Jr., Will the Real Jesus Please Stand Up? A Debate between William Lane Craig and John Dominic Crossan (ed. P. Copan; Grand Rapids: Baker, 1998); William Lane Craig and Gerd Lüdemann, Jesus’ Resurrection: Fact or Figment? A Debate between William Lane Craig and Gerd Lüdemann (ed. P. Copan and R. K. Tacelli; Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2000); Stewart, ed., Resurrection of Jesus. См. также: JSHJ 3.2 (2005), посвященный обсуждению книги: Wright, The Resurrection of the Son of God; а также издание Philosophia Christi 10.2 (2008), посвященное обсуждению книги: Allison, Resurrecting Jesus.
(обратно)
2370
Согласно статистике, собранной в ст.: Gary R. Habermas, «Experiences of the Risen Jesus: The Foundational Historical Issue in the Early Proclamation of the Resurrection», Di 45 (2006): 288–297, цит. с. 288, начиная с 1975 года опубликовано более 2200 трудов о воскресении Иисуса. В предыдущей статье автора: Gary R. Habermas, «Resurrection Research from 1975 to the Present: What Are Critical Scholars Saying?» JSHJ 3.2 (2005): 135–153, цит. с. 137–140, дается полезная библиография основных немецких, французских, британских и североамериканских исследований смерти и воскресения Иисуса.
(обратно)
2371
Ср.: Gary R. Habermas, The Risen Jesus and Future Hope (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2003), с. 10–11.
(обратно)
2372
Ср.: Wright, Resurrection, с. 318.
(обратно)
2373
Как правило, эти субъективные видения истолковываются как индивидуальные или массовые психические иллюзии и галлюцинации. Историю этого мнения можно проследить вплоть до II в. н. э., когда схожие возражения выдвигали против христианства его противники: см.: Graham Stanton, «Early Objections to the Resurrection of Jesus», в кн.: Resurrection: Essays in Honour of Leslie Houlden (ed. S. Barton and G. Stanton; London: SPCK, 1994), с. 79–94. Самым красноречивым защитником этой теории в XIX в. стал Давид Штраус: David F. Strauss, The Life of Jesus Critically Examined (ed. P. C. Hodgson; trans. G. Eliot; LSJ; 1972; repr., Mifflintown, Pa.: Sigler, 1994), с. 709–744. Современную версию этой теории, основанную на юнгианской психологии, см. в статье: Michael Goulder, «The Baseless Fabric of a Vision», в кн.: Resurrection Reconsidered, ed. D’Costa, с. 48–61; idem, «Did Jesus of Nazareth Rise from the Dead?», в кн.: Resurrection, ed. Barton and Stanton, с. 58–68; Lüdemann, Resurrection of Jesus, с. 49–84.
(обратно)
2374
См.: Lüdemann, Resurrection of Jesus, с. 97–100.
(обратно)
2375
См.: Stephen J. Patterson, «Why Did Christians Say: ‘God Raised Jesus from the Dead’?» Forum 10 (1994): 135–160, цит. с. 142.
(обратно)
2376
Самое значимое собрание аргументов в защиту историчности пустой гробницы можно найти в статье: Hans von Campenhausen, «The Events of Easter and the Empty Tomb», в кн.: Tradition and Life in the Church: Essays and Lectures in Church History (trans. A. V. Littledale; Philadelphia: Fortress, 1968), с. 42–89. См. также: Craig, Assessing the New Testament Evidence, с. 373–374.
(обратно)
2377
William Lane Craig, «Did Jesus Rise from the Dead?», в кн.: Jesus under Fire: Modern Scholarship Reinvents the Historical Jesus (ed. M. J. Wilkins and J. P. Moreland; Grand Rapids: Zondervan, 1995), с. 147–182, цит. с. 151; Wright, Resurrection, с. 599–602.
(обратно)
2378
Wright, Resurrection, с. 602–604.
(обратно)
2379
Основное свидетельство об этом исходит от Иосифа Флавия, И. Д. IV, 8.15: «Свидетельство женщин, ввиду их легкомыслия и пристрастия, не должно быть принимаемо во внимание». Подобные же рассуждения, принижающие вес свидетельства женщин не только в юридических, но и в повседневных вопросах, можно найти во многих источниках, см.: м. Рош ха-Шана 1:8; вав. Б. Кам 88a; вав. Шаб 30a; LAB 9:10; 2 Тим 3:6–7. Для христиан необходимость полагаться на свидетельство «полубезумных женщин», как обзывал их Цельс (Ориген, Цельс 2.59), также была потенциальным соблазном. См.: John A. T. Robinson, The Human Face of God (London: SCM, 1973), с. 132; Craig, «Did Jesus Rise from the Dead?», с. 151; Wright, Resurrection, с. 607–608; Carolyn Osiek, «The Women at the Tomb: What Are They Doing There?» ExAud 9 (1993): 97–107; Allison, Resurrecting Jesus, с. 327–329.
(обратно)
2380
В обзоре споров о воскресении в современной исторической науке: John M. G. Barclay, «The Resurrection in Contemporary New Testament Scholarship», в кн.: Resurrection Reconsidered, ed. D’Costa, с. 13–30, цит. с. 23, делается вывод: «…историчность рассказа о пустой гробнице в значительной степени зависит от историчности рассказа о погребении».
(обратно)
2381
Jeffery J. Lowder, «Historical Evidence and the Empty Tomb Story: A Reply to William Lane Craig», в кн.: The Empty Tomb: Jesus beyond the Grave (ed. R. M. Price and J. J. Lowder; Amherst, N. Y.: Prometheus, 2005), 261–306, цит. с. 275–276.
(обратно)
2382
Lowder, «Historical Evidence», с. 284.
(обратно)
2383
См.: Martin Hengel, Crucifixion in the Ancient World and the Folly of the Message of the Cross (Philadelphia: Fortress, 1977), с. 22–32; Byron R. McCane, Roll Back the Stone: Death and Burial in the World of Jesus (Harrisburg: Trinity Press International, 2003), с. 90. О теории, согласно которой первые христиане не знали, что произошло с телом Иисуса, см.: John Shelby Spong, Resurrection: Myth or Reality? A Bishop’s Search for the Origins of Christianity (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1994), с. 225; Crossan, Historical Jesus, с. 391–394; idem, Who Killed Jesus? Exposing the Roots of Anti-Semitism in the Gospel Story of the Death of Jesus (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1995), с. 160–177. Согласно реконструкции Кроссана, древнейший пласт традиции, сохранившийся в Евангелии Петра 21–22 (раздел так называемого «Евангелия Креста»), сообщал, что тело Иисуса было похоронено его врагами. Следующий пласт, сохранившийся в Мк 15:42–47, превратил погребение руками врагов в погребение уважаемым членом Синедриона. Последующий пласт, сохранившийся в Мф 27:57–71, изобразил Иосифа Аримафейского богачом и фактически учеником Иисуса. Наконец, Ин 19:38–42 заявляет, что гробница, где похоронили Иисуса, была расположена в саду. Таким образом, предание о погребении развивается «от погребения врагами до погребения друзьями, от торопливого и недостойного погребения в спешке – к вполне достойному, уважительному, даже почетному» (Historical Jesus, с. 393). Кроссан видит здесь апологетическую тенденцию, призванную скрыть неприятную правду: «К утру пасхального воскресенья те, кто хотел знать, где тело Иисуса, этого не знали, а те, кто знал, совершенно об этом не заботились» (с. 394).
(обратно)
2384
См.: Adela Yarbro Collins, «The Empty Tomb in the Gospel according to Mark», в кн.: Hermes and Athena: Biblical Exegesis and Philosophical Theology (ed. E. Stump and T. P. Flint; UNDSPR 7; Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1993), с. 107–137; Goulder, «Baseless Fabric of a Vision», с. 56; Uta Ranke-Heinemann, Putting Away Childish Things: The Virgin Birth, the Empty Tomb, and Other Fairy Tales You Don’t Need to Believe to Have a Living Faith (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1994), с. 131.
(обратно)
2385
Древнейшая версия этой гипотезы анонимна: «Versuch über die Auferstehung Jesu», Bibliothek für Kritik und Exegese des Neuen Testaments und älteste Kirchengeschichte 2 (1799): 537–551; см.: Joseph Klausner, Jesus of Nazareth: His Life, Times, and Teaching (trans. H. Danby; New York: Macmillan, 1925), с. 357; Lowder, «Historical Evidence», с. 266–270. Схожий взгляд, высказанный Германом Самуилом Реймарусом в его незаконченном произведении «О цели Иисуса и его учеников», опубликованном после смерти автора Готхольдом Лессингом в 1778 году, состоит в том, что тело унесли ученики Иисуса, которые впоследствии обманули всех остальных, объявив, что Иисус воскрес из мертвых; см.: Fragmente des Wolfenbüttelschen Ungenannten: Ein Anhang zu dem Fragment vom Zweck Jesu und seiner Jünger, bekanntgemacht von G. E. Lessing (Berlin: A. Weaver, 1788); англ. перевод: Reimarus: Fragments (ed. C. H. Talbert; trans. R. S. Fraser; LSJ; Philadelphia: Fortress, 1970), с. 248–250.
(обратно)
2386
Kirsopp Lake, The Historical Evidence for the Resurrection of Jesus Christ (London: Williams & Norgate, 1907), с. 241–252.
(обратно)
2387
Следствия из этих гипотез подводятся в ст.: Lowder, «Historical Evidence», с. 274: «Однако если первая гробница была пуста и Иисус лежал во второй… не только исчезает необходимость постулировать воскресение, чтобы объяснить пустоту первой гробницы, но и, что еще более важно, тело Иисуса остается в могиле».
(обратно)
2388
Pannenberg, Jesus – God and Man, с. 88–106; idem, Systematic Theology, 2:343–363; idem, «History and Reality», с. 68–69. Для Панненберга пасхальные явления приоритетнее пустой гробницы, поскольку без них пустая гробница не имеет однозначного объяснения. Они же, по его мнению, гарантируют объективную реальность воскресения. Его окончательный вердикт в отношении историчности воскресения Иисуса относительно осторожен: воскресение «исторически очень вероятно, а в историческом исследовании это всегда означает, что необходимо предполагать его достоверность, пока не доказано обратное» (Pannenberg, Jesus – God and Man, с. 105).
(обратно)
2389
William Lane Craig, Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics (rev. ed.; Wheaton, Ill.: Crossway, 1994), с. 272–280; idem, «Did Jesus Rise from the Dead?», с. 147–182. Крэйг предлагает развитую апологетическую аргументацию в пользу историчности воскресения, состоящую из десяти аргументов защиты: 1) рассказ о погребении исторически достоверен; 2) свидетельство Павла предполагает историчность пустой гробницы; 3) эпизод с пустой гробницей существовал уже в до-Марковом рассказе о Страстях; 4) фраза «в первый день недели» указывает на древность этого предания; 5) это повествование лишено богословских прикрас и апологетического тона; 6) то, что пустую гробницу первыми нашли женщины – очень вероятно; 7) также исторически вероятно, что Петр и Иоанн отправились проверить их рассказ и также обнаружили пустую гробницу; 8) невозможно было бы проповедовать воскресение Иисуса в Иерусалиме, если бы гробница не была пустой; 9) иудейская полемика против христианства исходит из того, что гробница действительно была пуста; и 10) последователи Иисуса не почитали его гробницу. По мнению Крэйга, историчность воскресения лучше всего объясняет все эти обстоятельства.
(обратно)
2390
В кн.: Wright, Resurrection of the Son, автор заявляет, что «ни пустая гробница, с одной стороны, ни явления, с другой, сами по себе не образуют достаточной причины для рождения раннехристианской веры» (с. 688). «Несомненно, для раннехристианской веры эти условия недостаточны» (с. 690). «Однако сведите их вместе – и сочетание их образует достаточное условие» (с. 692). Далее он доказывает, что это также и необходимые условия, и заключает тем, что «сочетание пустой гробницы и явлений живого Иисуса образует набор обстоятельств, одновременно необходимый и достаточный для возникновения раннехристианской веры. Без этих феноменов мы не смогли бы объяснить, как возникла эта вера и почему приняла именно такую форму. С ними у нас появляется подробное и точное объяснение» (с. 696). В отличие от Панненберга, проявляющего немалую сдержанность в вопросах истории, Райт не сдерживается совсем: «На мой взгляд, это заключение [что гробница была пуста, а Иисус являлся не только своим последователям, но и другим людям] относится к той же категории в высшей степени вероятных, практически неопровержимых исторических событий, как смерть Августа в 14 г. н. э. или падение Иерусалима в 70 г.».
(обратно)
2391
См.: Wright, Resurrection, с. 718: «Предположение, согласно которому Иисус телесно воскрес из мертвых, не имеет себе достойных соперников в деле объяснения событий, лежащих в основе раннего христианства».
(обратно)
2392
См.: Troeltsch, «Historical and Dogmatic Method», с. 21: «Когда догматическая апологетика подчеркивает “исторический” характер христианства, желая привлечь к нему светскую публику… это чистый обскурантизм… В наше время “историческими” и “фактами” объявляются всевозможные вещи, которые не таковы и не должны быть таковыми, поскольку они по природе своей чудесны и могут быть только приняты на веру».
(обратно)
2393
См.: Pannenberg, Jesus – God and Man, с. 77.
(обратно)
2394
Практичное и трезвое, местами с юмором, рассуждение о необходимости эмпирического опыта в таких вопросах: Robert G. Cavin, «Is There Sufficient Historical Evidence to Establish the Resurrection of Jesus?» в кн.: Empty Tomb, ed. Price and Lowder, с. 19–41.
(обратно)
2395
См.: Рим 10:9 («Бог воскресил Его из мертвых» [ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν]), 1 Кор 6:14 («Бог воскресил Господа» [ὁ δὲ θεὸς καὶ τὸν κύριον ἤγειρεν]), 1 Кор 15:15 («свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа» [ἐµαρτυρήσαµεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν Χριστόν]).
(обратно)
2396
См.: Рим 4:24 («нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего» [τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν ἐγείραντα Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡµῶν ἐκ νεκρῶν]), Рим 8:11 («если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас» [εἰ δὲ τὸ πνεῦµα τοῦ ἐγείραντος τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑµῖν]), 2 Кор 4:14 («зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас» [εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡµᾶς σὺν Ἰησοῦ ἐγερεῖ]), Гал 1:1 («Богом Отцем, Воскресившим Его из мертвых» [θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν]), Кол 2:12 («верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых» [διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν]).
(обратно)
2397
См.: Рим 4:24; 10:9, Еф 1:19–20, 1 Пет 1:21.
(обратно)
2398
Karl Barth, The Epistle to the Romans (trans. E. C. Hoskyns; London: Oxford University Press, 1933), с. 30.
(обратно)
2399
Одну из последних по времени формулировок этой позиции мы встречаем у Райта: Wright, Resurrection, с. 477, который пишет: «Хотя ранние христиане были выходцами из разной среды, как иудейской, так и языческой (а представления о жизни после смерти – одни из самых консервативных и тщательно хранимых культурных представлений), в Новом Завете мы практически не встречаем разногласий по этому вопросу. Можно даже сказать, что с этой точки зрения христианство представляло собой почти единое ответвление фарисейского иудаизма».
(обратно)
2400
См.: George W. E. Nickelsburg, Resurrection, Immortality, and Eternal Life in Intertestamental Judaism (HTS 26; Cambridge: Harvard University Press, 1972); Günter Stemberger, Der Leib der Auferstehung: Studien zur Anthropologie und Eschatologie des palästinischen Judentums im neutestamentlichen Zeitalter (ca. 170 v. Chr. – 100 n. Chr.) (Rome: Biblical Institute Press, 1972); Émile Puech, La croyance des esséniens en la vie future: Immortalité, résurrection, vie éternelle? Histoire d’une croyance dans le judaïsme ancient (2 vols.; EBib 21–22; Paris: Lecoffre, 1993); Wright, Resurrection, с. 129–206, 399–583; Daniel J. Harrington, «Afterlife Expectations in Pseudo-Philo, 4 Ezra, and 2 Baruch, and Their Implications for the New Testament», в кн.: Resurrection in the New Testament (ed. R. Bieringer, V. Koperski, and B. Lataire; FS J. Lambrecht; BETL 165; Leuven: Leuven University Press, 2002), с. 21–34; Casey D. Elledge, «The Resurrection Passages in the Testaments of the Twelve Patriarchs: Hope for Israel and in Early Judaism and Christianity», в кн.: Resurrection: The Origin and Future of a Biblical Doctrine (ed. J. H. Charlesworth et al.; FSC; New York: T&T Clark, 2006), с. 79–103.
(обратно)
2401
Wright, Resurrection, с. 30–31, 201.
(обратно)
2402
См.: Alan F. Segal, «Life after Death: The Social Sources», в кн.: The Resurrection: An Interdisciplinary Symposium on the Resurrection of Jesus (ed. S. T. Davis, D. Kendall, and G. O’Collins; Oxford: Oxford University Press, 1997), с. 90–125, цит. с. 100–101.
(обратно)
2403
См. также: Деян 2:32–33; 5:30–31, по всей видимости, содержащие в себе ранний вероисповедный материал. См.: Gerd Lüdemann, Early Christianity According to the Traditions in Acts: A Commentary (trans. J. Bowden; Minneapolis: Fortress, 1989), с. 47–49; C. H. Dodd, The Apostolic Preaching and Its Developments (1936; repr., Grand Rapids: Baker, 1980), с. 17–31; Reginald H. Fuller, The Formation of the Resurrection Narratives (New York: Macmillan, 1971), с. 44–45; Pheme Perkins, Resurrection: New Testament Witness and Contemporary Reflection (Garden City, N. Y.: Doubleday, 1984), с. 228–231.
(обратно)
2404
См.: 1 Кор 15:47–48, указывающие на то, что для Павла воскресший Иисус был «человеком с неба» (ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ). Только в Евангелиях, особенно у Луки и Иоанна, воскресение Иисуса отделено от его вознесения/переселения на небеса; см.: «Life after Death», с. 110.
(обратно)
2405
См.: A. F. Segal, «The Resurrection: Faith or History?» в кн.: Resurrection of Jesus, ed. Stewart, с. 121–138, цит. с. 122: «То, что ранние христиане не создали единой усредненной традиции, показывает нам, что авторы Нового Завета не были так заинтересованы в единстве мнений, как иные современные интерпретаторы».
(обратно)
2406
См.: Gregory Riley, Resurrection Reconsidered: Thomas and John in Controversy (Minneapolis: Fortress, 1995), с. 133–156.
(обратно)
2407
См.: Perkins, Resurrection, с. 343–348.
(обратно)
2408
О возможном пути от Павла до гностицизма см.: James M. Robinson, «Jesus from Easter to Valentinus (or to the Apostles’ Creed)», JBL 101 (1982): 5–37; см. также: Perkins, Resurrection, с. 356–360.
(обратно)
2409
Allison, «Explaining the Resurrection», с. 127.
(обратно)
2410
См.: Pannenberg, Systematic Theology, 2:346.
(обратно)
2411
Об онтологических и герменевтических следствиях метафоры «воскресения как восстания» [в данном случае под словом «восстание» понимается бунт, мятеж. – Прим. ред.] см.: Jan Bauke-Ruegg, «“Auferstehung als Aufstand”: Hermeneutische Anfragen an eine gängige Deutung der Auferstehung», ZTK 99 (2002): 76–108.
(обратно)
2412
Как отмечает Эллисон (Allison, Resurrecting Jesus, с. 242), попытку Людемана объяснить явления гипотезой о психологическом состоянии Петра (Lüdemann, Resurrection of Jesus, с. 97–100) нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Эллисон заключает, что «даже если… мы примем предположение Людемана, то все равно останется вопрос, почему галлюцинация привела иудея I века к убеждению, что Иисус воскрес из мертвых» (с. 243). Сам Эллисон обсуждает множество свидетельств (включая и свое собственное) о людях, которым являлись недавно умершие (с. 269–299).
(обратно)
2413
См.: Евангелие Петра 60, утверждающее, что Иисус сперва явился Петру, потом Андрею и Левию Матфею. Мк 16:7, особо упоминающий Петра, возможно, испытал влияние этой же традиции. Однако ни в одном из этих источников не содержится рассказа о явлении Иисуса Петру.
(обратно)
2414
То же предание мы встречаем в пространном окончании Марка (Мк 16:9–11).
(обратно)
2415
Список основных «за» и «против» первенства Петра: Theissen and Merz, Historical Jesus, с. 496–499. Тайсен и Мерц заключают: «…то, что изначальное предание о первом явлении Марии Магдалине впоследствии отошло на второй план, более вероятно, чем то, что оно возникло позже» (с. 498). См. также: Martin Hengel, «Maria Magdalena und die Frauen als Zeugen», в кн.: Abraham unser Vater: Juden und Christen im Gespräch über die Bibel (ed. O. Betz, M. Hengel, and P. Schmidt; FS O. Michel; Leiden: Brill, 1963), с. 243–256.
(обратно)
2416
В кн.: Theissen and Merz, Historical Jesus, с. 488 указано, что «утверждения, содержащие ὤφθη, последовательно воспринимаются как формулы легитимации». Подробнее об этом см.: Ann Graham Brock, Mary Magdalene, the First Apostle: The Struggle for Authority (Cambridge: Harvard University Press, 2003). Брок доказывает, что соперничество Петра и Марии Магдалины, описанное в различных гностических источниках (Ев. Фом 114; Ев. Марии; Пистис София 1–3), имеет под собой историческую почву.
(обратно)
2417
В кн.: Wright, Resurrection, с. 477–478 доказывается, что «ранние христиане представляли себе тело, по-прежнему цветущее во всей полноте своей телесности, однако резко отличное от нашего нынешнего тела». Критику этого представления о «человеческом теле, свойства которого по меньшей мере необычайны» см. в ст.: Michael Welker, «Article Review: Wright on the Resurrection», SJT 60 (2007): 458–475.
(обратно)
2418
См.: 1 Кор 15:37, где Павел доказывает, что нынешнее наше тело – не такое, каким оно должно быть. В ст.: Pannenberg, «History and Reality», с. 67–68 высказано предположение о том, что Павел, по всей видимости, не видел противоречий между идеей трансформации одного тела в другое и идеей, что «одна форма тела заменит другую». Подробнее об учении о двух телах: Richard C. Carrier, «The Spiritual Body of Christ and the Legend of the Empty Tomb», в кн.: Empty Tomb, ed. Price and Lowder, с. 105–231.
(обратно)
2419
В ст.: Segal, «Resurrection: Faith or History», с. 134 предполагается, что «различие между Павлом и Евангелиями во многом схоже с различием между литературой мистической и апокалиптической: то, что мистическая литература описывает как видения, апокалиптическая излагает как пророчества о реальных событиях».
(обратно)
2420
См.: Daniel Schenkel, A Sketch of the Character of Jesus: A Biblical Essay (London: Longmans, Green, 1869), с. 318; Christian H. Weisse, Die Evangelienfrage im ihrem gegenwärtigen Stadium (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1856), с. 272–292; Morton Scott Enslin, Christian Beginnings (New York: Harper & Brothers, 1938), с. 411–412; Massey H. Shepherd Jr., «Paul and the Double Resurrection Tradition», JBL 64 (1945): 227–240, цит. с. 233; Charles H. Talbert, Luke and the Gnostics: An Examination of Lucan Purpose (Nashville: Abingdon, 1966), с. 31–32; Theissen and Merz, Historical Jesus, с. 494. Райт, страстно опровергающий эту интерпретацию, отказывается взглянуть в лицо имеющимся свидетельствам. Единственное возражение, которое он может привести – его собственная оценка этой теории, на его взгляд, «совершенно невероятной» и «крайне своеобразной», от которой «необходимо отказаться, как от исторически необоснованной и попросту противоречащей здравому смыслу» (Wright, Resurrection, с. 606). По его мнению, более вероятный путь развития – это «спитируализация преданий в эллинистическом стиле, а не реиудаизация их» (с. 66). Но разве именно такое эллинистическое развитие, какого он ожидает, не представлял собой народившийся докетизм? Если так, то реиудаизация традиции, сохранившаяся в канонических Евангелиях, представлявших ортодоксальное христианство, служила апологетическим целям. В ст.: Segal, «Life after Death», с. 112 предложена иная точка зрения на реиудаизацию традиции. По мнению автора, Церкви необходимо было защитить искупительное значение смерти Иисуса перед лицом растущей эллинизации христианской традиции, особенно растущего интереса к бессмертию души. «Если все души бессмертны, какое же особое спасение несет в себе самопожертвование Иисуса? Никакого. Учение христиан о смерти Иисуса имеет смысл в контексте иудейской секты, но для платоников выглядит почти бессмысленным».
(обратно)
2421
Игн., Смирн 3:1; 3:3; 12:2.
(обратно)
2422
Теории о том, будто Павел узнал о пустой гробнице во время поездки в Иерусалим и бесед с другими христианами (Craig, Assessing the New Testament, с. 112–114) или будто «он, по крайней мере, знал, что последователи Иисуса рассказывали о пустой гробнице и что их слова не были никем опровергнуты» (Wright, Resurrection, с. 691), не слишком правдоподобны. Аргументы Павла в пользу воскресения Христа в 1 Кор 15:12–19 основаны не на знании о пустой гробнице, а на уже имеющейся вере в воскресение мертвых. По мнению Павла, человек, говорящий «нет воскресения мертвых» (1 Кор 15:13), не может согласиться и с тем, что Христос воскрес.
(обратно)
2423
В кн.: Allison, Resurrecting Jesus, с. 316 отмечено, что «Павел мог верить в пустую гробницу, и не зная предания о ее обнаружении», и автор делает такой вывод: «…хотя Павла нельзя считать свидетелем против предания о пустой гробнице, изложенного в Евангелиях, в равной степени нельзя и сказать, будто он подтверждает какие-либо элементы этого предания или даже само его существование до Марка».
(обратно)
2424
См.: Craig A. Evans, «Jewish Burial Traditions and the Resurrection of Jesus», JSHJ 3.2 (2005): 233–248. Эванс строит свою аргументацию на свидетельстве, найденном во Втор 21:22–23 и других иудейских писаниях, которое показывает, что: 1) очень большое значение для иудеев имело погребение, как праведников, так и грешников, с соблюдением всех обрядов; 2) иудеи стремились избегать осквернения земли. Далее он пишет о том, что связанные с этим отрывки у Иосифа (И. В. IV, 5.2; II, 11.6; И. Д. XVIII, 5.2; Пр. Ап 2.73; Жизнь 420–421) и у Филона (О посольстве к Гаю 38.300) указывают, что «оставление тел казненных без погребения было исключительным, а не типичным случаем» (239). См. также: Allison, Resurrecting Jesus, с. 352–363; Jodi Magness, «Ossuaries and the Burials of Jesus and James», JBL 124 (2005): 121–154. Гипотеза о погребении подкрепляется и предположением Дэвида Доуба о том, что, поскольку Иисус был казнен римлянами за политическое преступление, иудеи могли и не считать его преступником; см.: David Daube, The New Testament and Rabbinic Judaism (1956; repr. Peabody, Mass.: Hendrickson, 1994), с. 311. Немного иная реконструкция погребения Иисуса предложена в кн.: McCane, Roll Back the Stone, с. 89–106. Маккейн соглашается с тем, что Иисус был погребен членом Синедриона по иудейскому обычаю, однако считает, что погребение это было постыдным, поскольку Иисуса погребли не в семейной гробнице и без ритуального оплакивания. По его мнению, в канонических Евангелиях заметны позднейшие попытки «приукрасить ситуацию» замечаниями о том, что гробница была новой, что тело Иисуса было завернуто в льняное полотно и умащено благовониями.
(обратно)
2425
Большинство ученых полагает, что сообщения Матфея и Луки основаны на тексте Марка. Независимость Ин 20 иногда оспаривается: см.: John Dominic Crossan, «Empty Tomb and Absent Lord», в кн.: The Passion in Mark: Studies on Mark 14–16 (ed. W. H. Kelber; Philadelphia: Fortress, 1976), с. 135–152.
(обратно)
2426
Согласно кн.: Theissen and Merz, Historical Jesus, с. 499, история Ирода Антипы, который считал Иисуса восставшим из мертвых Иоанном Крестителем, хотя Иоанна и похоронили его ученики (Мк 6:14, 29), показывает, что «вера в воскресение вполне могла зародиться и без проверки гробницы».
(обратно)
2427
В ст.: Osiek, «Women at the Tomb», с. 105 говорится, что замалчивание свидетельств женщин о пустой гробнице вело к тому, что замалчивались и их свидетельства о встречах с воскресшим Иисусом: «Едва исчезла пустая гробница – нетрудно устранить и упоминания о явлениях женщинам, связанные с повествованиями о гробнице благодаря общему месту действия».
(обратно)
2428
См.: Wright, Resurrection, с. 617–624.
(обратно)
2429
В проповеди Петра в Деян 2, представляющей собой подбор аргументов от Писания в пользу воскресения Иисуса, упоминается, что «не оставлена душа Его во аде, и плоть Его не видела тления» (Деян 2:31). Хотя эта проповедь и содержит в себе очень древний материал, такой как связь воскресения Иисуса и его мессианства, общая ее композиция целиком принадлежит Луке. Фраза «…и плоть Его не видела тления» [οὔτε ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν] показывает, что Лука заинтересован в материальности тела воскресшего Иисуса, – и эта же фраза предполагает, что ей будет предшествовать рассказ о пустой гробнице. Следовательно, это упоминание в проповеди Петра не может служить доказательством того, что ранние христиане рассказывали о пустой гробнице в своих проповедях.
(обратно)
2430
Гипотеза, что пустая гробница – позднейший вымысел, не слишком убедительна; как замечает Эллисон, «ни одна другая логия или рассказ об Иисусе не пытаются замаскировать свое позднее происхождение, утверждая, будто до недавнего времени люди об этом молчали» (Allison, Resurrecting Jesus, с. 304). См. также: Fuller, Formation of the Resurrection Narratives, с. 53.
(обратно)
2431
Pannenberg, Jesus – God and Man, с. 100–101; Craig, Reasonable Faith, с. 272. И Панненберг, и Крэйг доказывают, что, не будь гробница Иисуса пуста, никто в Иерусалиме не поверил бы проповеди учеников о его воскресении.
(обратно)
2432
Обвинение иудейских вождей, зафиксированное в Мф 28:11–15, в том, что ученики украли и спрятали тело Иисуса, часто трактуется как согласие врагов христианства с тем, что гробница была пуста; см.: Pannenberg, Jesus – God and Man, с. 101; Craig, Reasonable Faith, с. 277. Однако, учитывая явно апологетические цели этого эпизода, историчность его сомнительна.
(обратно)
2433
Согласно м. Иевам 16:3, установить по облику тела личность покойного можно лишь в течение трех дней после смерти.
(обратно)
2434
См.: Allison, Resurrecting Jesus, с. 318.
(обратно)
2435
Там же, с. 320.
(обратно)
2436
См.: Theissen and Merz, Historical Jesus, с. 484.
(обратно)
2437
Там же, с. 502.
(обратно)
2438
Wright, Resurrection, с. 686–696.
(обратно)
2439
Райт упорно настаивает на том, что одни лишь явления не смогли бы породить веру в воскресение: «Явления живого, по видимости, Иисуса сами по себе должны были быть восприняты как видения или галлюцинации – феномены, в Древнем мире хорошо известные» (Wright, Resurrection, с. 686). Однако древнейшее предание, сохраненное в 1 Кор 15:3–7, и собственное свидетельство Павла упоминают лишь о явлениях. Заявления вроде: «Очень вероятно, что он [Павел] знал по крайней мере о том, что последователи Иисуса считают гробницу пустой», или: «И потому можно предположить, что он в то время, когда узрел воскресшего Иисуса, знал о пустой гробнице хотя бы по словам других» (с. 691) – основаны на умозаключениях, а не на свидетельствах. Даже в евангельских повествованиях, когда свидетели просят доказательств того, что увиденное ими – не призрак и не галлюцинация, сам воскресший Иисус предлагает им себя потрогать (Лк 24:37–39; Ин 20:24–29) или вкушает пищу с ними вместе (Лк 24:41–43; Ин 21:4–13). Нет ни одного сообщения, в котором сомнения относительно сущности воскресения рассеивались бы указанием на пустую гробницу. Скорее, смысл здесь в том, что уже одно впечатление, для которого часто характерно движение от неверия к вере, вполне способно формировать убеждение в том, что Иисус воскрес из мертвых.
(обратно)