| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Книга о Петербурге (fb2)
 - Книга о Петербурге 14863K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Сергей Анатольевич Носов
- Книга о Петербурге 14863K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Сергей Анатольевич Носов
— Удивительное место. Я там родился и вырос. Хочу рассказать о нем.
— Как называется?
— Петербург.
— Вы серьезно? О Петербурге уже все есть.
— Да ладно! Моего нет.
С чего-то начать

С предыстории?
Крайний срок предыстории Петербурга — 13 750 000 000 лет. Столько времени тому назад в результате Большого взрыва образовалась наша Вселенная, вследствие чего мы имеем то, что имеем, и Петербург тоже.
С иных мировоззренческих позиций, от Сотворения мира до основания Петербурга прошло 7211 лет. Немного. Есть соблазн примирить эти несоразмерные сроки, представив, например, шкалу «от Сотворения мира» в логарифмическом масштабе (чем глубже в прошлое, тем дольше длится библейский год, тем больше в нем наших простых, календарных лет), но не дадим увлечь себя спекулятивным теориям. Отметим только, что Петербург был основан Петром на четвертом году после отмены старого летоисчисления. Имеется в виду именной указ от 19 декабря 7208 года «О писании впредь Генваря с 1 числа 1700 года во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от Сотворения мира».
Далее.
Не задерживаясь на событиях межгалактического масштаба, отметим дату, имеющую прямое отношение к нашей теме: 4 500 000 000 лет назад в общих чертах сформировалась Солнечная система, включающая в себя наравне с другими объектами небесные тела, осколки которых падают на Землю с момента образования планеты, — а посему о коллекции метеоритов, затеянной при Екатерине II, поговорим в свое время.
1 700 000 000 лет назад (возможно, позже — лет так на восемьдесят миллионов) в результате сложного процесса гранитообразования, связанного, насколько это доступно нашему пониманию, с проникновением магмы в верхние слои континентальной коры, получился массив, именуемый Выборгским, — один из крупнейших гранитных массивов материка. Именно его граниты, известные под названием «рапакиви» (на финском это «гнилой» — возможно, намек на болота), использовались при строительстве Петербурга.
450 миллионов лет — возраст осадочных пород, сформировавших «путиловский камень», который, к примеру, лежит у нас под ногами, когда мы поднимаемся по старым петербургским лестницам.
Нижняя юра, 280 миллионов лет до нас. Моллюски этой далекой эпохи дали нам известковые отложения других достоинств, — непосредственные срезы окаменелостей будем различать на облицовочных плитах, украшающих некоторые городские сооружения. Но это так, для полноты картины…
110 000 лет тому назад начался последний ледниковый период. Огромный кусок скалы, выломанный, по-видимому, в Скандинавии, был превращен в гигантский подкругленный валун по мере его продвижения с колоссальным массивом льда к шестидесятой широте и тридцатой долготе современной системы географических координат. Никаких камней, даже близких ему по размерам, в окрестностях нет (во всяком случае, на поверхности земли). Знаменитый Гром-камень, сильно обтесанный, послужит постаментом для конной статуи Петра — Медный всадник станет символом Петербурга.
Около 12 тысяч лет назад ледник отступил, оставив за собой Балтийскую котловину, стремительно заполняемую талой водой. В результате геологических процессов вновь образующиеся озера и моря сменяли друг друга, пока около 4000 лет назад не сформировалось Балтийское море в берегах, которые нам сегодня известны. Примерно тогда же (или позже «немного») образовалась река Нева, без которой немыслима история Петербурга.
В V тысячелетии до н. э. на территории нынешнего города — в устье реки Охты, аккурат на месте, где первоначально хотели построить небоскреб для штаб-квартиры Газпрома, — уже поселялись люди. Памятники эпохи неолита известны в ближайших окрестностях Петербурга. Примечательно, что башню Газпрома, высочайший небоскреб в Европе, в конечном итоге воздвигли в Лахте, сравнительно близко от другой стоянки древних людей.
30–60-е годы н. э. — деяния апостола Петра в разных, впрочем далеких от Балтийского моря, краях. Будущий основатель Санкт-Петербурга назовет его небесным покровителем города.
Другой покровитель города — Александр Невский. В 1240-м там, где Ижора впадает в Неву, князь Александр Ярославович одержит победу над шведами.
(Кстати, об ижоре как автохтонном населении… Если бегло, то так: территория будущего СПб в те времена принадлежала обширной земле, на которую распространялась власть Новгорода.)
1300. Новая попытка шведов закрепиться на Неве: строительство на Охтинском мысу форта Ландскрона — в границах современного Санкт-Петербурга. Атакован и уничтожен новгородцами весной 1301-го. Как показали раскопки, крепость была древо-земляной: в этих краях ощущался дефицит камня. (И похоже, дефицит времени.)
1323. Князь Юрий Данилович у истока Невы строит крепость Орешек. В тот же год заключен Ореховецкий мирный договор, по которому Новгород уступает земли Швеции вплоть до границы по реке Сестре.
10 ноября 1457 года (с учетом перевода на юлианский календарь) исполнилось бы 500 лет со дня рождения автора этой книги, если бы время шло в обратную сторону. Отнюдь не мания величия заставляет меня включить в хронику мнимую дату, но необходимость заблаговременно предупредить читателя, с чем он непременно столкнется, продолжив чтение, — с резко субъективным, сугубо авторским взглядом на вещи. Эта книга могла бы называться «Петербург в ощущениях», если бы не переизбыток шипящих в заглавии. Ощущения и восприятия, таким образом, относятся к одному конкретному лицу, проживающему в этом городе со дня рождения и имеющему некоторый опыт проживания: вот оно себя и обнаружило в тексте, — тут уже ничего не попишешь. Настоящим также подтверждаю пристрастность, хотя и до определенной степени, к сослагательному наклонению, удивительным совпадениям, мнимым событиям, важным для понимания вещей в той же мере, в какой нельзя представить без мнимой единицы многих математических преобразований, — стало быть, подтверждаю пристрастность к идее невозможности, немыслимости этого странного города, — притом хочу сразу признаться: я не являюсь приверженцем альтернативных теорий, убежден, что Земля не плоская и Петра I не подменили. Сей абзац есть первое авторское отступление (выступление). Прошу прощения, и — дальше, дальше: не будем тормозить историю.
1500 года («лета семь тысяч осмаго» — 7008-го — от Сотворения мира) дошла до нас новгородская Писцовая книга Водской пятины. Среди прочих описаны в ней погосты Ореховского уезда, в частности тех земель, на которых появится Петербург.
1617. Столбовский мир, по которому Русское царство уступало Швеции в числе прочих земель — все Приневье, включая место будущего Петербурга. На левом берегу Охты при впадении в Неву возводится Ниеншанц (первые укрепления относят к 1611 году), на правом берегу Охты образуется портовый город Ниен.
30 мая 1672 года родился Петр I.
А 19 августа 1700 года Петр объявил войну Швеции.
Через пять дней выступил в плохо подготовленный, крайне неудачный поход на Нарву. Теоретически овладение Нарвой могло бы освободить Петра от необходимости строить город в устье Невы. А уж если бы он и Ригу взял с ее незамерзающим портом, тогда, кто знает, может быть, столицей России Рига была бы. Есть и такое мнение, но проверить его, разумеется, невозможно. Обстоятельства, однако, под осажденной Нарвой не благоприятствуют русской армии, и самое тяжелое из них — появление Карла XII.
19 ноября Карл XII легко побеждает под Нарвой.
За два последующих года Петр реформирует армию. Переплавляет колокола на пушки. Создает в 1701-м Лужскую верфь, а в 1702-м еще две верфи — одну в устье Сяси, другую — на Свири. Короче, действует.
12 октября 1702 года штурмом берет Нотебург. Петр не возвращает крепости историческое название Орешек. Теперь она — Шлиссельбург. Ключ-крепость. В самом названии открыто выражается намерение царя, — есть «ключ», значит будет «замок», значит, придется ключом воспользоваться. Вероятно, уже тогда Петр придумал название Шлотбург («замóк-крепость») — для Ниеншанца, который он еще не видел воочию и который еще предстояло взять.
1 мая 1703 года взят Ниеншанц.
Не наше дело
Среднестатистический образованный ленинградец мало интересовался допетровской историей земли, на которой расположен его город.
Свидетельствую с полной ответственностью.
В общественном сознании это выглядело примерно так: шла война со шведами, пришел Петр к устью Невы, огляделся, а дальше по Пушкину: «здесь будет город заложен назло надменному соседу».
Именно что соседу. А не прежнему квартиросъемщику, продолжающему претендовать (если будем развивать коммунальную метафору) на квадратные метры. Он здесь не прописан!
И чем интересоваться тогда — болотами, что ли?
Название Ниеншанц в обзорных статьях, посвященных возникновению Петербурга, если упоминалось, то вскользь. Ну, где-то была шведская крепость какая-то, Петр взял ее по ходу дела, — в общем, основанию Петербурга она не мешала. И не влияла ни на что. Могло и не быть.
С крепостью Орешек связывались более определенные представления. Орешек — Шлиссельбург. У шведов — Нотебург. А когда град Петров носил имя Ленина, Петром нареченный Шлиссельбург обрел имя Петра — Петрокрепость.
Итого: Орешек — Нотебург (а для нас все равно: Орешек!) — Шлиссельбург — Петрокрепость — опять Шлиссельбург.
Тут есть что помнить — все перед глазами. В 1702-м отвоевали у шведов. Наше, родное. Вот тогда была баталия. Первая крупная победа в Северной войне с непосредственным участием Петра (самостоятельные победы генерал-фельдмаршала Шереметева остаются за кадром).
Петербург растет и растет, а до Шлиссельбурга не дотянуться; в стороне от Петербурга лежит Шлиссельбург, никуда не делся — на месте. Можно съездить к истоку Невы, прийти на пристань, на кораблике сплавать в крепость на острове. Вот там, посмотрите, на востоке Ладожское озеро. А где-то там, у стены, повесили Александра Ульянова. А где-то там закопали несчастного Иоанна Антоновича, нашу «Железную Маску». А вот заросшие кустами развалины времен Великой Отечественной… Все здесь. Стены дышат историей, потому что они есть.
А где Ниеншанц? Ниеншанца и след простыл. Нет Ниеншанца.
История — вещь интересная, но интересна также история восприятия истории.
На этот счет — контрольное воспоминание.
В середине девяностых группа петербургских драматургов затеяла серию сборников пьес, кто-то предложил экзотическое название проекту — «Ландскрона». А что это? Да вроде бы такую шведы крепость на берегах Невы построили, за несколько столетий до Петербурга. Сейчас уже не вспомнить, с какой стати петербургские пьесы должны были выходить под маркой Ландскроны, — наверное, просто красиво, да и название «местное», свое, «принципиально не московское», что-то в этом и от «всемирной отзывчивости русской души» было, и вместе с тем от патриотизма, хотя и парадоксального, а главное, звучало загадочно — словно авторы сборника знали что-то, другим неизвестное. На самом деле авторы сборников ничего толком не знали об исторической Ландскроне вообще и вообще первый раз о ней слышали (кроме предложившего; он второй). И читатели не знали. Об этом и свидетельствую с удивлением. Только из-за сборников этих и помню, что означало имя Ландскрона тогда для большинства петербуржцев. А ничего. Сейчас-то Ландскрона у нас на слуху, а когда сборник вышел, все спрашивали: что это? Интернет появлялся только, никаких Википедий под рукой не было. Книгу, допустим, А. Ю. Гиппенга, изданную почти сто лет назад, или работы нашего старшего современника И. П. Шаскольского теоретически можно было заказать в Публичной библиотеке, но практически туда надо было еще пойти. В общем, звучало свежо и загадочно. И с претензией. Была у нас, оказывается, Ландскрона. На какое-то время Ландскрона в определенных, очень узких кругах стала своеобразным мифом: будто это и есть подлинное, хотя и тайное название города, запутавшегося в именах.
Сейчас нам, и стару и младу, известно: Ландскрона просуществовала менее года, была построена к осени 1300-го и в 1301-м, по весне, разрушена новгородцами.
«Алиса, что такое Ландскрона?»
(Кстати, только что узнал: Ландскрона — сайт болельщиков «Зенита», и это первое, что в данный исторический момент предлагает нам поисковая система «Яндекс».)
На месте Ландскроны спустя три века возник Ниеншанц.
О Ниеншанце представления в недавние времена были еще хуже. И мало кто слышал название города Ниен.
Если б их засекретили, да нет же. Просто сведения эти не входили в так называемый багаж знаний образованного человека. Просвещенному ленинградцу допускалось не знать ничего о Ниеншанце и даже не подозревать о былом существовании города Ниен у истока Охты, в то время как незнание двенадцати подвигов Геракла или, к примеру, фамилий пяти казненных декабристов могло восприниматься как признак невежества.
О да, казненные декабристы! Мне, наверное, было лет десять-одиннадцать, когда я смотрел какую-то молодежную телепередачу для старших («Горизонт»?), и вот там одна авторитетная дама, от имени, что ли, жюри какого-то конкурса, так и сказала: стыдно культурному человеку не помнить фамилий казненных декабристов — их всего пятеро. А я тогда назвать мог двоих, так что ощутил себя культурным человеком на две пятых. Запомнилось.
Никто, однако, не требовал знания чего-либо о Ниеншанце, Ниене и прежде случившейся Ландскроне.
Даже специалисты в своих трудах по истории Северной войны называли город по-разному: Нюен, Ниен, Ниенштадт…
В общем, это была не наша история.
Париж времен Ришелье был, скорее, нашей историей, — или Лондон с его Бейкер-стрит… А если говорить о Швеции, труднейшем сопернике СССР на хоккейном поле, покатые крыши Стокгольма для нас такими же были с детства родными, как и для их обитателя с пропеллером на спине. Нам, признаемся, даже несколько льстила, взрослым уже, беспримерность нашей любви к персонажу Линдгрен, — ведь нигде больше в мире, включая Швецию, как однажды нам рассказали, этот странный недоумок Карлсон не вызывает таких симпатий.
Но при чем тут какой-то Ниеншанц под боком? Откуда Ниеншанц, когда уже есть Петербург? Что-то неинтересное. Не наше дело.
Наше, наше!
Интерес, который уже было бы справедливо назвать общественным, стал возникать к Ниеншанцу на рубеже тысячелетий. По мере приближения 300-летия Петербурга все больше внимания привлекала фигура основателя города, а среди его деяний, имевших отношение к юбилею, было взятие шведской крепости. В июне 2000-го рядом с Большеохтинским мостом на правом берегу Невы перед заводским корпусом установили памятный знак «Крепость Ниеншанц»; автор идеи — археолог П. Е. Сорокин, руководивший раскопками на Охтинском мысу с начала 1990-х.
«Памятный знак» — официальное обозначение объекта, — на самом деле он тянет на мемориал, и главный элемент всей композиции — шесть старинных шведских пушек, найденных на территории бывшей крепости. Открытие памятника широко освещалось в печати.
Многих тогда изумило: шведская крепость, о которой ходили какие-то невнятные слухи, оказывается, была здесь — на месте корпусов Петрозавода, еще тогда не снесенных.
А много ли мы знали о самом Петрозаводе этом? Основанное Петром предприятие за 280 лет своего существования, с учетом всяких перепрофилирований, меняло название раз двадцать — от Охтенской верфи (через «е») до собственно Петрозавода, причем Петрозаводом в разные годы именовалось как минимум трижды. Под этим названием и закончило печальным банкротством свою долгую историю в первый год нового тысячелетия. Ладно, фрегат «Паллада», прославленный Гончаровым, и подводные лодки, построенные еще до Первой мировой, — это все наши исторические древности, но в советские времена заходили сюда на ремонт подлодки посовременнее, пускай и дизельные, — в годы моей молодости завод этот, как теперь знаю, был из тех, что именовался у нас «почтовым ящиком», — о таких распространяться было не принято. Тут и возникает у меня мысль — «в порядке бреда», потому что мысль не обдуманная, а по ходу создания текста: не потому ли к Ниеншанцу не привлекали у нас внимания, что на месте его действовало секретное предприятие? Что-то в этом, кажется, есть. Или нет? Кстати, в раннебрежневские времена (и, кстати, романовские), пока еще не был построен Малоохтинский мост и не подведена к нему набережная со сквозным движением, предприятие, занимая неблагоустроенный берег Невы, выглядело обособленным не хуже той крепости.
Ну так вот, как раз в одном из корпусов, на складе металлолома (отнюдь не в глубинах земли), археологи из группы Сорокина раскопали те старинные пушки. Вернее, стволы.
Тут уж и совсем смутный слушок забрезжил, будто бы — то ли у дверей профкома, то ли где-то в другом месте — в советские времена, когда завод еще номерным был (№ 370), случилось урной для курильщиков послужить врытому в землю пушечному стволу. Что ж, всяко бывало в нашей богатой истории — было время, например, когда стволы трофейных турецких пушек врывали у подворотен вместо колесоотбойных тумб, защищавших углы и стены (это ж надо было тащить их с Балкан для этого!..). Но чтобы урна… все же верится плохо: как же вытряхивать такую? Никак нельзя.
С другой стороны, это мог быть один из тех стволов, что в прежние времена держали здесь ограду, заключающую достопримечательное дерево. Дело в том, что еще до революции, когда праздновали 200-летие Петербурга, заключили в ограду старый дуб, росший на территории завода Крейтона, как тогда предприятие называлось, и будто бы этот дуб сам Петр посадил в память павших за Ниеншанц, а вместо столбиков послужили ограде врытые в землю пушечные стволы. Должно быть, эти.
А нашли их незадолго до того юбилея, в те дореволюционные годы, на дне Охты. Но как они в воду попали (и когда) — загадка.
Также не совсем понятно, могли ли стрелять из этих стволов по войску Петра.
Дело в том, что экспертные оценки возраста пушек противоречивы. Похоже, один или два ствола в той переделке могли поучаствовать. Но тогда обращение их в сторону Невы особенно выразительно, — ведь именно туда и палили со стен крепости, когда 28 апреля 1703 года, еще до штурма, Петр вместе с преображенцами и семеновцами проплывал на лодках к устью Невы под стенами Ниеншанца, впрочем трудно сказать, насколько рискуя, — тогда обошлось без жертв.
И все же по-настоящему Ниеншанц оказался прославлен — даже среди тех, кто вообще равнодушен к истории, — как ни странно, субъектом, менее всего смотрящим в прошлое и более всего — в будущее, да, конечно, Газпромом, нашим газовым гигантом, — причем, похоже, вопреки желанию его собственного руководства.
Дело в том, что в 2006 году эта территория, еще недавно представлявшая собою промзону, перешла в собственность компании. Расчистка промзоны от остатков заводских корпусов была лишь первым этапом грандиозного проекта, — далее Газпром намеревался возвести здесь для своего головного офиса башню высотой 396 метров (а то и 403). Петербуржцам эта идея сразу не понравилась (не всем, но большинству — точно), башню немедленно окрестили «кукурузой», и для газового монополиста еще обиднее — «газоскрёбом», — начались выступления против ее строительства, пошла волна публикаций. По закону Газпром должен был провести раскопки на месте будущего строительства (на тот момент Охтинский мыс был признан археологическим памятником). Вряд ли руководство компании, финансируя это исследовательское предприятие, опасалось результатов, невыгодных для своих строительных планов; в конце концов, допускалась возможность музея при многоэтажном офисе, тем и предполагали ограничиться. Но все серьезнее оказалось. Археологи постарались на славу.
То, что сохранилось под фундаментами заводских корпусов, сам Сорокин назвал «петербургской Троей».
Во-первых, оказалось, что Ниеншанц не исчез бесследно. Во-вторых, были обнаружены следы поселения, известного как Невское Устье. В-третьих, еще ниже — та самая шведская Ландскрона. В-четвертых, под ней остатки вала и рва древнего городища, историкам неизвестного. В-пятых и в-шестых — а это уже совсем неожиданность, — две стоянки древних людей. Нижний пласт, отделенный от верхнего метровым слоем песка, доказывает, по мнению Сорокина, обитание здесь человека еще до возникновения Невы (Нева — река молодая, об этом поговорим особо).
Начали с петровских времен, а докопались до неолита.
Не всех убеждали итоги раскопок, но, так или иначе, проекту Охта-центра они популярности не прибавили.
Башню, еще выше — 462 метра, построили в конечном итоге не здесь — в Лахте, на берегу Финского залива. К этому выбору общественность больших претензий не имела. А что до прежнего места, как раз в связи с Охтинским мысом общественное наше сознание — уже не в масштабах города, а всей страны (и даже мира — под эгидой ЮНЕСКО) — имело случай соприкоснуться с предметом предыстории Петербурга.
Тема Ниеншанца вошла в моду.
От него теперь не уйти
Итак, Ниеншанц/Ниен (в русских обозначениях петровского времени — Шанц или Канц) — очень короткая справка:
— Первые укрепления — левый берег Охты, 1711. Посад — правобережный. Городской статус — 1732. Торговые привилегии. Контроль пути по Неве. В 1656-м крепость взята штурмом войском П. И. Потемкина, однако по итогам войны (Русско-шведской 1656–1658 гг.) осталась за шведами. Численность населения — 1500–2000 человек. Ратуша, две кирхи, порт. Национальный состав: шведы (большинство), немцы, финны (переселенные из Средней Швеции), русские, преимущественно лютеране (православный храм на левом берегу Невы в селе Спасское). Численность гарнизона крепости весной 1703-го — около 600. Последний комендант — Аполов (русское происхождение, шведская служба): личная отвага, сильные головные боли, преклонный возраст.
Раньше значение Ниеншанца у нас игнорировали, сейчас, похоже, ударяемся в другую крайность.
На эффектных картинах современного художника Ниеншанц выглядит неприступной крепостью с высокими каменными стенами, превышающими, пожалуй, по размерам стены ну как минимум Новгородского кремля, с величественными башнями, воротами, мостом, непременно каменным, основательным, крепким. Между тем, согласно раскопкам, крепость эта была земляной, о чем не устает напоминать взыскующий истины археолог Сорокин.
Примерно о том же, но по другим соображениям, напоминал, вернее, докладывал правительству Швеции авторитетнейший инженер-фортификатор Эрик Дальберг в своем отчете об инспекционной поездке по оборонительным сооружениям на востоке; было это в 1681 году, — общий смысл реляции, если кратко, таков: все (почти все) устарело.
(Посвященная этому документу обзорная статья двух знатоков средневековой фортификации А. Н. Кирпичникова и Е. А. Кальюнди была напечатана в 20-м выпуске «Скандинавского сборника» — Таллин, 1975.)
Дальберг нашел крепости в «плачевном состоянии». Особенно удручило инспектора положение дел на Охте. Крепость, толщина брустверов которой не выдерживала критики, нуждалась в решительном переоборудовании. Правобережные укрепления (на окраинах города) могли только послужить на пользу противнику, сумей он завладеть ими (чему никаких препятствий Дальберг не видел). О реальных размерах Ниена, относительно скромных, можно косвенно судить по рекомендации Дальберга перенести город на другой берег реки — на Охтинский мыс, под защиту более надежных укреплений.
Дальберг лучше многих понимал стратегическое положение Ниеншанца; с годами предчувствие катастрофы у него только усилилось — в 1698 году он аттестовал оборону Ниена как «никчемную».
Ниен так и стоял на своем месте, пока его не сожгли сами шведы. Случилось это после падения Нотебурга во второй половине октября 1702-го. Эвакуированные ниенцы пополнили население Выборга, иные перешли в крепость. Но ее осаду Петр перенес на весну.
(А вот и сенсация — исключительно в тему. Сегодня, 02.08.2019, — по новостным каналам: на Среднеохтинском проспекте при ремонте трамвайных путей обнаружены фундаменты построек Ниена. Работают археологи. Что дальше? Одно можно сказать: возобновление трамвайного движения переносится на более поздний срок.)
Одна деревенька
В институте нас часто отправляли «на картошку» — это когда я учился и когда потом работал на кафедре. Чаще всего в Волховский район. Выезжал туда же в стройотряд два раза. В поселке Колчаново до сих пор стоит кирпичный гараж, который мы строили для механизаторов. А с поселком Хвалово, где мы убирали корнеплоды на полях совхоза «Победа Октября» (веселое было время), у меня вообще связано много воспоминаний.
Но ближе к теме.
А тема этих страниц — предыстория Петербурга.
А к предыстории Петербурга, да и вообще к истории, прямое отношение имеет Столбовский мир 1617 года, по которому Россия потеряла выход к морю.
Так вот, жили мы в бараке рядом с закрытой на лето школой, на другом берегу реки возвышались развалины церкви над кладбищем, внизу была паромная переправа, а вдоль реки по кромке леса тянулась тропинка.
Отчего ж не пройтись, если тропинка? Был день выходной, вышел я на нее за поселковой баней и пошел по ней, от нечего делать, по рыбацкой тропинке — куда приведет. Думал, дойду до того места, где к реке приближается шоссе, там и поймаю обратно попутку. Но Сясь, как оказалось, довольно сильно виляет, не в пример прямой дороге на Тихвин, так что идти мне пришлось дольше и дальше, чем думал.
Мне сейчас трудно вспомнить мои ощущения, но надобно сказать, что в местах этих, которые не решусь назвать сказочными, что-то на восприятие реальности определенно влияло — и на восприятие времени особенно. То ли замедлялось оно, то ли что. Справа тихая река, едва ли не до середины заросшая кувшинками, слева смешанный лес, иногда тропинка в него отклоняется, иногда приходится идти через высоченные заросли папоротника. Вроде бы лес как лес, река как река, и все же есть ощущение необычности, так, быть может, бывает, когда в необитаемом пространстве чувствуешь на себе будто бы взгляд. Будто бы произойти что-то должно необыкновенное. Оно и произошло.
Представьте себе урочище: на деревьях иконы висят и домотканые полотенца. Прямо в лесу, рядом с рекой. Под ногами бревнышки — здесь место сырое, болотце рядом. Родник. Да, святой источник, должно быть. Но такого я нигде не встречал, чтобы в лесу иконы на деревьях и полотенца. Это, между прочим, конец семидесятых. 60 лет Октябрю, победой которого назван совхоз. Действующих церквей тут за много километров не было, а в Колчаново на полуразрушенном храме березки росли, и вместо креста была пятиконечная жестяная звезда, сам видел. И вдруг под открытым небом часовенка, вот что это, — без стен. И птицы поют. Словно в сказку попал.
Прошел еще километра четыре, вышел в поле: крохотная деревенька — домов пять, и тянется колея через нее до шоссе. В деревеньке меня первым делом укусила собака, но как-то лениво, цап — и в сторону, даже не прокусила сапог. Из людей только одного видел, вышел к забору на меня посмотреть. Я спросил о том месте. Он отвечал нехотя, потом, правда, разговорился. Будто бы там раньше церковь стояла и, говорят, ушла целиком однажды под землю. А источник целебный. К нему, сказал, «ходят». Будто бы со времен Ивана Грозного завелось. Может, раньше. «И даже из Мурманска приезжают».
Я спросил, как эта деревня называется.
Столбово.
Ну, Столбово и Столбово. Стоят столбы деревянные, провода натянуты — свет есть.
Поле, овражек, лопухи, крапива. В километре отсюда видно шоссе — рейсовый автобус проедет, МАЗы бетон везут из Тихвина.
Позже я часто думал об этом Столбове, вспоминая детали своего похода. Это же, оказалось, то самое Столбово, где был подписан знаменитый Столбовский мир, предопределивший судьбу России.
С ним, с этим «вечным» миром, связаны обстоятельства Северной войны, а следовательно, и образования Петербурга. А еще раньше — Ниеншанца и под его стенами города Ниена. Ничего бы не было этого, если бы не то, что произошло в Столбове.
Почему же здесь?
Потому что на равном расстоянии от Ладоги и Тихвина.
Ладога (которая еще не стала Старой Ладогой, а была за отсутствием Новой Ладоги просто Ладогой) оставалась покамест за шведами, — они взяли ее в числе других русских городов, хотя приглашали их вроде бы для борьбы с поляками. Но что тут поделаешь, если логика русской Смуты предлагает большие возможности? Иное дело Тихвин. Весной 1713-го шведов из него прогнали, дальнейшие попытки осады Тихвинского Успенского монастыря не принесли шведам удачи. Воевода Данило Мезецкой, главный переговорщик с русской стороны, взял в Столбове список иконы Тихвинской Божией Матери, не допустившей, по вере православных, захвата в тот раз монастыря. Интересно, знал ли он о святом источнике недалеко от Столбова на берегу Сяси?
А шведов представлял на переговорах Якоб Делагарди, чье наемное войско успело повоевать с поляками на стороне русских, а потом и против бывших союзников. Теперь он представлял интересы шведской короны, распространившиеся далеко за недавние пределы Швеции.
Переговоры в то время предприятием долгим были, церемониальным и — многолюдным. Условились, что вместе с послами в Столбове будет с каждой стороны «по полтараста человек конных, да по двесте человек пеших с посолскими и дворянскими людми». Целый городок образовался в окрестностях Столбова, хорóм понастроили, изб, конюшен. Дров нарубили — зима! На непосредственные переговоры ушло более двух месяцев.
Спасибо английскому королю Якову I, грезившему о речных путях в Китай, и торговой «Московской компании», заметно влиявшей на внешнюю политику Англии, ну и конкурентам английских купцов — купцам голландским, тоже рассчитывающим на торговые преференции. Англии и Голландии Русско-шведская война была как кость в горле. Без их обоюдоревностного посредничества могли бы и не договориться. Но «благодражайший и грозный господин Иоанн Мерик, рыцарь», одним словом — английский посол, проявил чудеса дипломатического хитроумия и выдержки. 27 февраля 1717 года здесь, в Столбове, у него «на английской квартире», стороны подписали мир.
Швеция возвращала Старую Руссу, Ладогу, Гдов и главное — Великий Новгород (он тоже был под шведами; и в тексте договора — да, именуемый Великим). Россия платила контрибуцию — «двадцать тысяч рублев денег готовыми, добрыми, ходячими, безобмаными серебряными Новгородскими» и оставляла за Швецией земли, прилегающие к Балтийскому морю, бóльшую часть которых скоро назовут Ингерманландией. И Корела (Кексгольм), и Орешек (Нотебург), и вся Нева с новыми укреплениями ближе к дельте, на основе которых образуется Ниеншанц, и в четырех верстах от него вниз по течению малоприметный необитаемый островок, на котором Петр возведет Петербургскую крепость, — все теперь «на вечные времена» — то есть до Петра — шведское.
Выход к морю — потеря горькая, но горечь потери пришла с годами. А тогда были рады все стороны. И шведский король Густав Адольф, заявивший в риксдаге: «Ни одна их лодка без нашего позволения не появится на волнах Балтийского моря». И царь Михаил Федорович, повелевший на радостях звонить в колокола и стрелять из пушек. И английский посол Джон Мерик, оделенный за труды щедрыми царскими дарами. А всех веселее могло быть его толмачу, на которого он еще недавно жаловался Делагарди: «находясь обыкновенно в нетрезвом виде, [дескать] не умеет скрыть тайн ему вверенных». Какие тайны?.. Праздник же, праздник!
В мою первую книгу вошел рассказ об этих местах. Придумал я персонажа, молодого человека по фамилии Микитин, и подарил ему некоторые свои наблюдения. Персонаж мой — скользкий тип, с задатками карьериста, — будучи комиссаром стройотряда, он сочинял липовые отчеты о шефской работе в духе времени, которому принадлежал, а время действия обозначено точно — 1977 год. Там по сюжету ставил ему печати на фиктивные справки старенький директор поселковой школы, учитель истории, хранитель круглой печати; ставил — по принципу «ты мне, я тебе» (ранее комиссар Микитин оформил ему стенд с членами политбюро). Таков сюжетный план рассказа — без метафизики… Короче, все справки скрепя сердце удостоверил директор, а на справке о памятнике сорвался. Будто бы Микитина стройотряд в свободное от работы время воздвиг обелиск на месте подписания Столбовского мира — в честь 360-летия события. («Ну так вот, — продолжал Микитин, — мы посетили историческое место близ деревни Столбово и решили увековечить событие небольшим памятником». — «Не верю!» — вдруг встрепенулся Илья Фомич. «А зря. Точнее сказать, обелиском». — «Не верю, не верю! Обман!» — «Это как вам угодно. Высота обелиска два с половиной метра». — «Врете! Где он стоит?» — «Обелиск? А где Сясь поворачивает, в лесу». — «Врешь, врешь, ты все врешь! Ты… не верю! Ты врун беспринципный!»)
Меня тогда занимала тема спекуляций, и в частности — тема истории как легкой добычи для всевозможных спекуляций.
И тема увядания памяти. Исторической, если так.
В учебнике «История СССР» за седьмой класс, по которому мы проходили XVII век, Столбовский мир даже не был упомянут (да и Ниеншанц тоже). Не удивился, когда одна моя ровесница, прочитав рассказ, меня спросила, сам ли я придумал этот мир Столбовский, или что-то было такое. Нет, не сам. Что-то было такое.
Еще меня томили невостребованные, невыраженные образы этих мест, связанные с той случайной прогулкой, — этих полей, этой унылой колеи, крохотной, дышащей на ладан деревеньки, «неперспективной» по тогдашней терминологии, — с ее заброшенностью, обреченностью.
Вон как. Недалеко от Столбова, смотрю в интернете, — ближе к реке, за оврагом, теперь коттеджи стоят.
В конце XX века и в начале XXI проживал в Столбове один человек.
А памятник действительно появился. Высокий поклонный крест установили в поле. Вроде бы в 2006-м. Кто — не знаю.
Началось…

Тайна рождения
Вот исторический объект — Северная война как она есть. А вот географический объект — река Нева. Согласен, что коряво, но зато истинно: это родители Санкт-Петербурга.
Чтобы поизящнее получилось, обратимся в духе петровского времени к аллегориям. Как и любой другой войны, аллегория Северной, конечно, Марс (на Шпалерной улице, для наглядности, образец — рядом с колоннадой казарм Кавалергардского полка, — ну тот, что глядит на Ахматову, которая со своего пьедестала глядит на тюремные корпуса «Крестов»… стоп… в нашей книге главное — не отвлекаться…). Аллегория Невы тоже представлена, — статуя женщины у южной Ростральной колонны, по распространенному убеждению, она и есть.
Теперь, когда антропоморфные образы обозначены зримо, с учетом того, что они аллегории, повторим твердо, прямо, уверенно:
— Великая Северная война и река Нева — вот родители Санкт-Петербурга!
Остров зайцев
Когда я ходил еще в школу, помню, пользовалась невероятной популярностью юмористическая телепередача «Кабачок „13 стульев“». Из года в год за столиками этого заведения разыгрывались похожие друг на друга жанровые сценки; завсегдатаи кабачка были все с причудами, которым они на протяжении лет не изменяли; один из них, пан Зюзя, отличался пунктиком на зайцах, — он аттестовал себя как зайцелюба, писал роман о зайцах и все разговоры так или иначе сводил к зайцам. Сначала это было смешно, потом стало надоедать, как и вся передача. Однажды она прекратилась. Но я вспоминаю о ней каждый раз, когда прохожу по деревянному Иоанновскому мосту, ведущему к воротам Петропавловской крепости, и вижу слева от себя на торчащем из воды свайном ледорезе декоративную скульптуру зайца. Он уже стал своего рода символом крепости, и торговля его миниатюрными двойниками бойко идет в сувенирной лавке. Не так давно он был на всю округу единственный, сейчас Петропавловская крепость заселена зайцами. Можно ли было предположить, что лет через тридцать после закрытия той передачи (и через триста лет после основания Санкт-Петербурга) появятся в городе на Неве свои зайцелюбы среди историков, краеведов и журналистов. Один из них, довольно успешный в продвижении своих проектов, с удивительным упорством — на протяжении лет — будет призывать украсить остров, на котором стоит Петропавловская крепость, бронзовыми зайцами (как минимум дюжиной); остров, конечно, называется Заячьим, но зайцелюбская концепция приумножения заячьих скульптур на нем сложнее простой иллюстрации топонима, — стал бы я сейчас ее пересказывать, во-первых, запутался бы, а во-вторых, непременно бы сам уподобился пану Зюзе.
Не знаю, долго ли продлится мода на зайцев. Особого внимания крепостные зайцы не стоят, но одного из этих, надо полагать, все-таки временных объектов, не могу не отметить. Это вполне человекоподобный заяц, который в данный момент, закинув ногу на ногу, сидит на деревянной скамейке перед входом в Музей Старого Петербурга (Инженерный дом — таково историческое название здания). Судя по всему, заяц самодовольно подражает Остапу Бендеру. Демонстрируя правой рукой вполне по-человечески «викторию» (заячьи уши?), он глядит на памятник Петру Первому, известное творение Михаила Шемякина. Это важно. Оттого что перед зайцем стенд с музейной афишей, целиком, однако, не закрывающий вид, кажется тем более, что ушастый подглядывает. Шемякинский Петр чувствует что-то — Петра корежит. Памятники не переносят, когда на них глядят другие памятники, и хотя заяц на скамейке никакой не памятник, объект он все-таки антропоморфный. Своим присутствием он переформатирует контекст, в котором мы привыкли воспринимать бронзового Петра. Он напрочь лишает самоуверенности шемякинского Петра — монумент, излучающий в обычных условиях мрачную иронию и сарказм, чьи пропорции частей тела карикатурно искажены при физиологической достоверности формы лица, повторяющей знаменитую прижизненную маску. Но самоуверенность гротескного Петра потому так сильно и впечатляет, потому так и эпатирует неподготовленного зрителя, что все окружающее пространство просто дышит строгостью, правильностью и целесообразностью. Строгое, правильное, целесообразное пространство не предполагает ничего более абсурдного и неуместного, чем этот лысый Петр без парика. И вдруг — заяц. Петр не видит зайца, он смотрит на Великокняжескую усыпальницу. А заяц нагло глядит на Петра, с его маленькой головой и неимоверно длинными скрюченными пальцами. И Петра определенно корежит. Он растерян, он не понимает, что происходит. Хуже того, Петр своим присутствием, по-своему пафосным — в той степени, в какой способен на пафос постмодернизм, — нечаянно сообщает нахальному зайцу особую убедительность. Я бы сказал, этот заяц обладает паразитарной убедительностью: он убедителен за счет Петра. Петр хоть и сидит в кресле, но заяц, говоря фигурально, ставит его на место. Или «сажает» — что то же.
Удивительный ансамбль, не так ли? Ситуация, конечно, недолговременна — век зайца, подозреваю, недолог. Тем более чувствую себя обязанным зафиксировать факт ситуативного взаимодействия объектов, представляющий теоретический интерес для исследователей психологии памятников.
Надо признать, эти зайцы вписываются в пространство крепости с удивительной непринужденностью и непосредственностью. Один сидит (или стоит?) — ростом по плечо взрослому человеку — напротив торца артиллерийского цейхгауза ближе к Петровским воротам: будучи любителем фотографироваться (небескорыстным!), он имеет на лбу, ближе к переносице, характерную щель — это заяц-копилка!
По логике вещей его место в западной части крепости, перед Монетным двором, где как раз и производят металлические денежные знаки, гуртами которых истыканы до блеска края упомянутой щели, — но ведь там мало туристов.
Два слова о главном зайце — о том первом, — родоначальнике или предвестнике всех этих крепостных зайцев и зайчиков. Сидящий на свае, новоявленный символ крепости уже проник в многочисленные буклеты и справочники — и почитаем почти как памятник. Нет, не бронзовый. Силумин его плоть, коррозиестойкий сплав на основе алюминия. В родственниках у этого зайца наши сковороды, мясорубки и автомобильные поршни.
Туристам нравится: бросают монетки. Счастлив тот, чья монетка останется на торце сваи и не отскочит в воду.
Официально объект называется «Зайчик, спасшийся от наводнения».
Маловероятно, что на острове, ежегодно затопляемом невской водой, могли водиться зайцы. Зимой могли приходить по льду. Туда-сюда. Кора на деревьях… Осенью, да и весной тоже, никакой бы дед Мазай им тут не помог. Не было тут Дедов Мазаев.
Туда-сюда. Того не более.
И тем не менее — Заячий.
На кураже
Заячий — вроде как буквальный перевод с финского Яниссаари. Хотя и не все с этим согласны.
Шведы называли остров Веселым — Люст-хольм. Почему — неизвестно. Будто бы на нем устраивали пикники, но это самое простое объяснение. Опыт прежнего поселения на небольшом острове (пожалуй, единственный) для четырех (типа того) пионеров оказался фатальным — не перенесли зиму, хотя и это из области легенд, объясняющих в данном случае другое название: Тойфель-хольм — Чертов остров.
Однако — Веселый.
Весной 1703-го название Веселый как нельзя лучше отвечало настроению Петра.
Кажется, все его достижения тех дней случились на кураже — и взятие Ниеншанца едва ли не с ходу, и дерзкий абордаж двух шведских кораблей с лодок на веслах. На кураже — не сказать навеселе. Той весной пир следует за пиром.
«Был благодарный молебен и веселились по 3 дни» — это по овладении Ниеншанцем. Трехдневное веселье не мешало исследовательским прогулкам по Неве и ее протокам, — наверняка в одну из этих увеселительных экспедиций Петр и посетил Веселый остров — Люст-хольм. И был им пленен. Красота красотой, но и стратегическое значение не вызывало сомнений. Без всяких зайцев.
Возможность наводнений Петра, в отличие от здешних зайцев, волновала меньше всего.
Полагаю, весть о шведской эскадре, приблизившейся к устью Невы, не сильно омрачила веселье.
Скорее только усилила радость победителей: стало ясно, насколько своевременно взяли Ниеншанц. С шведских кораблей, бросивших якорь в Невской губе, конечно, была бы слышна ночная пальба, приплыви они двумя сутками раньше, и тогда бы «свейская» флотилия поступила бы, надо полагать, по обстоятельствам (хотя трудно представить как; похоже, у вице-адмирала Нумерса были проблемы как минимум с лоцманом). Как бы то ни было, шведам следовало бы поспешить с подмогой своему гарнизону, чтобы опередить появление у стен крепости русского войска; но ведь и Петр поторопился с походом — тронулись из Шлиссельбурга вслед за ладожским льдом.
Можно представить настроение Петра, только что переименовавшего Ниеншанц в Шлотбург («замóк-крепость»). Из пушек и ружей палят троекратно, комендант крепости преподносит фельдмаршалу Шереметеву ключи на тарелке, гарнизон покидает свою цитадель в соответствии с правилами почетной капитуляции: барабанная дробь, знамена, пули, должно быть, во рту (признак доблести, незамаранной чести — так, по крайней мере, было в Шлиссельбурге, так будет в Копорье) — все «по аккорду». А вот приплыли бы на взморье шведские корабли чуть раньше и услышали бы этот праздничный салют, ведь догадались бы, что неладное что-то случилось, но фортуна от шведов и здесь отвернулась — опоздали и были введены в заблуждение.
Петр не только перехитрил противника — он опередил его на несколько шагов. Дальнейшая хитрость уже походила на розыгрыш. Когда шведские корабли известили о своем появлении двумя пушечными выстрелами, со стен вновь нареченной крепости тоже нашли полезным два раза бабахнуть. Мол, здравствуйте, все хорошо. Сами ли догадались, или было кому подсказать, кто ж знает, но и потом — в режиме подачи успокоительного — двукратные залпы давали два раза на дню, утром и вечером. И это сработало.
Нет, Петру определенно в эти дни было весело.
А потом был бой на воде, почти морской, хотя и в устье реки, — вторая за эти дни победа над шведами. Два морских корабля, посланные на разведку, попали в засаду. А не надо им было бросать на ночь якорь в незнакомом месте. Неотвратимое настигло в виде двух партий по пятнадцать весельных лодок — одними командовал Меншиков, другими — «капитан бомбардирский», сам Петр. Атака началась по сигнальному выстрелу, примерно в полночь, когда со стороны залива появилась темная туча. Бой получился жестоким, быстрым, да еще и со зрителями. Последние могли наблюдать представление со своих кораблей, пятые сутки бессмысленно стоявших на рейде: какие-то лодки плывут, по ним пушки палят, абордаж, раз-два — и два корабля, восемнадцать в общей сложности пушек, безвозвратно потеряны: их угонят вверх по Неве — по направлению сильного ветра. Да еще непогода: дождь, сильный западный ветер, обращающий волны в обратную сторону (тот, кто жил в Петербурге до возведения дамбы, поймет); этот ветер просто стал вдувать корабли в Неву, когда подняли якоря. Ну и как после этого не полюбить Петру здешний климат, здешнюю непогоду?
Под Нарвой в 1700-м сильный западный ветер помогал шведам — русским бил снег в лицо, когда они шагах в тридцати только и заметили наступающих. Паника, бегство — но всего этого Петр не застал, он был на пути в Новгород…
(Автор увлекся. Был ли сильный ветер в ту ночь в устье Невы, есть большие сомнения, — да и дул он, кажется, в обратную сторону. Ночью ли это случилось? Похоже, мои сведения устарели. Согласно шведским источникам, не было никакой непогоды. Ну и как нам быть? Обреченность на мифотворчество удручает, но что же делать с фатальной нечеткостью, неопределенностью, размытостью границ мифа? Ничего не буду исправлять. Сие, в скобках, поздняя вставка.)
…А вот вице-адмирал Нумерс имел возможность видеть здешний спектакль в подзорную трубу; жуткое зрелище должно было напомнить ему, наверное, о внезапных нападениях диких племен на цивилизованных европейцев в других частях света. В эти минуты тучи над вице-адмиралом сгустились и в прямом, и в переносном смысле, а сильный дождь ему был холодным душем (хотя тогда душа еще не знали). В конечном итоге эскадра, потерявшая два корабля, отошла в море.
Потери были с обеих сторон; у шведов — значительные. Оба капитана погибли. В плен попали не многие. Штурман с «Астрильды», голландец по происхождению, залечив раны, внял призывам Петра и перешел на русскую службу. Позже Петр поручит ему составить карту Каспийского моря, которая в свой час изумит парижских академиков: они представляли Каспий другим. Этим географическим достижением Петр подтвердит свое избрание иностранным членом Парижской академии наук. А вот интересно, Carl von Werden, Карл Петрович Верден, если просто по-русски, когда он проплывал заболоченные острова дельты Волги, вспоминал ли дельту Невы с ее протоками и островами, где над низкими берегами, подобно неведомой богине, царит сама Непредсказуемость?
Спустя три столетия 18 мая, день победы в устье Невы (уже по новому стилю), объявили флотским праздником — днем рождения Балтийского флота. Счел бы сам Петр день 7 мая (по старому) таковым праздником — это вопрос, но той победой он, безусловно, гордился. Можно с уверенностью утверждать: в день захвата двух шведских кораблей он был не просто весел, но счастлив. Нападать с лодок на корабли, оснащенные пушками, — это, с иной точки зрения, авантюра, но все получилось, и он проявил отвагу, он лично был в деле. Известно: на вражеский борт он поторопился взобраться в числе первых — с гранатой в руке; как ею распорядился, сведений нет, но у нас достаточно воображения представить выпученные глаза и дикий рык, прорезающий общий шум боя.
Кавалеры
Это действительно была личная победа Петра, для него персонально она означала многое.
Поражение под Нарвой в ноябре 1700-го, по сути, оказалось разгромом. Приятного, разумеется, для русского царя в том было мало, это понятно. Но в глазах Европы Петр, кроме всего, очутился в двусмысленной ситуации. В глазах Европы триумф юного Карла XII показался особенно ярким на фоне не вполне очевидных действий Петра. Так получилось, что царь покинул армию за день до того, как шведское войско, стремительно подошедшее к осажденной крепости, практически с ходу атаковало позиции русских. Отбывая в Новгород, Петр забрал не только своего фаворита Меншикова, но и Головина, фельдмаршала. Отечественные историки отъезд Петра из лагеря накануне сражения объясняют сочувственно, с пониманием (недостаточно сведений о намерениях противника, срочность надлежащих предприятий, расчет на ускорение ожидаемых подкреплений…), все так, но вот беда какая. Карл, потеряв лошадь и высокий сапог (где-то в болоте), так с одним сапогом и водил в атаку солдат, а «в честь» Петра выпустили в скором времени медаль не то в Ганновере, не то еще где-то (из разряда сатирических, неофициальных): некий человек, теряя царскую шапку и сломанный меч, бежит с поля боя (иные тоже спасаются), а он еще платком глаза вытирает. Чтобы ни у кого не возникало сомнений, как зовут беглеца, надпись FUGIENS PLORANT AMARE («Убегая, горько плакал») отсылает к соответствующему стиху Евангелия от Луки, — только апостол Петр, в известный час уцелевший ценой предательства (и тут еще та язва), не убегал, однако, а уходил. «Et egressus foras Petrus flevit amare». «И изшед вон, плакася горько». Без бегства.
Поражения бывают у всех. Карла XII ждет Полтава. Один Суворов не будет проигрывать.
Дело в другом.
Осадок остался, сказали б сегодня.
Но все — теперь никакого осадка.
И это личный праздник Петра — 10 мая он стал кавалером ордена Святого Апостола Андрея Первозванного, шестым по счету.
Не за взятие двух крепостей, а «за взятие неприятельских двух кораблей», и не как «Государь», а просто как «Капитан Бомбардирский» — «за тот над неприятелем одержанный авантаж», в котором участвовал сам, рискуя жизнью, как все.
Полагаю, в походной церкви было все чинно тогда и строго, все по закону, хотя и неписаному (официальный устав ордена появится не скоро еще).
Вот:
«После отдания благодарения Богу».
Это да. Здесь вам не Всешутейший всепьянейший и сумасброднейший собор с его глумленьями над церковной обрядностью. Тут все по чести.
«Тот орден положил на Него Г. Капитана, Великий Адмирал и Канцлер Граф Головин, яко первый того ордена кавалер».
Всяк пишущий об этом событии не удерживается, чтобы не упомянуть (да вот и мы тоже!) по счету второго кавалера ордена Андрея Первозванного — Мазепу. До его измены еще пять лет, через шесть предадут анафеме, а пока о здравии раба Божия Ивана, как и других православных кавалеров, будут читать в походной церкви молебен.
А это седьмой:
«За ту же службу таковым же образом и Генерал Губернатор Александр Данилович Меншиков учинен кавалером реченного ордена».
Все это, впрочем, не отменяет «веселия».
Даже напротив — предполагает.
Был или не был?
Я знал с детства, что непосредственная закладка крепости, давшей название городу и позже названной Петропавловской, произошла в отсутствие Петра I. Будто бы неотложные дела заставили его, завоевателя Ниеншанца, отбыть в иные края. Да, вот читаю в книге, изданной в год моего рождения: «Вопреки распространенной версии закладка крепости производилась не Петром (он в этот день был в районе Лодейного Поля, названного так в связи с постройкой корабельной верфи), а его „другом сердешным“ А. Д. Меншиковым».
Меншиковым так Меншиковым. Главное, крепость была заложена, а стало быть, и город с ней вместе, а то, что Петр отсутствовал на столь важном мероприятии, — это ничего, это он по уважительной причине — красоте истории его отсутствие ничуть не вредит.
Можно даже было ощутить что-то парадоксально выразительное в том, что «град Петра» в организационном плане заложили без физического участия самого Петра, — то ли город сам заложился, то ли в этот день в этом деле Петр все же участвовал, но — если угодно — ментально.
Однако если без намеков на мистику (предыдущий абзац) — выразительность-то в другом. В том, что знание якобы настоящего порядка вещей (не было Петра на закладке), лишая «распространенную версию» (был) изюминки (вот вам: ведь не был), в очередной раз демонстрирует всю ущербность обыденного сознания (которому хочется, чтобы был, был непременно).
По существу, есть ли действительно разница — был Петр тогда на Заячьем острове, не было ли тогда Петра?
Чем-то отдаленно напоминает ситуацию с Шекспиром. Он или другой (или другие) — так ли важно, кто написал пьесы Шекспира? — они все равно есть — бери и читай.
Хотя сравнение с Шекспиром, признаюсь, притянуто за уши. Приверженцы альтернативной концепции вообще не признают за драматурга исторического Шекспира, тогда как историческое значение Петра — и в основании Петербурга, в частности, — кажется, никто не отрицает. Хотя нет, почему же? Авторы «новой хронологии» сразу приходят на ум. Петр у них действительно самозванец (подменили в Европе), а Шекспир, если заговорили о нем, он хоть и Шекспир, но писал о современниках — о короле Лире, например, который не кто иной, как Иван Грозный и Василий Блаженный в одном лице.
Но мы все-таки о традиционных историках. Главный их довод за то, что тогда не было Петра на закладке крепости, — в анонимных дневниках «Юрнал 1703 года», где сказано, что 11 мая «капитан пошел в Шлютенбурх сухим путем», то есть покинул Шлотбург (экс-Ниеншанц).
Итак.
По господствующему убеждению — Петра 16 мая на Заячьем острове не было.
Господствующее убеждение поколебал А. М. Шарымов — в книге исследований «Предыстория Санкт-Петербурга. 1703 год», вышедшей, увы, только после смерти автора.
Один из разделов книги Шарымова так и называется: «Был ли Петр I основателем Санкт-Петербурга». Сей лапидарный и провокативный вопрос в развернутом виде исследователь формулирует, хотя и утяжелив в ущерб изящности жирным курсивом и с обилием скобок, но зато с беспощадной юридической точностью, отрицающей любую двусмысленность: «Был ли Петр I (а он, как следует из показания „Юрнала“, 11 мая уехал из дельты Невы к ее устью) основателем Санкт-Петербурга (который заложен был 16 мая, то есть, получается, что — в отсутствие уехавшего царя?)?»
Не буду пересказывать многостраничное, на редкость дотошное расследование Шарымова, оно в самом деле похоже на детективное. Определены приоритетные версии, привлечены всевозможные свидетельства (отнюдь не очевидные), изучены мотивы поступков фигурантов дела, рассмотрено алиби. Под «алиби», прочитав Шарымова, я понимаю пребывание Петра в день 16 июня 1703 года будто бы за много верст от Заячьего острова, на котором в тот день отмечался праздник Пятидесятницы закладкой крепости. Так и хочется переформулировать еще раз главный вопрос: «Виновен ли Петр I в основании Петербурга посредством закладки Петропавловской крепости, или его алиби следует считать состоятельным?»
Так вот, изучив с дотошной обстоятельностью этот непростой вопрос, Шарымов оставляет нас один на один с материалом, внушающим ну очень большие сомнения в алиби подсудимого; и будь я один из присяжных заседателей, я бы (как, наверное, и другие) сказал:
— Виновен!
Обыденное сознание в этом конкретном случае (был) оказывается убедительнее мнения прежних знатоков (не был), а сам миф похож на правду куда больше, чем представления о правде его ниспровергателей.
О птицах
Когда мои родители ушли на пенсию, они покинули Ленинград (вот еще тема — «покинуть Ленинград», «уехать из этого города») и поселились в деревне на Псковщине. В огороде за сараем росла липа. Как-то раз, выйдя из дому, отец увидел на липе ворона, которого атаковал ястреб. Отец попытался отогнать ястреба криком — не получилось, тогда отец схватил палку, которой подпирали дверь на крыльце, и стал ею как бы целиться, словно это было ружье, — подействовало; ястреб немедленно улетел. Спасенный же ворон еще долго не осмеливался взлететь, и это позволяло отцу с ним «разговаривать». Через год отец восхищенно рассказывал о возвращении ворона: он прилетал снова, чтобы с того же самого места поблагодарить своего спасителя. И через год ворон снова навестил отца. И на третий год — тоже. Потом перестал прилетать, и отец, помню, сказал: «Наверное, что-нибудь с ним случилось». Мама утверждает, что ворон прилетал и потом, последний раз — после смерти отца, но если даже так, она не может знать, было ли это последний раз, потому что после смерти отца мама снова живет в городе, с нами.
Мне бы эта история показалось чересчур литературной, если бы я не знал, что все так и было на самом деле — по крайней мере, в части спасения и возвращений ворона. Мифотворчество начинается с оценки числа этих возвращений. По-моему, это длилось три года, мама утверждает — гораздо больше.
Но так ли я сильно уверен во всем остальном? Я рассказываю эту историю через двадцать лет после события, которого сам не видел, но о котором слышал многократно, — нападения на ворона ястреба. Я сказал «помню» о словах отца, но настолько ли я хорошо их помню, чтобы не заключать в кавычки? И потом — ворон; для меня нет сомнений в том, что был то именно ворон, и все же… почему ворон — один?.. и вообще — как это могло быть?
Только что спросил дочь, помнит ли она историю с вороном (текст в этом месте уподобляется протоколу — дом на Карповке, кухня бывшей коммунальной квартиры; дочь моя кормит с ложечки моего внука). Да, кажется, помнит. Ей кажется, дед говорил (мой отец), что ворон сел на березу — ту, что растет у крыльца.
Точно! Растет у крыльца! Там толстый сук резко подает в сторону, на нем веревочные качели (мой отец повесил для внуков). Вот на него и сел ворон, спасаясь от ястреба, я так и вижу картинку. Сел на сук, ближе к стволу, а рядом барражирует ястреб. Ну, конечно, не на липу за сараем, а на березу у крыльца — ближе к человеку.
Тут и вышел отец на крыльцо.
А вот это уже интересно. Что мне дочь говорит. Есть документ. Событие-то, оказывается, зафиксировано письменно. Когда мои дети отдыхали в деревне (младшему четыре, старшей шесть), дед, преследуя общеобразовательные цели, завел тетрадь для внуков — что-то среднее между самодельным букварем и дневником с картинками. Дочь вспоминает, что дедушка Толя нарисовал то дерево с вороном и ястреба, от которого он однажды ворона спас. И сделал запись для детей — большими буквами: как это было.
Я помню тетрадь. Она наверняка сохранилась. Наверняка лежит в бумагах (у меня много неразобранных бумаг), но сейчас мне ее не найти.
Сказал маме о березе. Думал, что засомневается. А вот и нет. Она тверда: липа за сараем, она хорошо помнит. Маме 87, и это было у нее на глазах. Вот как? Была, значит, свидетелем? Я не знал. Мне казалось, она знает это со слов деда. Нет, вышла вместе с дедом из дому тогда. А ворон сидел на вершине липы.
Зачем я все это говорю?
Мне кажется, наша семейная история с вороном имеет отношение к основанию Петербурга.
Точнее — к вопросу о достоверности эпизода с орлом, явленным Петру I и его сподвижникам на Заячьем острове 16 мая 1703 года.
Иными словами — к предвещанию великого будущего Санкт-Петербурга.
Будто бы дело обстояло так. Петр I, посетив Заячий остров и пожелав построить здесь крепость, обозначил штыком на земле место будущих ворот. Он велел срубить две длинные, но тонкие березы, переплести их вершины и вкопать дугой оба ствола в землю. Когда березовая арка была установлена, с неба спустился орел и сел на нее. Такое вот чудо.
Эта история, обозначаемая в гайдбуках как предание, восходит между тем к письменному источнику — анонимной рукописи XVIII века, хранящейся в РНБ. Сколь бы ни казался фантастическим эпизод с орлом, сама рукопись претендует на свидетельство истинных событий, связанных с основанием города, и действительно, при всех неточностях и злоупотреблениях красотами стиля некоторые сведения, там приводимые, кажется, не вызывают сомнений (дата построения Домика Петра I, например). Но в целом текст этот имеет репутацию сказки.
Отчасти она (репутация сказки) пошатнулась с выходом книги А. М. Шарымова «Предыстория Санкт-Петербурга».
Да, все, что я узнал тогда об этой рукописи, — из его книги. Кажется, он первый и единственный (а может быть, и последний), кто отнесся с доверием к этому тексту в целом. В книге Шарымова — публикация текста этой рукописи в «извлечениях» — исследователь не только основательно изучил текст, но и попытался освободить его от художественных излишеств, по-видимому, позднего интерпретатора, чтобы пробиться к исходному рассказу гипотетического свидетеля событий. Под таковым исследователь понимает некоего ефрейтора Одинцова, третьего (вслед за Петром и Меншиковым) и последнего прямо поименованного в рукописи участника закладки крепости. Его участие заключалось в том, что он будто бы снял того орла с березовых ворот и передал Петру (Петр же — деталь! — перевязал орлу ноги платком и, предварительно — другая подробность! — надев перчатку, «изволил посадить у себя на руку» смиренную птицу и «повелел петь литию»).
В этой истории, кажущейся (практически всем) фантастической, Шарымов как раз обратил внимание на детализацию, на подробности. Деталь — маркер достоверности. Деталь — то, что заставляет поверить.
И вот самое главное — орел был ручным! Его приучили шведы еще.
«Выгружались по берегам реки Невы маштовые и брусовые королевские леса и караульными салдаты тех лесов оной орел приучен был к рукам».
Но ведь это многое объясняет. Событие сразу же перестает казаться сверхъестественным.
Орел перестает быть мнимостью, обретает не только плоть, но и «биографию» и даже судьбу, и сообщаемое далее об орле выглядит вполне реалистичным. Мы узнаём из рукописи, что орел проживет еще не менее четырех лет, будет зимовать «во дворце», то есть непосредственно в Домике Петра I, и наконец переселится на остров Котлин, где «от Его Царского Величества» ему будет присвоено в крепости «комендантское звание». Последнее вполне в стиле Петра, но, впрочем, дело не в царском капризе: «ради того, конечно, — объясняет Шарымов сие диковинное назначение, — чтобы обеспечить птицу достаточным прокормом».
Нет, такие подробности действительно убеждают. Охотно верю, что был орел. И что сел он на те березовые ворота. Возможно, ефрейтор Одинцов сделал ему, парящему в небе, знак рукой, как-нибудь приманил. Может быть, зайца живого орлу показали (что-то мы давно не вспоминали зайцев): лети, дескать, к нам, орел, будь с нами. А что в том зазорного, если его приманили? Если не сам? Сам — не сам, большая ли разница? — как ни взгляните, но это страшно эффектно: «орел опустясь от высоты» садится на только что установленные ворота.
Всеобщий восторг!
И кто скажет, что это не предзнаменование?
Даже если этого орла видели каждый день парящим в небе; даже если он был здешней достопримечательностью.
И не так важно, где он жил — в лесу ли на Заячьем острове (как говорится в рукописи) или в самом гарнизоне. Больше скажу: не так важно, была ли вообще эта птица орлом; могла быть и ястребом, и вороном. Главное, птица с неба спустилась — в нужное место, в нужное время, и чем это не событие, достойное памяти?
Может быть, этим в день 16 мая закладка крепости и ограничилась, — описание торжеств, будто бы вспомненных через годы, вызывает куда больше вопросов, чем случай с орлом. Если выбирать между орлом и, скажем, салютом из пушек, обязанным его напугать, я больше верю в случай орла. Я бы даже поверил, что не было никаких особых торжеств, а были только ворота из двух сплетенных берез и солдатская радость по случаю появления птицы.
И кто знает, может быть, приплывшие в тот день на Заячий остров только с появлением пернатого гостя действительно осознали, что установка ими игрушечных ворот из березок — на самом деле большое событие: потому как нельзя пренебрегать предзнаменованиями.
А может быть, наоборот: «здесь будет город заложен» (ну не город еще, а крепость), и тому, что изначально переживается как событие, должна отвечать какая-нибудь необыкновенность — птица ли прилетит, сойдутся ли облака особым образом, переменит ли ветер направление трижды, а то, может быть, сон приснится царю. Мало ли что. Обязательно будет замечен знак. В данном случае — орел прилетел. Было бы другое, мы знали бы о другом. Но тут — орел. Отчего же не верить в орла?
И потом еще ворон — тот самый, из нашей семейной истории, он тоже меня заставляет поверить в реальность орла.
Есть ощущение, что эти истории птичьи что-то соединяет.
Если бы мне рассказали про то, как человек спас ворона от ястреба и ворон стал прилетать к человеку… ну и так далее (о чем я сам чуть раньше рассказывал)… то, наверное, не поверил бы, сказал бы: ну-ну. Литература. Кино.
Механизм недоверия тот же, что и в случае с прилетом орла на березовые ворота.
Между тем я ведь точно знаю, что с отцом произошло что-то такое.
Вижу, как размывается истина в мифе, но ведь я же знаю, что она никуда не пропала, и ощущаю ее присутствие.
Липа за сараем, береза перед крыльцом — не это главное.
Ворон был. И было с вороном нечто. Нечто главное.
Вот и с орлом.
Неправда ваша
Хорошо, если бы так. Хорошо в том отношении, что мне это нравится.
Но есть кое-что, настроение портящее.
Тут я должен упомянуть об изысканиях историка П. А. Кротова.
Рукописью, о которой шла выше речь, он занимался предметно — после Шарымова.
У Кротова репутация ниспровергателя мифов. Он полагает, что и здесь докопался до истины. В своей книге «Основание Санкт-Петербурга: Загадки старинной рукописи» он пытается меня убедить, что автора этой рукописи определил точно — то П. Н. Крёкшин, сочинитель, которому доверия нет. Что рукопись эта от начала до конца художественный текст и что нет в нем никаких признаков исторического документа. Говорю «пытается меня убедить», потому как я готов признать, что других он вполне убеждает. Но отчего-то все во мне сопротивляется верить в разгадки всех «загадок». Да, это, если угодно, вопрос веры. И дело не в убедительности аргументов, с которыми не хочу разбираться даже, дело, да, лично во мне — неужели вы думаете, я откажусь от орла и ворона и, главное, от того зыбкого ощущения, будто что-то сам угадал?
Был бы жив Шарымов, мне кажется, он бы возражал Кротову, он бы рогом уперся, но не позволил бы свести источник исключительно к мистификации, литературному курьезу. Нет, я не говорю: сколько историков, столько мнений, — но давно у меня подозрение, что иной «аргумент» для историка вроде волшебной палочки для факира. Вот не было, а теперь есть: в руках возникла улика — следите за пальцами — «марабус, карабус, тарабус…» — и мы уже в другой реальности, — во всяком случае, наше прошлое, как ее часть, он уже переформатировал… Крёкшин, не Крёкшин?! Хотите, я докажу, что автор этой рукописи — мой любимый Козьма Прутков? Или нет, лучше — дед его Федот Кузьмич, автор «Гисторических материалов» и, между прочим, Крёкшина современник. Да запросто! Даже поверхностный текстологический анализ обоих сочинений выдает одну руку… Федот Кузьмич Прутков!.. А вы говорите!.. Крёкшин… Петр, который Никифорович…
Вспомнил стихи из поэмы Геннадия Григорьева «Доска» — бальзам на душу. Это где Григорьев-поэт посещает место дуэли Пушкина за Черной речкой и узнает, что дуэль была не совсем там, где принято считать, а чуть в стороне — на территории секретного завода, «где делают детали для ракет, а также сковородки и кастрюли». Вот:
Да пусть хоть нотариально заверенным документом подтвердится авторство Крёкшина — с непременным его признанием, что все выдумал; да пусть хоть сама тень Крёкшина единовременно явится всем российским историкам и клятвенно подтвердит, что не восходит текст злополучной рукописи ни к каким историческим свидетельствам — мне-то какое горе до этого, когда я уже увидел мысленным взором и ворона отцовского, и того орла?
И это по-петербургски. (Подумал я на трезвую голову.)
Любо прислушиваться к силе внутреннего сопротивления веским доводам «дворника заводского».
Но почему любо? Любо-то почему?
Задумался о природе внутреннего сопротивления. Не в нем ли сила того, что называют «петербургским мифом»? Не в том ли она внезапном упрямстве цепляться за что-то, увиденное по-своему — без «аргументов»? Говорили, «петербургский миф» иссяк, ушел еще с тем Петербургом. А куда ему деться, если мы сами живем в таком мифогенном пространстве?
Зайцы что? Я не о них. Ну этих зайцев! И все эти анекдоты, изобретаемые на ходу в помощь экскурсоводам. Потешный культ Василия, увековеченного на 7-й линии В. О., — нет, Василий Корчмин, сподвижник Петра, безусловно, достоин памяти, но отнюдь не как «герой легенды о возникновении названия „Васильевский остров“» (надпись на постаменте) — притом что название острова уже в XV веке было известно… Все эти части бронзовых тел, которые надо непременно потрогать, — пяточку на барельефе, палец у городской скульптуры, — дабы надежды сбылись… Да ну это все!.. Не о том.
Но бывает, внутри тебя щёлк! — внутри тебя тюк! — и вдруг будто сам что-то понял, почувствовал и поверил, что понял — и что чувствуешь верно. И этим знанием дорожишь. Потому что — твое.
И оно готово «сопротивляться».
Петербургский миф, он в нас — в каждом. Там, где каким-то боком это касается лично тебя. Даже если не отдаешь себе в этом отчета.
Перевернутый

Вниз головой
Смотреть на мир чужими глазами. Литературный ли это только прием или вообще свойство конкретных мозгов, не знаю, но мне это свойственно. Стал перебирать претендентов на особый взгляд (исторический персонаж, представитель фауны, памятник), и вспомнил я (речь ведь идет о Петровской эпохе) о барельефе на Петровских воротах — «Низвержение Симона волхва апостолом Петром».
Петровские ворота те самые — главные ворота Петропавловской крепости. Сначала были исполнены в дереве (1708), позже — в камне (1718) — и то и другое по проекту Доменико Трезини. Упомянутый барельеф, между прочим деревянный (мастер по дереву Г.-К. Оснер), перенесен был с первых ворот на вторые, и вот уже четвертое столетие злосчастный Симон волхв висит вниз головой над аркой, словно зацепился деревянными ногами за деревянную тучу. Нет, не зацепился, горе ему — это падение.
А не надо было незримых бесов просить вознести его на небеса, чтобы этим фокусом унизить апостола Петра, просвещающего народы и способного творить настоящие чудеса силою веры.
Незримые бесы, напуганные молитвой Петра, бросили волхва, став зримыми, в буквальном смысле кинули — шарахнулись в тучах от него в разные стороны, потому что слово Петра сильнее чар дерзкого мага. И крылья волхву теперь не помогут. Крылья есть, но не для полета. А для обмана. Крылья есть, но сам падает. Падает вниз головой.
Люди внизу предаются волнению. Петр стоит среди них. Если бы не одежды на нем римского воина и вид триумфатора, трудно было бы догадаться, что это он, а не кто-то другой распугал бесов над головами собравшихся.
Таков сюжет.
Вспомнил я об этом падении вниз головой, не имея, однако, перед глазами картинки, и сразу представил, каким должен мир видеться падающему вниз головой Симону.
А видеться ему — в этот вечный, непреходящий миг падения — должен весь мир не иначе как в перевернутом виде.
Для литератора, склонного смотреть на вещи чужими глазами, такой объект как субъект, согласитесь, находка. У кого еще можно позаимствовать столь необычный взгляд, когда верх — это низ, а низ — это верх и при этом есть на что посмотреть — не просто перед глазами стена, но кипучая жизнь на подмостках истории?
О подмостках речь впереди, а сейчас о стене два слова.
Она не загораживает. До нее метров сто. Речь идет о стене Иоанновского равелина с одноименными воротами, чуть отнесенными влево от направления взгляда волхва, низвергнутого с небес. Барельеф на фронтоне аттика Петровских ворот расположен высоко над землей, так что не надо за Симона переживать, видит он далеко, стена ему не помеха. В петровские времена, когда Иоанновский равелин был еще древо-земляным (впрочем, как и вся крепость), не мог он тем более притязать на ограничение кругозора низвергнутого кудесника. Каменные стены, скорее для солидности, чем для обороны, стали возводиться уже после Петра — в 1731-м.
Да и вообще Петровские ворота — единственное сооружение в крепости, которое с петровских времен сохранилось в почти нетронутом виде. Обстоятельство, подтверждающее значение нашего выбора: Симон как субъект восприятия — это нечто вообще уникальное.
В самом деле, первый в городе памятник (а Петровские ворота по-всякому памятник), воздвигнутый задолго до Медного всадника, сохранился вполне, и даже в его наиболее уязвимой части — деревянном барельефе (респект реставраторам), тогда как исчезло множество монументов поздних эпох; в одном только XX веке счет потерь на сотни идет (на одну-две, без преувеличения). Бронзовые конные статуи пошли в переплавку, гранитные кумиры не уцелели, а деревянный барельеф по нашим масштабам допотопных времен (кажется, каламбур? — главные наводнения действительно впереди) словно вызов бросает — всему — времени, климату, смене общественных настроений. Кстати, да: корону с двуглавого орла, украшающего эти ворота, в свое время скинули, но на волхва и с небес его низвергающего апостола покушений не было.
Надо бы добавить, что эти ворота часто называют триумфальными. Действительно, они построены по образцу триумфальных ворот, воздвигнутых тем же Трезини в Нарве, — это когда Петр в 1704 году, через четыре года после жуткого поражения от Карла XII, наконец овладел городом. О нарвском триумфе (иначе — реванше) и должен был напоминать весь облик главных ворот новой крепости на Неве. А шире — это памятник вообще русским победам в Северной войне, о чем, собственно, и сообщает нам барельеф с низвержением возгордившегося неудачника.
Ибо этот гордец, падающий вниз головой, символизирует вполне определенную личность — Карла XII.
Правда, шведский король не носил бороды, а этот тип еще как бородат, но ведь и Петр здесь ростом не вышел, а какого Петра этот Петр символизирует, у нас, кажется, сомнений нет.
Может быть, потому Симон–Карл здесь бородат, что реальный наш Петр не любил бороды?
Вот и на барельефе Петр без бороды, хотя в иных случаях апостол Петр всегда с бородой (и без лат, разумеется, — он же из рыбаков).
В свое время (1890) Ю. Б. Иверсен, большой знаток медальерного искусства, опубликовал в «Историческом вестнике» статью о так называемых сатирических медалях. Были, оказывается, и такие, памятные. Речь шла о медалях на Северную войну, выбитых не то в Швеции, не то еще где-то (происхождение точно не установлено), в осмеяние противников Карла XII, в частности лично Петра I, с треском проигравшего первую битву под Нарвой (1700). Правда, изготовлялись эти медали частными лицами неофициально, без правительственного дозволения, но вполне в духе, надо полагать, настроений молодого шведского короля. Иверсен описывает несколько образцов и приводит изображения. На одном показан подлетевший к солнцу Икар; воск больше не скрепляет крылья, и голый бедолага падает, как полагается, вниз, теряя перья. Дата «1700» не оставляет сомнений, кто сей герой. Царь московитов, кроме того, представлен на оборотной стороне медали: здесь он убегает с поля боя, вытирая платком глаза и теряя на ходу царскую шапку и меч. Падение худотелого Икара сопровождено комментарием: MAGNIS EXCIDIT AVSIS («Отчаянное предприятие не удалось»). Не знаю, добралась ли эта медаль до Петра (ведь попала же она в собрание Императорского Эрмитажа, где в минц-кабинете старшим хранителем как раз был Иверсен). Скорее всего, до Петра дошел слух об этом изделии — как своеобразный отклик на историческое событие; русского царя, конечно, интересовало, что думают о нем в Европе, особенно после того тяжелого поражения под Нарвой. А если так, то Симон волхв — не ответ ли это? Нет ли здесь, как бы это, дискуссии? Оба они, Икар–Петр и Симон–Карл, падают с высоты и все-таки по отношению друг к другу, обратим-ка внимание, выглядят не одинаково. Икар на медали, пожалуй, в более выгодном положении. И дело не в том, у кого голова ниже, а в том, что Икар все же на небо взлетел сам, напрягая мускулы, а Симон, хотя и наделен на барельефе какими-то перепончатыми крыльями, совершенно бесполезными, на небо вознесся при помощи бесов. Но возможно, царь Петр ничего не знал о существовании этой маловажной медали, тогда нам стоило бы изумиться тому, как работала мысль у разных сторон в одном направлении.
Так вот, Симон, значит, низвержен. Каково ему, перевернутому?
Мне сейчас об этом легко говорить, у меня сейчас перед глазами изображение. А когда я недавно вспомнил этот сюжет и мысленно представил падающего вверх тормашками Симона–Карла и когда обрадовался я формальной возможности увидеть его глазами все в перевернутом виде, не было у меня тогда перед собою картинки. И память меня подвела.
Не мог этот Симон–Карл видеть все в перевернутом виде.
Достаточно взглянуть на него в натуре, и все станет ясно.
Несчастный волхв действительно падает вверх ногами, головой вниз и лицом к нам, но как-то не совсем по-человечески. Он, оказывается, к нам еще и спиной обращен (я по памяти воображал, что животом), при этом голова у него, как видно, закинута на спину, да так сильно, что он, должно быть, в спину уперся затылком. При таком положении головы лицо у него ориентировано в пространстве так же, как у тех, кто стоит на земле, — то есть подбородком вниз. И никаких перевертышей.
Ну вот зачем ему скульптор так странно, так неестественно вывернул шею: вниз головой падает, а голова — словно он и не падает вовсе?
Обидно. А я уже напридумывал, как показать события с позиции «от противного» или когда все представляется «наоборот». Ситуацию придумал, когда «мир перевернулся» — именно для Карла XII, деревянного, в перевернутом состоянии смотрящего на Троицкую площадь, с которой начинает застраиваться Петербург. «Назло надменному соседу». Но вверх тормашками.
Других падающих вниз головой у меня для вас нет.
Раздосадованный автор отказывается от приема.
Поразмыслив, однако, стал я думать, что грех обижаться на Г.-К. Оснера за то, что вывернул голову низвергаемому. Нет здесь, похоже, случайности — есть тут, похоже, замысел. Не для того падает этот Симон–Карл бородою вниз, а темечком кверху, чтобы таких, как я, обмануть в ожиданиях, а для того, чтобы сообщить идею.
Он сейчас видит реальность в том же ракурсе, что и все остальные (не перевернуто). Только они, двадцать человек очевидцев, включая Петра, на земле стоят, и твердо стоят, а он вниз головой падает, но видит так же.
Насчет ракурса уточним. Вообще-то, на земле твердо стоящие иные персонажи композиции этой кто куда глядят. Некоторые даже глаза закрыли, не в силах выдержать такое зрелище. Кто-то по той же причине отвернулся от низвергаемого и смотрит куда-то в сторону. Кто-то глядит на него, пораженный. Иные смотрят на нас как бы. Среди них сам Петр. Но его задача — не на нас глядеть (что он здесь не видел?), а нам показывать. Он правой рукой указует на камни, составляющие фундамент собора Петра и Павла, окруженного крепостной стеной: вот где настоящая твердь. Так или иначе, все зрители, изображенные на барельефе, кто бы куда ни глядел, поглощены одним событием, — его же виновник, летя вверх ногами, видит мир в целом.
Для Симона–Карла это момент истины.
Правильно: не в перевернутом виде явлен ему сейчас мир, а в самом что ни на есть настоящем.
Ему словно сказали: «Смотри!»
Оттого и повернута так голова. Чтобы все правильно видел.
Это раньше все виделось ему не так, это раньше ему виделось перевернуто, только нет у него теперь никакого «раньше».
Остальные, кто бы куда ни глядел, глядят не сюда.
А он — прямо сюда.
И сюда — прямо.
Низвергаемый соглядатай
Вверх тормашками падающий, но голову прямо держащий, будто на ногах твердо стоящий, что же он видит, Карл волхв?
А то и видит, что ему показывают.
Что-то строится. Чем-то торгуют. Что-то празднуют. Кого-то казнят.
Все события — перед глазами, на обширной площади, первой в городе, за первым городским мостом, тогда Петровским — на большом острове, который все реже называют Березовым, но чаще Городовым, Городским островом в силу того, что именно здесь рождается Город. А потом остров назовут Петербургским. А потом, не скоро — Петроградским, согласно метаморфозе Петербург — Петроград, связанной с началом Первой мировой. Петроград, как известно, станет Ленинградом, который в конечном (в конечном ли?) итоге снова станет Санкт-Петербургом, но это все уже никак не отразится на названии острова, что я, уроженец Ленинграда, ныне на данном острове проживающий, торжественно удостоверяю: он — да, Петроградский. И станция метро в десяти минутах от нашего дома — «Петроградская». Но есть еще остров Петровский. Прошу не путать.
А Ленинградская — это область. То есть область Петербурга, но без самого Петербурга, она на данный момент — Ленинградская. Как будет дальше, кто ж знает? Но мы, кажется, отвлекаемся.
Так вот, все события — перед глазами, на обширной площади, первой в городе.
Город, если в это можно поверить низвергнутому с небес, откуда-то взялся и стал получаться — быстро меняется, растет, утверждается, лишая стороннего недоброжелателя всякой надежды оказаться всего лишь сновидцем. Нет, не сон. Все реально. Все предельно конкретно.
Впереди, на открытой местности, прямо перед глазами низвергнутого ютится домик русского царя-соперника; он с таким расчетом поставлен, чтобы Петр-царь прямо из окна мог смотреть, как строится крепость. А сказать фигурально — как низвергается Карл волхв. Если бы не изрядное расстояние, поболее, чем в пушечный выстрел, оба могли бы играть в гляделки. Теоретически.
Конечно, в гляделки низвергнутый Симон–Карл практически переиграет любого, и все же любой, кто подходит к Петровским воротам, волен поднять глаза на крылатого мутанта, падающего вниз головой, остановиться и осознать несравненную выгоду своего положения: ноги стоят на земле и под подошвами твердь.
А он, падающий, руки тянет к земле, как будто просит помощи у того, кто глядит на него, но глаза его широко открыты на весь мир перед ним, так что ну его с этим взглядом, лучше дальше пройти.
Придет еще в голову, что все представление под названием «Возникновение Петербурга» специально устроено для него.
А то! Скосить ему вправо глаза (даром что не повернуть голову), и за вершинами невысоких сосен, что растут на песке на том берегу, взгляд Карла, дважды перечеркнув Неву, делающую крутой изгиб, различит с высоты низвержения нечто похожее на зуб-отломок — это развалины Ниеншанца. Памятник легкомыслию шведских королей — отчасти самого Карла XII, но в большей мере его отца и деда, своевременно не озаботившихся подобающими укреплениями. Русская пословица «Гром не грянет, мужик не перекрестится» в невских событиях больше отвечала беззаботности шведов. По-настоящему они забеспокоились лишь осенью 1702-го, когда потеряли Нотебург (бывший Орешек, или Шлиссельбург по петровскому переименованию), тогда и сожгли в спешном порядке свой город Ниен подле крепости Ниеншанц: еще надеялись ее удержать, а в интересах обороны пространство перед крепостью должно быть голым.
Деревянные здания молодого Санктпитербурха, определившие вид первой городской площади, могла бы ждать та же судьба, когда бы узнали о приближении неприятеля. Впрочем, после Полтавы это стало маловероятным в среднесрочной, как говорят сейчас, перспективе. Пожары были, но не Марс их виновник.
Например.
Сгорел первый Гостиный Двор в 1710-м, пожар был такой, что пострадали корабли на причале. Так что Симон–Карл низвергнутый видел, как новый Гостиный Двор строили пленные шведы. Через восемь лет горело здание Коллегий. Свято-Троицкой церкви особенно не везло, но это уже на протяжении более двух веков: прежде чем ее окончательно снесли в 1933-м, она дважды горела (1750, 1913), разрушалась наводнением (1825), несколько раз перестраивалась, — по сути, это были разные здания, всегда деревянные — восстановленные приблизительно по образцу первоначального храма. Не хочу сказать, что низвергнутый Карл волхв испепелял дерево взглядом, но построена церковь была — в память взятия Выборга, через год после Полтавы; только это ведь как для кого, — для низвергнутого — в память потери.
А еще, говорят, шведский колокол был на ней установлен, трофей из города Або. На глазах низвергнутого символического короля.
Ну, тут без обид. Ничего особенного. Карл XII сам в 1701 году повелел три трофейных колокола, захваченные десантом контр-адмирала Нумерса где-то на Ладоге, передать шведской кирхе в Карлскруне.
Не закрыть глаза на шведскую тему.
А церковь потому Троицкая (Свято-Троицкая), что основан был город на Троицу. Церкви нет, но есть название площади: Троицкая — церковь дала. А мосту через Неву, воздвигнутому в начале XX века, дала уже имя сама площадь: Троицкий мост.
Сейчас она, при всех ее размерах, не столь просторна, как в петровские времена. На месте церкви — аккурат где была алтарная часть — дом с массивными колоннами, образец сталинского неоклассицизма (без архитектурных, правда, излишеств), и это теперь дальняя граница современной площади. Да и сама теперешняя Троицкая не очень на площадь похожа. Сегодня это, пожалуй, регулярный сквер-сад.
В конце мая, когда отмечают День города, она тонет в благоухании сирени. Помню ее, какой была в годы моего детства: да такой же почти, но только был богатый на ней цветник, роз особенно много, и память мне до недавнего времени рисовала (похоже, меня обманывая) чуть ли не море красного — как бы в оправдание тогдашнего названия сего пространства — площадь Революции, но сейчас меня поправляют: там было много и белых, и чайных роз, и каких только не было. Именем Революции площадь была обязана, конечно, особняку балерины Кшесинской, той самой Матильды, — в апреле семнадцатого большевики в явочном порядке превратили здание в свой штаб, Ленин с балкона произносил речи. Впрочем, название «площадь Революции» — не единственное «революционное» название площади: она успела побывать одновременно и площадью Коммунаров, и площадью Тринадцатого Июля. Последняя дата связана как раз с ликвидацией большевистского штаба в особняке Кшесинской и полулегальным заседанием ЦК (в этот день балерина, кстати, навсегда покинула Петроград, но все-таки не из-за ее отъезда назвали площадь). А Ленин и Зиновьев в этот день уже скрывались в Разливе. Помню Ленина в парике — ну как помню? — когда я учился в школе, нас водили сюда, в бывший особняк Кшесинской, тогда — Музей революции, но почему-то все, что запомнил, — это две фотографии: Ленин в парике и без бороды (сейчас очень известная) — не похож! — и Камо, урод какой-то, а нам показали только что фильм «Камо», и там, на экране кинотеатра «Знамя», отважный красавец-большевик, совсем другой человек, претерпевал пытку. В общем, сейчас это Музей политической истории России, революции мало в музее, но много про сталинские репрессии. Памятник жертвам сталинских репрессий собираются воздвигнуть на Троицкой площади. Сейчас там установлен камень, привезенный с Соловков, — по-моему, он говорит сам за себя, и, на мой, человека, недолюбливающего современные памятники, взгляд, ничего другого не надо — лучше соловецкого камня памятника не будет.
Низвергаемому соглядатаю это все неинтересно. Чужая история.
Хотя как посмотреть. Многих пленных шведов Петр отправил в Сибирь, а моряков еще дальше — на Дальний Восток, где они внесли свой вклад в освоение новых морских путей… Как ни странно, Сибирь оказалась не худшим вариантом для пленных шведов, во всяком случае для офицеров. Там они попали под начало князя Гагарина, сибирского губернатора, им благоволившего. Князь Матвей Гагарин, сподвижник Петра, выполнявший многие царские поручения и на юге, и на востоке державы, один из богатейших людей своего времени, сказывали потом злые языки, будто бы в пору сибирского губернаторства додумался до сепаратизма, а опору себе он чаял найти будто бы в персональном войске из пленных шведов…
Но повесили его на Троицкой площади (1721) не за это. За лихоимство.
Между прочим, на шведах он и прокололся: растратил казенные деньги на их сибирское содержание (что несколько странно — при его-то богатстве?..). А потом раскрыли и прочие случаи казнокрадства.
На самом деле история темная. Не мне судить.
Князь Гагарин висел несколько месяцев, — в петровские времена тела казненных — или остатки тел, если, допустим, колесовали — не убирали подолгу. Оно и понятно: в назидание современникам. И для острастки. Чтобы помнили. Чтобы знали.
Вряд ли этот визуальный привет адресовывался низвергнутому Карлу волхву, ему и самому на его барельефе не позавидуешь, но он, застывший во вневременном падении, все никак разбиться не может, — здесь печальнее случай: труп однажды сорвался с прогнившей веревки, его, по обычаю, снова повесили. Малорадостный спектакль. Неувлекательный. С другой стороны, расстояние от неподвижно-деревянных глаз нашего падуна до образцово-показательной виселицы изрядно, можно и не различить докучливых деталей, но каково же истинным адресатам послания — президентам коллегий, и вицепрезидентам, и советникам, и асессорам, и прокурорам, — каково тем, кто ходит на службу в Коллегии, ведь сибирский губернатор повешен прямо перед их окнами?
Царь предпочитал казнить со значением. Помародерствовали на пепелище торговых рядов — тут и висите. Согласно жребию — каждый четвертый. Всех дезертиров не перевешать? Пусть жребий из десяти одного выберет.
Вешали, четвертовали, обезглавливали так часто, что первые петербуржцы посещали места финальных торжеств гораздо чаще, чем, полагаю, современный среднестатистический россиянин ходит в кино. Петр любил зрелища.
Особенно поучительные.
Проигравший и победитель
А еще символический шведский король обречен был в своем низвержении лицезреть викториальные торжества. Чужие праздники.
Чужие праздники — по случаю его — ну как бы его — неудач.
Годовщины Полтавы и победы у деревни Лесной (виктории, во многом предопределившей Полтаву и хорошо подзабытой нашими современниками), Гангут, Гренгам…
То триумфальная пирамида, то триумфальная арка возникали на виду символического двойника короля Швеции.
Тогда как перед глазами его, падающего с высоты, Петр командовал парадами гвардейских полков и здешний воздух сотрясался от залпов пушек, исторический Карл XII залечивал в Адрианополе раны, переломы стопы, впрочем полученные не под Полтавой (раненная там нога уже зажила), а в «калабалыке» — сумасшедшей стычке с янычарами, своими союзниками.
В июле следующего года, когда он вновь оказался в седле и готовился покинуть пределы приютившей его Османской империи, случилось так, что в другом конце Европы, у мыса Гангут в Балтийском море, шведский флот потерпел поражение от флота русского. Первым ли штурмом или с третьей попытки взяли на абордаж фрегат «Элефант» и другие шведские корабли, это предмет спора историков — к зрелищности триумфа оно отношения не имеет: архитектор Трезини соорудил на Троицкой площади, всяко одно, триумфальные ворота со слоном-«элефантом», орлом-победителем и прочей аллегорией, и торжественный ввод пленных шведских кораблей в Неву состоялся. В параде на площади вместе с победителями участвовали побежденные — разумеется, в статусе пленных. Лично шаутбенахт Эреншельд, которому Петр не упускал случая оказать почести, шел, глядя в спины русским унтер-офицерам, что несли низко склоненный флаг с его корабля; по свидетельству современника, он был одет «в новый, шитый серебром, подаренный ему царем, кафтан». О деревянном барельефе он, смею думать, ничего не знал и даже догадаться не мог, кто на него смотрит. Хотя встретиться их глазам все же случай представился. Офицеры обеих сторон для участия в дальнейшей церемонии отправились в Сенат, что располагался тогда в крепости, а стало быть, прошли через Петровские ворота, еще первые, деревянные, — прямо под низвергнутым волхвом-Карлом, но даже если бы Петру пришло в голову провести экскурсию, вряд ли бы шведы признали в поверженном бородаче своего доблестного короля.
Королю Карлу между тем оставались считаные дни для его решительного предприятия — персонального скоростного рывка через всю Европу к себе на север, на Балтику. С измененной внешностью, инкогнито, никем не гонимый, он оставит свой огромный, медленно идущий отряд далеко позади. Этому двухнедельному конному броску, ошеломившему современников, самое место, без иронии, в Книге рекордов Гиннесса. Биографы будут подсчитывать, сколько миль он преодолевал за день, — больше ста! Барон Мюнхгаузен отдыхает (впрочем, он еще не родился). В наше время появляются энтузиасты, желающие по каким-то своим, концептуальным соображениям повторить на лошадях путь Карла — с лекциями, там, с просветительскими представлениями и наглядными реконструкциями, но, кажется, без претензий достичь его скоростей. А нам вся эта история еще вот чем интересна. Они ведь ничего не знали друг о друге, разнесенные на расстояние, — Петр и Карл: чем был занят другой в данный момент времени, — но словно между ними возникало необъяснимое напряжение. Каждый день торжества победителей в «царствующем граде» приближал минуту королевского эксцесса: словно сжималась пружина, чтобы, резко распрямившись, взлететь.
Да уж не заместительный ли образ низвергнутого волхва, соглядатайствующего в непрерывном падении, — проводник этого напряжения? Вот вам сюжет для мистического сочинения. Но требует проработки.
В 1718 году закончилась постройка новых, каменных Петровских ворот. Если правда все про барельеф и был он тогда же действительно перенесен на каменный аттик со старых деревянных ворот, то с вовлечением в камень, с одеванием в камне, зыбкое положение Карла волхва, зависшего между небесами и земной твердью, обрело вдруг основательность, монументальность и, можно сказать, завершенность. В тот же год, 18 декабря, на бруствере при осаде норвежской крепости Фредриксхальд, в поздний час темноты и затишья, жизнь Карла XII оборвалась. Выстрела никто не слышал. Тридцатишестилетнего короля убило пулей в висок, то ли датской, то ли от своих, — загадка, конечно, на века, но куда то загадочнее, что не убило раньше.
Однажды перед глазами волхва возникла очередная триумфальная пирамида — это означало: шведы проиграли морскую битву при Гренгаме. И снова ввод в Неву трофейных кораблей — теперь четырех. Мир, который ненавидел Карл, теперь без него приближался.
Он получил имя Ништадтского.
Конец великой Северной войны.
Ликованию победителей не было предела.
Волхв наш потерянный был обречен наблюдать на Троицкой площади маскарад.
Да что маскарад!..
Описания торжеств, посвященных Ништадтскому миру, заставляют вспомнить Светония — по размаху, расточительной щедрости и экстравагантности это уже что-то из времен Древнего Рима. Впрочем, и неудивительно. Именно тогда, на второй день небывалых торжеств, Петр был провозглашен императором.
Отцом Отечества, Императором и Великим.
Петербургская ночь
Мы не упомянули кикимору, знаменитую петербургскую. Надо ли? Столько уже про нее понаписано в наши дни. Разрекламирована, распиарена как исторически первая городская нечисть. Ее историей открывают обычно экскурсии по теме «Мистический Петербург».
Пожалуй, надо — и по трем причинам. Во-первых, наш падун, никогда глаз не смыкающий, — единственный — и до сих пор не учтенный — сторонний зритель (что ему темнота!) тех странных ночных событий на Троицкой площади. Заметим, что солдат, охранявший в ночь на 9 декабря 1722 года вход в Троицкий храм, сам ничего определенного не видел и видеть не мог в темноте, а только слышал, как кто-то громыхал в трапезной. Есть разница восприятий. Во-вторых, документы Тайной канцелярии, касающиеся этого темного дела, хранились многие десятки лет в опечатанном сундуке рядом с нашим все эти годы низвергаемым волхвом — здесь же, в Петропавловской крепости. Здесь же, в ее застенках, допрашивали по этому делу кого следует, да так, что еще трудно сказать, чье положение было устойчивее — нашего ли падающего вниз головой или тех несчастных. В-третьих, этот кудесник, вознесенный на небо бесами, принадлежит вместе со всей их инфернальной компанией, изображенной на барельефе, той же стороне реальности, что и нечистая сила, так ярко о себе заявившая в трапезной и на колокольне Троицкой церкви. Определенно этот случай для нас.
Сведения о злополучной кикиморе восходят к публикациям М. И. Семевского.
В начале 60-х годов позапрошлого века отставной подпоручик Михаил Семевский, пренебрегший военной карьерой ради исторических изысканий, получил доступ к бумагам Тайной и разыскных дел канцелярии, — в то время эти документы, разобранные «по картонам», хранились уже на стеллажах Главного штаба, в архиве Министерства иностранных дел. Колорит Петровской эпохи пленил молодого историка. Он обнаружил в себе литературный дар. Беллетризованные очерки Семевского о разыскных делах петровского времени — все же, по-нашему, «документалистика» — публиковались в различных изданиях и снискали внимание публики, но наибольшую известность они обрели спустя двадцать лет, будучи изданными в 1884 году отдельной книгой «Слово и дело!» (в заголовке новейших переизданий восклицательный знак почему-то теряют). Один из этих очерков так и называется: «Кикимора».
История с кикиморой по Семевскому вдохновляла других писателей.
В советское время эта кикимора искупалась в лучах всесоюзной известности, — с ее мимолетного появления (третий абзац), по сути, начинается роман Алексея Толстого «Сестры», а посмотреть шире — и вся трилогия «Хождение по мукам», удостоенная в конечном итоге Сталинской премии.
Примечательно: революция, Гражданская война и все эти по мукам хождения начинаются с кикиморы петровских времен, а вот в романе «Петр Первый» того же автора дело так и не дошло до кикиморы — повествование обрывается на взятии Нарвы, 1704.
В «Сестрах» вот то самое место:
«Еще во времена Петра Первого дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста…» —
(стоять ей оставалось несколько лет; роман создавался в эмиграции; примечательно, что в это время мост уже назывался мостом Равенства) —
«…спускаясь с колокольни, впотьмах, увидел кикимору…» —
(нет, согласно делу № 17 (картон VII), изученному Семевским, кикимору никто не видел; только солдат слышал грохот в трапезной; на колокольне же доказательства пребывания нечисти обнаружил утром псаломщик, а что это именно кикимора была, так то дьякону поп сказал) —
«…худую бабу и простоволосую…» —
(художественный вымысел; только грохот из трапезной раздавался) —
«…сильно испугался…» —
(все потом испугались) —
«…и затем кричал в кабаке…» —
(где кто кричал, никому не ведомо; вряд ли кричали — говорили шепотом, но слух по городу, вероятно, распространился скоро, иначе бы и дознания не было) —
«Петербургу, мол, быть пусту», —
(по Семевскому, «Санкт-Питербурху пустеть будет», — на современный слух не очень складно, но ведь жутко по смыслу: будет пустеть ему — Санкт-Питербурху) —
«…за что был схвачен, пытан в Тайной канцелярии и бит кнутом нещадно» —
(сослан был на каторгу на три года, а нещадно бит батогами, согласно Семевскому, был осужденный одновременно с дьяконом, по другому дознанию — дело № 15 (картон VII), — некий швед-ведун, предсказавший царю три года жизни).
Упомянутый в скобках швед-ведун оказался упрямцем. Почти как волхв низвергнутый. А еще и провидцем: сбылось! Но к делу о кикиморе швед-ведун отношения не имеет.
Да и не о кикиморе дело было. Как таковая кикимора, похоже, следствие не интересовала. Кикимора — ну и что? Следствие интересовало значение слов, ляпнутых неосторожным дьяконом. Чаять опустения Петербурга — это государственное преступление.
Писательский триумф Алексея Толстого в Советской России пришелся на время, когда Михаил Семевский был уже прочно забыт. А теперь и «Хождение по мукам» не читают, как прежде читали. Антикварное собрание сочинений Алексея Толстого в 10 томах (1958) продается по цене банки пива за том, «возможен торг». Но жива память о кикиморе. Новую популярность петербургской кикиморе принес интернет. Стремительно растет кикиморин рейтинг.
Со своей стороны, хочу обратить внимание на одно любопытное обстоятельство. Дата 9 декабря по старому стилю — это канун зимнего солнцеворота — зимнего солнцестояния. С астрономической точки зрения самая долгая ночь в тот год началась 10 декабря, но такая точность тут не важна; безусловно, дата происшествия с кикиморой относится к тому временнóму промежутку из нескольких суток, когда зимнее солнце практически не меняет склонения (солнцестояние — солнце стоит), день, по ощущениям, перестает уменьшаться и до предела разросшаяся ночь (петербургская ночь!) повторяется в своей безрадостной полноте. Уроженцы иных краев — и солдаты, и священники, и прихожане, и заплечных дел мастера — с одинаковой гнетущей тоской переживали это темное время.
Вспоминается злой дух Карачун, повелевающий мраком и холодом; зимний солнцеворот — это время его чар.
А что до политических репрессий — были перед глазами нашего падуна и посильнее примеры. Вскоре после того, как окончательно уничтожили деревянный Троицкий храм, на той стороне площади Революции вознесся жилой объект — ныне почитаемый как памятник эпохи конструктивизма. Дом Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев был заселен семьями узников самодержавия. Ненадолго. Через четыре года дом уже расселили, иных жильцов расстреляли. Дом политкаторжан стал ленинградским символом репрессий 1937-го. На мемориальной доске, повешенной во дворе, значатся имена 54 уничтоженных. Считается, этот список неполный.
Футуризм, и не только
Он не просто свидетель — на сегодняшний день он единственный уцелевший свидетель возникновения Империи. Покажите еще кого-нибудь, у кого на глазах Петр вошел бы в храм царем, а вышел императором. Он один — один уцелевший.
В Швеции монархия сохранилась, в России — нет; послужило ли оно утешением низвергнутому гордецу, гадать не будем, но этот падун не только свидетель рождения великой Империи, он еще и зритель ее финальных сцен. Неспроста ведь именно эту площадь, а не какую-нибудь иную (Дворцовую даже) назвали площадью Революции.
Затянувшийся на три столетия гибельный миг — как-никак момент истины. Сном при открытых глазах, галлюцинацией, невероятным видением могла предстать перед ним четырехсотметровая, самая большая в мире башня — «Памятник III Интернационала», — именно для этой площади по поручению Наркомпроса проектировал ее безбашенный Татлин.
Высота башни должна была быть 400 метров. Она бы тоже падала. Тоже падала бы — и не могла бы тоже упасть — не в подражание башне в Пизе, но в подражание планете Земля. Угол склона ее несущей опоры, если верить поздним исследованиям этой неосуществленной идеи, равнялся углу отклонения оси земного вращения — 23,5°. Впрочем, сам Татлин чертежей не оставил, кроме двух изображений общего плана; утрачены авторские модели сооружения, притом что одна из них удостоилась золотой медали в Париже. Числовые значения и прочая конкретика — от поздних интерпретаторов проекта, учеников и последователей. А также от фантазеров, завороженных идеей Татлина. Приходилось, например, читать, что несущая опора и ось Земли должны быть параллельны, а сама склоненная башня должна быть направленной на Полярную звезду, — и все будто бы по замыслу Татлина, но подождите, положения не согласуются одно с другим, противоречивы. Полярная звезда — это, конечно, всегда красиво, но как быть с тем, что угол ее возвышения над горизонтом равен широте местности, — для Петрограда он 60°? Похоже, от невозможной башни и ждут невозможного. Замысел Татлина и сегодня сносит крышу отдельным энтузиастам, пытающимся разгадать загадки неосуществленного проекта. Волхв бы, кудесник, может быть, разобрался. Что касается звезд и небес, это к нему — с неба низвергнутому.
Да и вообще. Не к этому ли Татлин стремился сам? «Вся форма колеблется, как стальная змея, сдержанная и организованная одним общим движением всех частей — подняться над землей». — Николай Пунин, «Памятник III Интернационала», брошюра была издана в Петрограде в 1920 году на никудышной бумаге и содержала те самые два татлинских рисунка башни, преодолевающей силы земного тяготения. Симон волхв взлетел с помощью бесов, однако ж взлетел. Вот и Пунин о замысле Татлина: «Преодолеть материю, силу притяжения хочет форма; сила сопротивления велика и грузна; напрягая мышцы, форма ищет выхода по самым упругим и бегущим линиям, какие только знает мир, — по спиралям. Они полны движения, стремления, бега, и они туги, как воля творящая и как мускул, напряженный молотом».
Думаю, «Памятник III Интернационала» поверженный маг оценил бы по достоинству. Во-первых, дерзость проекта соприродна его собственной гордыне, здесь что-то родное. Во-вторых, он мог бы почувствовать себя отмщенным. Апостол Петр не дал ему покорить небеса, кудесник рухнул, низвергнулся, едва достигнув облаков. Но что теперь облака, когда вот-вот построят башню «до самого неба»? Апостол Петр, покровитель этого города, будет ли он по-прежнему торжествовать, когда с подоблачной высоты мощные прожекторы начнут проецировать на здешние облака дерзкие революционные тексты? И в-третьих — момент практический. Башня дала бы барельефному Симону магу, рабу безвременья, календарь и часы. Три ее внутренние части, исполненные из стекла и защищенные внешним стальным спиралевидным каркасом, должны вращаться вокруг оси — каждая со своей угловой скоростью. Нижняя — гигантский куб, место конференций, съездов и «других широких законодательных собраний», обернется вокруг своей оси за один земной год. Средняя часть, гигантская пирамида, место мирового правительства в лице исполкома Интернационала, обернется за месяц. Третья часть, гигантский цилиндр (вдаваться не будем в подробности), совершит оборот за день.
Татлин в Петрограде отвечал за план «монументальной пропаганды». В Москве в числе героев, удостоенных монументального изображения по этой программе, оказался, между прочим (сверх первоначального плана), библейский Самсон, разрушитель храма филистимлян. Вот и Симон волхв, бескомпромиссный противник апостола Петра, бросивший вызов Небу, кажется, имел шанс в революционном Петрограде по меньшей мере на реабилитацию. Ему не оказали почета, его падение не оценили ни как «жертву», ни тем более как «предупреждение», его не назвали героем — о нем просто никто не вспомнил. Проект памятника III Интернационала Татлин создавал сверх ленинского плана «монументальной пропаганды», уж слишком был самоцельным замысел сооружения, — но нам ничего не мешает пополнить задним числом актив монументальных достижений в части «агитпластики» историческим барельефом с волхвом, таращащим глаза на несуществующую башню, — как тайным, скрытым, неявным свидетелем ее неосуществления. Долговечный падун и вместе с тем почти ровесник города, он-то, падая, все уже «знал» — что было, что есть, что будет.
А в самом деле, на площади Революции по тому ленинскому плану так и не открыли ни одного памятника — тогда как открывали и на площади Урицкого (бывшей Дворцовой), и на Знаменской (потом — Восстания), и на Стрелке Васильевского острова, например. Но только не на площади Революции, — а почему? Не потому ли, что отдел изобразительных искусств Наркомпроса вкупе с городским начальством действительно, без дураков, берег это историческое место для проектов сверхграндиозных и верил всерьез в их осуществимость?
Вторым таким после татлинского был проект колоссального памятника Ленину.
Вождь умер; у города трех революций нет надежды получить тело вождя на вечное хранение, однако имя вождя город уже получил; дело за памятником. Архитекторы В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх создадут образ, который станет символом Ленинграда, — Ленин на броневике на площади у Финляндского вокзала. Первый же их проект относился к площади Революции, бывшей Троицкой. Не на броневике должен был там стоять великий Ленин, а на грандиозном многосложном постаменте высотой ни много ни мало 300 метров. Высота самого Ленина — 100. Итого общая высота памятника — те же 400, как у башни Татлина. Преемственность поражает. Щуко и Гельфрейх, в отличие от Татлина, футуристами не были. Фигуративный Ленин, ими задуманный, далеко не абстракция — во всяком случае, не куб, не цилиндр. Откуда 400 метров? Дались им всем эти 400 метров! Почему не 300, почему не 450?
В литературе о Татлине отмечается, что высоту башни он выбирал кратной длине географического меридиана — одна пятидесятитысячная, — это и есть 400 метров. Отлично. Но чем хороша пятидесятитысячная длины меридиана? Чем число метров 400 сумело вслед за Татлиным очаровать Щуко и Гельфрейха?
Особый ли был тут расчет? Или дело в магии чисел?
Симон маг снова пришел на ум, да как же ему, поверженному, снова не вспомниться, если об этих обоих проектах нам, по земле ходящим, напомнила (надо было сразу сказать) выставка «Несбывшийся Петербург», что осенью 2018-го случилась у него прямо под носом — и не где-нибудь, а в Иоанновском равелине Петропавловской крепости? Точно скажу: в 60 метрах от точки его нескончаемого падения. Ближе этой части Иоанновского равелина нет уже перед ним ничего, кроме деревьев и разве что сувенирного киоска, которым пренебрежем — явление краткосрочное. Маги, даже если не способны на продолжительную левитацию, видят, полагаю, сквозь стены удовлетворительно, так что эта выставка, может быть, была для него персонально открыта. Интересная, но малопосещаемая. Мы с женой одни по залу ходили. И вот там, в конце экспозиции висели внушительные изображения обоих неосуществленных памятников — Третьего Интернационала и Ленина. Не реализованные в натуре, они, как нарочно ради сюжета этой главы, демонстрировались в виде эскизных проектов, повторяю, под носом нашего падающего героя. То, что на площади можно было лишь вообразить, здесь было дано воочию. Хотя, возможно, мне это одному кажется удивительным.
Ну так вот — о высоте их обоих.
Длину окружности Земли все помнят? Спрашиваю, потому что сам, хорошо подзабыв школьную географию, недавно узнал: 40 000 километров. Точнее, согласно современным представлениям, окружность Земли по меридиану, если с точностью до километра, — 40 008 (по экватору несколько больше). Однако не много ль нулей? Как это так получилось, что окружность Земли выражается практически круглым числом? Уже потом, что-то вспомнив, о чем-то догадавшись, где-то подглядев (интернет дело нехитрое), я стал испытывать своих образованных знакомых, и почти все хмурили лоб, не в силах объяснить совпадение (по крайней мере, сразу). Но вы, господа, конечно, помните, что такое метр как мера длины. Лишь те, кто не знаком с историей метра, не понимают, почему окружность Земли 40 тысяч километров практически ровно. Да потому. По определению.
В 1791 году Национальное собрание Франции постановило ввод новой единицы длины — метра: определялся он как одна десятимиллионная расстояния от Северного полюса до экватора по меридиану, на котором лежит Париж. Дальнейшие измерения на земной поверхности по заданной дуге Парижского меридиана позволили установить единицу длины экспериментально (экспедиции, расчеты, экстраполяция…). Таким образом, наш всеми любимый метр — это одно из достижений Великой французской революции. А где Великая французская революция, там рядом и великий Ленин.
Вот мы и вернулись к советской власти.
В ее первые годы, помимо всего иного, граждане Страны Советов выдерживали еще одно потрясение — переход к новой системе мер и весов. Прощайте, аршины и пуды, здравствуйте, метры и килограммы!.. Декрет Совнаркома «О введении Международной метрической системы мер и весов» был опубликован в сентябре 1918-го. А уже с 1 января 1919 года всем советским учреждениям и общественным организациям предписывалось приступить к историческому переходу. Начальные меры по введению новых мер (ну, каламбур, да, что поделать…) совпали с работой Татлина над проектом башни, — Татлин мыслил глобально, прогрессивно и, можно сказать, метрически, — само определение метра через меридиан побуждало мысль Татлина к планетарной масштабности.
Татлина, как и других футуристов, во многом вдохновлял Хлебников; ему, Председателю Земного Шара, будетлянину, самое место было бы во вращающейся пирамиде. Слово метр от греческого «метрон» — мера. Хлебников еще до Первой мировой войны был одержим поисками «меры мира»; что бы ни означали его вычисления, формула «время — мера мира» действительно выдает в нем визионера: сегодня определение метра привязано ко времени посредством мировой константы — скорости света (и не связано с материальным эталоном, как прежде), — под «метром» понимается расстояние, которое проходит свет в вакууме за определенную долю секунды (1/299792458).
По декрету, принятому в 1918-м, с 1 января 1924 года исключалось «применение всяких мер и весов, кроме метричных». Аршины и сажени должны окончательно уйти в прошлое. Будущее за метром. Введение метрической системы — международной системы! — решительный шаг навстречу мировой революции.
Четырехсотметровые памятники на бывшей Троицкой площади, будь то памятник Третьего Интернационала или памятник Ленину, соразмерны планете Земля в масштабах, утвержденных еще Французской революцией, идеалами которой был преисполнен сам Ленин: метр — сорокамиллионная доля длины земной окружности, 400 метров — ее стотысячная часть. Гектометровый Ленин (гектометр — 100 метров) сам становится мерой: сто тысяч гектометров-лениных — расстояние от полюса до экватора. Давно ли Словарь иностранных слов определял гектометр как «французскую погонную меру», и вот уже гектометр — интернациональная мера: Ленин — мера всего мира: Весь мир, о котором поется в «Интернационале», обретает меру разрушения и созидания.
По замыслу Щуко в основании гигантского пьедестала памятника Ленину должна находиться понижающая подстанция Волховской ГЭС (еще к тому времени не достроенной), — здесь, помимо общей высоты в 400 метров, перенимался от Татлина принцип функциональности памятника — не стоять же ему просто так. Ленин Функциональный, вознесенный над площадью Революции, распределял бы киловатты электрической мощности, питая электроэнергией город Ленина (киловатты, к слову, это из той же Международной метрической системы).
Фантастический проект таковым и остался.
В областях ирреального, сопряженных с реальной Троицкой площадью, оба памятника — те же кикиморы.
Ничего четырехсотметрового на первой площади города так и не выросло, но продолжение было — в других местах. Первое — все тот же Ленин на броневике, отдаленно напоминающий сильно уменьшенного вождя на понижающей подстанции с проектного эскиза Щуко (скульптор Евсеев). Второе — типовые понижающие подстанции, теперь уже без Ленина и архитектурных излишеств — в строгом конструктивистском стиле, спроектированные Щуко и Гельфрейхом, — мимо одной из них, на Петроградской стороне, я часто прохожу по улице Ленина (бывшей Широкой), — нет, без Ленина нам никуда не уйти.
Было, пожалуй, и третье. Но это совсем далеко — хотя, кажется, наш низвергнутый глядит в ту сторону. Идея электротехнического Ленина в ее относительной полноте осуществилась на Вологодчине. Писатель Александр Етоев как-то прислал мне снимок семидесятых годов прошлого века с изображением памятника Ленину на земном шаре, — композиция от прочих подобных отличалась тем, что шар был установлен на трансформаторной будке! Етоев с другом-фотографом в те давние годы оказался в Великом Устюге. Они шли по улице вдоль какого-то забора (сейчас я знаю где: мимо кистещеточной фабрики на месте Иоанно-Предтеченского монастыря), шли и вдруг услышали: за кустами что-то гудит (если бы не этот гуд, прошли бы мимо, не обратив внимания), — это гудела трансформаторная будка с Лениным на земном шаре. То есть будка, на ней шар земной, а на нем Ленин!.. Етоеву показалось, что будка похожа на Мавзолей, но только уменьшенный. Судя по фотографии, ее делали на века. Мощное бетонное сооружение размером, однако, не более индивидуального гаража. Металлическая дверь, несомненно, скрывала понижающий трансформатор. С Мавзолеем этот объект роднила надпись ЛЕНИН, в остальном, на мой взгляд, сходство неочевидное. Теперь Ленина нет, но будка стоит. Когда Ленин пропал, гудеть перестало. Буквы ЛЕНИН заменились другими — СТОЛОВАЯ. И еще: Быстро, вкусно, недорого! Возможно, это был только вход в столовую, ну, что ли, вестибюль (есть снимок в интернете), а сама столовая была в задней пристройке, тоже почему-то без окон.
Продолжение
На закате сталинской эпохи Симон волхв обрел новое зрение.
С глаз очевидца — как и со всего барельефа — сняли слой старой краски; оказывается, была.
Шла реставрация 1951 года.
Искусные резчики заменили утраты.
Лицо его, как и весь барельеф, пропитали горячей олифой.
Фторид натрия, растворенный в олифе, представлял для человека смертельную дозу, но был благодатен для таких, как он.
Мистерия имени

Да нет
Этот опросный лист (бюллетень как бы) я унес на память.
12 июня 1991 года произошло событие, труднообъяснимое для стороннего наблюдателя. Одна седьмая часть суши избирала себе президента, тогда как одна шестая часть суши, 76 % площади которой составляла та самая одна седьмая, уже имела своего президента. Примерно в то же время — где раньше, где позже — на оставшихся 24 % общей территории, конституционно управляемой общим президентом, тоже избрали своих президентов — еще четырнадцать, но это нам уже не столь интересно. Нам важно то, что на одной седьмой части суши в тот день число президентов стало более одного, именно два — причем взаимонедоброжелюбных по ряду роковых причин. Катаклизмы не заставили себя ждать — сейчас не о них. Просто странно как-то все это. Странно как-то и — вот мы про что — болезненно, что ли.
Но ближе к теме.
Во втором по величине городе на седьмой части суши в этот исторический день (выбирали еще и мэра города) рядом с урнами для голосования стояли урны для опроса. Опрос (отнюдь не референдум, по ошибочным поздним воспоминаниям) был на тему, как городу называться. Предлагалось два варианта: Санкт-Петербург и Ленинград.
На данный момент город был Ленинградом. Но и Санкт-Петербургом тоже когда-то был. А еще он был Петроградом. Правда, про Петроград не спрашивали.
Надо было ответить «да» или «нет».
Санкт-Петербургу соответствовало «да». Ленинграду, стало быть, «нет». Но самое примечательное, что название Ленинград вообще не упоминалось, а Санкт-Петербург назван был. Вычеркнул «нет» и оставил «да», значит ты за Санкт-Петербург, — вычеркнул «да» и оставил «нет», значит ты за то, что на сей день имеется, — за Ленинград то есть.
Задачка на логику: как сформулировать вопрос, чтобы вышеприведенная процедура ответа была соблюдена и чтобы при этом не создавалось ощущение манипуляции?
Решение.
«Желаете ли Вы возвращения нашему городу его первоначального названия — Санкт-Петербург —»
Да? Нет?
По результатам тех президентских выборов я попал в 1,92 % избирателей, проголосовавших «против всех», — для того и приходил (и вовсе не ради принципиального негативизма). А вот участвовать в опросе почему-то не захотелось. Получалось, что рукой моей будто бы управляют, что навязывают мне желание. Но даже если я, уроженец этого города, захотел отказаться от его названия, которое, между прочим, могло потянуть на идеограмму личной судьбы, почему я должен был желать лишь того, что мне желать, собственно, предлагали, — «первоначального названия», а, скажем, не «промежуточного», например? А может, мне нравится Петроград?
Вот тогда я и унес этот лист опросный — на память.
Было ли мне безразлично, как называться городу? Да нет, вряд ли.
Но вот я покидаю избирательный участок с опросным листом в кармане и неожиданной мыслью под кепкой: не начать ли коллекционировать избирательные бюллетени? Наш участок в Технологическом институте им. Ленсовета, — слева на выходе киоск «Союзпечати», — газеты раскупаются утром, кроме тех, что висят за стеклом на прищепке, — впрочем, закрыт — выходной. Справа и слева на фасаде здания мемориальные доски извещают о партийных явках большевички Землячки и выступлениях здесь Ленина. Впереди, под сенью лип, — бронзовая спина Плеханова, перед ним — бронзовая трибуна. Какие-то остряки поставили на высокий пьедестал у ботинка теоретика марксизма пустую бутылку, видна только отсюда, со стороны института, — Георгий Валентинович словно воспользовался содержимым и сейчас прячет ее за трибуной от воображаемой аудитории — от всех этих слегка разбавленных иномарками «жигулей», «москвичей», «Волг», въезжающих со стороны Москвы в исторический центр города — города, название которого поставлено под сомнение. Отсюда не видно — но по ту сторону трибуны стоит бронзовый рабочий со столь же бронзовым знаменем (несомненно, «красным»). Плеханов показывает рукой за перекресток, где позавчера в магазине «Молоко» продавали по талонам на мясо присланные из-за океана соевые сосиски в консервных банках (три банки за два талона), — стояла очередь в кассу и подозревала, что это еда для собак (кассирша, представим, просит без сдачи и, выбивая чек, накалывает талоны на спицу, установленную на деревянной подставке). Московский проспект, он большой, — он вытекает из людского водоворота, плещущегося у бетонного забора на площади Мира: это гигантская барахолка, где продается все (например, ворованная гуманитарная помощь в виде порошкового молока), — я сам там постоянно меняю сигаретные талоны на продуктовые. А пойти не туда, а туда — налево, мимо киоска, по Загородному проспекту, там будет Витебский вокзал, — перед его обшарпанным фасадом духовой оркестр, пять человек. Пожилые музыканты в поношенных пиджаках исполняют вальс «Под небом Парижа», — коробка на асфальте, кому сколько не жалко.
Если возвращать имя, так предыдущее — Петроград.
Город в ожидании потрясений.
Мне казалось, этот город давно перестал быть Петербургом и уж точно — Санкт-Петербургом. Это был не тот Санкт-Петербург, о котором мечтал Петр.
А взять спальные районы — какой же это Санкт-Петербург? А серые зоны (какими обозначают их на картах) промышленных предприятий — разве это Санкт-Петербург?
Но и Ленинградом он тоже перестал быть.
Это был другой город.
И я не знал его имени.
Имя на «С»
В самом «петербургском» романе слово «Петербург» употреблено 53 раза (и еще 10 раз встречаем эпитет «петербургский»). И только единожды город назван полным именем, и то в ироническом контексте, — пьяный мещанин смеется над Раскольниковым, целующим землю на Сенной (той самой Сенной, что в XX веке лет сорок будет называться площадью Мира): «Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиной прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает».
Тут даже трудно понять, над чем больше насмехается этот «какой-то пьяненький из мещан» с его манерным высоким слогом — над чудилой, целующим «эту грязную землю», или над «столичным городом Санкт-Петербургом», представленным во всей красе на Сенной площади.
А всего в художественных сочинениях Достоевского, согласно Частотному словарю, название Петербург употреблено 274 раза. Из них только 2 (два раза!) — с приставкой «Санкт-».
Второй раз, между прочим, «Санкт-Петербург» появляется в «Подростке», и опять же в специфическом контексте. Во вставном рассказе странника Макара Ивановича, который Аркадий передает «слогом», есть признание художника-самоучки, гордящегося выполненной работой: «Я, говорит, теперь уже все могу; мне, говорит, только в Санкт-Петербурге при дворе состоять». Понятно, что тут «Санкт-Петербург» — элемент хвастовства, хорошо подходящий для самоаттестации персонажа и обозначения его амбиций, — тоже в своем роде элемент стиля.
Уже в XIX веке избегали употреблять «Санкт-» вне рамок официальных высказываний. «Санкт-Петербург» звучало выспренно, высокопарно.
А так — Петербург, он и был Петербург.
Вот и мне казалось, это нескромно, и тем более сегодня — «Санкт-». Да и неблагозвучно — четыре согласных подряд: «нкт-п».
Солженицын тогда нашел необходимым предостеречь жителей города на Неве от выбора этого — «Санкт-Петербург», написав специальное обращение. («Я хотел бы тоже подать голос и убедить Вас, что этого звучания возвращать не надо. Оно было в XVIII веке навязано вопреки русскому языку и русскому сознанию».) Предложил, со своей стороны (допустил, вернее), вариант имени «Свято-Петроград» — тоже, признаемся, не подарок.
Да ведь никто здесь и не говорит «Санкт-Петербург». Если кто и назовет в какой-нибудь житейской ситуации город полным именем, можно быть уверенным — это приезжий. Помню, как мы замечали в начале девяностых эту закономерность: наши гости из Москвы говорили «Санкт-Петербург» — из уважения к «санкт петербуржцам».
После последнего переименования как-то странно было привыкать к тому, что твой город на «С», а не на «П». Все думали почему-то, что будет на «П» — где-то между Пензой и Псковом, — там и смотрели: а где ж Петербург в списке городов с их телефонными кодами? Но вот неожиданность: в справочниках, указателях, расписаниях, всевозможных реестрах бывший Ленинград оказался где-то между Самарой и Саратовом.
У меня с этим переименованием связано воспоминание о личном дискомфорте: я уже успел побывать «ленинградским писателем» («молодым ленинградским писателем»), и вдруг мы все, «ленинградские», независимо от возраста, опыта и признания стали одномоментно «петербургскими писателями». Словосочетание «петербургский писатель» наводило раньше на мысль о Пушкине, Гоголе, Достоевском, а если не о классиках, так все равно — о тех, кто жил в ту эпоху, уж точно не в нашу. И вдруг — тебя называют «петербургским писателем», и ты уже в компании как минимум с Григоровичем. Ладно бы это переназвание было бы формальным, так ведь не получается — формальным. Тут еще и такой нюанс. «Московский писатель» — он и есть московский писатель, и любой другой, где бы он ни проживал, — это любой другой, где бы он ни проживал, и этого вполне достаточно, но когда сегодня в России говорят о ком-то «петербургский писатель», это означает, что с данным субъектом связывают какие-то особые ожидания — ждут чего-то отличного от других, чего-то специфически «петербургского», соотносимого то ли с зацикленностью на традиции, то ли с интеллектуальным изоляционизмом, то ли с болотными испарениями. «Ленинградским» в этом смысле было проще гораздо.
Парад переименований: поиск закономерностей
Из крупных городов столь радикально переименовывали разве что Новый Рим — Константинополь, но там завоевания, покорения, смена империй, с этим понятно. Рим тоже завоевывали, но не переименовывали, и даже когда радикально веру сменил, Рим, символ язычества, остался Римом. И Афины на протяжении многих столетий не переставали быть Афинами. Лондон — всегда Лондон. Национальный конвент на второй год первой Французской республики реформировал календарь и утвердил новые названия месяцев — все эти вандемьер-жерминаль-фрюктидоры, — но Париж остался Парижем.
Да и у нас — Москва, Киев…
В Москве и Киеве (впрочем, как и везде) улицы с площадями переименовывали вовсю, но ведь имена городов остались нетронутыми. Это как если бы какой-то недуг, со стороны незаметный, поражал организм — внутреннее воспаление, расстройство — может быть, даже психическое. Изнутри и Москва, и Киев — как и прочие советские города — подверглись сильному переназыванию, но снаружи — нет: как было, так и осталось: Москва, Киев.
Когда-то я пытался найти закономерность в переименованиях.
Может быть, древние имена берегли? В Повести временных лет перечислены первые русские города — Ладога, Белоозеро, Изборск, Новгород, Полоцк, Ростов, Муром… Волна советских переименований прошла мимо них. Да и в масштабах всей российской истории на эти имена не было покушений. Если не считать незначительных девиаций. Город Ладога при Петре стал селом Старая Ладога, Белоозеро в XIV веке, сместившись на расстояние трех-четырех часов пешего перехода (в сторону от очага чумы), стал Белозерском, а Новгород с 1999 года — в память о величии тысячелетней давности — официально так и величают Великим Новгородом. Вот и все.
Владимир, Ярославль, Смоленск, Кострома, Суздаль, Вологда, Воронеж никогда не переименовывались. А Тверь побывала Калинином, Нижний Новгород — Горьким, Самара — Куйбышевом.
Цепочка Санкт-Петербург — Петроград — Ленинград — Санкт-Петербург, конечно, во всех смыслах эффектна, но при всем уважении к петербургскому патриотизму не уникальна, признаемся. Есть еще выразительней: Рыбинск — Щербаков — Рыбинск — Андропов — Рыбинск. И это всего за 44 года! Или вот пример, как на полувековом промежутке может восторжествовать симметрия переиначивания: Владикавказ — Орджоникидзе — Дзауджикау — Орджоникидзе — Владикавказ.
А это? Словно в шашки играем — ходы-перепрыги: Луганск — Ворошиловград — Луганск — Ворошиловград — Луганск.
Не всегда «возвращение исторического имени» было желанно большинству населения. Например, Киров — который в Кировской области — так и остался Кировом: не захотел вновь называться Вяткой. А Ульяновск — не захотел Симбирском. Помню, как в непраздничный день 7 ноября 1991 года, когда впервые официально не отмечалась «годовщина Великого Октября», а с момента переименования Ленинград/Санкт-Петербург прошло всего два месяца и один день, в новостях вечером сообщили: Ульяновск — не помню, правда, в чьем лице — желает стать Ленинградом. Этого, как известно, не случилось. Наверное, и не могло случиться. Или все же могло? На ум приходит гранитный Ленин, один из тех, от которых отказался бывший Ленинград, город белых ночей, — его забрал себе далекий город Полярные Зори: тоже ведь символ. Не удивлюсь, если на карте однажды появится Новый Ленинград. А что? Ленинград — имя громкое, невостребованное.
Позднесоветские названия городов — Брежнев, Андропов, Устинов, Черненко, серийно вызванные смертями соответствующих исторических деятелей, продержались недолго; рекорд краткосрочности — два с половиной года — принадлежит названию Устинов. Почему-то ижевцы не захотели быть устиновцами. Равно как челнинцы — брежневцами (или брежневчанами?). Перечисленным городам во второй половине восьмидесятых вернули прежние имена, соответственно — Набережные Челны, Рыбинск, Ижевск, Шарыпово.
В этой удивительной последовательности обращает на себя внимание тенденция. С момента метаморфозы Набережные Челны/Брежнев до следующей — Рыбинск/Андропов — прошло округленно 16 месяцев. До очередной — Ижевск/Устинов — пришлось ждать всего 9 месяцев и 12 дней. Не успел народ оправиться от стресса, а через 2 месяца и 2 недели случается Шарыпово/Черненко. Налицо стремительное ускорение процесса, но, с другой стороны, заметно, что процесс выдыхается. О городе Шарыпово в Красноярском крае (на момент переименования примерно 25 тысяч населения) многие в стране узнали в дни траура по Константину Устиновичу Черненко, когда объявлялись меры по увековечиванию памяти самого немощного из всех, думаю, со времен Рюрика, правителей государства. Мне по молодости (и при Брежневе) довелось побывать в Шарыпове, тогда это был, по существу, рабочий поселок — там только начинали строить мощную тепловую электростанцию, труба которой (чтобы не забывать, о чем эта книга) более чем на полсотни метров (370) превысит высоту петербургской телевизионной башни (313 — сейчас; тогда — 302). Строительство ГРЭС обещало быстрый прирост населения, но никто и представить себе не мог, что новый город в течение трех лет будет странным образом называться Черненко.
Имеет ли ряд Брежнев, Андропов, Устинов, Черненко отношение к череде перенаречений города на Неве? По-моему, да. Мне тут видится инерционная природа скрытого механизма переименований, однажды запущенного. Можно как угодно относиться к престарелым членам тогдашнего политбюро, но все же идиотами они вряд ли были. И между тем, отрицать невозможно, выставляли они себя на всенародное посмешище. Но что получилось? Умер Брежнев. На посту. (Не как Хрущев.) У Кремлевской стены похоронить — это само собой, а нельзя ли что посущественнее? Со времен Сталина таких уходов не было (Хрущев не в счет). Взяли и назвали его именем город. Крупный центр промышленный. Кто ж знал, что его преемник Андропов тоже скоро скончается. И как быть? Раз только что Брежневом город назвали, надо, наверное, и Андроповом город назвать. Если бы знали, что Андропов следом умрет, может быть, и не стали бы Брежневом называть. А тут Устинов. Министр обороны и все такое. Афганистан. Надо. Понимают, что стали заложником собственных правил, но что поделать — пусть будет город Устинов. А следом, вот неожиданность, преемник Андропова — Черненко. Герой анекдотов с оттенком черного юмора. Народ гадает, неужели город назовут — интересно какой? А как не назвать? Именем министра обороны назвали, а здесь — выше — генеральный секретарь! Но как бы это сделать, чтобы не так заметно было? А вот Шарыпово. Сибирь. Он где-то там рядом родился. Давайте Шарыпово переименуем. В политбюро ведь не думали, что будут умирать один за другим, так кучно. Не назвали бы Набережные Челны Брежневом, тогда бы и не запустился инерционный механизм безостановочных переименований. Это, кстати, подталкивает на одно конспирологическое размышление. А не по этой ли причине, спрашивается, выбрали потом «молодого» — М. С. Горбачева? Чтобы остановить действие скрытого механизма. И вот снова — ленинградская тема. «Молодых» в престарелом политбюро было двое — М. С. Горбачев из Ставрополя и Г. В. Романов из Ленинграда. Про Романова в народе давно говорили, что ему не светит — из-за фамилии. Да и с точки зрения политбюро, посмотреть их глазами? Все под Богом ходим. А вдруг, не приведи господь, и «молодой» тоже? Ладно, Ставрополь можно переименовать, а как быть с Ленинградом? Нельзя город Ленина переназвать городом Романова. Пусть уж будет Горбачев генеральным секретарем — для подстраховки… Шутки шутками, но примерно так и получилось: даже если не забывать, что Санкт-Петербург — это во имя небесного покровителя, а не конкретного человека, все равно переименовали Ленинград во имя небесного покровителя Романова, хотя и Петра Алексеевича.
Наблюдателю мистерии переименований могли бы открыться две противоречивые закономерности. С одной стороны, чем меньше город, тем выше вероятность попасть ему в группу риска — по той простой причине, что переименовывать небольшое значительно проще, чем большое. (Да вот: большой город Киров — только один: бывшая Вятка, — зато много небольших поселений — Кировск, Кирово, Кировоград, Кировка, Кировский и т. д.). С другой стороны, чем меньше город, тем ниже была вероятность попадания на него луча избранничества — хотя бы в силу уже многочисленности таких городов и относительной малочисленности главных лиц государства, достойных посмертного увековечивания (даже с учетом возможных вариаций с одной фамилией).
Но логику этих рассуждений нарушают примеры на «бург». Независимо от размеров городов «бургосодержащие» названия рано или поздно заменялись другими. Екатеринбург побывал Свердловском. Оренбург — Чкаловом. Шлиссельбург — Петрокрепостью. Ямбург был и есть (до сих пор) Кингисепп.
Да-да, Санкт-Петербург из этого ряда.
Хотя пример Петербург — Петроград лучше вынести из этого ряда за скобки (как дореволюционный прецедент, запустивший поздние переименования).
А не сам ли Петр их запустил, когда отбитый у шведов Нотебург переименовал в Шлиссельбург? Или бург на бург не будем считать?
Вот и метаморфоза Петербург — Петроград оказалась инерционной, — в эпоху революционной ломки дальнейшее само напрашивалось: — Ленинград.
Ну никак не могла Москва стать Ленинградом.
Хотя вопрос: почему?
Почему не Москва?
В Москве Ленин умер (усадьба Горки, по сути, та же Москва). Ясно, что главная коммунистическая святыня Мавзолей будет в Москве. И мозг Ильича храниться будет в Москве. Жил он в Москве даже подольше, чем в Петербурге (и Петрограде). Созидал государство нового типа — в Москве. В театр ходил — в Московский художественный и в Большой тоже. На субботник ходил, бревно нес. На охоту ходил под Москвой. Детскую елку устраивал. А чем ему дорог был Петербург-Петроград? В Петербурге он потерял брата, любимая сестра — сам в больницу отвез — умерла от скоротечного тифа. Сидел он там за решеткой, маялся по конспиративным квартирам, кормил комаров, прячась в Разливе. За каждым углом, за каждым «камнем» (который «Ленина знает») мог шпик прятаться. Ну да, свергнул ненавистное правительство. Разогнал Учредительное собрание. Дело сделано — и в Москву.
И климат. Об этом никто не говорит, а я скажу. Родившемуся на Волге трудно жить на Неве. Даже если ты Ленин. На Москве-реке проще. И ближе к родным берегам.
Зима 1917/18 года была кошмарной. По ряду известных причин. И еще по одной — это зима Петербурга. Бесконечно долгие ночи и беспросветные дни. Время самоубийц, тоски, безысходности. Вот уж где и когда «Россия во мгле» — в силу причин всего лишь географических. Только не говорите, что Ленину некогда было замечать петроградских особенностей светового дня. Наверняка думал: когда ж это кончится? А тут немцы под боком. В Москву!
В Москву, в Москву, в Москву!
Это Москва, а не Петроград должна была стать Ленинградом.
Но что значит стать? Как это можно, в самом деле, Москву переименовать? Это как постановить, чтобы щуку называли иначе. Как ее ни называй, она все равно останется щукой. Или березу отменить. Объявить декретом, что береза — не береза, а что-то другое.
Никак Москву нельзя.
Москву — нельзя. А Петроград — можно.
Москва — имя. Петроград — конструкция. Ничего придумывать не надо. Просто надо один блок — Петро — заменить другим — Ленин. И будет хорошо.
Инерция: Петербург — Петроград — Ленинград. Само собой получается. Когда Зиновьев обращался от имени петроградских рабочих с предложением, понятно, в Москву, он был всего лишь слепым проводником неведомой инерционной воли — Петроград не мог не стать Ленинградом.
Трудное имя
Представим себе, что не Петр — тогда, а наш президент — сейчас — основал бы новый город на шестидесятой широте, да еще где-нибудь в тайге, где даже дорог нет, и назвал бы его по-китайски — Шэнбидэбао. Вот бы мы изумились!
А он бы еще столицу Российской Федерации со всеми ее министерствами решил перенести из Москвы в Шэнбидэбао, — что бы мы об этом подумали?
Вполне допускаю, что в будущем подобные названия городов на шестидесятой широте нам покажутся вполне естественными, но пока еще мы к этому не привыкли.
Так ведь на русское ухо в начале XVIII столетия название Санкт-Петербург было тем же, что для нас Шэнбидэбао!
Узнавали московиты и в Москве, и в Твери, и в Воронеже, что где-то там, на краю света, в болотах, появился какой-то Шэнби… прошу прощения, Санктпитербурх — и не выговорить, и не запомнить.
Конечно, называя так крепость, а потом и весь город, Петр посылал сигнал не на Восток, а на Запад. Но и в Европе должны были бы призадуматься тоже. Что это за чудо там получается? В Европе города называли несколько по-иному.
Корень «бург» не предполагал святоозначающего префикса (Сент-, Сан-, Санкт-, Санкти-), — да и откуда же взяться префиксу этому, если с «бургом» обычно сочеталось обозначение особенности местопребывания? — Штрассбург (нем. Straßburg) — «крепость у дороги», Зальцбург (нем. Salzburg) — «соляная крепость», Регенсбург (нем. Regensburg) — «крепость на Регане»… Если брали приставку, означающую святость (Сент-, Сан-, Санкт-, Санкти-), то непосредственно за ней следовало имя святого — без всяких «бурхов» и «бургов», равно как и «фуртов», «бриджей» и тому подобного. Примеров множество: Сент-Джон, Сан-Себастьян, Санкт-Галлен… По этому принципу крепость (и город) должны были бы называть не Санкт-Питер-Бурх (сам Петр это название легко варьировал), но, получается, Санкт-Питер, а лучше (латынь так латынь): Санкти-Петри, — впрочем, крепость с таким названием уже есть в Испании.
Петр дал название городу с той же дерзостью, с какой основал его на этих «топких берегах». Латинское Санкт- приставил к выраженному на голландский манер значению «Петр-крепость», получилось Санкт-Питербурх. Онемеченная форма Санкт-Петербург обрела устойчивость лишь в конце жизни Петра — до того произносили и писали как бог на душу положит. Даже когда двор сюда переехал и город стал столицей по определению, все еще не было полной ясности, как надо правильно именовать «сей новосозданный град». Разумеется, с ростом числа приезжих (а иных здесь и не было) сумятица в произнесении столь заковыристого для русского уха топонима только усиливалась — особенно в быту, в повседневной жизни, но, надо полагать, далеко не весь репертуар названий этого города отразился в дошедших до нас документах.
Что до последних, замечает Е. В. Анисимов: «В документах петровской поры он называется и Петрополем, и Питерполом, и S. Петрополисом». Историк приводит бытовавшие варианты названия: «Санкт-Питербург, Санкт-Петербурк, С. Петерзбург, Санкт-Петер-Бурх, Санкт-Питер-Бурх, Санктпитербурх, Санктпетербург, Санктъпетербург, Питербурх».
А что сам Петр? Как он сам называл свой «парадиз»? (И кстати, да, вопрос в сторону: помимо иных доброславных причин, не потому ли в письмах к Меншикову так часто проскакивает «парадиз», что это слово самому Петру дается проще, натуральнее, чем полное имя города?) Так вот, Петр Великий в целом предпочитал форму Санкт-Питербурх, но, как замечает в связи с этим Е. В. Анисимов, есть у него и такое в письмах: St. Питербурх, St. Питеръбурх, Sрбурх. «В то время не задумывались о написании топонимов», — меланхолично добавляет историк.
О двоякости и однозначности
Еще весной 1991 года ленинградцы в подавляющем своем большинстве полагали, что название Петербург — это в честь Петра I. Точнее будет сказать, мало кто вообще задумывался об этих материях. Санкт-Петербург — далекое прошлое, и вроде бы с ним все ясно: ушло так ушло. Все знали, что ответ на вопрос, кто основал Петербург, — в самом названии города, и этого было вполне достаточно.
Незадолго до опроса 12 июня, приуроченного к выборам президента и мэра, ленинградцам объяснили две вещи. 1. Смена названия города, если и произойдет, будет не переименованием, но возвращением городу его исторического имени. 2. Город был назван Санкт-Петербургом по имени апостола Петра, а не царя Петра, основавшего город.
Последняя новость произвела впечатление.
Вопрос, однако, не простой. С именем Петра I название города ассоциировалось уже в XVIII веке и даже при жизни самого основателя. Санкт-Петербургу немногим более сорока лет было, а Богданов, его первый историк, уже двояко трактовал название крепости, давшей имя всему городу. С одной стороны, сказано, что: «Его Величество… благоизволил… заложить Крепость во Имя Тезоименитаго своего ангела, Святаго Первоверховнаго Апостола Петра…»; с другой стороны: «…оная Крепость Санктпетербургская, наименованная во имя Блаженныя и Вечнодостойныя Памяти Петра Великаго, Отца Отечествия, Императора и Самодержца Всероссийскаго… ныне благополучно стоит и мирно пребывает». Заметим, что во втором случае «во имя» со строчной буквы (речь о человеке), тогда как в первом — с прописной: «во Имя» (речь о святом). Точно так же парадиз Петра Великого — слишком далек от небесного рая, у врат которого стоит с ключами первоверховный апостол Петр. Да, разница есть.
И пушкинский «град Петров» — пример обмирщения небесного имени города, да и «Петроград», как есть в «Медном всаднике», обязан именем своим Петру I, человеку грешному, не святому. Тяжба у героя пушкинской поэмы — с этим Петром, отнюдь не с небом. К небесному покровителю у «бедного Евгения» претензий нет. Он и не вспоминает о нем. А знает ли вообще об этом покровительстве Евгений? «Кумир на бронзовом коне» — вот кто здесь очевиден.
В сознании ли общественном, в бессознательном ли коллективном — имя Петербург обречено на связь с основателем города.
При этом «Санкт-» в «Санкт-Петербурге» на ситуацию мало влияет.
Кому-то могут показаться возможными компромиссные отношения: да, город святого Петра, но святой Петр в названии города представлен опосредованно — именем своего земного представителя — Петра I. То есть — город назван в честь Петра I, но во имя святого Петра.
А для кого-то «Санкт-Петербург» готов и вовсе раздвоиться: один Петербург в честь одного Петра, другой — во имя другого Петра. Есть здешний, дольний Петербург, а есть нездешний, горний Петербург, небесный. И этот небесный святой Петербург покровительствует здешнему, грешному, земному Петербургу, подобно тому как апостол Петр покровительствовал своему земному грешному тезке.
Отвлечемся
О названии еще поговорим. От этого никуда не уйти.
Все-таки с названием этого города странные вещи случались.
Есть у меня гипотеза, даже не гипотеза, а еретическое предположение одно, — спорное, признаю, — сам не знаю, как к нему относиться; поговорим. Но попозже.
«Была ужасная пора…»

«Словно Венеция…»
Первое же наводнение ошеломило строителей Петербурга. Ничего подобного жители средней полосы не знали. Нева оказалась непохожей на другие реки — так у нас реки себя не ведут. Какие на Руси наводнения? Паводок да половодье. Паводок вызывают затяжные дожди, — выйдет река из берегов или нет, можно заключить по погоде, по силе и продолжительности ливней, — вполне предсказуемое явление, к тому же не для всех местностей характерное. А главное — понятное. С половодьем совсем просто. Тает снег по весне, и реки, питаемые бесчисленными ручьями, выходят из берегов, заливая округу. И так каждый год, в одно и то же время примерно. «…Вешний разлив во время общей рóстополи, по вскрытии рек и ледоплава» — так у Даля, и от этого непереводимого без потерь на другие языки календарного определения веет по-настоящему древностью. При наших снегах половодья сегодня, пожалуй, не те (с чем не согласятся хозяйственники, для которых любой снег — всегда нá голову). А когда были те — нрав реки был понятен обитателям ее берегов. Знали, когда начнет подниматься вода; знали, будет ли вода большая.
Половодье — это красиво, это величественно. Это родное. Тургенев запатентовал синоним — «Вешние воды», благо писал за границей повесть. Тут нам метафора невозвратного прошлого, без всяких погодных реалий, и — элемент ностальгии. Половодье — то, что Лермонтов связал с понятием «Родина», — в сложном комплексе его переживаний есть и отзвук восприятия этого: «Разливы рек ее, подобные морям». Морям! — и нет здесь гиперболы. Какая гипербола, когда не видно другого берега? Даже мелкая речушка Съежа в свой срок широко разливается, и зябким ясным утром, когда идеален для художника свет и воздух прозрачен, стоя на сырой холодной талой земле и пренебрегая запретами докторов, Левитан вдохновенно пишет этюды: картина «Весна. Большая вода» — тихий гимн красоте русского половодья. Где бы еще было так, чтобы наводнение вызывало чувство эстетического умиротворения?
В русской литературе главный сюжет из всех связанных с половодьем, конечно, некрасовский: экологическое предприятие дедушки Мазая, спасшего от наводнения зайцев, всем нам урок. О герое сказано: «Старый Мазай / Любит до страсти свой низменный край», — и хотя это прозвучало в ином регистре, хочется отметить неожиданную сопряженность «страсти» деда Мазая со «странной любовью» лирического героя Лермонтова. Примечательно, что «от себя» Некрасов этот «низменный край» с его, стало быть, половодьем, или, по Лермонтову, «разливом рек», сравнивает не с чем иным, как Венецией. «Всю эту местность вода понимает, / Так что деревня весною всплывает, / Словно Венеция…» Честно скажем, Венеция тут, что те зайцы мазаевские, притянута за уши — и не из-за внешнего несходства затопляемых территорий, но по существу: венецианские наводнения вызваны вовсе не сезонным таянием снега, который вообще там выпадает раз в сто лет, а нагонной волной, что роднит их как раз с петербургскими наводнениями, причем, так же как в Невской губе, подъем воды в лагуне во многом обусловлен мелководьем и своеобразным рельефом дна. Деду Мазаю до этих тонкостей беды не было, а вот его прадед, который в свой срок мог бы запросто отбывать повинность на строительстве крепости (кстати, на Заячьем острове), должен был бы в таком случае на себе самом прочувствовать, чем от привычного ему половодья отличается внезапное буйство незнакомой Невы. Что-то дедушка Мазай упорно — не первый раз уже — силится проникнуть в мой текст и придать повествованию свое, альтернативное направление (ну да, сказано же — остров Заячий). А вот не знаю, осведомлены ли современные дети о его подвиге. В нашем детском пантеоне он, наравне с Муму, которую утопил Герасим (его антипод), занимал место, думаю, сразу за Дедом Морозом, и первые представления о половодье мы получали из его правдивой, как нас учили, истории.
Впрочем — кто как.
В детстве я часто бывал на Шелони — у тетки отца. Голино — это на левом берегу, в месте впадения Шелони в Ильмень. Селение небольшое, но Петербурга, в котором я родился, старше будет на несколько столетий, — можно только догадываться на сколько: во всяком случае, первое летописное упоминание относится к 1270 году. А при Иване III, «собирателе земель», недалеко от Голина произошла Шелонская битва, роковым образом предопределившая конец Новгородской республики. Отряды Даниила Холмского несколько верст преследовали новгородцев — «гнашася по них, овы секучи, овы бодучи, овы вяжучи, и гнашася по них и до Голин». Я-то знаю, почему не дальше. Дальше Голина некуда: там болота и — Ильмень. Голино потому и Голино, что вокруг все голо — ближайший лес за шоссе, а это в четырех километрах от берега. Здесь останавливался автобус Новгород — Шимск. До села в обычное время добирались пешком, проселочной дорогой, почти прямой, с небольшим только скосом за деревней Малиновкой. Голинский храм, в то время полуразрушенный, хорошо различался с дороги (дом тетки отца был аккурат напротив), да и вообще на голых просторах заметно было с дороги, что Голино на возвышении. Иными словами, здесь я однажды застал большую воду.
Нас встретили с веслами, — от Малиновки до Голина пришлось в тот раз плыть на лодке. Шелонь разлилась так, что берега другого — вот как раз тот самый случай — не было видно совсем. Река стала неотличима от озера, в которое впадала, — Ильмень, надо заметить, озеро «дышащее»: в половодье его площадь могла увеличиться в два, если не в три раза. Так ли сейчас, я не знаю, — зимы теперь не столь многоснежные, ручьи мелеют, протоки дельты Шелони зарастают травой. А тогда само Голино, с его белостенным храмом, лишенным купола, оказалось на островке. Когда плыли, по правую руку далеко-далеко виднелись деревья — тоже временный островок, это местное кладбище, и добраться до него можно было тоже только на лодке. Здешнее пространство осваивалось веками с учетом паводка.
Вид с голинского берега меня поразил. Действительно же — море. Сколько мне было — семь, восемь? Тогда мне кряжистый берег казался высоким, а был он немногим выше крыш бревенчатых банек, разбросанных понизу, — они выглядывали из воды, и не верилось, что, когда вода спадет, внизу под кряжем появится плоский пойменный берег и будет он снова заставлен лодками, а в реку над водой потянутся дощатые мостки, над которыми сейчас, должно быть, плавают рыбы. Я понял, почему Свинух и прочие острова называются заливными, — сейчас их просто не было. Лишь кое-где из воды торчали ветви кустов. Трудно было представить, что летом на тех островах паслись кони.
Очень личное мое ощущение. Смутный замес на впечатлениях детства. Дельта Шелони, какой я застал ее, представляется мне — ну что поделать, если так работает воображение, — прообразом Петербурга. Когда пытаюсь представить допетербургский ландшафт, допетербургскую дельту Невы, допетербургскую природу, еще нетронутую Петром, не могу, здесь в городе находясь — где-нибудь на василеостровской Стрелке, отвообразить, выобразить весь этот культурный нарост прекрасного города, но вижу мысленным взором Шелонь, образами которой пленился в детстве. Те же «низкие топкие берега». Те же отмели, что в твоей Маркизовой луже. Те же острова. Пускай Васильевский больше заливного Зеленка во столько же раз, во сколько Нева полноводнее Шелони, но что-то все-таки есть между ними общее.
А тут еще совпадения. Только сейчас узнал, что голинский храм, который в годы моего детства (да и потом) использовался как сельскохозяйственный склад (однажды двери были открыты, и я там видел на полу гигантскую гору гороха), на самом деле — Петропавловская церковь, или церковь Апостолов Петра и Павла. Петропавловской же называлась ее предшественница, стоявшая в Голине еще в те времена, когда о Петербурге никто и снов не видел. Так вот почему Петров день отмечали особо в Голине, и даже те, в чьих умах господствовало безверие, — как раз эти с праздничным каким-то надрывом (драка кольями, например). В моей детской голове запечатлелись зачем-то дурацкие байки о «голинском попе», который уже покинул село, когда в ту хрущевскую пору закрыли церковь, — его усердно ославлял в антирелигиозной телепередаче другой, правда бывший, священник, известный тем, что переметнулся в безбожники. А до 1903 года, и это для меня свежая новость, служил здесь, оказывается, будущий духовник Иоанна Кронштадтского. Уж не он ли крестил мою бабушку Марию Филипповну? И не к нему ли в церковь ходил мой юный дед задолго до того, как стал атеистом?.. Гробница Иоанна Кронштадтского — в Иоанновском монастыре, и вот я сейчас (17 час. 03 мин. 02.06.18) пишу этот текст в петербургском бывшем доходном доме, где с некоторых пор живу (так вот совпало) напротив Иоанновского монастыря, на другой стороне Карповки, и слышу колокольный звон…
Или битвы — Невская и Шелонская, обе примерно на одном расстоянии от устья рек, значение обеих судьбоносное. Правда, пафос побед заметно разнится. На Неве разбили пришельцев. На Шелони разбили своих.
И наконец.
Эти места имеют прямое отношение к строительству Петербурга.
Голинский погост входил в Новгородский уезд, что со своей стороны занимал западную часть обширной Новгородской земли. Именно Новгородский уезд, да и сам Новгород дали, как утверждают сегодня историки (Е. А. Андреева, Т. А. Базарова), первых работных людей, «посошан» — первостроителей Петербурга, помимо уже работавших там военных. Дали — разумеется, по принуждению, в плане повинности, от которой не освобождались даже ямские дворы. Отправляли в дельту Невы — по жесткой разнарядке — копать, рубить, плотничать. Жить в землянках и шалашах.
Начинали новую крепость те, кто брал старую — Ниеншанц. Новгородские и прочие посошане — невоенные, набранные из крестьян по разнарядке, — к ним присоединились уже летом 1703-го.
А лето было холодным, дождливым.
Платили мало. Работали много.
Часто болели.
Умирая, как водится, вспоминали родные края.
А пожалуй, не столь фантазийна мысль моя о прообразе Петербурга.
Может быть, как и я сейчас припоминаю детские голинские ощущения, кто-то из новгородских посошан, засыпая в холодной землянке, вспоминал заливные острова Шелони. Новгородцы ведь знали те места хорошо (хотя бы кто был связан с водой).
Допускаю, с Васильевским и Зеленком я погорячился немного, есть между ними различия, но кому-то из тех новгородцев Заячий остров (как бы он тогда ни назывался) мог определенно напомнить Свинух. Оба вытянуты вдоль берега, и размеры их почти одинаковы. Оба низкие, плоские, почти вровень с водой. Обитатели шелонских берегов, да и всякий, кто знал Ильмень, увидев Заячий, мог бы сказать: «Зело на Свинух похоже. Вода подымется — и зальет».
Но это когда еще будет, если будет, — весной. В половодье. Не скоро еще. И то ежели Нева расположена разливаться.
Так, наверное, могли думать первые посошане. И невдомек им было, отчего здесь наводнения.
Кому доводилось купаться «у Петропавловки» (в студенческие годы мы находили возможным себе это позволить), знает, как резко берег обрывается в глубину. Это следствие того, что он отнят у реки — отодвинут от своего природного края. Утверждают, что искусственно расширяли и удлиняли остров, отбирая у воды драгоценные сажени, а также поднимали посредством насыпки — не из боязни потопа, а ради решения определенных инженерных задач, связанных с фортификацией.
Беда в том, что первостроители, уроженцы других краев, будь они солдаты, или присланные посошане, или даже командиры, начальники, знать не знали, как ведет себя здесь вода и на какие каверзы Нева способна.
Оно случилось летом, когда условному Петербургу исполнилось лишь три месяца. Природа как будто торопилась предупредить своих подневольных преобразователей мощным ударом, — все же в исторической перспективе атаки этой стихии будут выпадать обычно на осень (иногда на весну).
Измерить высоту подъема воды охотников не нашлось, не до того было. Петр бы наверняка сделал замер, но он тогда пребывал на Олонецкой верфи.
Гидрологи полагают, что в ночь на 20 августа вода поднялась на два метра. С учетом тогдашней высоты берегов это немало.
Сильный ветер со стороны потухшего заката, быстрое движение рваных туч, меняющих в сумерках на ходу очертания, черные высокие волны, сонливо замирающие как бы на месте, — очевидцам этого не забыть. А дальше волны обратились назад, против течения; река словно вспять пошла — видел ли это кто?
Ночь в августе здесь уже темная.
Крещение балтийской стихией происходило в темноте.
В темноте бросали землянки.
Никаких тебе половодий — пришло то, что потом назовут нагонной волной, наше мелководное цунами, сеющее ужас, панику, смерть.
«Зело, Государь, у нас жестока погода…»
В Лодейном Поле отчет о наводнении Петр получил, когда непогода прошла. Князь Репнин, командующий полками, брошенными на строительство крепости, пережив потрясение, царю сообщал (эти слова привел П. П. Каратыгин в своей «Летописи петербургских наводнений», 1888):
«Зело, Государь, у нас жестока погода, с моря и набивает в нашем месте, где я стою с полками, воды аж до моего станишки; ночась в Преображенском полку в полночь у харчевников многих сонных людей и рухлядь их помочило, а жители здешния, Государь, сказывают, что во нынешнем времени всегда то место заливает».
Сообщение достойно того, чтобы быть прочитанным вслух: так проще уловить интонацию — эту вкрадчивость, осмотрительность, приглушенность.
Чувствуется, как Репнин осторожничает. Так бывает, когда, не осмеливаясь рассказать о чем-то ужасном, человек ходит все вокруг да около, касаясь не самого важного, не самого страшного, не самого худого.
«…С моря… набивает… в нашем месте» — словно речь идет о простой бытовой неприятности, а не о неведомом разгуле стихии; Репнин как будто остерегается называть вещи своими именами, но ведь так и бывает, когда боятся произнести страшное, все обозначающее слово. Он явно не хочет — опасается! — расстраивать Петра. Он словно извиняется за «жестоку погоду», помешавшую освоению местности, столь Петру полюбившейся. Об ущербе, причиненном наводнением, говорится сдержанно и опасливо, — между тем пострадал провиант, это не шутка. А ведь войска стояли не на самых затопляемых участках; острову, на котором строилась крепость, досталось от наводнения больше — как минимум унесло строительные материалы, об остальном остается догадываться. Не уберегли — это полбеды. Но кто же мог предположить, что такое стрясется? Как вообще можно было такое представить? И эта растерянность, которую выдает тон Репнина, говорит сама за себя. Попробуй-ка рассказать, как произошло нечто, когда на недоуменный вопрос, обращенный к себе: «что это было?» — сам не знаешь ответа. Вот где беда. Правда открывается, и она нехорошая. Об этом, о главном, говорится в конце и с предельной осторожностью, — ссылка на здешних жителей всего лишь оттеняет собственные сомнения: а верно ли, Государь, сделан выбор? Там ли строим? Примечательно и то, что местных жителей расспросили только сейчас, когда вода ушла и твердь превратилась в болото. И надо же как! Оказывается, то, что случилось, — в порядке вещей. «Всегда заливает».
Так и видишь этого «жителя здешнего» в промокших лаптях, охотно сообщающего озадаченным дознавателям, ну буквально, как будет в тексте письма: «Всегда то место заливает». (Жест рукой «куда-то туда».)
И эта картина уже не в стиле условных передвижников, а в стиле вполне конкретных «митьков». Замечательно, что сей местный житель сам наверняка отбывает повинность на строительстве крепости.
«Почто раньше молчал?»
«Дык не спрашивали».
А еще он должен был бы прибавить что-нибудь в духе «и не такое бывало».
А бывало и не такое. И была жива у местных память о грандиозном потопе, что случился за двенадцать лет до того. Нам известно о нем от ганноверского резидента Ф.-Х. Вебера, записки которого с небольшим комментарием цитировал в своей «Летописи» П. П. Каратыгин. Из разговоров с местными рыбаками Вебер извлек мнение, что вода в 1691 году в центральной части будущего города должна была подняться на 25 футов — высоту, прямо скажем, немыслимую. Позднейшая, нет, наиновейшая молва, пуще всего интернетовская, приписала известие о 25 футах загадочным «шведским летописям», что позволило ряду современных авторов, оперирующих метрами и сантиметрами, предъявить отечественному читателю 762 сантиметра как вполне достоверное значение. Так и кочует этот уровень, данный с точностью до одного сантиметра, из публикации в публикацию. Но если верно то, что тогдашнее допетербургское наводнение достигло Ниеншанца, расположенного в пяти верстах вверх от Заячьего острова, не будем отрицать, оно действительно было крупнейшим из всех нам известных. Сильнее, чем самое катастрофическое петербургское наводнение 1824 года с подъемом воды 421 сантиметр.
Вебер беседовал с рыбаками через четверть века после того потопа; понятно, что в 1703-м, через двенадцать лет, память о потопе была живее.
Впрочем, трудно поверить, что организаторы строительства на Заячьем острове не слышали раньше о здешних наводнениях.
Трудно поверить, что Петр узнал об их регулярности из письма Репнина.
Ссылка на здешних жителей — риторический прием; сообщать от себя о такой неприятности Репнин не хотел.
Именно это и есть в письме главное — тон: осторожно, сдержанно намекнуть царю на возможность сомнений, дать понять, что не все так просто с выбором места.
А что царь? Полагаю, он не сильно расстроился.
В Лодейном Поле тоже дул ветер, и волновалась, поди, Ладога (до нее по реке верст семьдесят), но Свирь из берегов не выходила. Так что ничего особенного. Все живы.
Вызов стихии в нем возбуждал только азарт.
Через три года ему посчастливилось быть в Петербурге, когда пришло еще более сильное наводнение. Истории оно известно главным образом лишь потому, что царь, находясь у себя в «хоромах», самолично замерил уровень подъема воды от пола — 21 дюйм, о чем и сообщил в письме Меншикову. Это отвечает, согласно позднему пересчету, подъему воды выше ординара на 251 сантиметр[1]. Из более чем трех сотен петербургских наводнений данное занимает по подъему воды вполне почетное двенадцатое место. По классификации, принятой в Ленинграде (1980), оно относится к категории «особо опасных». Возможно, Петр с этой классификацией не согласился бы. «Вода хотя и зело высока была, беды большой не сделала».
А вот еще — смешно ему:
«И зело было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям будто во время потопа сидели — не точию мужики, но и бабы».
«Вест, дующий к осту»
«Качество вод» — так называется глава богдановского «Описания Санктпетербурга» (1749–1751), содержащая похвалу водной среде «сего Царствующего Места». Впрочем, тема первого же раздела этой в целом хвалословной главы посвящена свойству здешних вод, крайне неблагоприятному, и обозначена так: «Разлитие их».
Петербург ко времени своего первого «описания» перенес порядка сорока «разлитий», и вот наконец о них говорится как об особом природном явлении. Но текст замечателен не только этим.
У Богданова были свои представления о компактности текста. По возможности он старался конкретную тему — даже столь сложную, как описание невских наводнений с одновременным обоснованием причин, их вызывающих, — изложить одной фразой. Предложение получилось длинным, почти необъятным, — читатель, не предупрежденный загодя о трудностях восприятия, может и не одолеть его целиком, и тем не менее хочется процитировать эту длинную фразу полностью, она того стоит, тем более что в общих чертах все изложено добросовестно (ну не знал он, не знал про нагонную волну…), а что до остального — полагаем, читатель предупрежден.
Обращаю внимание на удивительное совпадение формы и содержания. Необъятное, исполненное волнообразных придаточных предложений, причастных оборотов и прочих синтаксических элементов, это бескрайнее сложноподчиненное предложение беспокойным «разлитием» все затопляющих слов само имитирует наводнение: читаешь и чувствуешь катастрофу — неминучую прибыль воды.
Вдох-выдох, и начинайте — желательно вслух.
«Разлитие сих вод во время вешнее по обыкновению прочих рек не бывает, бывает же разлитие их наичастее, почти повсягодно, во время осеннее (в сентябре, в октябре и в ноябре месяцах) от густости осенняго воздуха, производящего всякие мокротные сырости, а притом более случающихся от частых погод морских, а наипаче когда бывает ветр морской, веющий в самый зюнд (то есть вест, дующий к осту), который иногда подует так великим штурмом в самой тот Синус сего Моря (или Залив, в которой Нева Река впала со всеми своими устиями), то оным морским ветром со всего Варяжского Моря в тот Синус погонит всю ту морскую воду, в самый тот центр устия Невы Реки; тогда от оной морской погоды воде, в устия Невские вшедшей (да притом тою же погодою, или тем же ветром, и невское течение остановляемо бывает), и от такой остановки, или запору, как от сильнаго ветра, так и от волн морских, приражающимся во устия Невские, чинят Неве Реке в течении ея остановку, и от той остановки вода в Неве Реке возвышается, и чинит в Санктпетербурге великое наводнение, от котораго покрываются почти все острова, так что по многим улицам, как по каналам, на лодках ездят, и от таких наводнений водных и штурмов жителям сего Места, а паче промышленникам и торговым людям, немалый вред и убытки наносит».
Назовем ключевое слово:
«повсягодно».
Знаки-уровни
Память о наводнениях (в основном о катастрофических — 1824 и 1924 годов) наглядно задокументирована на улицах города в виде всевозможных указателей уровня подъема воды.
История этих любопытных помет, по-видимому, восходит к наводнению 1 ноября 1726 года, когда вода в Неве поднялась на 2 метра 70 сантиметров. Это по меньшей мере четырнадцатое, причем одно из самых больших за всю двадцатитрехлетнюю жизнь Петербурга. Под впечатлением события (а также вспомнив об аналогичном бедствии пятилетней давности) Екатерина I повелела именным указом «всякое строение впредь, кому где надлежит, строить выше нынешней вышней воды на фут и для того везде на строениях подготовить знаки; о чем в народ и Архитекторам объявить». Наводнение, к слову, памятно еще тем, что с уходом воды образовался остров, «который, от пустоты, назван остров Буян», как сообщает о том Каратыгин в своей «Летописи петербургских наводнений» со ссылкой на М. Д. Чулкова, изучившего историю российской коммерции. «На сем острове… построены пеньковые и масляные амбары». Надо думать, «выше нынешней воды» и с указанием уровня минувшей угрозы.
В наше время знаков подобного рода по всему Петербургу может набраться порядка полусотни — наиболее полный список приведен в справочнике «Мемориальные доски Санкт-Петербурга», выпущенном в 1999 году Музеем городской скульптуры. Вошли туда даже те пометы, которые до статуса мемориальной доски явно недотягивают. Тем лучше городскому гуляке, ценителю всего неброского, — наипаче ежели есть у него охота прислушиваться к «информационному шуму истории».
Пожалуй, шум — метафора неплохая. Если проводить аналогии, я бы этому классу настенных указателей допустил параллель звуковую. Представим себе, что тексты, которые им предписано сообщать, ими же оглашаются. Сила, тембр, полнота голоса зависят от состояния, заметности и значимости объекта. Кто-то громче, кто-то тише себя выражает, у кто-то получается только шепотом, у кого-то с хрипотцой. Есть, которые заикаются. Есть, которым и сказать нечего — одни мыки. Получается ровный широкополосный бубнеж. «Высота… вышина… уровень… октября… ноября… фут… бря… дюйм… года…» Шум равномерно распределен по исторической части города. Слабенький шум. Мы привыкли к нему, не замечаем. А заметим конкретный источник, подойдем поближе — и нечто внятное внимем. Чему удивимся.
Хотя, наверное, визуальные аналогии понагляднее будут. В самом деле, подобного рода памятки, которыми помечено каменное тело Петербурга, проще всего сравнить с татуировкой — с ненавязчивой такой, порой совсем неприметной. А коль скоро они никакие не украшения, этак стоит задуматься об их истинной ценности. Не обереги ли они? Не обереги ли от заклятья того — «быть пусту месту сему»? Эти прочерченные линии, эти уровни с буковками и цифрами, что такое, как не символы конкретной опасности, предупреждающие об угрозе, а значит, призванные ее отвести?
Самые наглядные из них — обычные мемориальные доски. Некоторые содержат развернутый текст. Прилагаемый к обязательной горизонтальной черте, он может сообщать, помимо общих календарных сведений, специфические детали события. Например, о третьем по силе петербургском наводнении можно прочитать: «1777 года сентября 10 дня пополуночи въ 7 часу вода стояла по красную линiю выше ординарной воды 9 футъ и 11 дюймовъ», — на этой же мраморной доске есть о наводнении 1752 года; в обоих случаях горизонтальные линии прилагаются. Доска входит в комплект мемориальных указателей, установленных на внутренней стене Невских ворот Петропавловской крепости. Слева от вас, внизу под гранитным пирсом, плещется Нева, справа распласталось свободное пространство до самого собора, — можно представить, как Нева, уже захлестнув казематы, втекает в крепость слева направо — а вы тут как измерительный столб. Под сводами Невских ворот хорошо прятаться от дождя, но не более. «Музеем наводнений» поспешили назвать журналисты эту стену с досками. Верхнюю позицию в данном «музее» занимает латунная мемориальная доска, посвященная наводнению 1824 года, когда «вода стояла выше горизонта ординарной воды 12-ть футъ 10-ть дюймов по означенную черту между литеръ А и В». Лично мне означенная черта — на уровне глаз, но место это по здешним меркам высокое. До «горизонта одинарной воды» подо мной еще порядком — столько же примерно, насколько поднялась вода (согласно нижней мемориальной доске) в наводнение 1788 года.
Ну, это место туристическое, популярное.
Есть ему по степени доступности прямая противоположность. Здание Первого кадетского корпуса, не столь давно (2012) переданное его бывшим владельцем, Академией тыла и транспорта, Петербургскому университету. Просто так туда не попасть. Есть там просторный зал, в котором слушатели военной академии играли прежде в баскетбол, — в нем на стене сохранилась высокая мраморная мемориальная доска, содержащая удивительные сведения. Прежде всего — по нашей теме: обозначен уровень воды двух наводнений — 1766 и 1824 годов. Странно только, что в 1766 году не было наводнения (тем более такого значительного — «8 футъ 10 дюйм»), похоже, ошибка, — может быть, 1777-й? Ладно, но каков контекст! На доске, кроме того (а скорее — в первую очередь), отмечены рост Петра Первого, короля Швеции, а также ряда августейших особ. Есть и такое — «Рост Его Имп. Высоч. НаслЂдника Цесаревича Великаго Князя Александра Николаевича 15 августа 1827 года» — то есть когда наследнику было девять лет. Баскетбол — спорт рослых. Каждому баскетболисту хочется помериться ростом с Петром. Прежде доска, говорят, находилась в кадетском саду; еще до революции ее установили в будущем спортивном зале, который в то время являл собою музей[2]. Уровни наводнений, истинные и указанные, разошлись при смещении доски по вертикали, зато человеческий рост, привязанный к полу, как был ростом, так и остался. Несомненно, объект пережил исторические катаклизмы благодаря царю-реформатору: Петра Великого у нас уважали. И за рост — тоже.
Более скромные и менее заметные указатели представляют собой небольшие таблички — чаще всего мраморные или металлические. В глаза они обычно не бросаются, и найти их порой можно в местах неожиданных. Например, в Ботаническом саду на Аптекарском острове — в зале, примыкающем к оранжерее (время подъема воды двух крупнейших наводнений зафиксировано здесь с точностью до минуты).
Еще менее заметны надписи, вырубленные прямо на цоколе зданий или на гранитных плитах. Казалось бы, им уготовлено долгое существование, но это не так, время их тоже не щадит, а еще больше — пескоструйные аппараты.
Выискивать такие знаки — занятие увлекательное; среди них есть загадочные в своем лаконизме; мало того что не сразу увидишь, но, увидев, еще и не сразу поймешь, что бы оно означало.
Такова, например, едва заметная десятичная дробь 2,2, неизвестно когда вкупе с короткой черточкой вытесанная на цоколе здания Правительствующего сената (Английская набережная, 2).
Это уже не татуировке сродни, а следу от прививки (как у нас на левом плече).
В другом месте, на цоколе того же здания (на выступе за углом), можно найти еще один знак — линию и надпись над ней: «Наводнение 23 сент. 1924 г.». Обе пометы, хотя и разнесены по гранитным плитам, дополняют друг друга: в первом случае указано значение высоты (еще надо догадаться, что подъема воды), во втором — определено наводнение: какое именно — дата и уровень, но без числового значения. Кто это вытесал? Почему в разных местах? Да еще в плоскостях взаимно перпендикулярных? Можно только догадываться. Памятные таблички и доски надо еще изготовить, а тут, пытаюсь я догадаться, вытесывали на граните сразу по следам катастрофы — сначала, должно быть, просто поспешили обозначить уровень с известной высотой, потом — взялись за более трудоемкую надпись.
Повернувшись к Неве, видим на том берегу Меншиковский дворец — да, Васильевский остров заливало всего сильнее. А к нашей Английской набережной тут рядом пришвартована (в данный момент) плавучая пристань — с надписями «Сенатская пристань», «Бургеры», «Фернанда» и «Кофе». Указатели уровня наводнений сомнений не оставляют — была бы сейчас такая вода, и вышвырнуло бы «Сенатскую пристань» на Сенатскую площадь, поближе к Медному всаднику, вместе с «Фернандой».
На Садовой улице у дома 21 на гранитном основании ограды можно найти дробь 1,7, с черточкой, — это относится к тому же наводнению 1924 года, хотя никаких дополнительных пояснений нет. Здесь вода подступала с разных сторон — с Мойки, Фонтанки и канала Грибоедова, — Спасский остров был залит весь.
Уровень самого катастрофического наводнения 1824 года аналогичным образом был отмечен на гранитном парапете, что принадлежал внешней лестнице у городской думы. Память об этом потопе хранят многочисленные таблички и мемориальные доски, но бесхитростная надпись на уже не существующей плите мне кажется особенно примечательной. Во-первых, как раз потому, что этой плиты уже нет, так что речь идет не просто о памяти, а производной от памяти (что, впрочем, не главное). Во-вторых, несмотря на то, что это здание на Невском проспекте вместе с его внешней лестницей построили много позже самой катастрофы, гранитная памятка о ней была здесь уместна: мачта на башне городской Думы одно время использовалась для оповещения о наводнениях и пожарах. В-третьих, расположение самой плиты. Тут надо чуть поподробнее.
К первой площадке ведут шесть ступенек, — вот на этой шестой и установили поперечную плиту впритык к боковому парапету. Назначение ее было вполне утилитарное, она служила опорой для поручня; будем считать, что, кроме того, еще организовала пространство, принуждая лестничную площадку быть смотровой. Отсутствие плиты, следует, однако, признать, на посещаемость площадки не повлияло: в часы шествий по Невскому и прочих массовых мероприятий здесь всегда собираются зрители. На этой плите и вытесали когда-то: «1824. НОЯБ» — и обозначили уровень подъема воды. Надпись была в самом низу плиты, а линия под этим коротким текстом — и вообще едва лишь виднелась над ступенькой. Стало быть, высота площадки отвечает уровню того наводнения. Маловероятно, что архитектурное решение наружной лестницы башни Думы настолько концептуально, чтобы здесь не было обыкновенного совпадения. В Петербурге совпадения на каждом шагу, мы к этому привыкли.
Но что-то такое было в этом. При всей невзрачности надписи поднимающийся по ступенькам замечал ее, — он словно выходил из воды шаг за шагом, а потом стоял как бы на поверхности невских вод в момент их наибольшей враждебности замыслу Петра. С этой высоты катастрофа видится по-другому.
По итогам реставрации в начале XXI века гранитная плита вместе с поручнем исчезла, — кажется, этого никто не заметил. Справедливости ради, помету перенесли, но так, что заметить ее практически невозможно. Теперь толпящимся на площадке (как, например, вчера — по случаю футбольных страстей) ничто не напомнит о том, какие виртуальные воды лижут их каблуки и подошвы.
А что балет?
Даже гимн города предопределен наводнением.
С этим понятно. Не было бы катастрофы 1824 года — не было бы и пушкинского «Медного всадника», не написал бы Глиэр музыку к одноименному балету и не звучал бы «Гимн великому городу» дважды в день на Московском вокзале строго по расписанию прибытия и отбытия «Красной стрелы» — на зависть москвичам (как мне сказала одна москвичка). Да, с Глиэром нам повезло. С Пушкиным тоже, конечно, повезло. Не повезло с наводнением. Но когда в начале нулевых стали российские города обзаводиться официальной символикой, Петербургу ничего не потребовалось изобретать по части музыки: гимн был обретен как данность.
Среднестатистический петербуржец воспринимает «Гимн великому городу» как явление, имманентное Санкт-Петербургу; Глиэр — это тайна, и означенный петербуржец не хочет, чтобы ему ее раскрывали: Глиэру не надо ни имени, ни отчества, ни внешности, ни биографии с датами жизни.
Глиэр, имя собственное, — вне исторической и повседневной реальности; зачем Глиэру еще и личное имя, если уже он Глиэр? Так могли бы звать героя Александра Грина, — разве нет Глиэра в «Алых парусах»? Даже слово «композитор» грубо обмирщает смутный образ вневременного небожителя — не столько создателя, сколько дарителя божественных мелодий. Глиэр — и этим сказано все.
Наводнение? — Да, конечно… Вода, много воды… «Медный всадник»… Нева… Опять же «Алые паруса»… то есть праздник… Белые ночи… Глиэр…
Ну и на Московском вокзале — регулярный, подобно выстрелу пушки на Петропавловке, — в урочное время Глиэр…
«Гимн великому городу» безотносительно наводнений и жертв стихии… и жертв катастроф… живет самостоятельной жизнью.
А что же «Медный всадник», балет?
А что балет? Балет — дело тонкое. Говорили, что «Гимн великому городу» свой балет пережил… А тут вдруг «Медный всадник» снова поставили. После долгого перерыва. В Государственном ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции академическом Мариинском театре. На Новой сцене. С анимацией. С гигантским копытом, заносимым над «бедным Евгением». С эффектным разгулом стихии. Кстати, на известной картине Федора Алексеева, нашего мастера городского пейзажа, художника, который после того наводнения прожил всего три или четыре дня, но успел, несмотря на болезнь, запечатлеть событие, очень хорошо показано буйство стихии на Карусельной площади — так тогда называлась Театральная: бревна плывут, бочки плывут, лошади тонут, — правда, тогда не было еще Мариинского театра, а был на месте нынешней Санкт-Петербургской консерватории построенный еще при Екатерине Великой Каменный театр, он же Большой, на сцене которого господствовала Истомина, и случилось это за 36 лет до того, как открылся Мариинский напротив того Большого оперой Глинки «Жизнь за царя», и за 125 лет до премьеры «Медного всадника» в Ленинградском ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции академическом театре оперы и балета им. С. М. Кирова, как назвался Мариинский театр в со…
Стоп!
…в советское время.
Стоп! Стоп! А как там с Пушкиным? И вообще — про что это? Нет ли ощущения, что…
Есть. Есть ощущение!
Начнем издалека. Имеем сказать следующее.
Противостояние «бедного Евгения» и Петра Великого, далеко не однозначное для самого Пушкина, у Глиэра дано в музыкальных образах, так или иначе выражающих идею исторической необходимости. Вода пришла и ушла, окно в Европу прорублено, жертвы оправданны (в смысле — принесены не зря). Не зря построен Петербург. Не зря «Гимн великому городу» — апофеоз балета.
Вот и Белинский примерно так прочитал Пушкина: «При взгляде на великана, гордо и неколебимо возносящегося среди всеобщей гибели и разрушения и как бы символически осуществляющего собою несокрушимость его творения, мы хотя и не без содрогания сердца, но сознаемся, что этот бронзовый гигант не мог уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь народа и государства, что за него историческая необходимость и что его взгляд на нас есть уже его оправдание…»
Не все, однако, читали поэму Пушкина в этом ключе.
Государь исторической необходимости не разглядел в поэме.
Будучи личным цензором Пушкина, Николай на рукописи поэта сделал пометы, означающие несогласие с текстом. Пушкин переделывать не стал, «Медный всадник» был опубликован посмертно. А вот Сталину балет «Медный всадник», напротив, понравился. Глиэр получил за музыку к балету Сталинскую премию (третью по счету).
Пушкин писал поэму («Петербургскую повесть» — по авторскому определению) через девять лет после потопа, Глиэр сочинял музыку для балета через несколько лет после блокады. В год премьеры закрыли Музей обороны Ленинграда («Музей блокады»), начались аресты по «ленинградскому делу». Готовились отметить и в декабре отметили семидесятилетие вождя.
Просто — исторический фон.
Вообще-то, лучше не сравнивать. Не будем же мы сравнивать несравнимое — допустим, дуб и розу. Конечно, между дубом и розой много общего, но и то и другое замечательно вовсе не сходством.
Вспомним, как взбесила Набокова опера «Пиковая дама». Досталось и Петру Ильичу, и Модесту Ильичу (этому больше). Набоков, великий знаток и самозабвенный защитник Пушкина, еще не видел балета «Медный всадник» и, скорее всего, не читал либретто Петра Аболимова. Удивительный человек. Можно было бы разделить его негодование и сарказм, если бы опера как вид искусства действительно имела отношение к литературе. Но опера заблуждается, когда мнит себя родственницей литературы. Никакого родства.
Литература — это литература. Опера — это опера. Балет — это балет.
«Дуб — дерево. Роза — цветок. Олень — животное. Воробей — птица. Россия — наше отечество. Смерть неизбежна».
(Эпиграф к «Дару». Из учебника русской грамматики. Универсальный эпиграф!)
«Медный всадник» поставили к 150-летию со дня рождения Пушкина. «Медный всадник» вдохновил на «Медного всадника». Замечательно. Больше Пушкин тут ни при чем.
Ведь у Пушкина как? Чем кончается «петербургская повесть»? «И тут же хладный труп его / Похоронили ради бога».
Точка.
Пушкин не стал бы после «Похоронили ради бога» петь восторженную оду великому городу… да что я говорю? — «не стал бы», — так он и не стал, он и написал по-другому, как считал нужным. Воспевания «младшей столицы» только и могли быть в начале поэмы — во Вступлении к ней, чтобы патетичная, демонстративно торжественная часть его, с величаниями и признаниями в любви («Люблю тебя, Петра творенье…» и т. п.), обрывалась недорифмованной строкой, обязанной подвиснуть в воздухе:
Тема закрыта. Величаний больше не будет. После восклицательного знака — преодолев нейтральную полосу интервала — оказываемся вместе с обособленной рифмой по ту сторону мадригала:
И это еще не начало собственно «петербургской повести», это только ее обещание, заглушающее пафос того, что Белинский назвал «апофеозой Петра Великого» и что вдохновило Глиэра на «Гимн великому городу».
Больше не будет «апофеозы».
Ну вот, Вступление позади, настроение задано. Тут уже не до гимна. Покатило. С новой страницы: «Над омраченным Петроградом / Дышал ноябрь осенним хладом…» и так далее, волна за волной. И так же как Петроград омрачен осенним хладом, весь пафос возвышенного Вступления, посвященного красоте и величию города, омрачается хмурой тональностью «повести».
Да, город прекрасен. Да, город велик. Но красота и величие — имеют цену. Их цена — катастрофа.
Их цена — страдания и гибель множеств и множеств.
Взнузд — от слова «взнуздать».
Вздыб — от слова «вздыбить».
«…уздой железной / Россию поднял на дыбы…»
За что и памятник.
Нам всегда это нравилось… На дыбы!.. Россию!..
А ну-ка, представим себя Россией… А ну-ка, вообразим узду железную у себя во рту. И —
Аааааааааааааааааааа!..
Скажут: но ведь «над самой бездной» же. Историческая необходимость.
Что-то такое мы уже слышали. Про «шоковую терапию», например…
Может быть, «волны финские» действительно не будут (да вот как будто перестали — из-за дамбы в заливе) «тревожить вечный сон Петра», но от этого ему не отделаться: «Ужо тебе».
Разве не так с Пушкиным?
А балет? Балету интересно другое. «Жизнь продолжается» — вот что надо балету, а не «хладный труп», лежащий на сцене под занавес. Гимн великому городу должен звучать в финале. В постановке Мариинского театра (2016) к постаменту «кумира на бронзовом коне» (и чем же он не кумир?) молодые петербуржцы и петербуженки под торжественную музыку Глиэра возлагают цветы. А почему, почему не на могилу Евгения?.. Сам Евгений тоже образуется въяве (но без цветов) — стоя на горбатом мостике с ажурными перилами, он, непонятно улыбаясь и слушая Гимн великому городу, глядит в пространство. Похоже, в тех эмпиреях, откуда он возвратился, ему объяснили, что «ужо тебе» было мальчишеством. Должно быть, он примирился с Петром Великим и смирился с «участью индивидуальности». Что-то понял об исторической необходимости. Есть статистика, и кто-то должен попадать в печальные графы таблиц.
А то еще лучше.
Получается, что он и невеста его, погибшие ни за что ни про что, — принесены в жертву. Вот прямо так, на наших глазах. Буквально.
И жертва принята: апофеоз!
Так что же получается — слушая восхитительный гимн Глиэра, а потом аплодируя стоя, мы переживаем сопричастность… чему?
К жертвоприношению?
Получается, все, что нам показали, — жертвоприношение это.
У Пушкина такого нет.
Скажут, что и здесь такого нет.
Конечно нет, но так получается.
Такой, получается, гимн.
Рассказ кочегара
Сидим в кафе на Карповке. На мой вопрос, приходилось ли дежурить, когда случались в городе наводнения, поэт-кочегар Дмитрий Григорьев «Еще как!» говорит и с присущей ему обстоятельностью рассказывает:
— …Дело в том, что подвал школы, где я работал в маленькой котельной — на Адмиралтейской набережной, дом четыре, а по Черноморскому — два, был плохо гидроизолирован. Стоило Неве подняться выше критического уровня, как подвал начинало подтапливать. Причем вода шла к нам не из канализационных труб, а непосредственно из-под земли. Ты сидишь на работе, и вдруг из-под косяка двери из машинного зала в бойлерную начинает бить струйка. Потом — из щелей в полу, еще откуда-нибудь. И вода прибывала чистая. Такие роднички, понимаешь? По всему полу роднички, которые заполняют котельную.
При этом в некоторые наводнения, когда уровень воды в Неве подскакивал быстро и уходил быстро, нас не затапливало — вода не успевала просочиться через почву — ведь от школы до реки метров сто будет. А когда даже небольшое наводнение длилось долго, то вода начинала прибывать.
В котельной самое главное, чтобы не затопило электрический насос. Электрический насос — это сердце котельной, если его двигатель зальет водой, будет полная задница. Один раз, это было даже не мое дежурство, наш бессменный легендарный руководитель Иван Палыч Шкирка сорвал меня в котельную — ночью, помогать сменщику Саше, если придется снимать насос. Когда я приехал, вода была уже выше щиколотки. Насосы расположены на уровне колена, и, если бы вода до них дошла, электродвигатели насосов пришлось бы демонтировать и поднимать. Это очень муторное занятие, трудоемкое.
К середине ночи вода подступила к основанию насосов, но мы все тянули время, и правильно делали, потому что дальше подъем остановился. Все электричество мы, естественно, заранее отключили, чтобы нас током не убило. Полутьма, мы ходим при свете ручных фонариков по воде. Холодно. Котельная обесточена, все стоит. Свечи на столе горят, стол пока еще не плавает…
Дмитрий замолкает, обводит столики взглядом, словно хочет увидеть похожий на тот, и, погладив бороду, продолжает:
— Но из котельной уходить нельзя. Поэтому, убедившись, что вода больше не поднимается, кое-как разместились. Саша забрался с ногами на стол, я — на боров, это дымоход от котлов. Постелил там коврик, лег, накрылся ватниками и одеялом.
Тут надо сделать одно отступление: мой сменщик был «свидетелем Иеговы». Когда-то у нас, в котельных Ивана Палыча, только писатели, поэты, художники да диссиденты работали (потому-то он и легендарный, Иван Палыч Шкирка), а в конце восьмидесятых к ним разные религиозные меньшинства добавились. Так вот, за день до наводнения Саше принесли новый перевод Ветхого Завета. Раньше «свидетели Иеговы» пользовались православной Библией, нашей, синодальным переводом, считали его лучшим, а тут они сами перевели, и, конечно же, теперь их перевод, с точки зрения моего сменщика, стал самым правильным. Саша обложил себя свечами, достал обе книги, начал сравнивать и вслух комментировать изменения. Представь себе картину: сидит на столе человек, вокруг горят свечи, плещется внизу везде вода и он читает библейские тексты. Как-то не по себе мне от этого… Попробуй-ка разбери, какой это год, какой век… И ночь ли это?.. И будет ли рассвет?.. Лежу на борове, а он вещает: «Вот, Димка, смотри, у вас написано так, — и цитирует православную Библию, — а у нас вот так, не правда ли, лучше?» Я говорю, это не моя тема, трудно сказать. А сам думаю: где я? На этом ли свете, в этом ли мире.
Потом, когда все-таки рассвело, вода на убыль пошла. Сколько лет прошло, а вспоминаю, как сон.
Молчит, глядит в пространство. Не хватает еще, думаю, чтобы и мне это приснилось.
Мы жили на втором этаже
Оказывается, я не единственный, кто в детстве с некоторой тревогой поглядывал на указатели уровней невских наводнений.
Рядом с нашим домом, в котором я родился и прожил бóльшую часть жизни, таких два, оба — на Московском проспекте, но по разные стороны от Фонтанки. Память о наводнении 1924 года хранит чугунная табличка, установленная за памятником Менделееву рядом с воротами дома, в котором ученый жил. Менделеев — первый в России, кто предпринял системный подход к проблемам метрологии. Табличка на этом месте — дань уважения Дмитрию Ивановичу и наглядный пример образцового измерения — в данном случае уровня подъема воды 23 сентября в 20 часов. Это второе по катастрофическому ущербу наводнение после знаменитого 1824 года. Табличка сейчас установлена низко, у самой земли, и будь мой склероз покрепче, я бы решил, что за мою жизнь культурный слой подкрался к самой черте, как вода в наводнение. Но я-то помню, табличка прямо на воротах раньше висела, и была она чуть выше тогда, — заменили ворота, ее перевесили (фальсификация ведь?), но я-то помню: был у меня в дошкольном детстве момент, когда я впервые табличку увидел и она мне внушила некоторый оптимизм — все правильно: за одну автобусную остановку от Фонтанки я бы подобное наводнение перенес.
Хуже было с мемориальной, солидной мраморной, почти величественной доской на стене ЛИИЖТа[3]: «До этой черты доходила вода во время наводнения 7 ноября 1824 года», — проходя мимо, что было почти каждый день, я косился на нее с неприязнью; высота, обозначенная на ней хорошо прорезанной линией, мне определенно не нравилась. Строго говоря, их там два указателя: один, поскромнее, опять же касается наводнения 1924 года, — надпись и черта вытесаны прямо на гранитном цоколе дома, и с этим уровнем еще как-то можно было мириться, этот не в счет (если встану на цыпочки, то уцелею), но тот, установленный значительно выше, был возмутителен: он сообщал мне — высокомерно! — что в 1824 году здесь мне было бы с головой. Вывод один — надо расти. А рос я плохо: когда в школу пошел, на физкультуре в строю был по росту где-то в конце.
Между прочим, я помню, когда впервые узнал о катастрофической мощи наших наводнений. Слово «наводнение» я слышал и раньше, конечно, но именно в тот день оно отяготилось для меня зловещим значением. В нашем доме жил мальчик Андрюша, он был старше меня на полтора года и в сентябре готовился пойти в школу. Как-то раз, в один погожий весенний день, наши бабушки решили отвести нас в Зоологический музей. Помню, мы шли по набережной Фонтанки, мы с ним впереди, а бабушки наши за нами. На правах старшего этот Андрюша стал меня грузить различными тяжелыми знаниями — и все в стиле страшилок. Конечно, он пользовался другими словами, но по смыслу — «быть сему месту пусту» (как я сейчас понимаю). Да! Нас всех ждет потоп. Масштабы грядущего бедствия, рисуемые Андрюшей, были столь велики, что я даже не знаю, с чем сравнить это. Фридрих Христиан Вебер, ганноверский резидент, сейчас приходит снова на ум, с его доверчивостью и склонностью к преувеличениям. 25 футов — по-нашему, 762 сантиметра. Рыбаки с Петербургского острова тогда уверили Вебера (во всяком случае, он так их понял), что от наводнений они «убегают на Дудергофскую гору», — но это двадцать пять верст от Невы, возможно ль такое? — что-то слабо мне верится в сей спасительный Арарат. А вот Андрюша тогда прорицал, что вода поднимется до третьего этажа и все, кто ниже, погибнут. А мы жили на втором этаже. Он сказал, что я погибну самым первым. Потому что не умею плавать. А он умел.
В Зоологическом музее меня ждало новое потрясение: я впервые увидел человеческий скелет.
В общем, запомнился день.
Вечером я вывалил на отца кучу вопросов. Сам разговор память не сохранила, но странное дело, по итогам беседы, помню, я одно точно вынес: в наших краях не будет землетрясения.
Вряд ли это связано с тем разговором, но скоро меня отдали в бассейн на улице Правды (без кавычек, хотя «Правда» — газета).
В младшую группу.
В «лягушатник».
Реликтовое самоприсутствие

Попробую объяснить
Реликтовое самоприсутствие в петербургском пространстве.
Реликтовое… да еще сáмо-…
Хорошо, допустим. Но — чего? Чего самоприсутствие?
А не важно чего. Отложений минувшего.
Попробую объяснить.
Здесь аналогия — очень отдаленная — с реликтовым эхом, реликтовым излучением, известным нам из космологии. Помните, как «однажды» в ранней Вселенной (кто же такое забудет?) остывание всеобъемлющей плазмы привело к образованию вещества — конкретно атомов водорода и гелия? Ну так вот, к нашей грядущей радости, Вселенная стала прозрачной для фотонов, теперь уже свободно распространяющихся в расширяющемся пространстве, и спустя примерно тринадцать с половиной миллиардов лет это фоновое, порядком уже остывшее излучение уловили хитроумным антенным устройством — как эхо того вселенского карамболя.
Оставаясь на Земле, представим нечто здешнее, не совсем, однако, очевидное в части здешнего нахождения — нечто, может быть, вещественное, предметное, может быть, умопостигаемое, — что могло бы также быть чего-то следствием, следом, возможно, эхом.
Реликтовое эхо, о котором выше, это ведь не одноразовое «ау!», оно длится и длится. Так и здесь. Те следы-следствия нам даны в своем долгосрочном объективном наличествовании, одним словом — в самоприсутствии.
Отчего же сáмо- это — присутствие непременно тоже «реликтовое»? Да оттого, что relictum — с латинского это остаток. Самое то.
А временны́е размеры дистанций до сколь угодно далекого прошлого — не так принципиальны для нас, не так важны, как возможность, собственно, самоприсутствия прошлого через свои же «остатки».
Захотим и масштаб временной поменяем в пределах восьми-девяти порядков.
Честно сказать, именно этого нам и хочется.
Дистанция — десятилетия
Это странно, насколько уже неразличимы в современном петербургском быту следы блокадного времени.
Я не о памятниках и мемориалах, не об экспонатах музеев, не о специальных приемах консервации памяти — хотя бы в семейных архивах. Речь именно о повседневном быте, о самоприсутствии следов тех суровых дней (лет) в живом пространстве города.
В конце прошлого века я еще знал несколько оконных стекол, на которых сохранились едва заметные следы от перекрестий, — оставаясь в оконных рамах, стекла эти, пережившие не только бомбежки, но и ежегодные сезонные мойки, продолжали отвечать своему функциональному предназначению. Да у нас самих имелось дома такое стекло — в правом окне на Московский проспект, — причем я, смотрящий в это окно с рождения, был уже вполне взрослым человеком, когда впервые различил на стекле в старой раме эти слабые следы от блокадного клея. Стекол в других окнах квартиры, выходящих тогда на (тогда) Международный проспект, насколько мне известно, уже не было, в блокаду их заменила фанера, — жили в маленькой комнате с окнами во двор: там была печка.
Жена моя как-то гостила в одной английской семье — они приобрели квартиру в старом доме за Казанским собором (по бывшей Плеханова, а теперь по Казанской улице). Новый хозяин заменил все оконные рамы стеклопакетами, кроме одной, — там, на стекле, он обнаружил кем-то выцарапанное: «1942».
На углу Загородного проспекта и Подольской улицы над крышей дома возвышается небольшая башня, — после уроков, где-то так в классе пятом-шестом, мы полюбили на нее залезать. Жильцам не нравились наши блужданья по крыше, но люк на чердак с черной лестницы почему-то не закрывался. Башню окружала кольцом обзорная площадка, и там было на что смотреть — на город, с высоты над крышами он представлялся восхитительно неожиданным, незнакомым. Если приглядеться, можно было различить вдали еще две-три подобные башенки (конструктивистская пожарная вышка через улицу не в счет). Нетрудно было догадаться, что это имеет отношение к войне, хотя, по правде, нам до того было мало дела. Сейчас я знаю, что это башни местной противовоздушной обороны — МПВО. Они хорошо послужили во время блокады, хотя построили их с расчетливой предусмотрительностью еще до войны — как посты воздушного наблюдения, оповещения и связи. Уже когда я учился в школе, о них, похоже, забыли, и в первую очередь потерял к ним интерес владелец этих объектов — Министерство обороны в лице соответствующих структур, на балансе одной из которых они продолжали формально числиться. А число их, говорят, более ста. Не предусмотренные архитекторами зданий, они парадоксальным образом украшают город. Не слишком заметные и, однако же, на виду, с некоторых пор они привлекают внимание горожан, отчасти спровоцированное организаторами несанкционированных экскурсий по крышам.
А вот кое-что о некоторых пустырях, был со мной, помнится, случай где-то в середине семидесятых. Надо мне было зайти к одному человеку по адресу: Бронницкая улица, дом 6. Я прикинул, где это, — где-то у Загородного проспекта, недалеко от Техноложки, от моего дома минут пятнадцать идти; пошел. Я этот район, мне казалось, неплохо знал, школа наша была на Подольской, а все эти параллельные улицы — Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская, Бронницкая — запоминались по мнемоническому правилу, известному, наверное, всем ленинградцам: «разве можно верить пустым словам балерины?». Но что-то у меня с адресом не заладилось. Не мог найти дом 6. После дома 4, недавно построенного на большом пустыре, сразу по этой четной стороне улицы шел дом 10. Вместо двух отсутствующих домов зияло пустое пространство — часть прежнего пустыря. Там только вентиляционная шахта метро была, и ничего больше. Я там все обошел, и во внутренний дворик заглянул, и даже, обескураженный ко мне обращенным брандмауэром (что-то не то…), через подъезд на соседнюю улицу проник, потому как заподозрил дом на Серпуховской улице в том, что он на самом деле относится к Бронницкой, — но не было нигде моего шестого. Спрашивал — никто ответить не мог. Наконец одна пожилая дама, как-то странно на меня посмотрев, тихо сказала: «Так его ж разбомбили». Я ушам не поверил — спросил: «Кто?» — «Как — кто? Немцы. Кто же еще?» Я бумажку ей хотел предъявить с записанным адресом, но что могла доказать бумажка? Не зная, что и подумать, поплелся назад. Потом выяснилось, что я неправильно записал адрес — надо было не 6, а 16. А домов 6 и 8 по Бронницкой действительно не было. Сейчас я знаю, что их действительно разбомбили (и прежний дом 4 тогда же) в начале блокады, в первых числах октября сорок первого. Это история о ленинградских пустырях и пустотах — к вопросу о самоприсутствии.
С пустырями в городе все непросто. Если пустырь — значит что-то было. И до того, как что-то было, что-то было другое.
Вот по Кронверкской улице сейчас тоже нет дома с номером 6. А по пересекающей ее Сытнинской нет адресов с номерами домов 9 и 11. Адресная дыра соответствует, конечно, пустырю, не так давно образовавшемуся на этом месте. В 2014-м снесли здесь два бывших доходных дома — чтобы построить нечто многофункциональное, современное, сугубо доходное. На позднейшей злосчастной репутации этих домов как места весьма «нехорошего» останавливаться не будем. Сразу скажем, что частная компания, купившая у города землю, произвела в соответствии с законодательством необходимые археологические изыскания, и вот, к ее потрясению, результат: здесь обнаружено коллективное захоронение (вернее, сразу три — рядом друг с другом, еще одно малое, там четверых, и еще два одиночных) — останки 255 человек[4]. Мужчины, преимущественно или молодые, или зрелого возраста, по-видимому работные люди — первостроители Петербурга. Умерли до 1710 года. Предполагают, от какой-то инфекции. Место это в XVII веке было известно под прозванием Козье Болото. Где-то здесь рядом совершались казни.
На момент написания этой книги будущее территории остается неопределенным. Во всяком случае, строительные планы отменены. Обычный с виду пустырь оказался, по сути, кладбищем, причем одним из первых.
Место пока никак не обозначено. Красовалась одно время надпись на брандмауэре — большими буквами и довольно странная: «Кто-то все еще любит тебя, Борис Ельцин». Потом закрасили.
Этой весной проходил мимо, увидел небольшие пирамидки на пустыре — из камней и битого кирпича. Подумал, уж не культовые ли сооружения каких-нибудь сектантов? Подошел. Нет. Просто мусор сложили кучками. Следы субботника.
Вот, скажем, был такой правитель Сталин. Был культ Сталина, и еще какой! Потом культ был побежден — в частности, методом утилизации материальных свидетельств. Что было потом, то было потом — здесь не о культе, не о политике. И уж тем более не о ностальгии. Но разве не интересны последние, чаще всего скрытые раритеты минувшего времени, практически лишенного материальных свидетельств его достоверности? Нам дороги единицы хранения в нашей коллекции впечатлений, особенно если они связаны с личными открытиями, и в данном случае — по ведомству палеонтологии… Это правда — сродни раскопкам. Хотя есть разница. Там — ищут. А мы не ищем, мы всматриваемся. Наша задача — протереть глаза. Итак, вопрос. — Остались ли в публичном пространстве Петербурга материальные свидетельства эпохи культа? Ответ. — Остались. Их мало.
О первых двух нынешним знатокам хорошо известно. Барельефный медальон на станции метро «Площадь Восстания», где Ленин провозглашает советскую власть на II Всероссийском съезде Советов, а Сталин (попробуй-ка рассмотри) стоит за его спиной рядом со знаменем. Есть также тусклый профиль на бронзовом знамени, которое держат столь же бронзовые молодогвардейцы в Екатерингофе, еще не так давно называемом парком 30-летия ВЛКСМ, а до того — парком имени 1 Мая.
Еще один: памятник Кирову на мясокомбинате, где Сергей Мироныч упирается на книгу с шестью буквами на корешке…
Эти артефакты, в силу их незаметности и незначительности, не уничтожались в последовавшую эпоху борьбы с культом, их посткультовое существование никого не трогало, потому что мало кто о них тогда знал (подозреваю, об «авторстве» книги на памятнике Кирову не знал никто, и я помню свой восторг, когда, не совсем легально побывав на мясокомбинате, этом режимном в ту пору объекте, куда просто так не пускали, сильно увеличил снимок памятника и различил на корешке книги слово «Сталин», — о да, я уловил тогда эту тень — реликтового самоприсутствия…).
А покрытые металлическими щитами медальоны с профилем Сталина на триумфальных пилонах, посвященных Победе (улица Коммуны, Пороховые), были расконсервированы в 2005 году — в атмосфере обоюдовыраженной экзальтации, — воспринимались они почти как новодел, чуть ли не политическое выступление, и я бы с большой осторожностью применил к их отчужденному прежнему существованию категорию реликтового самоприсутствия. То же надо сказать о вновь обнаруженных бюстах Сталина, долгие годы таившихся в отгороженном закутке Военно-морского музея; и о мозаичном изображении вождя народов — по слухам, скрытого от глаз пассажиров метро за торцовой стеной станции «Нарвская» (да нет его там, нет!). Я вот знаю, что на чердаке одного просветительского учреждения в центре города до сих пор пылится большая — больше среднего — голова Сталина (мне рассказал знакомый поэт-переводчик, имеющий отношение к ремонту теплосетей), но выдавать чужие секреты не буду. Сокрытие этих объектов скорее говорит об их отсутствии в актуальном пространстве истории, чем о самоприсутствии через них известного прошлого, погруженного в сон.
Этот пример как бы близкой реликтовости.
Конкретная эпоха отделена от нас по шкале времени какими-то десятилетиями (столетиями — как в случае с «кронверкским пустырем»).
Можно привести примеры реликтового самоприсутствия — в контексте Петербурга (и без всякой мистики) — эпох, отдаленных от нас на сотни миллионов лет. И даже — на миллиарды!
Я серьезно — на миллиарды!
Но об этом позже.
Сейчас пример тысячелетней дистанции.
Говорили о Сталине. Теперь о фараоне.
Дистанция тысячи лет: ошибка маркиза
Маркиз де Кюстин впервые увидел Петербург со стороны Невы: «Уже в самом городе вы проплываете мимо сфинксов, высеченных также из гранита; размеры их колоссальны, облик величествен. Как произведения искусства эти копии античных творений не стоят ровно ничего, но мысль выстроить город, состоящий из одних дворцов, великолепна! Тем не менее подражание классическим памятникам неприятно поражает вас, когда вы вспоминаете о том, в каких широтах находитесь».
В 1839 году просвещенному иностранцу, посетившему Петербург, даже в голову не могло прийти, что огромные сфинксы, установленные над Невой, — настоящие. Трудно, однако, сказать, чтó фантастичнее — его предположение о русском проекте зачем-то ваять себе сфинксов в подражание египтянам или действительно имевшее быть многосложное дипломатическое предприятие, следствием которого и стала доставка гранитных сфинксов фараона Аменхотепа III — к нам, сюда (зачем-то!), под пасмурное петербургское небо.
Пикантность ошибке маркиза придает то обстоятельство, что о приобретении этих сфинксов как раз помышляла Франция, — не вышло в силу внутренних потрясений. В конце концов, не маркизу де Кюстину сомневаться было в подлинности подобных артефактов, — Луксорский обелиск уже три года красовался на площади Согласия, и вряд ли маркиз допускал существование человека, способного усомниться в подлинности памятника.
Меня в этой ситуации более всего поражает вот что. Сфинксы и река. Фантастические сфинксы оказались на берегу реки более чем необычной — где-то даже невероятной реки. Спрашивается, есть ли что-то такое, что позволяло бы сравнить без всяких натяжек древние гранитные изваяния с природным потоком воды, текущим от истока к устью? Есть ли что-нибудь общее между гранитными сфинксами из древних Фив и нашей Невой? Представьте себе, есть. Мы знаем такой признак сближения, и схожесть по нему гранитных сфинксов Аменхотепа III и рекой Невой поразительна, — по этому признаку, пожалуй, вряд ли найдете другую реку, отвечающую такому невероятному соответствию. О нет, гранитные набережные тут ни при чем, гранитные набережные во многих есть городах. Дело не в этом.
Сфинксы и Нева — практически ровесники.
Похоже, они даже ровесники по более человекоразмерным масштабам, чем по геологическому летоисчислению.
Сфинксы с лицом Аменхотепа III были изваяны при его жизни, а умер он в 1351 году до н. э.
Сфинксы — древние, с этим понятно. А Нева — река молодая. И не просто молодая река, а очень молодая. Образовалась она в результате одного геологического события — стремительного сброса воды из Ладожского озера.
Возраст Невы различные авторы исчисляют по-разному. Ей дают и 4000 лет, и 1200. Финские геологи Матти Саарнисто и Т. Грёнлунд по отложениям небольших озер на острове Кильпола определили, когда эти водоемы обособились от Ладоги; ученые полагают, что причина тому — резкий сброс воды как результат продолжительной трансгрессии (поднятия уровня) Ладожского озера. Так образовалась Нева. По расчетам финских исследователей, случилось это в 1350 году до н. э.
Получается, невским сфинксам практически столько же лет, сколько самой Неве.
Впрочем, вопрос о возрасте Невы еще не решен. Идут научные споры. Но если выводы Саарнисто верны, совпадение возраста сфинксов с возрастом Невы ошеломляюще точное, не так ли?
Только представим. Левый берег Нила. Каменоломни. Огромные глыбы розового гранита. Далее: сфинксы. Они величественны и прекрасны. У них лицо Аменхотепа III, «Царя Верхнего и Нижнего Египта», «властителя Фив, возлюбленного Амоном, владыкой престолов Обеих земель».
Погребальный храм фараона. Перед ним установлены сфинксы. Однажды богоподобный отправился на небо, где ждала его ладья Солнца. Одновременно со смертью всемогущего фараона родилась на другом конце земли, далеко на севере, полноводная река — прорвалась бурлящим потоком сквозь водораздельную твердь междуречья. Чем не кино? В жанре фэнтези. Но это не все.
Дальше — больше.
На протяжении многих лет (может, столетий) Нева утверждалась в своих берегах. Тем временем Новое царство приходило в упадок, тяжелые кризисы потрясали Египет.
Когда на Неве создавался Санкт-Петербург, сфинксы с лицом фараона лежали, погребенные толщей песка. Две тысячи лет минералами кварца были забиты их огромные, широко открытые глаза.
Сюжет ускоряется и становится несколько авантюрным, не без гротеска.
29 июля 1830 года, третий день Французской революции: восставшие берут Лувр. Поубивав швейцарских гвардейцев из числа тех, кто не успел разбежаться, народ в праведном гневе своем погромил кое-что в дворцовых залах, в частности египетский раздел музея Карла X, ненавистного короля, против которого, собственно, и восставали. Возможно, досталось бы и египетским сфинксам, не так давно откопанным в Фивах, успей король приобрести их для Франции за 100 000 франков. Но не успел, и не украсили они собою Париж. Весть об отречении короля, дошедшая до Египта, означала, что сделка срывается. Правда, еще были русские, которых, казалось бы, уже опередила Франция. Русский сюжет развивался самостоятельно — он начался значительно раньше, когда Андрей Муравьев, двадцатитрехлетний паломник (да, тот самый приятель Пушкина), увидел в Александрии одного из двух сфинксов, выставленных на продажу, восхитился увиденным и сразу же понял, чего не хватает России. Русский сюжет неспешен, это история о переписке, субординации, о больших расстояниях, о сомнениях, авторитетных выводах и страстной любви к Египту, о том, как сложно письму догнать адресата, когда он в пути, даже если он сам государь, посетивший Европу. Долгая история, но без революций, может быть, потому и счастливая. Но… Что время сфинксам?
Так или иначе, но в мае 1832-го итальянский корабль с оптимистическим названием «Большие надежды» и двумя сфинксами на борту после года морских странствий вошел наконец в Неву.
Нева и сфинксы — они нашли друг друга.
Сфинксы из асуанского гранита легли на пьедесталы из финского.
Для них Нева — новый Нил.
Замечательно, что В. В. Розанов, в свое время восхитившийся сфинксами (впервые он их увидел в 1893 году), усмотрел — по противоположности — связь между реками и городами: «Самая коротенькая река в мире течет мимо их, как три тысячи лет назад текла самая длинная; и город самый новый из европейских шумит около обитателей самого ветхого в истории города»[5].
Он сказал, округлив: «…три тысячи лет назад…» — и, назвав время их рождения, интуитивно почти приблизился к этому невероятному совпадению: когда «три тысячи лет назад текла самая длинная», как раз и родилась «самая коротенькая река в мире».
Он не мог знать тогда, что «самая коротенькая» — еще и «самая молодая», не было тогда соответствующих исследований. Но можно представить, какой бы восторг овладел Василием Васильевичем Розановым, если бы он узнал, что Нева и сфинксы ровесники!
Нил. Нил — он и есть. И никуда не попляшешь.
Удивительно, что новым Нилом оказалась именно Нева, на другие реки мало похожая (могла ведь и Сена быть, хотя, положа руку на сердце, какой Нил из Сены?). Нева, конечно, тоже не Нил. Но трудно представить из полноводных рек что-нибудь более противоположное Нилу. Возраст Нила измеряется миллионами лет. Неве каких-то три тысячи. Нил — вторая по протяженности река на планете (до недавнего времени считалась первой); протяженность Нила — 6852 километра, что всего на 140 километров меньше длины Амазонки. А Нева по длине даже этой разницы в протяженности величайших рек мира почти вдвое короче, — Нева немыслимо коротка — всего 74 километра. Знаменитые разливы Нила одаривали человека плодородной землей, — благодаря им возникла египетская цивилизация. Нева (притом что течет по равнине) совершенно не знает разливов, у нее даже нет поймы. Полагают, что в низовьях Нила два раза (три?) за обозримую человеческую историю появлялся лед. Мы не знаем зимы, когда бы не замерзала Нева.
Странно как-то сравнивать Нил и Неву.
А появление древних египетских сфинксов на Неве, это не странно?
А то, что все это — гранитное и водяное, — по сути, одного возраста, это не странно?
Глубже, дальше. На дне
Почему-то с петербургским летоисчислением так получается: Петербург основан, как известно, в 1703 году, совсем недавно, но стóит очередному историографу града Петрова коснуться в своей многостраничной книге темы предыстории Петербурга, как он тут же находит себя обязанным окунуться в глубь тысячелетий — как минимум в последний ледниковый период. И это правильно. Такова логика исторических, нет, даже историко-геологических событий. Без них многого не объяснить. Что тут вообще происходит? Хотя бы последние тысячелетия? С какого рожна образуются реки? Что это за странное место такое, на котором то ли роковым, то ли счастливым образом Петр надумал основать город? Есть, короче, вопросы. Череда геологических метаморфоз, имевших следствием появление столь полноводной и притом на удивление короткой реки, хотите или нет, требует упоминания. В общем, надо начинать с отступления ледника, а это 16 тысяч лет назад.
Авторы книг, посвященных истории Петербурга, если и затрагивают эту тему, то обычно в самом начале своих трудов — где-нибудь в первой главе или ей соответствующем вступлении. Мы себя строгостью изложения, как заметил читатель, не сковываем, а потому прямо тут и помянем прошедшие тысячелетия. Будем считать, спровоцировали нас древние сфинксы на набережной Невы.
Итак, вкратце.
Во всем виноват ледник. Пролежав около 100 тысяч лет на Восточно-Европейской равнине, он наконец отступил. Талые воды заполнили котловину и обогатили гидросферу Земли новым объектом — Балтийским ледниковым озером, как его сейчас называют. А тогда его никак не называли, потому что тогда людей в этих холодных местах еще не было. Впрочем, не совсем так: первые стоянки древних людей стали появляться по этим берегам — вот, например, на датской стороне, — когда еще огромное озеро существовало как озеро, то есть не имело соединяющего с океаном пролива. Ну и что тут забыли древние люди, в арктическом климате? Им земли не хватало? Нет, не хватало оленям — ягеля. Их стада продвигались по тундре (в прибрежной зоне были тундра и полутундра). Люди — охотники — шли за ними. Вроде бы тех людей считают выходцами из Северной Африки. Некоторые элементы культуры будто бы сближают их с берберами. Это, конечно, удивительно все, но к Петербургу отношения не имеет.
А что имеет, это то, что место Петербурга было на дне.
Но не только это. Идем дальше.
В течение нескольких тысячелетий на территории, покинутой ледником, произошел ряд значительных событий. Назовем одно — грандиозный сброс Балтийского ледникового озера. С потеплением южная оконечность ледника, подпиравшего с севера приледниковое озеро, благополучно разрушалась и таяла, пока в районе (грубо говоря) нынешнего Стокгольма не случилось то, что называют «прорвало». Полагают, катастрофа произошла примерно 11 700 лет назад. Гигантская масса воды низверглась в океан за один или два года. Уровень озера резко упал (на 25 метров!), а когда он сравнялся с океаническим, озеро закономерно превратилось в море. Но это еще было не Балтийское море. Это было Иольдиевое море, как его сейчас называют.
Разумеется, место Петербурга было на дне.
Отступление ледника привело в движение освободившуюся от напряжений земную кору, — собственно, мы до сих пор наблюдаем явления так называемой гляциоизостазии: Швеция, вследствие того ледникового стресса, до сих пор поднимается на сантиметр в год, Голландия медленно опускается… — ну а тогда, по горячим следам ледника, земля поднялась, пролив исчез, море снова стало озером, на этот раз — Анциловым, как его сейчас называют. И был его век равен тысячелетию.
А место Петербурга было, конечно, на дне.
Не вдаваясь в подробности — где-то примерно 9800 лет назад на смену Анциловому озеру пришло Литориновое море. С океаном оно соединялось, как наше Балтийское море, и превосходило наше Балтийское море размером.
Но что за названия такие — Иольдиевое, Анциловое, Литориновое? Смутно угадываются женские имена, экзотические. «Анцилла» — это разве не «служанка», не «рабыня»? Нет-нет, лучшая половина человечества тут ни при чем. Кто ж виноват, что столь красивыми именами систематики прежних времен оделяли двустворчатых и брюхоногих? В самом деле, названия даны по моллюскам, раковины которых находили в донных отложениях соответствующих водоемов: каждый из них почтил своим обитанием Балтийское (в самом широком смысле) море на определенной, и только на этой стадии его формирования. Такая избирательность, несомненно, заслуживает нашего человеческого уважения, но не только ради него имена моллюсков увековечили в названиях водоемов. Эти названия информативны. Они сообщают о среде обитания данного существа — о солевом и температурном режиме. Так, двустворчатый моллюск («вроде устрицы»), еще недавно именуемый Yoldia arctica (сейчас иначе), обитает на мелководье холодных северных морей в условиях невысокой солености, что дает некоторые представления об исчезнувшем Иольдиевом море, обязанном ему своим названием. Забавно, но этот моллюск, безотносительно прошлого Балтики, обрел недавно ограниченную известность в сферах весьма неожиданных: попалась мне на глаза очередная «Азбука в картинках», где, как водится, объекты типа «морковь» и «яблоко» представляют свои первые буквы, и там — вы не поверите — за букву «и-краткое» отвечает не «йод» какой-нибудь из нашего детства (пользуются ли им сейчас?), а «ракушка йольдия»! Она! А вот улитка Ancylus fluviatilis известна нам под вполне житейским названием «речная чашечка» (полагаю, «рабыня» она по отношению к своей раковине, ну как джинн Аладдина — «раб лампы», нет?). Существо пресноводное. Так на то и Анциловое озеро — озеро, чтобы быть пресным. Что до Littorina littorea, эту улитку знают все; литорина обыкновенная обитает не только в прибрежных зонах водоемов, но и на загородных огородах петербуржцев.
И да — о Литориновом море существенное: место Петербурга было на его дне.
Но не всего Петербурга, если подходить к этому строго. Кое-что должно было бы остаться на суше.
И здесь мы способны оценить формы береговых линий сами. Дело в том, что Литориновое море сохранило память о себе в виде береговых террас и валов.
Сейчас, когда я это пишу, идет большое строительство в Приморском районе города. Новая, для Петербурга нетипично извилистая улица уже получила название — Литориновая. Это в честь литоринового уступа, вдоль которого она тянется.
Прототипом ей можно признать одну из старейших улиц, проходящую по кромке другого берега бывшего моря, — при Анне Иоанновне ее назвали Московской, потому что с нее начинался тракт на Новгород и, стало быть, на Москву. А если учесть, что Новгородский тракт, при всей своей труднопроходимости, уже существовал, когда Петербурга еще и в помине не было, получается, что и улица как бы самого города старше. Позже одно из ее названий было Лиговская улица. Да, это то самое, что ныне Лиговский проспект. В стародавние времена здесь проходил канал, по которому вода реки Дудергофки поступала к фонтанам Летнего сада, а теперь на участке того пути проложены рельсы, раньше конка ходила, сейчас — трамвай. Пешеходы, идущие по Лиговскому проспекту, уступа не замечают, но если мой современник свернет, к примеру, в подворотню дома 53, обнаружит вход в арт-центр «Пушкинская, 10» (названный по первому адресу этого бывшего сквота, выходящего на соседнюю улицу). Далее спуск по лестнице, как если бы на этаж ниже. Слева будет (было?.. есть?..) клубный бар «Фиш фабрик», место нетривиальное, у меня в романе «Грачи улетели» у героя здесь крышу сносит, не знаю, как сейчас, а в начале нулевых тут было весело (Владимир Рекшан раздавал самопальное петербургское гражданство, а также свидетельства о заключении гражданского брака, «Петербуржские фундаменталисты» проводили открытые симпозиумы, на одном из них ваш покорный слуга, не грех вспомнить, доклад читал о половой конституции петербургских памятников…). Всё, всё в прошлом — дверь закрыли и глядим вперед. Не начало нулевых, а начало нулевых четвертого тысячелетия до нашей эры нас сейчас интересует. Шесть тысяч лет назад, вот времечко было!.. Шаг вперед — и мы во дворе. То есть чтобы попасть в один двор, мы должны были из другого двора спуститься по лестнице. Для Петербурга переход крайне нехарактерный. Так это и есть уступ. Тот самый! Небольшой двор, куда мы вошли, попал в гайдбуки, но не из-за уступа. «Неформальная достопримечательность Санкт-Петербурга». Пушкин-художник (бюст), граффити, «улица Леннона» (вверх по стене). Учредители всего этого позиционировали себя как андерграунд. Если за «граунд» принять уровень Лиговского проспекта, мы стоим действительно где-то под. Но точнее будет: стоим на дне. Это дно. Дно Литоринового моря.
А еще этот замечательный уступ зримо тянется вдоль Полюстровского проспекта. В Удельном парке дети зимой катаются по нему на санках. На окраинах города он выражен во многих местах отчетливо.
Особенно выразителен литориновый уступ на северном берегу Финского залива. Живописный уголок «Комаровский берег», формально находящийся в административных границах города, почитается как «особо охраняемая природная территория» (то бишь как «памятник природы регионального значения»). Литориновый уступ здесь продолжает литориновую террасу, его высота достигает 30 (а где-то и более) метров. Ельник, сосна, встречаются липа и дуб. Овраги, пруды. Муравейники в рост человека. Давненько не был я в Комарово (годика три-четыре?), но почему-то перед глазами картинка из далеких времен: старичок и (или) старушка, обязательно с палочкой, преодолевающие подъем по Морской улице: ее крутизна — единственное обстоятельство, омрачавшее стареньким писателям из Дома творчества и ученым владельцам академических дач их ежедневные прогулки к заливу.
Самая короткая?
У Литоринового моря была одна важная особенность: от него обособилась Ладога, перестав быть плесом прабалтийского водоема. При этом в море впадала река Тосна, а в озеро — Мга (конечно, праТосна и пра-Мга). Уход ледника вызвал динамический перекос земной коры, что, по убеждению ряда ученых, и стало причиной так называемой ладожской трансгрессии (подъема уровня озера), — водная масса в Ладоге еще и перераспределилась, как в тарелке, которую приподняли за край. На юге озера «полилось через край» — против течения выходящей из берегов Мги, и в один прекрасный момент (вот его-то и пытаются определить гидрологи по ленточным глинам, а также палеоботаническими и прочими методами) произошел промыв перешейка между Мгой и Тосной. Случилось это в районе Ивановских порогов — озерная вода хлынула в море, образовалась Нева, а Тосна и Мга стали ее притоками.
По другим, кажется менее популярным, представлениям (H. H. Верзилин, Г. И. Клейменова и др.), никакого прорыва через водораздел между Тосной и Мгой не было, да и сама Мга впадала не в Ладогу, а в позднеледниковый пролив, существовавший на месте нынешней Невы. Водоток из Ладоги, по этим представлениям, был с момента отступления ледника, он-то и превратился постепенно в Неву. Так что Нева — река, конечно, новая — ужас как новая, но все-таки не ужас-ужас.
Короче, как сказано в одной статье на эту научную тему, «проблема истории развития Ладожского озера и образования р. Невы в настоящее время по многим аспектам остается дискуссионной».
Дельта у Невы тоже образовалась своеобразно — новая река в стремительных поисках выхода к морю расчленила сушу на множество островов, тогда как у обычных рек острова дельты формируются постепенным намывом (и этим, к слову, Нева тоже отличается от Нила).
Питер Акройд в своей книге о реке Темзе, длина которой 215 миль, замечает: «Из всех рек на свете, имеющих славную историю, эта самая короткая». Наверное, история Невы не столь славная, раз не попала Нева в номинацию Акройда и не победила Темзу по короткости. Захотелось казуистикой заняться — в том духе, что если, дескать, славная история Темзы славнее славной истории Невы, допустим, даже в три раза, то с протяженностью рек так не получится: Темза длиннее Невы аж в четыре с половиной, так что в поддавки по длине она и с учетом славной своей истории проиграет Неве, — но подумал (да, прямо сейчас и подумал), а что прибедняться-то — с невской-то славностью, а? Что же у Невы со славной историей не так? Ладно, путь «из варяг в греки», ладно — Невская битва, окутанная легендами, но история Петербурга — разве это не история Невы? А Шлиссельбург с его мрачными тюремными тайнами? И что уж тут мелочиться — крейсер «Аврора», потрясший мир? Да уж, потрясло, потрясло, не будем скромничать… А события войны — Великой Отечественной? Невский плацдарм — ад «Невского пятачка», где на береговой полоске в два километра так и лежат под землей десятки тысяч погибших? А «коридор смерти» — ледовый железнодорожный мост через реку шириной более километра, построенный за двадцать дней зимой сорок третьего? И другой, свайный, построенный тогда же под артобстрелом? Через два этих моста в осажденный Ленинград проходило за ночь более двадцати железнодорожных составов. Три года той войны на Неве стоят иным рекам столетий славной истории. Да ведь здесь о каждом километре реки можно написать книгу! А если учесть, что чуть ли не половина русла лежит в черте города, и если вспомнить, что за достопримечательности на ее берегах, и мосты — как их разводят в белые ночи-то, а? Или навскидку — как сел у Литейного моста на воду пассажирский самолет Ту-124, без жертв, и городские власти сей удивительный факт скрыть от горожан попытались — кто помнит? И да, авианосец, ни много ни мало, и, кстати, британский, — как едва не снес мост Лейтенанта Шмидта (теперь Благовещенский), потому что дружеский визит его нарушило наводнение? И вообще — наводнения невские! Пушкинский «Медный всадник»! Этого мало? А корюшка! Всеми любимая невская корюшка! А что на дне Невы лежит! А что глубоко под дном залегает! Плывуны всякие, геология нетипичная! Мы ж о ней говорили — о геологии. Но отвлеклись.
Словом, хочешь не хочешь и будь хоть трижды предубежден, а не признать не получится: Нева-река — это еще та река. Больше таких рек нет.
«Больше» в смысле «меньше», «короче» (разумеется, о «славных» речь).
Некоторые считают, что она и не река вовсе. Иной географ скажет вам, что она не река, а протока. Между Ладогой и Финским заливом.
Хорошо бы у сфинксов спросить, что они об этом думают, — так не ответят. А представьте, подведем к ним на гранитную набережную с луны свалившегося человека (в смысле, неинформированного) и, обведя широким жестом простор, спросим: «Это что?» Он ответит: «Река».
«Нет, протока».
И посмотрим, как он на нас поглядит.
Уменьшаем масштаб: четвертичный период
В четвертичном периоде (лет так за последних 400 тысяч) Восточно-Европейская равнина испытала два или три крупных оледенения (было ли одно частью другого или самостоятельным — предмет спора ученых). Высота льда над территорией, ныне занимаемой Петербургом, достигала, по-видимому, двухсот метров — так было, во всяком случае, во время последнего оледенения, известного как Валдайское; именно его отступающий ледник более всего повлиял на рельеф Ленинградской области. Гигантская камнедробильня, колоссальный подвижный пресс — ледник, отступая, заставляет содрогаться освобождающуюся от напряжения землю — неравномерно «дышать» — где-то подниматься, где-то опускаться, становиться дном для рек, озер и морей, образованных талыми водами. Вместе с талой водой ледник отдает песок, гальку, гравий, частицы глины.
Иными словами, оледенения четвертичного периода ответственны за геологические отложения, которые у нас под ногами — под петербургским асфальтом и прочими компонентами техногенного (иначе — культурного) слоя грунта.
Мощность этих отложений от десяти до ста метров и более (на юге и в центре города соответственно).
И эта песчано-глинистая толща многое от нас таит.
Например, погребенные долины.
То есть долины древних, когда-то стремительных рек, русла которых прорезали более плотные и значительно более древние осадочные породы.
Там, «под землей», при определенном водонасыщении, содержимое такой мертвой реки способно стать плывуном.
Плывун может быть неподвижным в своей погребенной долине — но, если его потревожить, этот мертвец превращается в зомби.
Я точно помню, когда впервые услышал слово «плывун». Это было в пятом классе. Мы проходили грамматику, чередование гласных в корне, и среди прочих — в корне «-плав-», «-плов-». Есть определенное правило, и оно, как обычно, подтверждается исключением. Это исключение — слово «плывун». Владимир Васильевич, наш завуч и учитель по русскому языку, самый строгий преподаватель в школе, требовавший неукоснительного знания предмета, от «плывуна» как-то небрежно отмахнулся — дескать, знайте, но в жизни вам не понадобится. Сказал, что это особый грунт глубоко под землей, который может взять и потечь, подобно реке, что-то, одним словом, из области геологии. Объяснять значение слова «плывун» учителю русского языка явно не хотелось; сейчас мне кажется, он сам не очень-то верил в существование каких-то плывунов. Если бы не исключение из грамматического правила, никто бы тогда и не узнал о плывуне.
А через несколько лет о плывуне заговорил весь город. Случилось это в апреле 1974-го, когда в окрестностях площади Мужества резко просел асфальт. Треснуло трамвайное полотно, остановился транспорт. Было повреждено несколько зданий.
Но основные события были под землей. То, что произошло тогда в забое строящегося метро, считается началом одной из крупнейших строительных аварий в Советском Союзе.
Хотели обмануть плывун заморозкой и двухъярусной прокладкой туннелей. Случился прорыв водопесчаной смеси — сначала в нижнем туннеле, а потом в верхнем, — потревоженный плывун не позволил взять себя «в лоб» и отказался подчиняться искусственной заморозке. За короткое время оба туннеля затопило более чем на километр. Чудо, что обошлось без жертв.
О подвиге метростроевцев — в духе своего времени — слагались поэмы. Потом был снят даже фильм, с весьма драматичным сюжетом. Врать не буду — не видел. Нет, видел отрывок — это когда под асфальт проваливается троллейбус (к счастью, в реальности до этого не дошло).
Строительство продолжалось — проходка сквозь тот же размыв, но с применением особых криогенных технологий. Первые поезда с пассажирами пустили по этой погребенной долине 31 декабря 1975-го. А что пассажиры? — для них туннель как туннель.
Говорят (и пишут), что весь жидкий азот, производимый тогда в СССР, был отправлен исключительно в Ленинград на замораживание плывуна; применение жидкого азота в иных производственных целях на территории Советского Союза, фигурально говоря, замораживалось. Если это так, ситуация в какой-то степени повторилась: было уже что-то такое со строительным камнем, не так ли? — вспоминаем, как Петр своим указом запретил строительство каменных зданий — везде по стране, кроме Санкт-Петербурга.
Двадцать лет плывун терпел движение поездов через себя. Два десятка лет линия работала исправно, — во всяком случае, так казалось пассажирам.
И вот зомби-плывун снова проснулся. Просели туннели, образовались трещины, потекло.
Реликтовое самоприсутствие древней мертвой реки пассажирам в те дни демонстрировалось в виде зловещего аттракциона.
Вспоминаю, как между «Лесной» и «Площадью Мужества» — это на глубине вроде бы 90 метров — поезд в туннеле попадал под дождь.
Без преувеличения. Под ливень.
Разве что из-за шума колес не было слышно, как бил по крыше вагона водный поток. Но от этого зрелище не становилось менее жутким: вода лилась по стеклам окон.
Впечатления осени 1995 года.
В начале декабря движение поездов наконец прекратили.
На восемь лет.
Уменьшаем масштаб: сотни миллионов лет
…С энтузиазмом неофита в поисках палеонтологических отложений разглядываю стены метро, обнаруживаю все новые и новые объекты.
Киоск — глянцевые журналы, детективы, холодильник с минеральной водой. За стеллажами — стена, покрытая «мраморной» плиткой (это не мрамор, а мраморизованный известняк). А вот и оно… Фотографирую.
— Зачем вы снимаете? — сурово глядит на меня продавщица.
Мне скрывать нечего.
— Ископаемое. Срез брюхоногого существа.
— Какого еще существа?
Встает. Подходит. Показываю.
— Ему четыреста восемьдесят миллионов лет.
— Этому?
Округлила глаза. Она здесь работает. А ему — 480 миллионов.
Срез убедительный. Теперь ко мне с уважением:
— Как же вы его усмотрели?
— Тут много таких, — отвечаю небрежно.
— Вы ученый?
«Так себе» показываю жестом руки, уходя.
Какой я ученый! Я просто прочитал ученую статью. И она меня потрясла.
Статья называется «Палеонтологические остатки в облицовочном камне станций Петербургского метрополитена». Авторы ее обозначены так: И. Ю. Бугрова, канд. геол. — мин. н., доцент каф. осадочной геологии Института наук о Земле СПбГУ, М. А. Калинина, студентка 4-го курса бакалавриата Института наук о Земле СПбГУ.
Теперь, назначая встречи в метро, я не раздражаюсь, когда опаздывают. Мне есть чем заняться. Я рассматриваю облицовочные плиты.
Так, например, вооружившись определенным знанием, хорошо разглядывать стены на станциях метро «Московские ворота», «Площадь Восстания» и «Площадь Ленина» — они облицованы плитами из мраморизованного известняка, возраст которого — нижнеюрский.
Здесь можно увидеть ископаемые губки, данные в поперечных и продольных срезах, — те, что на первый взгляд пассажира метро (впрочем, и на второй, и на третий…) кажутся простыми разводами на мраморе (хотя это, строго говоря, далеко не мрамор…). Определеннее выглядят раковины ископаемой наутилоидеи — брюхоногого моллюска; в поперечном сечении они здесь достигают десяти сантиметров. Небольшие темные, почти черные кружки, обнаруженные вышеназванными авторами, — это поперечные сечения ростров белемнитов: большеглазых кальмарообразных моллюсков, имевших раковину внутри себя, своего рода скелет. Задняя продолговатая часть этой раковины и есть ростр. Поперечные сечения ростров, обнаруженных на станциях метро «Московские ворота» и «Площадь Восстания», невелики — соразмерны пятирублевым монетам (что соответствует типичным размерам этих объектов). Я, конечно, полез в интернет прочитать про ископаемых белемнитов и узнал, что ростры похожи на каменные наконечники стрел; в народе они были известны под названием «чертов палец». А ведь про «чертов палец» я слышал в детстве еще, когда только в школу пошел, — причем от своих деревенских сверстников; это было в деревне Голино, на Шелони, куда меня отправляли летом к тетке отца. Два впечатления одного лета: конский волос, длинный тонкий извивающийся червяк, который будто бы проникал под кожу купальщика, — при мне его выловили в реке и сожгли (знаю сейчас, что существо безобидное), и второе — «чертов палец»: кто-то из местных показывал нечто называемое «чертовым пальцем». Правда, о древних животных речи не было, я узнал тогда, что он получается, будто бы когда молния в землю бьет. О, какие были грозы на Шелони!.. Я мечтал «чертов палец» найти. И вот теперь выясняю, что это отнюдь не редкость и что с ними связана куча суеверий. В общем, надо было спуститься в петербургское метро, чтобы вспомнить детство.
Надо сказать, мраморовидные облицовочные плиты на станциях «Московские ворота», «Площадь Восстания» и «Площадь Ленина» доставлены из Западной Грузии. Что в Грузии, что у нас, взять тех же белемнитов, они в отложениях юрского периода представлены одинаково хорошо, — в Подмосковье этих «чертовых пальцев» находят во множестве. И все же — свое, родное, нам как-то ближе, милее, признаемся. Не осталось ли на стенах петербургского метро следов древнейших существ, обитавших непосредственно в наших краях?
Остались. И еще более древние.
Хотя при таких древностях говорить о «наших краях» не то чтобы некорректно, а даже бессмысленно. Речь идет о временах, когда материковые плиты гуляли туда-сюда (а впрочем, они и сейчас в движении). На наших широтах был океан, а если говорить о тверди, на которой ногами стоим, то те участки нашей родной континентальной коры были южнее экватора — и тоже под водой, но только местного моря, одного из множества то образующихся, то исчезающих. Трудно представить, но это правда: если вы найдете под Петербургом окаменелого трилобита — в известняке, допустим, реки Тосны или речки Лавы, будет оно означать, что ползало это морское членистоногое по илистому дну далеко отсюда — за экватором, а то, что здесь оказалась окаменелость, это результат тектонического дрейфа материковых плит на протяжении 480 миллионов лет.
Есть так называемый путиловский камень, довольно прочный известняк, — уже четвертое столетие он используется при строительстве петербургских зданий. Шел он и на бут для фундамента, и на ступени лестниц, и на полы храмов. Добывают его до сих пор в карьерах, что рядом с поселком Путилово на южном берегу Ладоги, километрах в четырех от бухты Петрокрепость. Название бухты — дань памяти советскому времени, когда так именовался Шлиссельбург. А в шведские времена, как мы помним, это был Нотебург, а в дошведские — здесь была новгородская крепость Орешек, стены которой, о чем и речь, возводились из местного известняка тех же необъятных залежей.
В 1712 году Петр повелел переселить в эти края работников для добычи строительного известняка.
Возраст этих осадочных пород — ордовикский: более 450 миллионов лет. Постарше, чем возраст плит из Западной Грузии. Те кавказские месторождения древние, конечно, но это мезозой, нижняя юра — это где-то 200 миллионов лет назад, а мы сейчас о раннем палеозое. До юры отсюда, от ордовика, 250 миллионов пройдет (450 минус 200); до первых динозавров, к примеру, надо ждать чуть меньше — лет так 225 миллионов, а до мамонтов — почти как до основания Петербурга: с позиций возраста трилобитов (вернее, их окаменелостей) мамонты и город на Неве — одногодки. Правда, когда образовалась Нева, мамонты уже давно вымерли.
Неудивительно, что на путиловские карьеры наведываются любители окаменелостей. Трилобиты, брахиоподы, криноидеи и прочие ископаемые существа здесь представлены в изобилии.
Путиловский известняк до сих пор поставляют с карьеров. Правда, требования к качеству уже не те. А. Г. Булах в книге «Каменное убранство Петербурга» отмечает, что прежде «камень для каждой цели использовался только из нескольких определенных пластов в общей толще известняка, все остальное выбрасывалось как абсолютно непригодное». И добавляет: «Сейчас добывается и продается все подряд». Рассматривать таблицу пластов, приведенную в книге, одно удовольствие. Каждый из пятнадцати назывался по-своему. Узнаём, что «буток», верхний пласт, шел на «ступени, цоколи, плиты для тротуаров», тогда как «только на бут» годились пласты «переплет», «конопляцкий», «мякенький», «красный» и «зеленый». Примечательно, что «красненький», в отличие от «красного», не использовался вообще, так же как пласт «бутина», тогда как пласты «наджелтый» и «желтый» имели одно предназначение — «ноздреватый камень на ступени черных лестниц», но это не мешало тогдашним знатокам дела отличать соседствующие пласты один от другого — «наджелтый» от «желтого». Точно так же использовали «белоглаз» — «на ступени черных лестниц», и хотя наша лестница не совсем черная (она в доме единственная, и выход на Карповку), мне кажется, именно этого «ноздреватого камня» отбивают кусочки при очередном подъеме какого-нибудь условного пианино. Когда я недавно вошел в нашу парадную (вот, вот — все же «парадная»!), мальчик лет четырех озабоченно держал в руке такой свежий кусочек, — поощряемый улыбающейся мамой, он спросил меня, не я ли это потерял. Нет, не я, солнышко, это строители спускали по ступеням что-то тяжелое — в одной из квартир, кажется на четвертом, затеян ремонт…
А еще мне нравится, что «старицкий» был «хороший плотный мраморовидный камень на подоконники и гробницы», тогда как под ним лежащий самый нижний пласт с красивым названием «бархат» был просто «самый плохой камень».
Применялся путиловский камень и при облицовке зданий (естественно, «в наше время») станции метро «Приморская».
Как-то раз, оказавшись на «Приморской», я вспомнил о той научной статье, вызволил ее из интернета и, ориентируясь на приведенные фотографии, пошел со светящимся экранчиком, как с путеводителем, высматривать палеонтологические остатки на облицовочном камне. Плиты нужного класса обнаружились на некотором расстоянии от павильона метро — за углом; ими со стороны Смоленки облицованы стены продолговатого, казенного вида здания, подведомственного метрополитену. Представляю, как бы я ликовал, найдя эти остатки без посторонней помощи. Но без помощи я бы ничего не нашел, просто прошел бы мимо, как все проходят, — даже если бы смотрел на стену, потому что надо знать, что видишь, когда смотришь на это. И все равно это как радость грибника, которому показали грибное место. Вот — нашел. Вижу поперечные срезы головоногих моллюсков: кружочки, овалы. А вот продольный срез — раковины другого моллюска, отдаленно напоминающий изображение кухонной терки. В нижнем ряду нахожу плиту, запечатлевшую обрезок раковины ендоцераса, — длина этого экземпляра могла быть метра три (пишут, что у них и до семи доходило), но тут по ширине строительной плиты ендоцерасова раковина опилена с двух сторон циркулярной пилой. Эти многощупальцевые моллюски, выглядывая из своих торпедоподобных раковин, стремительно передвигались в воде, нападая на трилобитов.
И конечно, разглядывал я разнообразные пятна, украшающие эти облицовочные плиты, — самое распространенное, что на них есть, то бишь «текстуры биотурбации» — следы жизнедеятельности (в данном случае) вымерших организмов: норы, ходы, следы сверления… Ну и вот персональное открытие — никем еще не описанные следы местной активности представителей эпохи антропоцена, моих братьев и сестер по разуму: на одной плите крохотными буковками «Бога нет», а на другой (на соседней) — «Я люблю Данечку». Кто это? Зачем? Для кого? И почему здесь? Наверное, потому, что рядом вход в кафе «Метро», и, стало быть, место вполне обитаемое: можно выйти покурить, постоять, подумать о главном… Но почему же так мелко, едва заметно, обычно ведь пишут на стенах когда, обращаются ко всем, не исключая потомков? Неужели это только для них, не для нас — только для тех, кто целенаправленно будет выискивать следы нашей цивилизации? А для нас, в том числе и для Данечки, — засекречено словно. Но фломастер, он же скоро сотрется? «Бога нет», и кто бы прочел, кроме Бога? Я как будто в чью-то тайну случайно проник. Разглядел палимпсест — поверх одного нечто другое. А если представить — ого! — между текстурой-то биотурбации вымерших организмов и текстами про Бога и Данечку тонким фломастером — без «малого» полмиллиарда лет…
Мысль о далеком предке человека приходит в голову — каким он был в эпоху первых трилобитов и не внес ли он свою долю в образование осадочных пород, вроде этого известняка, которым облицован административный корпус подле станции метро «Приморская»? Нет, не внес. И все же — не могу молчать. Этот организм недавно открыли, и мои мысли о нем. Речь о «морщинистом мешке» — Saccorhytus coronarius, древнейшем из известных предков вторичноротых, то есть и нас, людях, тоже — наравне с другими хордовыми, к которым и мы с вами относимся. А также еще он и предок полухордовых. И иглокожих. Или, во всяком случае, он ближайший родственник нашего общего предка (людей, зверей, птиц, рыб, морских ежей и звезд, червей из класса кишечнодышащих, то есть всех нас, ныне здравствующих и этими вторичноротыми являющихся…). Существо крохотное, представьте буковку «о» в этом тексте, если он напечатан мелким-мелким шрифтом, каким только печатают на этикетках состав продуктов с искусственными красителями. С буквой «о» сходство нашему предку (или его близкому родственнику) придает большой рот, которым он всасывал воду, прячась в иле, впрочем не настолько уж непомерно большой, чтобы не осталось еще места для других, маленьких и, заметим, многочисленных отверстий. Организм, смею судить, не очень презентабельный. По сравнению с трилобитами наш «o»-предок заметно проигрывает, и не только в размерах. Даже если он и водился в «здешних» краях, оставить память по себе в санкт-петербургских кембрийских отложениях не мог — в силу хотя бы своей мягкотелости. А вот в Южном Китае есть уникальный лагерштетт (это такой особый вид отложений, обедненных кислородом и, стало быть, бактериями, где и мягкие ткани порой могли оставлять отпечатки), вот там и обнаружили в 2017-м захоронения этих вымерших мелких существ.
А зачем я об этом? Да, в самом деле, зачем?
Ну, все-таки предок. Или почти предок. Одно дело — соседи, пусть и более развитые, как те же трилобиты, и другое дело — какой-никакой, но родственник: если уж не по прямой линии, то хотя бы в двоюродном родстве с истинным нашим предком состоявший. Это к тому, что с точки зрения человечества (а не брюхоногих моллюсков и членистоногих как представителей первичноротых) облицовочные плиты на станциях Петербургского метрополитена — не наш семейный колумбарий. Не наш. Да и заглянули мы с буковкой «о» в более отдаленную эпоху. 540 миллионов лет назад никакого путиловского известняка и в помине еще не было. Ранний кембрий. А есть ли что в Петербурге за кембрий отвечающее? Есть! Синяя кембрийская глина.
Забудем о палеонтологии. В отличие от южнокитайских нижнекембрийских сланцевых отложений, наша синяя кембрийская глина окаменелостей мягких тканей, увы, не содержит. Зато она лучшая глина, говорят, для художественной лепки. Используется для керамики. Идет на изготовление высококачественного керамического кирпича. Если мы обратимся к спутниковым снимкам планеты, которые нам любезно предоставляет интернет, обнаружим в северной части населенного пункта Никольское (город районного подчинения), что расположен на реке Тосна, разрабатываемый карьер неожиданно ядовито-голубой окраски. Здесь — открытым способом — добывают кембрийскую глину. Рядом водоем — тоже карьер, но уже отработанный. Оба они, что неудивительно, на территории кирпичного завода (пиарщики которого утверждают, что каждый пятый кирпич Петербурга — это их; ну, не знаю — за что купил, за то и продаю). А еще кембрийская глина сильно разрекламирована как медицинское и косметическое средство. Как-то эта реклама прошла мимо меня. Проведал я о чудесных свойствах «голубой кембрийской глины» недавно, в порядке работы над этой книгой, — из интернета, конечно, — тут же поделился своими познаниями с женой и был обескуражен ее ответом: «А ты разве не знал? Да это все знают!»
Свои слова жена моя подкрепила тем, что достала из шкафчика в ванной фирменную упаковку с «голубой кембрийской глиной (в порошке)». Я был поражен: в нашем доме кембрийская глина! Никогда не видел жену в маске из кембрийской глины. И немудрено: она давно забыла, чем владеет; пакетик так и не был открыт. Более того, сейчас выяснилось, что истек срок хранения кембрийской глины — со дня покупки 36 месяцев. Вот так — за 36 месяцев хранения в шкафчике в ванной истек срок тому, что в природе хранилось полмиллиарда лет! Нет, о целебных и косметических свойствах кембрийской глины я не буду — не компетентен. Но что у меня вызывает определенное доверие, это сведения С. С. Кузнецова и Г. Д. Селиванова, авторов изданной в 1940 году брошюры «Геологическая экскурсия по долине р. Саблинки Ленинградской области», — относительно кембрийской глины они замечают: «…может итти для обезжиривания и для отбеливания тканей; может быть употреблена как суррогат мыла — „кил“»[6]. Достаточно натереть руки полужидкой глиной, затем тщательно ополоскать их в воде, чтобы убедиться, как хорошо обезжиривается кожа».
Кембрийская глина залегает под южной частью Петербурга.
И что?
Как — что?
Под южной частью города, говорю, кембрийская глина.
А если севернее взять, бóльшая часть города — вся центральная часть и собственно север — это область отложений верхнего и нижнего венда. Тут уже к возрасту мы приближаемся в 650 миллионов лет.
Злополучные погребенные долины древних рек, чреватые плывунами (привет ледникам), лежат здесь — на толще отложений венда, действительно погребенные толщей четвертичных отложений.
Мы о метро говорили, вот оно и прокладывается главным образом в толще относительно обезвоженных отложений кембрия и верхнего венда, а у этих удобных глин свои пределы глубин — ниже нельзя, там водой насыщены глины, выше плохо — слабой твердости отложения, четвертичный почти что… ну не кисель, так сырник… и беда метростроевцам, если напорются на плывун.
Таки в чем же наглядное самоприсутствие вендской глины в Санкт-Петербурге, позвольте спросить? Как она выглядит? Где на нее посмотреть?
Отвечаю.
Выглядит она так, что неспециалист ее от кембрийской не отличит. А смотреть на нее не обязательно. Говорю, потому что сам насмотрелся на эту глину сверх меры. Прошу прощения, если снова об этом, но тут нельзя не сказать; был у меня в молодости опыт недолгой работы сторожем, и случилось мне сторожить не совсем обычный строительный объект, а именно шахту станции метро «Красногвардейская», которую потом переименовали в «Новочеркасскую», это на правом берегу Невы. Что там надо охранять, мне не сказали, потому, наверное, что охранять там было нечего, — просто по штату полагался для порядка сторож, и хорошо, и отлично, — мне было чем заняться в сторожке. Так вот, оттуда вывозили глину. На грузовиках. И днем и ночью. Вывозили глину и куда-то отвозили на свалку. Это была вендская глина. Из той толщи, которая называется, сейчас мне известно, «верхнекотлинские глины верхнего венда». С глубины 60 метров примерно. Тогда я не знал. Пишут, что нижнекембрийская и верхневендская почти идентичны по минеральному составу. Я не специалист, конечно, но, друзья дорогие, подумайте сами, почему это вендская глина должна в чем-то уступать кембрийской по части целебных свойств и косметологических качеств? Весь интернет забит рекламой кембрийской глины. А вендская хуже? Наоборот, она должна превосходить кембрийскую, потому хотя бы, что старше кембрийской и залегает, соответственно, глубже. Да она и дороже наверняка — ее труднее извлекать из недр. В смысле, ценнее! Но тогда я не думал об этом. Я бы мог два ведра домой принести. Десять ведер! Да сколько угодно! Этой глиной, которую я, по-видимому, все-таки охранял, можно было бы обеспечить все человечество. Всем хватило бы на маски для лица, на косметику, на поправку здоровья! Независимо от гендерных и прочих различий!
Два миллиарда лет
Итак, Петербург лежит на относительно мягком, можно представить, весьма сыром и неудобном матрасе. Этому неуютному матрасу соответствует толща четвертичных отложений мощностью до 90 метров.
Этот матрас лежит на другом. Который покрепче. Вроде спортивного мата. Сверху почти сухой, снизу — изрядно намокший. Ему соответствует толща отложений ранних эпох — кембрия и венда. (Метро по сухому проложено здесь.)
Все это — так называемый осадочный чехол (но представлять в чехле матрасы не будем).
Под матрасами — твердый фундамент. Кристаллический. Гранит, но не только гранит (там «граниты и другие породы»).
Но в целом — гранит.
До него под городом метров 180–240.
Он потрескался во многих местах. О тектонических разломах впечатлительным петербуржцам лучше не знать.
Куда интереснее, что севернее Петербурга кристаллический фундамент, изменив приписанной ему функции (быть «фундаментом»), выходит на поверхность в виде так называемого Балтийского щита. Образы отвечающего ему ландшафта отражены в шедеврах живописи и поэзии. По части последней лично меня больше всего волнует восклицание Дмитрия Минаева: «Даже к финским скалам бурым обращаюсь с каламбуром». Однажды услышав, уже не забудешь, хуже того — уже не избавишься. Вот и сейчас — к чему это? Зачем я вспомнил Минаева?
А почему бы и нет? Фигура очень даже петербургская. За 35 лет проживания в Петербурге он тут хорошо победокурил, порезвился и даже в Петропавловской крепости сумел посидеть. Господа, предлагаю тост (вдруг и вы сейчас в том же расположении) за Дмитрия Дмитриевича Минаева. Помянем поэта, он хоть и был запойным пьяницей и, к сожалению, не чтил отца своего, тоже поэта, но честно, как мог, переводил «Божественную комедию», и Байрона, и Гейне и был на всю Россию знаменит своими пародиями и зубоскальством, паясничал, обличал, «король каламбуров», а на Достоевского за «Бесов», едва они вышли, первым наехал (что тоже зря); памятника ему нет в Петербурге и вряд ли когда-нибудь появится, Достоевскому тоже долго не было, но вот появился однажды, и Тургеневу (если кто анекдот вспомнил про памятник и Муму), но этому бронзовый, а Достоевскому тоже бронзовый, хотя похож на гранитный, а Маяковскому — точно гранитный, и Циолковскому — тоже гранитный, даже два, а какие у нас пьедесталы гранитные!.. и упомянутая Петропавловская крепость одета в гранит, и набережные — вы всё понимаете… «в гранит оделася Нева»…
Так ведь можно же и альтернативщиков понять, не верящих своим глазам. Вот так стоишь пред Александровской колонной, если взгляд у тебя еще не замылен: что же это?.. как же это возможно? Из скалы вырубить, по воде привезти, обработать, поставить…
Через это, по нашей терминологии, и дается — реликтовое самоприсутствие — на сей раз магматической горной породы возрастом 1,7 миллиарда лет…
Разновидность гранита, во многом определившего лицо города, — рапакиви, по-фински «гнилой». Увы, этот крупнозернистый гранит склонен крошиться, недолговечен (вечность его недолга). Сфинксы из мелкозернистого асуанского гранита были бы вечны, когда бы не этот климат, а возлежат они на граните крупнозернистом, нашем, родном — встретились два гранита… Молодой город Петербург, к сожалению, быстро стареющий город. Только он сам словно не замечает этого.
Четыре миллиарда лет. Да еще с половиной!
Рядом с домом, ныне почитаемым как «дом Раскольникова», через улицу и еще один дом — и в минуте ходьбы от дома, где жил Достоевский, — в начале XX века появился новый доходный дом вместе с производственным корпусом общества, носившего звучное имя «Г. Бертгольд. Словолитня и фабрика медных линеек». Свинцовые литеры шрифтов, которые фирма поставляла типографиям, зеркально отображались на страницах огромного числа книг, включая «Преступление и наказание», написанное практически за углом. В советские годы здесь долгое время размещалась 1-я картонажная фабрика. Когда шла борьба с безработицей, сюда брали по направлениям Ленинградской биржи труда: особой квалификации для изготовления коробок, оберток и картонных игрушек не требовалось. Помню, был маленьким, вешали на елку, помимо стеклянных игрушек, склеенные двустворчатые штампованные картонки из детства родителей, а впрочем, несколько картонажных экземпляров у нас, кажется, сохранилось. Сейчас это здание с фасадом в стиле модерн (архитектор В. В. Шауб) признано объектом культурного наследия. Объект, над которым, как и над всем, властвует время, подчинен креативному пространству имени того фабриканта. Я там был. На третьем этаже есть комнатка (вход с балкона-веранды); арендует ее небольшая и весьма нетипичная фирма, чей профиль — изготовление и продажа украшений из… нет, почему из картона? — не из картона (хотя ассонансная рифма с картоном мне нравится, она тут уместна) — из метеоритов.
Именно так. Что падают с неба.
Комнатка крохотная, черная драпировка. Витрина. Был, говорю, там, видел. Брал в руки образцы. И даже необработанный, цельный, натуральный метеорит. На месте все оказалось гораздо убедительнее, чем дома перед экраном компьютера… (А шел я сюда, как легко догадаться, с мыслями о реликтовом самоприсутствии…)
Ничего сверхъестественного в самом предприятии нет. Существует рынок метеоритов — достаточно зайти в интернет и поинтересоваться вопросом. Рынок украшений из небесных тел, похоже, скромнее, расчет у этих предпринимателей на экзотофилов, дело почти эксклюзивное, но, судя по всему, не убыточное. Исходный материал, насколько я понимаю, покупают у коллекционеров.
Не знаю, плохо это или нет (в смысле, нравственно или безнравственно) — распиливать небесное тело на украшения. Утверждается, что любой при этом фрагмент прежнего целого, сколь бы ни был он маленьким, остается метеоритом. Ну разве что будет висеть у кого-то на цепочке кулоном или прикрепляться к уху, став сережкой. С юридической стороны тут чисто.
Общий вес аргентинского метеорита Кампо-дель-Сьело (название дается по месту, где метеорит найден) около 40 тонн, это второй по величине в мире. Обнаружен в 1576 году, и с тех пор обломки этого железного метеорита находят на большом расстоянии от места его падения. Здесь предъявлен в виде бесформенных кусочков величиной с ноготь.
Основные предложения, судя по витрине, связаны с метеоритом — тут трудно выговорить, и это именительный падеж, а не родительный — Муонионалуста (найден в 1906-м недалеко от реки Муонио в Швеции). Общий вес обнаруженных фрагментов — несколько тонн (данные расходятся — от двух до двадцати); куски и кусочки Muonionalusta хранятся во многих музеях мира. В бывшей словолитне он представлен нарезкой тонких пластин, в основном в форме маленьких прямоугольников, такой вот минимализм (опять же — в уши или на шею), а также — по-видимому, для убедительности — естественным, нетронутым осколком размером с кулак (неужели материал для будущих украшений?). По классификации метеорит относится к типу железных (есть еще железокаменные и каменные метеориты), подкласс — тонкоструктурных октаэдритов. О «тонкости» структуры можно судить по фактуре срезов, их отличает характерная узорчатость, а чем это обусловлено, говорить не буду, чтобы не уподобляться Википедии.
Так вот, о возрасте. То, что этот молодец из всего списка известных метеоритов посетил Землю первым, возможно, миллион лет назад, замечательно, однако лично нас интересует не земной, а космический возраст.
Ему дают, на основании изотопного анализа состава, 4 563 300 000 лет с погрешностью в сто тысяч лет[7]. Далее начинаются научные споры о точности метода и его применимости. Но нам ли мелочиться из-за лишнего миллиона? Нас и четыре с половиной миллиарда достаточно впечатляет.
Короче, полагают, что этот тонкоструктурный октаэдрит — старейшее из числа известных нам космических тел, оказавшихся на Земле. По крайней мере, может претендовать на это почетное место.
Для сравнения: образование Солнечной системы из молекулярного облака началось около 4,6 миллиарда лет назад.
Так что этот метеорит — свидетель и одновременно документ первых стадий формирования Солнечной системы, более того — он сам частица Солнечной системы того времени. Ничего близкого по возрасту ему на Земле нет, — горные породы, которые мы застаем на нашей планете, значительно моложе этого небесного тела.
И вот вы стоите тут, на Гражданской улице, в прошлом Средней Мещанской, и держите (прицениваясь?) это в руках — не просто самое древнее, что есть на Земле, но и самое древнее в космосе — из доступного человеческому прикосновению. Мы не знаем ничего на нашей планете более древнего, а тут нам дано взять и вот уверенно повертеть это в руках. Круто ведь, а?
«Словолитня» как слово красиво звучит — тут словно замах на вечность. Но кажется невероятным, что здесь когда-то лежали образцы картонажного производства — корóбки для советских конфет, всякие коробки́, плоские игрушки-картонки на новогоднюю елку — все эти медведи и гуси, аэропланы и пятиконечные звезды…
Достоевский в двух шагах отсюда познакомился с Анной Григорьевной, — ну мы помним историю. На свадьбу он ей подарил серьги и брошь с бриллиантами и рубинами, — а вот совпади они с Анной Григорьевной по времени с этой конторой и зайди он сюда с улицы, со Средней-то Мещанской, неужели бы так и ушел? — мнится мне, у него глаза загорелись бы, мнится мне, предпочел бы он тем бриллиантам нечто иное — серьги с фрагментами железного метеорита. «Аннушка, догадайся, тут что?..» Другой вопрос, поняла бы это Анна Григорьевна?
А если бы зашел сюда рядом живущий мнимореальный Раскольников (покамест без топора), какие бы мысли его посетили?.. что бы пришло в его тяжелую голову?
Нахожу в англоязычной Википедии список собраний, где хранятся фрагменты Muonionalusta. Конечно, креативное пространство в бывших производственных корпусах словолитни и картонажной фабрики там не указано. Из наших музеев назван один — Государственный геологический музей имени В. И. Вернадского в Москве. Между тем в Петербурге есть образец Muonionalusta — в Геологоразведочном музее имени Ф. Н. Чернышева, что на Васильевском острове.
Надо сказать, этот замечательный музей заслуживает большей славы, чем та, которой он весьма скромно пользуется.
Есть там и родной, наш, метеорит «Саратов», он упал под Саратовом 6 октября 1918 года. Каменный (хондрит). Сравнительно небольшой образец. Лежит себе на музейной витрине, тогда как в самом Саратове метеорит «Саратов», представленный главной массой 125 килограммов, цинично украли — с кафедры минералогии и палеонтологии Саратовского университета — и вывезли за границу[8].
Рядом с «Саратовом» — «Красноярск».
Не на карте, а на витрине.
Вернее, кусок «Красноярска».
В отличие от каменного «Саратова», «Красноярск» — железокаменный.
Впрочем, в историю метеорит вошел под названием «Палласово железо». В историю — без преувеличения. Это первое небесное тело, признанное упавшим с неба, и не какими-нибудь легковерными очевидцами — охотниками или хлебопашцами, для которых и вопроса не было, но прожженными скепсисом европейскими мыслителями — правда, после долгих раздумий.
Когда-то в Петербурге хранилась вся глыба целиком, весила она около сорока пудов. Академик П. С. Паллас, чьими стараниями она была отправлена на берега Невы с берегов Енисея, считал, что это не что иное, как самородное железо, — «не искусством каким, но натурою произведенное». В то время (1782) европейская наука еще не допускала возможности падения с неба камней и железа. Идея самородного железа тоже многим казалась чересчур смелой. Глыба еще не добралась до Петербурга, а насчет ее происхождения уже выражали сомнения в Шведской академии наук. Отвечая, Паллас призывал поверить «Петербургской академии и другим, кои штуки онаго железа видели» (он им послал кусок) и просил дождаться всей «громадины», которая «будет сего всегдашним при Императорском натуральном Кабинете доказательством». Так что «величайший ком железа» ждали с нетерпением не только петербургские академики и Екатерина II, но и ученые других стран.
Тогда еще не народились уфологи, так что мысль о причастности к сему внеземной цивилизации никому не пришла в голову.
Вопрос о возрасте глыбы тоже не поднимался, — не знали изумленные созерцатели этого дива, что доставленное в один из самых молодых городов мира, в самый молодой музей есть еще и старейшее из обнаруженного на планете, — ничего даже близкого по древности на этой планете быть не могло (кроме, может быть, еще не найденных аналогичных объектов).
В этом городе глыба пребывала полтора столетия. В 1934-м Академия наук перебралась в Москву, а вместе с ней увезли главные метеориты. К тому времени «Палласово железо» похудело примерно на 150 килограммов. Во многих музеях мира хранятся фрагменты метеорита «Красноярск», и все они куски основного тела. А других и не нашли, хотя и организовывались к месту падения поисковые экспедиции.
До того как отправиться в Петербург, глыба пролежала более двенадцати лет на дворе кузнеца Якова Медведева. В 1749 году он ее обнаружил на вершине сопки в 20 верстах от Енисея, и одним Небесам известно, как этот отставной казак сумел такую тяжесть под 700 килограммов перетащить за 30 верст к себе в деревеньку Медведеву, названную так по фамилии ее обитателей (отдельная часть деревни Убейской). Красноярск далеко, а вот Медведева — назвали бы метеорит именем деревни (получилось бы, и человека тоже), было бы вдвойне справедливо; сегодня та земля — это дно Красноярского водохранилища. Известно, что кузнец у себя на дворе как-то экспериментировал с этим сверхпрочным и не боящимся ржавчины «комом железа», — тяжелого молота «ком» не боялся тоже: стоило непомерного труда отколоть от него хотя бы кусочек. Понимал он сам или нет, но был Яков Медведев тогда, пожалуй, единственным, кто установил и прочувствовал на себе физическую — до седьмого пота — связь с космосом.
Сам же академик Паллас, будучи в экспедиции, вышел на этот необыкновенный «ком» в 1772 году и сильно изумился увиденному. Тому, например, что полые ячейки «как губка ноздреватаго железа» содержали «круглые и продолговатые жесткие, толстые, чистые, прозрачные, похожие на гиацинт, камешки» (это был минерал оливин).
Надобно пояснить: все, что здесь заключено в кавычки, взято из третьего тома русского издания (1787) главного труда Палласа «Путешествие по разным городам Российского государства». Перевод с немецкого выполнен Василием Зуевым, участником той же экспедиции, путешественником и естествоиспытателем, исследователем Урала, Оби, Крыма и многих земель, еще не исхоженных человеком. Академик с 1787 года, он умер в экспедиции в 1794 году.
Любопытно, как Паллас, описывая «лучшую находку между достопамятностями в минералах», мимоходом коснулся суеверного отношения коренных жителей к загадочному «камню», — в переводе Зуева эта невольность выглядит особенно выразительно: «за дар с неба спавший принимали». Так ведь вот же оно! Правильно делали, что принимали. Получается, суеверные местные были к истине ближе. Может быть, и кузнец Яков Медведев так думал? Все они не знали, наверное, о тогдашнем решении парижских академиков считать невозможным падение камней с неба.
О том, что наша земля (тут и со строчной буквы можно, и с прописной) не способна родить подобного «камня», догадался немецкий физик Ф. Ф. Хладни еще до того, как непосредственно ознакомился в Петербурге со знаменитым «железом». Его книга «О происхождении найденной Палласом и других подобных ей масс и о некоторых связанных с ними природных явлениях» вышла в 1794 году на немецком в Риге. В тот же год он получил из рук Дашковой диплом иностранного члена-корреспондента Академии, но за другое — за труды и опыты в области акустики. Церемонию приема предвосхитило исполнение музыкальных пьес на изобретенном им самим диковинном инструменте — так называемом эуфоне. Пленительные звуки эуфона были убедительнее сомнительной идеи о возможности чего-либо прилететь из космоса. Однако с легкой руки вновь принятого «сибирский камень» стали называть «Палласовым железом», более того, настал и тот час, когда железоникелевые, с вкраплениями оливина метеориты — как класс — нареклись палласитами.
Палласиты далеко не единственное, в чем увековечено имя Петера Симона Палласа, немца, отдавшего русской службе больше сорока лет, — именем ученого-энциклопедиста названы многочисленные и самые разнообразные объекты — животные, растения, горы (как минимум две), вулкан, риф, лунный кратер и т. д. и т. п. Есть в степях за Волгоградом, описанных в свое время академиком Палласом, районный центр Палласовка. В 1990 году в городе проживало чуть менее 18 тысяч человек. Один из них помог тогда своему брату, приезжему рыболову, откопать на берегу искусственного водоема совершенно случайно тем обнаруженный (господа мистики, если вы еще не осведомлены об этом фантастическом совпадении, приготовьтесь и крепче, крепче держитесь за стул…) метеорит — палласит!!! — весом 198 кг.
Рядом с Палласовкой — откопали палласит!
Нет, еще раз: рядом с небольшим санаторным городком, названным в честь Палласа, петербургского академика, описавшего целебные качества здешних грязей, найден один из редчайших объектов, прозванных также в честь Палласа, петербургского академика, обнаружившего первый из таковых за три тысячи километров отсюда!
Или так: рядом с городом, названным в честь первооткрывателя редчайших объектов, названных его именем, обнаружен сам такой редчайший объект!
Если кто думает, что найти палласит — это раз плюнуть, так думать не надо. Находка метеорита «Pallasovka» — событие. Предложения о продаже фрагментов «Палласовки» весом в несколько граммов встречаются в интернете. Вместе с тем сообщается, что основную массу метеорита удерживает анонимный обладатель.
А с метеоритами, вообще говоря, удивительные вещи иногда происходят.
То же «Палласово железо». Тут тоже ведь совпадение. Упал этот железокаменный метеорит не куда-нибудь — не на невские берега (хотя, если было бы так, сказали: поближе к Кунсткамере…), не куда-нибудь в другое место Сибири, а аккурат рядом с выходом железной руды, которая хоть и не имела к найденной глыбе никакого отношения, что было выяснено при соответствующем обследовании, но все равно, нам — странно.
А Borodino?
Метеорит «Бородино» хранится в Горном музее, основанном еще при Екатерине II. Прекрасный музей, кто не знает. И один из старейших в стране.
«Бородино» — герой коллекции метеоритов, баловень смотрителей и любимец посетителей, преимущественно студентов Горного института, — запись для посторонних сюда по предварительной договоренности.
Утверждается, что этот метеорит упал перед Бородинским сражением — в расположении 7-й пехотной дивизии русских войск. Прямо на глазах часового. Не буду пересказывать эту историю, она в интернете на виду. Тут уже не поймешь, где предание, где истинный порядок вещей. Есть письменное подтверждение последнего владельца — управляющего имением сына того офицера, командира батарейной роты, которому часовой принес камень, упавший с неба. Далее, следует понимать, по начальству о событии не докладывалось. Кутузов не знал. Толстой тоже. Знал бы Толстой, вставил бы в роман, как ту комету. Хотя не уверен. Нет, вряд ли. Читатель не поверил бы.
В самом деле, попади камень с неба Наполеону в голову, это бы и то показалось не так чтобы более вероятным событием, но как-то более логичным, что ли…
Между тем метеорит — вот. Настоящий. Железокаменный. Обыкновенный хондрит H5, вес — 325 граммов.
Выставлены и другие метеориты. Например, образец знакомого нам «Саратова», 588 граммов, давний подарок Саратовского университета. Или вот образцы метеоритных дождей — Сихотэ-Алинского и Челябинского. Или совсем редкости — метеорит с Луны, маленький: 3,5 грамма. Метеорит с Марса: 7,4 грамма (большой!).
«Саратов», «Красноярск», «Челябинск», «Богуславка», «Палласовка», «Чувашские Кисы», «Краснодар», «Севрюково», «Кашин»… Нет только «Санкт-Петербурга» и «Москвы». Может, это и к лучшему. Вспомним, какой переполох наделал метеорит «Челябинск», пролетев над одноименным городом.
Петербург обладал прекрасными собраниями метеоритов; сейчас он уступает по крайней мере Москве.
Тем ценнее, мне кажется, на невских берегах примеры реликтового самоприсутствия беспокойного младенчества Солнечной системы.
Им ведь есть что нам рассказать — этим осколкам малых планет, астероидов, теперь уже в качестве метеоритов достигнувших Земли после своих миллиардолетних космических блужданий… «Нам» — в смысле, нашим ученым… Пускай, пускай разбираются, мы подождем… что там с ранними стадиями планетообразования, не побоимся слова (в частности, образования нашей планеты).
Это здорово, только мы сейчас не о нашем взгляде на вещи.
Представим кого-то другого, представим некоего Сверхнаблюдателя. Пусть он будет метафизическим демоном, чья главная форма бытия — Великая Скука. Он способен миллиарды лет рассеянно, ни на чем не сосредоточиваясь, наблюдать за нашей звездной системой, хотя уставиться в точку способности не лишен. Более четырех миллиардов лет длится на солнечной орбите эта канитель с космическими телами. Туда-сюда, туда-сюда. С разными скоростями, по разным траекториям. Иногда они сталкиваются. Иногда малые небесные тела, попадая в поле притяжения больших, бьют по ним с размаху, разлетаясь на части. Ничего интересного. Хотя нет. На одной планете что-то происходит с осколками. Что-то странное… Демон сосредоточивается, изменяя масштаб наблюдения. Ну-ка, ну-ка. Некоторые осколки прежних небесных тел — не все, а некоторые — как-то странно себя ведут на поверхности этой планеты… Нет бы просто лежать, да они и лежат, но вдруг по какой-то неясной причине начинают перемещаться, словно ищут друг друга, и почему-то собираются в определенных точках. С чего бы это? Зачем, почему? По каким это законам физики… мироздания?.. Что вообще там происходит?
А происходит то, что осколки небесных тел действительно собираются в определенных местах, например в зале № 15 Горного музея на Васильевском острове. Миллиарды лет скитавшиеся в пространстве Солнечной системы невозвращенцы пояса астероидов, еще «недавно» разнесенные друг от друга на космические расстояния, зачем-то встречаются там, представленные уцелевшими образцами, в вековых застекленных ящиках красного дерева: вот метеорит, сюда проникший из Антарктиды, а вот аризонский из каньона Дьявола, Canyon Diablo, — каньон переименовали давно, но имя его сохранилось в названии метеорита. Здесь их, в этой аномальной точке Вселенной, скопилось более ста.
В космосе тихо. Как шуметь в безвоздушном пространстве? Местную музейную тишину все же прерывают посторонние звуки. Ночью летом может издать резкий гудок судно, подходящее к разведенному мосту. Неопознанный шумовой объект внезапно обозначит себя со стороны верфи. Придурковато прохохочет чайка. Вот сейчас среди дня меняют на набережной асфальт. Ко всему можно привыкнуть.
Сверхнаблюдатель изумлен. Куда тебе, демон, разобраться с этим.
«В стороне Кронштадта…»
В стороне Кронштадта ухают тяжелые орудия.
Но в общем тихо.
Анна Ахматова. Поэма без героя

Залив
Стратегическое значение протяженного острова в Невской губе и замечательных особенностей рельефа ее дна Петр оценил, когда уже возводил куртины Петропавловской крепости.
Тут мы должны произнести слово «Кронштадт».
Значение Кронштадта в истории Петербурга исключительное. Не было бы Кронштадта, не было бы и Петербурга.
То же допустимо сказать о Кронштадте, когда он еще и Кронштадтом не был, а была всего лишь деревянная крепость Кроншлот, в спешном порядке прямо в воде построенная напротив острова Котлин.
Котлин… А что — Котлин?.. Я поспрашивал просвещенных, образованных петербуржцев, как называется остров, на котором Кронштадт. Удивительно, но большинство не знает. Некоторые говорят: так и называется — Кронштадт. Да ведь и с ленинградцами то же было. Уверяю вас, большинство ленинградцев не помнили, как называется остров. Я даже о себе не могу точно сказать, помнил я или не помнил. Во всяком случае, в быту мы такого названия практически не употребляли. Котлин для нас всегда был Кронштадтом.
Имя Кронштадт конвертировало географию.
На каком бы берегу — на южном или на северном — мы ни стояли, вглядываясь в дымку залива, то, что различалось на горизонте, было Кронштадтом — всегда и только Кронштадтом, хотя сам Кронштадт занимал только часть острова.
Ходить по воде, по песку, смотреть на закат и не замечать Кронштадта — мне это кажется невозможным. Любой пришедший на берег залива ищет, мне кажется, глазами Кронштадт — ну машинально хотя бы. Сейчас меня поправляют: «Никогда не искала». Может быть, у меня это с детства?
Мне не было пяти, когда мне был показан Кронштадт. Как-нибудь, наверное, так — со значением: «Посмотри, видишь вдали?» — и тут меня отрывает привычная подъемная сила от береговой тверди, вознося на высоту отцовских плеч — чтобы виделось дальше. Это на южном берегу залива. В Кронколонии. Там снималась у нас дача на две родственные семьи — в Кронштадтской колонии, в небольшом в те годы поселке.
Сейчас о былом поселении напоминает лишь название железнодорожной станции — Кронколония. А так это городская застройка Ломоносова (об историческом имени которого точно так же напоминает станция Ораниенбаум). Да вот и сам Ломоносов уже давно административная часть Петербурга. Так же, как и Кронштадт. Что до Кронколонии, она хотя и была Кронштадтской колонией, к самому Кронштадту имела отношение малое. До войны здесь жили преимущественно немцы, потомки колонистов, которым еще в начале XIX века предоставили эти земли. Немцев выслали. В начале шестидесятых дачи снимали уже у других хозяев. Но что я могу помнить об этом?
Воспоминания смутные, на уровне ощущений, помню две-три яркие картинки. Огромные парковые дубы, возможно петровского времени, темная, черная почти грозовая туча и Катя, двоюродная моя сестра (старше меня на пять лет), вместе со школьной подругой торопят — быстрее, ну быстрее идти, — сомневаясь, однако, не встать ли под деревом. Или все вместе, все поселяне, с ведрами и бидонами спускаемся с горы: в поселке нет питьевой воды, и в урочный час питьевую воду привозит машина с цистерной (у меня тоже ведерочко), — очередь выстроилась за водой, которая раздается в розлив, и, быть может, я только потому это помню, что кто-то, рыбак, предлагает угрей — полное ведро живых угрей, и мне показывают персонально — угорь брошен в траву — и ползет!.. и, виляя, пытается уползти! — «Испугался? Это же рыба». Но я не слепой. Я знаю, как выглядит рыба. Не верю, что рыба! Почему, почему это рыба? Угорь в траве — словно вижу сейчас.
Ходили со взрослыми на залив купаться (тогда еще в Финском заливе купались). Или я был уже повзрослей? Последний раз купался в Финском заливе, когда поступил в институт, — на северной стороне, не то в Репине, не то в Комарове, — по другую сторону от Кронштадта.
Что на северном, что на южном взморье дно примечательно тем, что утонуть трудно — даже ребенку. А взрослому вообще тоска: устанешь заходить в залив, пока наконец сумеешь плюхнуться в воду.
Вспомнился рассказ одной знакомой, она работала гидом. Дело было в конце девяностых. Как-то после экскурсии (на английском) по Юсуповскому дворцу к ней подошла одна из туристок, молодая японка, и попросила после работы помочь в предприятии деликатного свойства. Что такое? Ей надо оказаться в Петербурге посреди чистой воды. Так вот же Мойка — не подойдет? — можно по ней проплыть на кораблике. Нет, Мойка не то. Моя знакомая отвезла японку к Неве. Но и Нева ее не устроила. Тогда свезла в Гавань, в «Ленэкспо». С набережной Васильевского острова японка увидела широкую Невскую губу. То, что надо. Наняли лодку с мотором и попросили владельца отвезти их подальше от берега. Так хотелось японке. На иной взгляд, здесь начинается море. Нет, строго говоря, это не море еще, но и такого намыва, как сейчас, тогда под строительство не было, и гостиница «Прибалтийская», тогда еще стоявшая на берегу, уже едва различалась вдали, — остановились, заглушили мотор. Вот тут, в широких водах Невской губы, и объяснила японка, в чем суть предприятия. У нее умер отец. Он был не то бизнесменом, не то общественным деятелем, точно сейчас не скажу, да это и не так важно, — главное, что он много путешествовал по миру. Вместе с женой. И своих трех дочерей они зачали в трех городах на разных континентах планеты. Причем одну здесь, в Петербурге. Теперь, выполняя последнюю волю отца, его дочери поделили прах его на три части и разъехались по своим городам — каждая должна распылить свою часть отцовского праха в чистой воде заветного города. Надо отметить, что тогда вода в Невской губе была значительно чище, дамбу еще не достроили и не намыли еще участков суши для высотной застройки. Молодая японка дала моей изумленной знакомой камеру и попросила снять печальную церемонию. Затем она достала из рюкзака коробочку с лепестками белых роз и пустила их по воде. Потом вынула матрешку, открыла ее и высыпала прах отца прямо в воду. Лодочник-моторист, не готовый к такому ходу событий, был настолько ошеломлен увиденным, что позже, пытаясь поделиться с моей знакомой впечатлениями, не мог слов подобрать, лишь рот открывал. Но мою знакомую, кажется, все это потрясло еще сильнее. В какой-то момент, когда церемония вроде бы завершилась, но она, и без того взволнованная, все еще продолжала снимать застывшую в печальной задумчивости дочь отца, ей стало казаться, что у нее начинается слуховая галлюцинация. Молчание прерывали чьи-то явственные голоса — мужской и женский. Говорили о каком-то ротане, которого, «суку, сюда завезли, а он, черт, икру окуней пожирает». Выключив камеру, моя знакомая робко повернула голову в сторону голосов, и ей показалось, что галлюцинация у нее теперь зрительная. Недалеко от их лодки (как только раньше не заметили) стояли по пояс в воде (а на воде голоса слышны хорошо) дядька и тетка и ловили какими-то неведомыми снастями рыбу. Моя знакомая затруднялась ответить, видела ли этих двоих японка, — если да, то это никак не повлияло на ее настроение: столь сильных чувств, овладевших ею, никакие видения оскорбить не могли. Также моя знакомая затруднялась ответить, что же сильнее ошеломило ее — удивительная церемония, участницей которой ей неожиданно довелось быть, или ирреальное явление этих двоих в самый невероятный момент и в самом невероятном месте — далеко от берега, посреди Маркизовой лужи.
Да, Маркизовой лужей неофициально именуют Невскую губу, и отличает ее действительно мель. Так и тянется до самого Кронштадта, где глубже, где мельче.
А когда дует долгий восточный ветер, возможен еще и отток воды более чем на метр. Немало.
Впрочем, там, где состоялась на воде та церемония, возможно, берег уже, — в новом тысячелетии идет интенсивный намыв под строительство. Стремительно сокращается Маркизова лужа.
В чем смысл рассказанной истории про японку? В том, чтобы отметить факт мелководья?
Разумеется.
А в чем же еще?
Мелководье в Невской губе сыграло для Петербурга роль судьбоносную.
Петр скоро оценил особенности здешнего дна. И сделал стратегический вывод.
Цена мелководья
Представления о здешнем мелководье, близкие к реальным, Петр получил в октябре 1703 года, когда открылось временнóе «окно» между уходом шведской эскадры и ледоставом. Если кому-нибудь в ряду многих событий это не покажется слишком важным — войти в залив, промерить с толком глубины, — одно вам скажу… но что тут сказать?.. ничего не скажу… Читайте дальше.
Дело обстояло так.
Шведская эскадра продолжала блокаду Невской губы, явно дожидаясь первых морозов. Борей не стал заставлять себя ждать, взял и подул. Заморозки в том году случились ранние, и настигли они Петра Алексеевича где-то в верховьях Невы на фрегате «Штандарт», построенном недавно на Олонецкой верфи, — а вместе с похолоданием пришла к нему еще и весточка (прямиком на корабль), заставившая сильно поторопиться. Причина спешки одна: «Нуморс… отъехал», — сообщал Меншиков (в оригинале, однако, более многословно), то есть эскадра вице-адмирала Нумерса с первыми заморозками наконец ушла, оставив здешние воды без своего дотошного попечительства.
Куда ушла? Русских «куда» уже беспокоило мало. «Гистория свейской войны» сообщает — «для зимования в Выборх», но шведские источники, конечно, знают про своих лучше: на зимние квартиры в Карлскруну[9]. На главную военно-морскую базу королевского флота.
О Карлскруна!.. Город на островах… По числу островов с Петербургом почти паритет… Между прочим, старше Петербурга всего на 23 года и, так же как Петербург, основан одним волевым жестом монарха… Незамерзающая гавань, крепость, Морской музей… Город, где способны по ночам оживать памятники, когда их беспокоят заколдованные дети… Мне было, наверное, лет шесть, и я не знал, что это Карлскруна и что это Карл, и уж тем более что одиннадцатый, но как такое забыть — шаги бронзового короля по узким ночным улочкам и маленький Нильс, спрятавшийся в деревянной шляпе деревянного солдата, ветерана морских битв… «Ты хороший солдат, старик Розенблом». Не книга, кино. Сильно, наверное, потрясло детское воображение, если я до вчерашнего дня был абсолютно уверен, что там играли живые актеры, а вовсе не мультипликацию мне тогда показывали в кинотеатре «Родина». На чердаке ратуши спят дикие гуси, а Бронзовый и Деревянный дошли до заброшенной верфи, король снимает шляпу перед мертвым фрегатом, покоящимся на боку, и я представляю сейчас его воинственного сына, который в Стокгольме, тоже отлитый в бронзе, руку протянул в нашу сторону — в нашу степь, на наши болота… Кстати. Куда дикие гуси летят, не к нам ли? Лебеди (они ведь из отряда гусеобразных) — точно через эти края: в Невской губе у них тут остановка на перелете — на отмелях у северного побережья… Вот, посмотрел: с гусями сложнее… Утки — понятно; те милости просим… А лебедь-шипун еще недавно кормился на Лондонской отмели, пока там не стали добывать песок, это сразу за дамбой, — да, есть и такая.
Лондонская — потому что в 1719 году, в один день с линейным кораблем «Портсмут», сел здесь на мель и был разбит штормом линейный корабль «Лондон».
А «Лондон» он был потому, что купил его Петр в Англии.
Оба, и «Лондон», и «Портсмут», отличились в Северной войне, каждый имел по 55 пушек, а погибли оба нелепо, можно сказать, у себя дома.
Мель — страшная вещь. В той же Карлскруне, если заговорили о ней, в 1981 году села на мель наша подводная лодка. То-то был международный скандал!..
Зато как поэтично звучат названия мелей и отмелей!.. Взять лишь те, что поближе к устью Невы.
Синефлагская мель… Канонерская отмель… Отмель Галерной косы… Мель Золотой Остров…
И прочие мели и отмели.
А есть еще картина у Айвазовского с названием не менее содержательным, чем сам сюжет, — «Петр I при Красной Горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим». Это когда в бурю попали корабли с провиантом и живой силой, посланные на помощь осаждающим Выборг. Тот костер — прообраз первого здешнего маяка.
Только это все впереди, нам бы не выскочить из нашего семьсот третьего достославного года, нам бы в стиле Айвазовского представить сейчас никем не написанную картину «Петр Великий руководит промером глубин у острова Котлин по уходе шведской эскадры на зимование». Свинцовое небо под стать цвету волн, но все же луч солнца сквозь тучи пробился, и видна в одном месте на небе полоска лазури. Яхта и галиот. Обратите внимание на предмет в руках одного из участников экспедиции, судя по всему солдата Преображенского полка: это ручной лот (возможно, трофейный), в данный момент он не задействован, — непосредственный промер глубины выполняется посредством простого шеста, из чего заключаем, что здесь мелководье. О том же свидетельствует характерная крутизна волн. Из всех, кто изображен на полотне, можем назвать поименно троих. Петр — не узнать его невозможно — глядит, разумеется, вдаль; князь Александр Данилович Меншиков, чье лицо отражает понимание важности будущих поручений Петра; и третий: некто жестом руки предающий царю направление взгляда, то Семен Иванов, местный лоцман, рыбак, знаток рельефа здешнего дна. Заслуги опытного лоцмана (эти и прочие) Петр оценит особо: дозволит владеть кабаком («Красным кабачком», если точно, — это тот знаменитый трактир на десятой версте Петергофского тракта, который, меняя хозяев, сумеет дотянуть до самой революции… и Пушкин, Пушкин там бывал молодой!.. и находим у Пушкина… стоп, стоп, не отвлекаться…).
Еще о погоде.
Непосредственно в Швеции Нумерсу пришлось оправдываться за ранний уход: он-де, выполняя приказ короля, держался в заливе, сколько позволяла погода. Ушел, когда уже снега дождался и льда на воде, а главное, когда стал замерзать такелаж, — в условиях низкой солености это сугубо опасно. Видите ли, погода, которую еще не называли ни «питерской», ни «ленинградской», сыграла с Нумерсом злую шутку: он ушел и тут потеплело. На радость Петру.
Впрочем, не будем сильно преувеличивать потепление. Мы-то знаем, что такое быть на воде даже летом в Финском заливе. Неспроста вспоминалось героям слово «кабак». Представляем и такую картину: сумерки, берег, костер, про всех не скажу, но трое поименованных готовы согреться.
Так вот. Петр не зря торопился. Итоги замеров не обманули его ожиданий. Множество мелей и подводных камней не оставляли надежды кораблям противника проникнуть к устью Невы с севера. Фарватер, довольно узкий, тянется вдоль южного берега Котлина, а далее на юг простирается еще более очевидная отмель. Ныне она называется Ломоносовской, — Михаил Васильевич Ломоносов, наверное, удивился бы, узнав, что его именем назван столь необычный географический объект, и вряд ли бы сумел догадаться о логике причинно-следственных соответствий, породившей этот гидроним. Не в том суть. Все-таки прав Наполеон: география — это судьба. Ну не мог, никак не мог Карл XII додуматься до строительства прямо в воде, на краю фарватера крепости. Не нужна она ему была — не от кого было ему защищать устье Невы со стороны моря — не от себя ж самого!..
А Петру такая крепость нужна была очень — перед фарватером, прямо на границе отмели. Вкупе с островной батареей она бы могла контролировать единственный доступ к устью Невы — фарватер бы находился под перекрестным огнем. Определенно природа здесь была на стороне Петра I. Сложнее — со временем. Петр снова опережал противника на шаг, но лишь при условии быстрых решений — возвести крепость необходимо было за одну зиму. Ближе к лету ждали в гости шведские корабли.
Неугомонный царь вместе с гвардией отправляется в Москву, оттуда в Воронеж (второй раз за год); как всегда, Петра сопровождает Меншиков, впрочем он скоро будет отправлен назад — с особым секретным изделием для руководителей стройки. Это не что иное, как макет крепости, собственноручно изготовленный Петром I. Презентация объекта — нам стоит и здесь положиться на наше воображение — должна была состояться в узком кругу. Представляем на еще одной ненаписанной картине почтительно-сосредоточенные лица командиров пехотных полков, чьи солдаты уже завезли к месту строительства сосновые бревна, камни и грунт. Интереснее всего было бы увидеть выражение лица архитектора Доменико Трезини, поступившего на службу к русскому царю, — все-таки профессиональный надзор за строительством данного форта — первое поручение ему от Петра, — но, судя по всему, швейцарец еще где-то в пути, он плохо представляет, что его ждет, и даже во сне ему не привидится бронзовый памятник себе самому на берегу широкой реки с быстрым течением.
Строительство началось, как обычно, с фундамента. На льду сооружали ряжи — срубы из толстых и длинных бревен. Их заполняли камнями, лед под ними проламывался, и они опускались на дно.
На этом фундаменте, образовавшем как бы искусственный остров, и возводилось укрепление в виде трехъярусной десятигранной башни (впрочем, по числу ярусов — два или три — и по числу граней — десять или восемь — единого мнения нет). Высокую крышу в форме шатра венчала смотровая площадка с флагштоком.
Полагают, что крепость могла вместить до семидесяти орудий.
Первые четырнадцать доставили к ней 7 мая 1704 года. В тот день с борта флейта «Великий» перешли на новое укрепление сам Петр со свитой и митрополит Новгородский и Новолукский Иов. Совершился обряд освящения еще не до конца достроенной крепости. Имя ей было дано Кроншлот («коронный замóк»).
Празднования длились три дня.
Скоро форт подтвердил точность своего имени.
Оборона
Если мы согласны с тем, что история в самом деле способна иронизировать, признаем тогда и то, что так называемая ирония истории — это насмешка обычно злая, жестокая. Однако бывает, когда даже История способна улыбнуться по-доброму.
Первому коменданту Кроншлота полковнику Трейдену Петр составил письменные предписания, довольно подробные и по-военному точные. Знаменита первая фраза, по сути приказ:
«Содержать сию ситадель с Божиею помощью аще случится хотя до последнего человека».
Нет сомнений, что боевой дух гарнизона отвечал строгости и высоте приказа Петра. Когда в июле 1704-го вице-адмирал де Пру привел свою эскадру к острову Котлин, солдаты Кроншлота были готовы стоять до последнего человека.
Два дня шла пальба с обеих сторон. Два дня шведская эскадра обстреливала Кроншлот. И что же?
Ни одного попадания в крепость.
На следующий год, собрав еще большие силы, шведы снова пришли к острову Котлин и с утроенным усердием обстреливали Кроншлот, чей гарнизон, безусловно, был готов стоять до последнего. Результат — одно попадание. Форт сотрясся. Но это все, чего сумели шведы добиться.
Для корабельных шведских пушек форт Кроншлот оказался объектом с досадно незначительными размерами, но кто же виноват, что не подошли ближе? Вместе с Кроншлотом оба лета успешно действовала береговая артиллерия, а во втором случае (в 1705 году), к удивлению шведов, вице-адмирал К. Крюйс привел русский флот, построенный за зиму, и со стороны устья перегородил фарватер.
Иными словами — прошу понять правильно: замечания о доброй иронии отнюдь не подразумевают что-либо благостное и уж тем более не ставят под сомнение в этих баталиях неизбежного для любой войны смертоубийства. И здесь История перестает улыбаться по-доброму. Потери были. С обеих сторон — на самом Котлине. А для шведов еще — особенно — в прибрежной полосе на отмели, куда и в ту кампанию, и в эту (1704, 1705) с упорством отважных неудачников они высаживали десант.
Заколдованность?
Между двумя морскими «диверсиями» 1704 и 1705 годов была еще одна зимняя, ледовая — то странное дело, которое историк Устрялов назвал в свое время (1863) «нечаянным набегом».
Дело поистине загадочное, туманное, непрозрачное, как пространство залива, заносимое колким снегом, что застлал глаза Карлу Армфельду и всему его тысячному отряду, передвигающемуся по льду. Вышли из Выборга, направлялись к острову Котлин — в ночь. Цель похода — уничтожить русские укрепления, в первую голову — Кроншлот.
Российские историки склонны считать, что из-за непогоды прошли мимо.
Согласно шведскому историографу, поход был достаточно успешный. Сожгли на Котлине царский дворец и прочие здания, а также корабли — военные и купеческие. Порубили русскую пехоту, обратили конницу в бегство.
Русская историография, однако, этого события не заметила.
Согласно русской историографии, не было и быть не могло царского дворца в тот год на Котлине. И корабли все на зиму отправили в Петербург. И никаких особых строений на острове не замечалось. А поскольку русские вообще не ждали от шведов такой зимней каверзы, то и гарнизона на острове не оставили — живая сила с холодами подалась в город. Только со следующей зимы будет оставаться здесь гарнизон. А сейчас и пушки с острова были убраны.
В общем, обращать что-либо в пепел и кого-либо громить было со шведской стороны весьма затруднительно.
Но всего удивительнее сообщение о Кроншлоте. Будто бы от него отступились, потому что русские-де окружили башню прорубью шириною в три сажени.
Очень сомнительно. Прорубить толстый лед вокруг форта — задача сложная, тем более если учесть, что прорубать было некому. А зачем прорубать? В лютый мороз прорубь мигом заледенеет — и что, так и рубить без конца? Могла ли какая-то прорубь помешать шведам, если их главная задача была сжечь этот деревянный Кроншлот? Да легко бы сожгли.
Не могли не сжечь.
Скорее всего, шведы в этот раз Кроншлота не видели. Ни вблизи, ни издалека.
Снег, вьюга, потеря ориентация — мало ли что. Опять же Кроншлот — крепость небольшая, одно слово — деревянная башня, можно и не заметить.
А может быть, место такое… заколдованное.
Загадка — с кем же воевали в ту метель? С какими призраками? Какие видели миражи?
На мысль о заколдованности Петербурга может навести иную впечатлительную натуру хроника похода 1708 года под предводительством генерал-майора Г. Любеккера.
То, что произошло с тринадцатитысячным войском, кажется настолько странным, что заставляет историков теряться в догадках о цели самого похода.
Целый месяц (август) ушел на изнурительный переход из Выборга до берега Невы восточнее Петербурга. Ради внезапности шли едва ли не лесными тропами, увязая не столько в болотах, сколько в грязи, вызванной проливными дождями.
Тем временем со стороны залива появился флот, всего 22 вымпела. Глядящему на карту покажется, что угроза городу создается с двух сторон — с запада и востока. Так и было, наверное. Но если бы не Кроншлот… И если бы не бездорожье, не отсутствие провианта, не быстрое течение Невы…
Основной части войска все же удалось благополучно форсировать Неву. Бой на левом берегу с подоспевшими русскими решающего значения не имел. Решающее значение имело то, что войско, предоставленное противником самому себе, продвигаясь на запад, таяло из-за голода и массового дезертирства. Но теперь уже шли по дороге — в Копорье. Огибая Петербург с юга.
В Копорской губе тот самый флот, ничем себя так и не проявивший, озаботился эвакуацией добравшегося до балтийского берега воинства. Из-за ветра и морского волнения предприятие растянулось почти на полмесяца.
Шведский лагерь на берегу был атакован русскими и уничтожен.
Очень странный поход.
Каковы бы ни были его цели, своя логика в этих маневрах на самом деле была — только она строилась на ложных надеждах: полагались на склады провианта, будто бы размещенные русскими на левом берегу, и на помощь местного ингерманландского населения.
Первого не оказалось (весь провиант был в городе), второе оказалось купированным репрессивными действиями адмирала Апраксина.
Заложить крепость
Не знаю, как сейчас, а помню, в детстве, когда плыли в Петродворец на «Метеоре», там ограничение было: если волна более метра высотой, рейс отменяется. «Метеор» — это скоростной теплоход на подводных крыльях. Полагаю, когда Петр затеял поход в непогоду на Котлин (или — в Кроншлот, как тогда по имени достославного форта называли весь остров), некоторых дипломатов (персидского шаха, например) и особенно дам укачало порядком.
Кронштадт исчисляет свой возраст с 1704 года — со дня освящения еще не достроенного форта Кроншлот, и это правильно, хотя собственно крепость Кронштадт была заложена на Котлине значительно позже — в 1723 году, тогда же и наречена Кронштадтом.
Вот закладывать новую крепость и отправились большой флотилией 2 октября 1723 года, провожаемые пальбой пушек с обоих берегов Невы.
Что бы Петр ни затевал, он всегда придавал значение символам и ритуалам, — добавим к этому ту добродетель, которую он ценил выше других, — дисциплину, сиречь регламент. За день до похода Петр оповестил об оном именитых людей Петербурга — им надлежало сопровождать государя на своих судах. В поход отправлялись президенты коллегий и «все коллежские советники по половине» — другая половина оставалась в столице исполнять обычные обязанности. Иностранцы приглашением не пренебрегали, даже герцог Голштинский, который почему-то приглашения не получил, но истолковал неполучение в том лестном для себя духе, что не хочет император стеснять его в свободе выбора.
В итоге акция получилась действительно символичной, с акцентами, царским замыслом не предусмотренными. Петр, конечно, сознательно пренебрег непогодой, но все же не мог надеяться на столь неприветливый вызов стихии.
Логика в спешке была. На носу — годовщина взятия Шлиссельбурга, надо еще поспеть туда. Вдовствующая царица Прасковья при смерти. Да и погода здешняя уже неплохо изучена. Каверз ее не избежишь. Лучше не загадывать наперед.
Не надо забывать и о мечте Петра заставить подданных полюбить воду.
Согласно Крафту, в Петербурге 2 сентября, то есть в день отплытия от Троицкой пристани, было наводнение, в чем сомневается Каратыгин, смущенный отсутствием упоминаний о столь важном событии в дневнике Берхгольца. Тем не менее герцог Голштинский, патрон автора знаменитого дневника, предпочел отправиться «в Кронслот» не со всеми, а на другой день, так как «ветер был не совсем благоприятный».
Мог ли, в принципе, подъем воды расстроить планы Петра? Исключительно как непреодолимое обстоятельство. Оно и расстроило: добирались (вместе с ночевкой) более суток.
Поскольку ушли в поход вечером, ночь пришлось провести в устье Невы — на якоре. Возможно, тогда и наблюдался некоторый подъем воды, а скорее всего, как раз не наблюдался, потому что как раз с воды это наблюдается плохо, — по вторичным лишь признакам петербургского наводнения — ветру и волнам.
Утром было вышли в залив, но сильный, «почти противный» ветер заставил вернуться, — добрались до Котлина только вечером.
Два дня шел дождь проливной…
Надо сказать, на острове уже было много чего построено. Роскошный Итальянский дворец, между прочим официальная резиденция Меншикова, был не единственным каменным зданием. По сути, на восточной оконечности острова компактно сосредоточился небольшой город — с жилыми строениями без оград и заборов, провиантскими магазинами, морским госпиталем, водозаборной башней, снабженной ветряным механизмом. Были построены пристани, гавани, склады, прорыт канал в будущий док. Прорубались просеки, по которым Петр мечтал протянуть каналы. На искусственном острове достраивался второй, после Кроншлота, морской форт Цитадель (позже названный «Император Петр I»).
Но Петр мечтал о большем — о крепости.
…А дождь шел и шел. Участники намеченной церемонии, обеспеченные дровами, старались без надобности не показывать носу из своих убежищ. По необходимости принимали гостей и делали визиты, этого требовал этикет. Можно не сомневаться, многие благодарили Всевышнего за то, что облагоразумил государя не переносить на Котлин центр Петербурга. Митрополит Новгородский у Царя Небесного просил хорошей погоды.
Все с тревогой прислушивались, не возвестят ли пушки: пора на сбор.
Петр, несмотря на дождь, копал землю — обозначал контур будущей крепости. Кто, как не он?
На другой день его труды смыло.
Возможно, к этой дате — 6 октября — надо отнести наводнение, о котором писал Крафт. Не исключено, что был рецидив. Очевидно одно — вода действительно поднималась и затопила часть берега. «Дождь и сильная буря не утихали», — между делом замечает Берхгольц.
Петербургские наводнения поражали внезапностью. Приходит в голову странная мысль: а не могло ли тогда случиться то, что случилось через 101 год и 1 месяц — 8 ноября 1824 года? Раз не случилось, то не могло, а если и могло, то не случилось. Это да. И все же… Погибли бы все.
Как бы то ни было, 7 октября пушки возвестили о сборе. Митрополит Новгородский отслужил молебен.
По три куска дерна положили на землю, согласно разметке, император и императрица. А также прочие участники акции. Включая дам.
Церемония состоялась.
1854, 1855
Мне проще представить в этой ситуации своих современников: у всех в руках смартфоны, многие повернулись к заливу спиной, чтобы сделать селфи на фоне вражеских кораблей. Некоторые показывают на пальцах викторию. Прикольно ведь. Впрочем, флот неприятеля находится на значительном расстоянии, поэтому сами корабли на снимках могут получиться досадно мелкими, но тут нет большой беды: главное — дым, высокий дым из труб пароходофрегатов, самое главное — дым! Наш-то флот по-прежнему преимущественно парусный — тут есть что сравнить, — мачты виднеются, и нет дыма: кораблями с паровым движителем пока еще не располагаем в достаточности. А снимки, конечно, тут же отправляются знакомым в разные концы света, в Крым, например, — в Севастополь: как там у вас?.. еще не началось?.. А у нас — красота. Не каждый день увидишь флот неприятеля, пришедший завоевывать твою столицу.
Если отбросим смартфоны с их чудесными возможностями (как-то вспомнят о них лет через пятьдесят?!) и сделаем поправку на истинный антураж середины позапрошлого века — одежда, прически, оптические инструменты (обязательно у кого-нибудь подзорная труба), ничего нового о человеческой природе мы не узнаем: любопытство всегда любопытство. И в 1854-м, когда эскадра под командованием адмирала Чарльза Нейпира подходила к Кронштадту, и в 1855-м, когда в разгар войны на юге здесь, в заливе, крейсировали корабли союзного флота под командованием вице-адмирала Ричарда Дондаса, петербургское общество приезжало на это смотреть — каков противник. А почему бы не посмотреть, если показывают? Я бы сам приехал одним из первых в Красную Горку, откуда открывался замечательный вид.
А ведь могло случиться все, что угодно. Крымская война, она же Восточная, могла бы назваться сейчас как-нибудь по-другому — Балтико-Крымской, например, или Невско-Крымской, или даже Петербурго-Крымской, если бы в 1854 году неприятель повел себя столь же решительно на севере, как позже на юге.
А может быть, и не дошло бы до войны именно Крымской, и была бы она Второй Северной, когда бы все разрешилось тут, на подступах к столице, если не в черте города.
Все помнили, как английский флот разбомбил Копенгаген. Тогда Британия была союзницей России, английские верфи нуждались в русском корабельном лесе. Датчане, выступив на стороне Наполеона, могли (только еще могли!) закрыть «окно в Европу», чего англичане боялись тогда больше всего. Акция была превентивной. И вот ее результат: треть Копенгагена в руинах, число жертв измерялось тысячами.
А недавно совсем, в апреле, была бомбардировка Одессы.
В Лондоне от Нейпира ожидали, между прочим, ни много ни мало покорения Петербурга; перед Дондасом год спустя задача стояла скромнее — победить Кронштадт. И то и другое, как известно, не получилось. Англичане, взвесив все pro et contra, на прорыв не решились. Однако значительные силы русских, привлеченные к обороне столицы, оказались в известных пределах скованными и не участвовали в военных действиях на юге, где разворачивался основной театр войны. Что до зрительского внимания к себе, оно союзническим флотом достигалось в качестве побочного эффекта, и это было уже сродни театру в обычном понимании слова.
Среди зрителей представления случилось быть известным литераторам. Например, Тютчеву. Петербургская публика, по его словам, воспринимала зрелище как некое — тут поэт (заметим по ходу, это в письме к жене) выразился на языке интервентов — very interesting exhibition (а впрочем, и в остальном — письмо на языке неприятеля, каковым вдруг оказался язык французский). Морские силы противника подвигли Тютчева к сарказму. «Здешние извозчики, — писал он тогда, — должны поставить толстую свечу за их здравие, так как, начиная с понедельника, образовалась непрерывная процессия посетителей в Ораниенбаум и на близлежащую возвышенность, откуда свободно можно обозревать открывающуюся великолепную панораму, которую они развернули перед нами, невзирая на дальность пути и столько понесенных ими расходов».
Как раз в упомянутый понедельник, в первый же день демонстрации мощи английского флота — 14 июня 1854 года, наблюдательный пункт на Бронной горе посетила вместе с членами императорской семьи дочь поэта, фрейлина двора Анна Тютчева. «На протяжении всего пути нам то и дело встречались кучки любопытных, которые все направлялись к морю посмотреть морское чудовище, появившееся из волн. Некоторые шли шумными группами, другие расположились веселыми компаниями на траве вокруг кипящего самовара» — из ее дневника. И чем не народное гулянье?
«Вся эта публика, — продолжает Анна Федоровна, — имела вид очень веселый и не боялась, по-видимому, совсем неприятеля».
В Петербурге тоже не боялись. Настроения господствовали приподнятые.
Это «ай-люли» звучало со сцены Императорского Александринского театра. Спектакль по скороспелой пьесе Петра Григорьева, известного как Григорьев 1-й, «За Веру, Царя и Отечество!» смотрелся в буквальном смысле на ура. То было «Народное драматическое представление в прозе и стихах в 3 к[артинах] с русскими национальными песнями, плясками и военными куплетами».
А вот еще один военный куплет патриотической песни из числа тех, что, по отзыву журнала «Современник», «возбуждают громкие рукоплескания и повторяются по единогласному требованию публики»:
«Закидаем шапками»… Вроде бы все понятно, а ведь не совсем тут то, о чем наша первая мысль… Внимание! Здесь, похоже, один из последних примеров употребления этого примечательного выражения в прежнем, стародавнем смысле, не допускающем никакой иронии. Скоро, в сентябре, перед сражением на Альме генерал Кирьяков (во всяком случае, это приписывается ему) допустит неосторожную браваду: «Шапками закидаем неприятеля» (не держал ли он в уме куплеты Григорьева?), — сражение будет проиграно, и «шапками закидаем» станет крылатой фразой, полностью отрицающей ее прежний смысл, — выражением необоснованной и опасной самоуверенности, едва ли не символом всех неудач Крымской войны.
Государь не воспользовался возможностью оценить патриотический подъем театральной публики и посмеяться над английским флотом в сатирических байках старого моряка, роль которого исполнял автор текста Григорьев 1-й, — все-таки Николая Первого, надо полагать, больше интересовала другая сцена — акватория Финского залива, хорошо обозреваемая с балкона Морского кабинета под крышей Коттеджа, летней петергофской резиденции, а еще лучше — с той самой возвышенности под Ораниенбаумом, где была специально построена вышка.
С некоторых пор эти почти забытые стихи возвратили себе благодаря интернету некоторую известность — причем в той же мере, пожалуй, что и события, которым они посвящены. А то, что большинство образованных ленинградцев, не чуравшихся вопросов истории, даже краем уха не слышали в прежние годы об этом историческом эпизоде, может сегодня показаться, думаю, очень странным кому-нибудь, кто как некую данность воспринимает вот это:
Николай Некрасов. Правда, авторство он свое поначалу скрыл, обозначившись в оглавлении седьмой книжки «Современника» за 1854 год примечательными тремя звездочками. Голос античного хора почти. Сказать по-другому: редакционная передовая на открытие номера. В любом случае авторство тут неуместно.
Эпиграф из «Клеветникам России»: «Вы грозны на словах, попробуйте на деле! Пушкин».
Дата под стихотворением «14 июня, 1854 года» — с добавлением в скобках: «(В день появления соединенного флота вблизи Кронштадта)».
Однажды случится этой дате перекочевать в название: в год окончания войны Некрасов напечатает «14 июня 1854 года» в своем поэтическом сборнике и на этом тему закроет — в иные прижизненные книги поэта стихотворение не войдет. Да и вообще сказать, чьи-либо воспоминания об этом противостоянии менее всего станут отвечать столь возвышенному пафосу. «Жребий», исторгнутый «всесильною рукою», никого не потряс — удивил скорее.
Грозный союзный флот отошел и в 1855-м. Вице-адмирал Дондас последовал прошлогоднему примеру своего незадачливого предшественника. Но после того, как два корабля подорвались на минах. Не сильно. Однако же впечатляюще.
Мины в обороне Кронштадта сыграли тогда решающую роль.
Ни о минных заграждениях, ни об укреплении морских батарей, ни о пятнадцатикилометровых линиях подводных ряжевых преград и ни о чем подобном русская общественность не информировалась.
Англо-французская тоже.
После войны отставной адмирал Нейпир, порицаемый соотечественниками, посетит Кронштадт — в частном порядке. И облегченно вздохнет: он все правильно сделал, тогда отступив. Кронштадт был неприступен.
Неприступный, но взятый своими
Кронштадт до 1996 года был закрытым городом. Простому смертному туда было трудно попасть — только по официальному приглашению местного жителя и после соответствующей проверки органами, которые у нас было принято называть компетентными. Он оставался закрытым, даже когда до острова дотянулась ветвь дамбы.
Город давно уже в административных границах Петербурга, но его жители продолжают мыслить себя (во всяком случая, некоторые утверждают это за весь Кронштадт) исключительно кронштадтцами. Мой знакомый переехал в Кронштадт из центра Петербурга и на вопрос, где он живет, кто бы ни спрашивал его — москвич, одессит, парижанин, отвечает: «В Кронштадте». Выражение «Мы из Кронштадта» в мои школьные годы говорило само за себя. Так назывался довоенный фильм, посвященный событиям Гражданской войны: моряки из Кронштадта героически защищают Петроград от Юденича. Может, я фильм и не видел (вот не помню), мне кажется, мало кто видел из нас, он вышел задолго до нашего рождения, но афиша к фильму была хорошо известна — ее печатали как документ в различных изданиях: гордые матросы с камнями на шее, готовые встретить смерть от врагов. Так что в наших детских разборках «Мы из Кронштадта» могло означать лишь твердость позиции — не отступлю. Оно же было веселым ответом на чью-нибудь похвалу за достойный поступок. «Ну ты молодец!» — «Мы из Кронштадта!» Хотя большей популярностью пользовалось «Нас мало, но мы в тельняшках», вроде бы севастопольского происхождения, но ленинградцам упорно казалось, что это кронштадтское, и более того — из того фильма.
Кронштадтская исключительность отражалась даже в байках вроде той, когда два мужика, встретившись в бане, сразу узнали друг в друге коренных кронштадтцев, — дело в том, что в прежние времена в родильном доме Кронштадта работал врач, практиковавший завязывание пуповины особым узлом.
«Ленинград — город трех революций». Кронштадт, который от столицы империи обособлялся административно (так же как от материка — географически), уж тем более место всех революций. В девятьсот пятом Кронштадт восставал спорадически. Он продолжал бунтовать, даже когда был издан манифест, дарующий конституцию.
Воззвания, неповиновение, самосуд, трибунал, расстрелы. Пьяный угар. Индивидуальный героизм. Коллективная солидарность. «Из искры возгорится пламя» — это по-ленински для всей России. Для Кронштадта искра — взрыв. За пять месяцев до того, как с него сорвут эполеты и, подгоняя штыками, поведут по городу на расправу, военный губернатор Кронштадта адмирал Р. Н. Вирен писал в частном письме: «…достаточно одного толчка из Петрограда, и Кронштадт вместе с судами, находящимися сейчас в Кронштадтском порту, выступит против меня, офицеров, правительства и кого хотите. Крепость — форменный пороховой погреб, в котором догорает фитиль — через минуту раздастся взрыв» (Крестьянинов В. Я. Кронштадт. Крепость, город, порт. СПб.: Остров, 2014. С. 109). Пятимесячная «минута» по масштабам нашей истории истекла в конце февраля семнадцатого. Царь еще не подписал отречение, а в Кронштадте начался большой самосуд — в течение каких-то часов были убиты десятки флотских офицеров, включая адмиралов. Февральская революция была отнюдь не бескровной.
Кронштадт отказывался присягать Временному правительству — не потому, что не признавал, а просто из принципа. Кронштадтские моряки приветствовали Ленина на Финляндском вокзале. Июльский кризис в значительной мере был вызван матросами Кронштадта, сошедшими со своих кораблей у Николаевского моста. Они пришли в Петроград свергать Керенского, но, не зная, что делать, отправились к особняку Кшесинской послушать большевиков, и Ленин, пытаясь не выдать растерянности, бросал им с балкона общие фразы о революционной бдительности. Через день он уже прятался от Временного правительства. А через четыре месяца, 10 октября, на квартире левого меньшевика Суханова (однофамильца расстрелянного лейтенанта, в свое время укравшего с кронштадтского минного склада фитиль для бомбы, которой убили Александра II), нелегал Ленин будет убеждать нерешительных членов ЦК взять курс на вооруженное восстание: он-то знал — за его спиною Кронштадт. Ау, «Аврора»!
Кронштадтский матрос, обвешанный пулеметными лентами, становится символом Октября.
С тех пор как я живу на Петроградской, мне часто случается оказываться на углу Чкаловского и Пионерской. Странно, что до сих пор здесь не убрали мешающую парковке стилизованную пушку — остаток советского агитационного комплекса. Уже давно нет большой мемориальной доски, объясняющей, зачем и куда целится это орудие, — сначала в девяностые украли бронзовые буквы, а потом, в десятые, утилизировали и бетонную плиту вместе с кирпичной стеной, на которой эта плита была установлена. Прохожим остается гадать, зачем непонятная пушка наведена на офисный центр. Между тем на месте данного учреждения еще не так давно (до 2007-го) стояло историческое здание Владимирского пехотного училища, то самое, в стенах которого в октябре семнадцатого, вскоре после переворота, происходил так называемый (в советской историографии) юнкерский мятеж. Решающую роль в его подавлении сыграла пушка-трехдюймовка, которую кронштадтские моряки подкатили на это место. Ей и стоит нехитрый памятник.
А в марте 1921-го уже подавляли то, что опять же в советской историографии именуется Кронштадтским мятежом. Не исключено, что среди убитых тогда в Кронштадте были и те, кто подавлял юнкеров.
Об иронии истории тут речь заходила… ну так вот: случай Кронштадта — один из самых зловещих.
Никто чужой не мог взять Кронштадт — ни шведы, ни англичане, ни немцы. Взяли только однажды — свои.
Вторым штурмом — по льду.
В числовом отношении итоги выражаются так (данные беру из книги В. Я. Крестьянинова): 600 восставших убито, около 1000 ранено, 2500 взято в плен. Потери штурмующих: 700 убитыми, 2500 ранеными.
Расстреляно более 2000 участников. 6500 заключены в тюрьмы. 8000 сумели уйти по льду за границу.
Другое время
Л. П. Сабанеев (1844–1898) в своем знаменитом труде «Рыбы России. Жизнь и ловля (уженье) наших пресноводных рыб» описал таковых более сорока — от благородной белуги до крохотульной колюшки — сорной, никчемной рыбешки, «пренебрегаемой рыбаками» (не путаем с корюшкой, разумеется). «Никто, за исключением ребятишек, не занимается ловлей колюшки…»
Можно представить, как удивился бы Леонид Павлович, если бы узнал, что через сто с лишним лет после издания книги эта самая колюшка, принадлежащая, по его аттестации, «к числу самых вредных рыб», будет удостоена памятника. И где? В Кронштадте!
За что же ей почесть такая? Вот мог бы он, биолог, охотник, рыбак… догадаться — за что?
Может быть, за то, «что у колюшки мы имеем наиболее замечательный пример настоящего гнезда, подобного птичьему» и, стало быть, за то, что самец заботится о потомстве? А чем еще она замечательна? Разве чем-то еще?
Он бы даже ничего не понял, человек XIX века, если бы увидел этот маленький, едва заметный памятник — бесхитростную композицию в виде загогули какой-то, не то водоросли, не то волны и трех крохотных рыбок, — все это прикреплено к гранитной стене набережной Обводного канала (в Кронштадте тоже есть Обводный канал).
Между тем композиция называется «Памятник блокадной колюшке», и название говорит само за себя.
Спасать ленинградцев она начала с весны 1942-го, после ледохода, когда стало получаться вылавливать ее с помощью простых средств — например, завязанной узлом майки или противогазной сумки (яркое воспоминание об этом есть у Л. Пантелеева). А в прошедшую зиму, самую лютую и голодную, о ней и мечтать не могли, — воду бы набрать в проруби и довезти домой на санках.
Когда приходится читать о налетах немецкой штурмовой авиации, о количестве бомб, сброшенных на Кронштадт, встречаешь разные цифры, — но, как бы они ни разнились, они гигантские.
Только за один день 21 сентября 1941 года (прорыв 180 немецких самолетов) на Кронштадт было сброшено около 500 бомб (В. Я. Крестьянинов). Массированные налеты продолжались 22 и 23 сентября. В первый же день операции сюрпризом для немецких летчиков оказалась плотность зенитного огня, — противник не ожидал наличия в Кронштадте средств ПВО — во всяком случае, таких. Морской завод разбомбили, линкор «Марат», нанесли огромный урон Кронштадту, но расчет был на большее. Кронштадт устоял.
В 1942-м — около 11 000 бомб (В. Я. Крестьянинов).
Все это трудно представить, — даже человеку, посмотревшему фильмы про ту войну.
…Писатель Сергей Иванович Коровин одно время носил усы, которые иные — в силу известного стереотипа — находят сейчас несколько эпатажными. Но фюрер тут ни при чем; короткие обрубленные усы — предвоенная общеевропейская мода. Такие усы были у моего деда. Такие усы носил отец Коровина…
Отец Коровина в послевоенные годы был… хочется написать по-советски эпитет «видным», но вряд ли был он видным в силу секретности проектов… — отец Коровина был кораблестроителем. Дома на стене писателя Коровина висит большая фотография авианесущего крейсера «Новороссийск». Коровин за рюмкой обязательно вспомнит отца (заведите лишь разговор о Кронштадте) и тот немецкий налет, случившийся задолго до рождения писателя Коровина. Отец его работал механиком на линкоре «Марат», когда Ганс Ульрих Рудель, немецкий ас, направил на «Марат» пикирующий бомбардировщик Ю-87, «штуку», и сбросил на линкор однотонную бомбу. Сдетонировал боезаряд в артиллерийском погребе, погибло более трехсот человек. Отец Коровина уцелел. Повезло. Повезло и Сергею Коровину, если наши появления на свет можно назвать везением.
Чýмный форт
В сентябре 2001 года два шестых класса, в одном из которых учился мой сын, решили провести день здоровья. Предшествовал тому визит неких предпринимателей к директору школы, они предлагали устроить экскурсии «на форты». С каждого ученика просили сто рублей. Мне тоже захотелось «на форты», и Митя внес двести.
Экскурсия оказалась не совсем экскурсией.
По северной ветви дамбы, в свое время лишившей Котлин статуса острова, автобус, миновав поворот на Кронштадт, довез нас до конца дороги: далее проезд был закрыт — там строили продолжение дамбы на южный берег залива. Примерно в километре от пирса возвышались над водой величественные стены форта Александр I. Я знал, что его называют Чумным, но чем это название обязано чуме, тогда мне было еще неведомо. Я-то думал, что нам устроят пешую прогулку по фортам и батареям на острове Котлин или, быть может, водную — с обозрением фортов на искусственных островах, и был очень удивлен, когда узнал, что цель поездки — исключительно Чумный форт. Ну что ж — интересно. Туда нас и привезли на двух катерах в два приема. Предприимчивость устроителей этой поездки я оценил, когда мы сошли на гранитную пристань у незапертых ворот заброшенной крепости. Нам сказали, чтобы мы были как дома, попросили быть аккуратными на чугунной лестнице и, пообещав вернуться за нами через четыре часа, уплыли обратно. А чтобы нам было не скучно (и не страшно?), оставили консультанта по всем вопросам, хочется сказать, ответственного консультанта — молодого человека, годика на три старше наших шестиклассников. Его звали, кажется, Петя.
Запомнилось: по пирсу, когда мы подплыли, металась крыса. Как она здесь очутилась, не знаю, — вроде бы ей некуда было деться: с одной стороны вода, с другой — стена крепостная.
По правде сказать, я ожидал от мероприятия чего угодно, но только не этого — четырехчасового плена в заброшенной крепости, окруженной водой. Взрослых нас было всего три человека — две молоденькие учительницы да я, папаша, напросившийся в нечаянные робинзоны.
Представляю себя тринадцатилетним. Меня и взрослого-то ошеломило увиденное. А был бы я шестиклассником, какая бы сила смогла меня остановить? Вот и нашими овладел восторг еще прежде, чем они сошли на пристань, — во дворе форта они мгновенно устремились к металлической двери, ведущей на винтовую лестницу, и, грохоча по чугунным ступеням, понеслись наверх — на открытый ярус форта, частично распыляясь по казематам второго и третьего яруса. У меня спина холодела, когда я видел, как они залезают на металлические брустверы, на самый край, за которым пропасть. Обе учительницы притулились у каменной стены поздней пристройки и, обратив свои лица к солнцу (всем повезло с погодой), предались закономерному загоранию. Мой благонамеренный призыв повлиять на дисциплину они проигнорировали — дескать, а что мы можем сделать? — и я в персональном порядке пытался внушать взбесившимся ученикам шестых классов какие-то доморощенные правила безопасности. Но тщетно. Видя мою беспомощность, меня утешал Митя: все будет хорошо; он верил в инстинкт самосохранения — как свой собственный, так и своих товарищей. Петя тоже просил не переживать, бывало здесь и похуже. Оказывается, тут время от времени проводят рейв-пати на сотни и тысячи человек, и никто, как бы он ни был обдолбан, кажется, не убился еще, ну, быть может, разве что кто-нибудь покалечился.
О былых рейв-вечеринках действительно напоминали изощренные граффити, украшавшие внутренние стены крепости.
Нельзя сказать, что форт был совсем уж в руинах — стены, по крайней мере, были на месте.
В моем лице Петя нашел единственного собеседника. Когда первый приступ массового возбуждения схлынул и чувство самочинной ответственности во мне притупилось, мы с ним завели разговор, касающийся истории и географии.
С верхотуры форта открывался поистине замечательный вид. Отсюда особенно большим казался купол Морского собора, возвышавшийся над Кронштадтом; реставрация тогда еще не началась, поэтому я сейчас не написал «величественным»: скорее по тогдашнему своему состоянию он был «униженным» — во всей своей грандиозности. Метрах в семистах от нас на искусственном острове с внутренней гаванью располагался Кроншлот, ничем уже не похожий на петровскую первокрепость, известную хотя бы по поздней гравюре Пикарта. Смотришь прямо на юг, и виднеются над водой развалины многострадального Рисбанка, иначе — форта Император Павел I… Внизу под нами угадывалась слабым сгущением цвета воды полоса фарватера. Форт Александр I и создавался для защиты фарватера. Но защищал он одним лишь фактом своего наличия. Стрелять по врагу ему не пришлось.
С ощущением дежавю я разобрался позже. Конечно, это напомнило форт Боярд, причем по французскому фильму «Искатели приключений» (видел в детстве, но я тогда не знал, что там был Боярд). Двое в заброшенном форте минут пятнадцать отстреливаются от нагрянувших бандитов, так и погибает герой Алена Делона. Оба форта стоят друг друга. Хотя мировая известность фортов несоизмерима. Александр был построен раньше Боярда.
Не знаю, где я слышал, что он Чумный, — все эти сведения в интернете появились позже. Но откуда-то со школьных лет мне было известно, что есть в заливе форт, как-то связанный с чумой, и воображение рисовало школьнику крепостной изолятор, куда отправляют пораженных этой жуткой болезнью, — хотя, кажется, знал из детской книги о микробах, что чума краткосрочна и (оттуда ж) «фатальна». На самом деле с 1899 года до Первой мировой здесь размещалась противочумная лаборатория, — форт, исключенный из списка оборонительных сооружений, целиком передавался ученым, создающим вакцину против чумы. Врачи жили прямо здесь, в затворничестве; тут же размещался виварий. В основном работали с лошадьми, хотя опыты проводили и на других животных, среди которых были олени и верблюды. Трупы сжигали в печах. Двое врачей погибли, заразившись чумой.
Подробности я узнал, уже вернувшись домой. А тогда, стоя на верхней палубе форта и глядя на южную акваторию Невской губы, мы более мифотворствовали, чем делились знаниями. Петя, между прочим, сказал, что, «говорят, на тот берег есть подземный ход». В это я отказался верить. Петя и сам не сильно верил, но кто его знает, почему бы и нет: глубина фарватера — одиннадцать метров, а в остальном здесь мелководье. До берега было километров пять. Нет, я не верил, конечно. Петя взглянул на меня заговорщицки и сказал, что, вообще-то, ему известно, где вход в подземелье. Сам он туда никогда не спускался, но как пройти, знает. К нам подошел Митя, я спросил его, пойдет ли он с нами в подземелье, — Митя радостно согласился, и мы, ведомые Петей, стали спускаться во двор по той удивительной чугунной лестнице, со светопроницаемыми площадками и ступенями, отлитыми в виде орнаментальных сетей. Любопытные украшения сохранились на стыке перил — настоящие ядра.
Во дворе в Пете проснулся наконец экскурсовод, и он обратил наше внимание на древний исторический лифт, от которого остался металлический каркас и механизм, вознесенный на самую верхотуру форта. По словам Пети, это чуть ли не первый электрический лифт в России и еще недавно он действовал. Вряд ли он первый, хотя и конца позапрошлого века. А работать он действительно мог и после закрытия Особой лаборатории, ведь потом форт использовался как военный склад. Сейчас нам известно, что лифт устанавливался для технических нужд лаборатории: для подъема животных, и в первую очередь — лошадей. Ну а как с подземельем? Петя не обманул. Отодвинув какие-то доски, он показал нам с Митей небольшое окно-лаз, добро пожаловать, — дневной свет со двора едва проникал туда, но этого было достаточно, чтобы, вглядевшись, мы обнаружили наличие подвального пола; во всяком случае, там не было бездны. Мы, конечно, туда полезли.
У нас не было фонарика. И мобильных телефонов, способных заменить фонарик, тоже не было (первый мобильник появится у меня года через два-три). Но у нас был коробок спичек. Я зажег одну, потом другую. Спичка — плохой светильник, но что-то понять можно. Сводчатый подвал, арочный проход в другую камеру. Решили идти, пока спички позволят. Заходишь в одну камеру, а там чернеет переход дальше; заходишь в другую, а там — дальше. Потолки низкие, проходы еще ниже, приходится пригибаться. По правде говоря, жутковато ощущать себя в подземелье Чумного форта. Хорошо, не лабиринт. Голый пол, голые стены — посторонних предметов, кажется, нет. Сухо. Но все-таки со спичками далеко не уйдешь. Пришлось назад повернуть.
Вылезли взволнованные, счастливые. Решили продолжить исследование как-нибудь потом, уже с фонариками. Не срослось. Больше я не попадал в форт Александр.
Не знаю, как учительницы, но все остальные поездкой остались довольны, включая предпринимателей, приславших катер в обещанный час. Никто не пострадал, никто не потерялся.
(Мы с Митей не стали ждать школьный автобус, неутоленная жажда впечатлений повела нас еще в береговой форт Константин, совершенно заброшенный, бесхозный, тогда примыкавший каким-то боком к территории строительства дамбы. «Папа, стой!» — выкрикнул Митя, и я увидел, что заношу ногу, что ли, над брешью, быть может, каким-нибудь люком вентиляционным, или что там оно было на Константине? — там внизу была чернота, — потом, уже дома, вспоминал свои беспокойства о юных товарищах по дню здоровья, — спасибо, Митя, как раз у меня и была реальная возможность украсить газетную хронику происшествий.)
Газеты о Чумном форте внезапно возвестили через два с половиной года после нашего посещения. Девятнадцатилетний диггер, проникший к Александру по льду, нашел в подвалах форта старинную ампулу с желтой жидкостью. Согласно первым сообщениям («В Питере появилась чумная ампула»), молодой человек будто бы хотел продать ее через интернет. Потом выяснилось, что он лишь похвастался о находке на сетевом форуме, — диггера тут же взяли. Писали, что запаянная ампула, по мнению экспертов, содержит вакцину против чумы, она не опасна. Впрочем, никто ее не вскрывал и что там внутри, достоверно никому не известно. Сообщали, что ампула из подвала Чумного форта передана музею Института экспериментальной медицины. Там уже есть одна такая же. Надо бы посетить.
Петербургский парадокс, или Несколько слов о жребии

1
«Петербургского» много всего. Но многие ли знают, что существует «петербургский парадокс», иногда говорят «санкт-петербургский парадокс», реже — «петербургская задача».
А такое действительно есть, и оно хорошо известно в определенных авторитетных, хотя и не самых широких кругах.
Иначе сказать, есть нечто такое, что именуется данными словами как терминами. А главное, есть сферы деятельности человеческой, где эти термины употребляются.
Я сам об этом узнал не так давно, удивился тому, что узнал, и провел среди знакомых небольшой опрос. Интересовался: как думаете, с какой стороной деятельности связаны эти понятия? Чаще всего «петербургскую задачу» соотносили со строительством. А вариант «петербургский парадокс» — с чем-то из области общественно-социальных преобразований. Одно замечание показалось неожиданным. «Петербургская задача», видите ли, звучит на слух так же весомо, как «ленинградское дело». А ведь и правда. Если не знать, чтó эти слова означают, можно, чего доброго, подумать, будто они относятся к похожим предметам.
Только нет. «Ленинградское дело» — название, как известно, комплекса репрессивных мер, относящихся к 1949–1950 годам — с расстрелами и ликвидациями. «Петербургская задача» же, сформулированная еще в XVIII веке, ничего столь зловещего, к счастью, собой не являет, да и к истории она имеет косвенное отношение, — по существу, она о другом. По крайней мере, так думают математики.
Все верно, это из математики. Отчасти из экономики. Причем из областей, в частности, новейшей, XXI века экономики, озадаченной надежностью инвестиций, опасностью рисков и мотивами волевых решений, притом не чурающейся пионерских идей XVIII столетия.
А к Петербургу это имеет то отношение, что было оно предложено в «Комментариях Санкт-Петербургской Академии» (1738) — выходил такой сборник научных трудов (исключительно на латыни) — знаменитым математиком Даниилом Бернулли, членом Петербургской академии наук, еще из первой, петровского призыва генерации петербургских академиков (все сплошь иностранцы). Впрочем, к моменту публикации соответствующей статьи, название которой с латыни сейчас переводят так — «Опыт новой теории измерения жребия», Даниил Бернулли, швейцарский ученый, уже вернулся из Петербурга в Базель, что не помешало ему быть иностранным почетным членом Петербургской академии и даже получать жалованье (с перебоями, правда).
Парадоксы брезжат один сквозь другой, но все-таки в двух словах мы должны тут коснуться сути собственно «петербургского парадокса».
Петр и Павел проводят серию игр с равновероятным, иначе сказать, справедливым исходом. Почему Петр и Павел? Так в оригинале, и признаемся, детали антуража, сопутствующие исторической постановке задачи, нас только радуют. Равно как слово «жребий», побуждающее к смутным ассоциациям, как-то связанным с Петербургом и всей российской историей. Возможно, нам удастся рассмотреть в петербургском парадоксе что-нибудь действительно специфически петербургское. А нет, так на нет и суда нет. Посмотрим.
Итак, Петр и Павел. Два игрока. В современных изложениях сути задачи обычно считается, что подбрасывается монета: решка или орел?
Петр подбрасывает монету. Игра длится, пока не выпадет орел — на орле прекращается. Ну и по новой.
Теперь правила. Если сразу орел, Петр получает с Павла два дуката (такую денежную единицу предлагает Бернулли). Если сначала решка, а только потом орел, Павел платит четыре дуката. Если две решки, а дальше орел — восемь дукатов. Ну, скажем… пять решек подряд, шестой орел — Петр получит сколько?.. два в степени шесть — шестьдесят четыре дуката. Но играют двое. Павел тоже рассчитывает на выигрыш. Поэтому правила предписывают Петру внести в начале игры уравновешивающий взнос — по согласному признанию обоих игроков, справедливый. Или Павел извлекает из него свой выигрыш (слава жребию! — выпал сразу или скоро орел, и Петр остался с носом…), или Петр сверх данной ставки (слава жребию, орел выпал не скоро!..) получает свою прибыль из кармана Павла. Короче, предполагается такой взнос Петра, при котором игра получилась бы, повторим, справедливой: ну, фифти-фифти. Каков он? Сколько дукатов?
Это задача.
Решение ее, сугубо математическое, не оставляет Павлу шансов на справедливость. Почему так, здесь рассуждать неуместно (заметьте, в отличие от Бернулли, мы не употребили ни одной формулы).
Скажем только, что «справедливый» взнос Петра за такую игру (по формуле, не подлежащей сомнению) должен быть бесконечным. Бесконечная сумма дукатов. Иначе Павлу не уравнять шансы с Петром. Такова теория.
Но ведь в жизни все будет не так. Все в реальности — по-другому.
Ни один игрок на месте Петра не поставит больше… двадцати (и то сумасшедший)… нет, десяти?.. может, восьми дукатов?
И вот тут парадокс. Теория резко расходится с практикой.
Сказано: парадокс петербургский.
В те времена, когда основы теории вероятностей лишь разрабатывались, важным катализатором математической мысли были не только публикации в научных изданиях, но и частная переписка самих математиков. Всех волновала проблема жребия. Формулировки оттачивались в международной переписке с коллегами. Но мне почему-то мнится, что самые яркие прозрения у Даниила Бернулли случались, когда он, житель Васильевского острова, коротким зимним пасмурным днем выходил в бобровой шубе на Стрелку, глядел на шпиль собора Петра и Павла и закованную льдом Неву, вспоминал брата, не перенесшего петербургского климата, тоже петербургского академика и тоже математика (и, между прочим, первым заметившего наш парадокс), и думал, вдыхая морозный воздух: что я делаю тут?.. как я здесь очутился?..
Так вот. По теории вычисляется так называемое математическое ожидание, и то верно: это наиболее ожидаемое значение выигрыша. Если в упомянутом случае с орлом на шестом подбрасывании (после пяти решек) вероятность данного события одну шестьдесят четвертую умножить на куш в шестьдесят четыре дуката, получится один дукат — это цена, по которой Петр может уступить данный случай в игре (ну хоть нам с вами) — по справедливости. То есть по справедливости мы бы могли купить этот исход всего за один дукат. Как и любой другой. Согласно теории. Но стали бы мы позволять себе такие инвестиции? За один дукат — в надежде получить шестьдесят четыре с вероятностью одна шестьдесят четвертая? Вопрос.
А ведь любому покупателю за один дукат можно было бы предложить лотерею — купите игру с конкретным орлом: вдруг на тысячном ходу после эпохи 999 решек выпадет орел — выигрыш будет… о-го-го!.. золота не хватит (уже подсчитано) заполнить сферический объем радиусом до ближайшей звезды. Не шанс ли это разбогатеть? А заплатить за него надо один дукат. Кто-нибудь согласится? Я — нет. И думаю, никто — нет. Но в том-то и дело, что теория не учитывает наши желания и сулит нам (то есть Петру) немыслимые победы.
Да, вот здесь парадокс.
Бернулли, помимо формального математического ожидания, заговорил о моральном ожидании — о выгодности решения с точки зрения игрока. В новейшие времена следствием этих умозаключений стали всякие там теории рисков, оптимальных инвестиций и тому подобного.
На самом деле термин «петербургский парадокс» ввел в 1768 году Д’Аламбер, энциклопедист, великий математик и, между прочим, иностранный почетный член Петербургской академии наук (с 1764 года). Ему же приписывают изобретение стратегии игры с изменением величины ставки (в частности) в казино, но это, пожалуй, уже от избытка уважения. Вообще, игры такого рода, предполагающие те или иные математические задачи — с парадоксом, когда реальность и теория вступают в противоречие, с легкой руки Д’Аламбера стали называть в литературе «петербургскими». Знаменитый математик Эмиль Борель, рассматривая «игру на квит», условия которой могут привести к петербургскому парадоксу, между делом замечает: «Такую игру естественно тоже назвать петербургской». Глава в его книге «Вероятность и достоверность» так и называется: «Заметка о петербургской игре на квит».
Можно подумать, Петербург — Монте-Карло.
Нет, действительно, математикам известен «метод Монте-Карло». Но с Монте-Карло все ясно. А Петербург?
2
Достоевский, желавший обмануть судьбу в казино, был вынужден уезжать из Петербурга в Висбаден. Возможно, это неудобство спасло для нас классика. За границей он тяжело проигрывал, но точно бы разорился, попал в кабалу, не уцелел, стал пожизненным литературным рабом издателя-фабриканта, если бы имел возможность подходить каждый день к зеленому столу с цветными фишками здесь, в Петербурге.
Казино особенно притягательно ночью, когда просыпаются демоны азарта и легкомыслия, но ведь и Федор Михайлович, наш глубокий мыслитель, предпочитал работать ночами, — появись казино в Петербурге, и кто знает, написал бы что-нибудь вообще Достоевский…
Официально казино разрешили уже на нашей памяти, действовали они в Петербурге в девяностые и нулевые, симметрично по срокам относительно точки миллениума. Крупнейшее — «Конти» — размещалось в «Гигант-холле», бывшем кинотеатре «Гигант»; под казино там отводилось два игровых зала. Посетители мероприятий вроде концертов, презентаций и чествований знаменитых юбиляров могли отлучаться к игровым столам. Так и я, помню, после одной массовой церемонии (премия «Золотое перо» — сцена, прожекторы, зрители сидят за столиками) переместился в зал, где не гремела музыка, и легко проиграл небольшую наличность (большой не было). Метод Д’Аламбера с удвоением ставки мне не помог отыграться — отчасти как раз из-за ограниченности средств. Впрочем, обладай я большей суммой, мог бы и ее проиграть. Ничего парадоксального, и тем более парадоксального по-петербургски, в том не было. Петербургская была только премия — нам с поэтом Геннадием Григорьевым присудили ее по номинации «Лучшая развлекательная радиопрограмма» («Литературные фанты», тоже своего рода игра), но, к счастью, денежную составляющую премии выдали через неделю-другую.
(Был же случай, когда старейший наш драматург замечательный Александр Володин, получив Президентскую премию в области литературы и искусства за 1999 год, возвращаясь домой, проиграл ее наперсточникам на Ленинградском вокзале, прежде чем сел в поезд (хотя тогда как раз не было никакой игры).)
Если говорить о парадоксе, то тут следует упомянуть рюмочную на Разъезжей, счастливо существовавшую в начале нулевых. Рюмочная, заметьте, явление во многом петербургское, — кажется, Москва о них позабыла. «Местный ты или приезжий, выпей рюмку на Разъезжей», — сочинил ваш покорный слуга, откликнувшись на призыв писателя Павла Крусанова запечатлеть это достойное место в рифму, — дело в том, что рюмочной владел одноклассник Павла (что нам не давало никаких преференций). Так вот, за невзрачной дверью в этой с виду обыкновенной рюмочной тянулся мимо туалетов узкий коридор, и куда бы вы думали? — прямо в казино. Настоящее казино с просторным залом и игровыми столами. Не знаю, как назвать этот вход через рюмочную — черным или служебным, — может быть, это был пожарный выход или выход на случай непредвиденной эвакуации? Однажды, покинув товарищей, я передумал идти в туалет и проследовал далее, в казино. Девушка на выдаче фишек, к моему удивлению, попросила паспорт — почему-то таково было правило. Паспорт я не показал, но назвался фамилией своего персонажа — Двоеглазовым, этого оказалось достаточно. Играл я просто: поставив на четное и до первого выигрыша — согласно мудрой рекомендации героя Достоевского (сам Достоевский этого правила не придерживался). Поскольку Двоеглазову сразу повезло, он с удвоенной суммой (четыреста рублей вместо двухсот) поспешил к товарищам принимать поздравления и отоваривать выигрыш с учетом специфики заведения. Казино вовсе не было подпольным. Войти можно было с улицы и подняться по парадной лестнице, так и поступали все завсегдатаи, и, однако же, существовал мало кому известный, практически секретный проход через рюмочную!
Я знал людей, подсевших на рулетку и автоматы. Один мой знакомый, специалист по философской антропологии, читавший курс по Лакану и, кстати сказать, Достоевскому, регулярно посещал казино и вел статистику; уповал он не столько на математические «системы», сколько на несовершенство самого механизма рулетки, обязанного обнаружить для внимательного наблюдателя отклонение от общего распределения. Он в это верил. Другой (в то время известный в Петербурге издатель), возвращаясь каждый вечер с работы, заходил по пути в магазин, где стоял «однорукий бандит», и расчетливо играл с автоматом. Расчетливо, а не азартно!.. Он вел подсчет своим потерям и приобретениям, сравнивая результаты в годовом исчислении, и чем очевиднее становилось, что в целом проигрывает, тем он сильнее верил, что однажды наступит светлая полоса и он начнет отыгрываться. Я пытался переубедить его, ссылался на закон больших чисел и подобные материи, он и слушать не хотел, говорил, что все наоборот: это когда мало играешь, проигрываешь, а если долго играть, победа обязательно будет за ним. Вера в безусловную победу над автоматом стала для него почти религией.
В конце 2006-го был принят федеральный закон, регулирующий игорный бизнес в России. Для Петербурга это означало ликвидацию казино и соответствующих автоматов с 1 июля 2009 года. Думаю, многих это спасло.
А еще мне вспоминается начало девяностых. Всеобщее влечение к бессмысленному риску. Недалеко от барахолки на Сенной — у входа в магазин «Диета» и на углу у Апраксина Двора — стояли глухонемые, похожие на коробейников. Они предлагали сыграть в кубики на доске со стаканами, расположенными в два ряда. Достаешь деньги, и хозяин игры достает столько же, — ты трясешь доску со стаканами (уже не помню, как на ней закрепленными), кости в стаканах стучат, — открываем, смотрим, кто выиграл, — если ничья, то в пользу хозяина. Кажется, в отличие от наперсточников и распорядителей жульнических лотерей, обитавших тут же поблизости, эта игра оставляла шанс на удачу заинтересованному прохожему (впрочем, не со смещенным ли центром тяжести были кубики?). Ничья в пользу хозяина существенно усиливала его позицию, но все равно сыграть с ним всегда находились охотники. Вот и я проиграл рубль как-то, пошел домой, взял лист бумаги и стал подсчитывать вероятности комбинаций. Прикинул, можно ли не проиграть по системе якобы Д’Аламбера — методом удвоения очередного проигрыша. Получилось, что как ни крути — для лохов игра. Ну и хорошо. Успокоился.
3
Петербургский парадокс, что под этим понимали Бернулли и Д’Аламбер, связан с понятием «жребий».
И хотя понимались под этим вполне конкретные математические отношения, мысль о жребии соблазняет нас на расширительное толкование этой неожиданно емкой метафоры: мы и так — петербургский парадокс! — поддались уже тому искушению.
Жребий, фатум, рок, судьба. Игра случая. Петербургское измерение.
Вот возьмем за точку отчета год 1701-й. Еще не оправились от недавнего поражения под Нарвой. Едва не потеряна армия. Союзная Дания вышла из войны. Хорошего мало.
Но есть упрямство у Петра: во что бы то ни стало закрепиться у моря.
В 1701-м невозможно было представить, как будут развиваться события. Но предположим, некий мифический мечтатель из окружения Петра способен был угадать возможности того, что для нас уже достоверно.
Закрепиться, значит, у моря? Первое. Надо модернизировать армию и создать флот. Ладно. За это Петр взялся уже. Но шутка ли сказать «флот», «строительство верфей», а строить кому, а где кораблестроители?.. Совсем недавно говорили еще: зачем нам флот, если нет у нас моря? Так что и тут с этим флотом не все очевидно. Может и не получиться.
Ничего, получится, мечтает мечтатель. А сейчас, мечтает, возьмем две шведские крепости и овладеем Приневьем. Овладеть-то овладеем, возражает скептик (вглядываясь в гипотетическую будущность), но велика вероятность того, что не получится закрепиться. Далеко от Москвы. А рядом Выборг, в котором шведы не дремлют. Вход с моря открыт.
А мы закроем, мечтает мечтатель. Нам прежняя шведская крепость с уютной гаванью на изгибе Невы и даром не нужна (Ниеншанц), мы закрепимся ближе к морю — на островке в устье Невы и в самой Невской губе. Перекроем фарватер.
Ну уж дудки, возразит скептик. Сил не хватит. Ни сил, ни времени. Кто строить-то будет? Когда?
А мечтатель уже о большом городе мечтает — на обоих берегах широченной Невы.
Какой город? Там болота! Там наводнения каждый год! Климат — не приведи господь! Мосты не построить!.. А что шведы, так и будут смотреть, как вы у них под носом город возводите? А кто в нем жить согласится?
А не надо согласий! Не захотят — заставим! Переселим из Москвы, Твери, Ярославля!.. Дворцов понастроим!.. Фонтаны запустим!..
Нет, это уже несерьезно…
И станет он столицей всего государства!..
Бред! Совершеннейший бред!.. Это все равно как если бы Карл XII объявил Ниен на Неве с крепостью Ниеншанц столицей всей Швеции вместо Стокгольма!.. Но ведь чепуха же, невозможно такое!..
Петр-игрок из задачи Бернулли поберег бы дукаты, не стал рисковать — в расчете на невероятное. Петр-царь из русской истории шаг за шагом взвинчивал ставки, рисковал, и в конечном итоге у него получилось. Не всё. Но и то, что получилось, казалось со стороны немыслимым, невозможным.
Петербургский парадокс в том и состоит, что в бернуллиевском смысле нет парадокса: Петр снял парадокс.
О науках

О науке и навыке
У меня есть счеты. Раритет. Когда был маленьким, катался на них по дощатому полу в прихожей. Дедовские, — при мне из домашних на них никто не считал. В школе, однако, проходили сложение и вычитание на счетах (я еще застал это время) — кажется, в том же классе, когда нас учили складывать и вычитать в столбик. Тогда выпускались миниатюрные школьные счеты, у меня таких никогда не было, и память мне подсказывает, что на соответствующем уроке лежали передо мной на парте настоящие конторские счеты, — неужели я приносил их из дому? А может быть, нам всем выдавали настоящие счеты и они, как учебное пособие, хранились где-нибудь у завхоза? Складывать и вычитать на счетах легко. Это не логарифмическая линейка. Да и на логарифмической считать — дело нехитрое. Логарифмическую мы проходили в старших классах. И даже на первом курсе в институте с помощью логарифмической линейки ради общей практики вычисляли что-то — вроде обратных тригонометрических функций. В институте счетов не было.
В девяностые годы, слышал я, некоторые гражданки использовали счеты как общеоздоровляющее приспособление для массажа ступней, только к тому времени настоящие счеты, установленной величины с деревянными костяшками, уже стали редкостью.
Они очень быстро стали редкостью. За несколько лет, как стать редкостью, находили еще широкое применение.
Счетами пользовались в магазинах кассирши.
Вспоминаю, как иностранные туристы шалели в наших универмагах (видел это несколько раз), когда кассирша сдачу им вычисляла с помощью счет. Это еще в конце восьмидесятых. Мы и сами удивлялись такой верности счетам. Бытовые калькуляторы на «жидких кристаллах» (разумеется, отечественного производства) продавались не только в «Электронике», но и в обычных канцелярских магазинах (впрочем, вместе с механическими арифмометрами, на которые уже никто не смотрел). Мама моя в числе тысяч других инженеров участвовала в программе по созданию «Лунохода», отец работал над аппаратурой для подводных лодок, из моей головы еще не выветрились интегралы… а кассирша в магазине определяла сдачу на счетах. Кассовый аппарат был тоже хорош — крупный, шумный, без претензий на умение складывать-вычитать. Помню, помню картинку: изумленные американцы щелкают фотоаппаратами у кассы в Гостином Дворе на глазах молчаливой всетерпеливой очереди, застывшей в угрюмо-снисходительном ожидании.
«Русский компьютер», вот он какой. Мы первые в космосе.
А почему бы нам не гордиться счетами? Триста лет ими пользовались. Для того чтобы к 1 руб. 47 коп. быстро прибавить 84 коп. и 28 коп. и определить сдачу с трёхи, совсем не обязателен калькулятор, если под рукой счеты. Профессиональный счетчик сосчитает мгновенно.
Но для иностранцев, нагрянувших к нам в конце перестройки, это походило не то на цирк, не то на колдовство: кассирша в своей будке-кассе за стеклом с окошечком быстрыми и на внешний взгляд бессмысленными движениями руки переводила костяшки туда-сюда, глядела на них и что-то там различала.
Навык утрачен.
Ганноверский резидент Ф.-Х. Вебер, прибывший в Петербург на одиннадцатый год существования города, описывал с чьих-то слов первостроительство крепости — землю, которой не хватало на острове, приносили «издалека по большей части в полах одежды, в тряпках или мешочках из старых рогож на плечах или в руках, так как тогда русские еще не знали тачек». И по-видимому, носилок тоже, потому что они здесь не упомянуты.
Маловероятно, чтобы информант Вебера видел стройку 1703 года, — к 1714-му город населялся теми, для кого первое петербургское лето уже было легендой. Сам Вебер нашел город «истинным чудом света, как по великолепию его строений, среди коих уже более шестидесяти тысяч домов, так и по тому весьма недолгому времени, каковое потребовалось для их строительства». Ага, без тачек и носилок.
Без тачек и носилок — это как запустить человека в космос, пользуясь исключительно счетами.
Но наши иностранные гости времен перестройки, ожидавшие встреч с медведями на Невском проспекте, так и думали, увидев счеты в действии: вот с помощью чего запускают русские ракеты в космос.
«…Русские еще не знали…» — это из области мифов, как ни крути. Не знали — и вдруг «чудо света» («истинное»!).
Но ведь как тогда грунт носили (а перенесли земли на Заячий остров превеликую массу), тоже ведь нет прямых свидетельств. Инки — они даже колеса не знали, а построить такие смогли города! И дороги. Причем дороги — не для колес и не для копыт, а для ступней человеческих. Взяли за ручки и понесли представителя высшего класса — на тех самых носилках, которых не знали русские будто бы.
Историки математики говорят, что у нас в допетровские времена не умели правильно измерять площадь треугольника.
Зато в ходу были счеты.
Навыки были, а науки не было.
«Навык» и «наука» от одного корня. От ук — знание.
Навыков на Руси было больше чем достаточно. Знали, когда что сеять, когда что жать. Как возводить сложные строения «без гвоздя». Как по звездам определять путь в северных морях. Как рассчитывать и взимать с помощью дробей «посошный» налог. Но все же это не те ук, ради которых стоило учреждать каких-то там наук Академию.
Ук, да не наук.
А тут — даешь Академию!
Похоже на чудо
Логика событий, сопутствующих возникновению Петербурга, обманчива. Чем яснее намерения Петра, чем понятнее, казалось бы, исторические закономерности, причинно-следственные связи и все такое, тем более происшедшее на берегах Невы напоминает фокус.
Не было, чего быть не могло, и вдруг раз-два-три!.. «А как это?»
Фокус может и не получиться. А здесь получилось.
И чем понятнее секрет фокуса, тем более непостижимо, как это он смог получиться.
Тут словно какой-то ложный секрет, вам как будто раскрывают его, а вы понимаете, что дело в чем-то другом, а истинный — непостижим.
И это уже — без дураков — похоже на чудо.
Сказанное относится не только к Петербургу в целом, но и к вторичным по отношению к нему феноменам, — возьмем Петербургскую академию наук. Вот что чудо.
Учреждение в России Академии наук было предприятием не менее невероятным, чем основание на приневских болотах города, давшего этой Академии имя.
Петербургская Академия, возникшая на ровном месте, за короткий срок стала вровень со знаменитыми научными обществами Парижа, Лондона и Берлина (Парижская академия, Прусское королевское научное общество, Лондонское королевское общество…). И не так важно, что петербургскими академиками долгое время были сплошь иностранцы, — куда важнее, что они предпочли только что образовавшийся город в неведомой стране своим кабинетам в Европе.
Собрать светил
Пока парижские академики очаровывались Петром, а сам он входил в подробности механики новоизобретенного домкрата и прочих полезных устройств, осматривал оптические установки, приценивался к диковинным коллекциям и вел беседы с корифеями европейской науки, недоросли из русских дворянских семей, забранные на смотр в Санктпитербурх для поступления в недавно открытую (1715) Морскую академию, переправлялись за незнанием грамоты и счета в Новгород, под крыло митрополита Иова, где будущих русских морских офицеров покамест учили, как складывать и отнимать и читать по слогам Псалтырь.
Первый набор в Морскую академию — 300 человек — сплошь обеспечился старшеклассниками Школы математических и навигацких наук, — кое-чему они уже были научены, и недурно, — по части той же навигации и астрономии. Морская академия — начинание петербургское, высшее, а давшая ей начало Навигацкая школа размещалась в Москве, в Сухаревой башне, под голландскими часами, которым тоже было суждено убыть однажды на невские берега. Преподавал здесь Магницкий, автор учебника по арифметике, у нас первого и на протяжении полувека незаменимого.
(Да вот, смотрю наугад — где-то в начале: «Во едином нощеденствии 24 часа, а во едином годе 365 дней: и аще хощеши ведати в годе или в седмице, или во 100 дне часов», — и ниже, как это вычисляется в столбик, — сразу же вспоминаются точно такие же столбики, которые рисовала нам Вера Александровна мелом на доске: арифметику, похоже, мы тоже учили (ну почти) по Магницкому.)
Замечательно, что сам автор учебника, знавший несколько языков, осваивал математику самоучкой. С учителями по этой части были проблемы.
Риторике и языкам обучали увереннее — да и схоластике в целом. Славяно-греко-латинская академия была образована еще при царе Федоре. О существовании логарифмов, таблицы которых составлял ее питомец Магницкий, там представления не имели.
Логарифмы понадобятся будущим артиллеристам, но до этого надо еще учить и учить…
А с февраля 1721-го по Европе вояжировал Шумахер, при себе имея «Пункты о том, что библиотекарю Шумахеру через путешествие его в Германии, Франции, Англии, Галандии учинить».
Иоганн Даниэль, немец, уроженец Эльзаса, был по-русски Иваном Даниловичем. В Петербурге он заведовал библиотекой, собранной Петром.
В задачи Шумахера, посланного за границу, входило приобретение научных книг, всевозможных приборов, препаратов, инструментов (включая хирургические), ему надлежало собирать сведения о научных достижениях, о музеях, кунсткамерах. Он должен был заинтересовать ведущих европейских ученых выгодными условиями работы в России — прежде всего философа, математика, физика Христиана фон Вольфа (не получилось, но помог советами и рекомендациями) и астронома Жозефа-Никола Делиля (согласился не сразу, но с радостью).
Было и такое поручение: «Узнать о Орфиреевом непрестанном движении, поговорить». Это касалось вечного двигателя, будто бы изобретенного Иоганном Бесслером, известным в научных кругах под сказочным именем Орфиреус. Шумахер встречался с этим Орфиреусом, алхимиком и механиком, чья неведомая установка взволновала лучшие умы европейских столиц, и не пленился его разглагольствованиями — тем более что изобретатель уже разрушил машину, а за раскрытие тайны «непрестанного движения» требовал фантастическую сумму с пятью нулями.
А ведь и у этого Орфиреуса был шанс оказаться в числе первых петербургских академиков. Увы, приглашенные при Петре, приедут они в Петербург уже после смерти Петра. Интересно, защитило бы шарлатана его иностранное подданство, буде обнаружился бы обман и был бы жив еще Петр? Или же отрубил бы он ему голову на Козьем болоте и заспиртовал бы ее для Кунсткамеры?
Когда Петр замышлял Академию наук, некоторое число высокообразованных людей в России все же имелось — это те, кто учился в европейских университетах. Шумахер, например, окончил Страсбургский университет, прежде чем пригласил его Петр на службу. Ладно, он иностранец, он из Эльзаса, но возьмем Блюментроста Лаврентия Лаврентьевича, он родился в Москве, а медицину изучал в Галле, Оксфорде и в Лейденском университете. Его и назначат президентом Академии наук, тогда как Шумахер будет секретарем ее канцелярии.
По сведениям профессора А. Ю. Андреева, в двадцати двух немецких университетах с 1698 по 1810 год училось 637 русских студентов.
Но одно дело — образованные люди, коих в России сколько-то есть, а другое — светила науки, коих, пожалуй, и нет.
Петр захотел собрать в Петербурге светил.
Им полагалось годовое жалованье, весьма солидное, жилье, дрова, свечи и представлялась счастливая возможность свободно работать по своему направлению. Требовалось от них чтение лекций по своей теме, обсуждение докладов на конференциях Академии, воспитание каждым ученика, а лучше двух. Предполагалось, что будут академики решать конкретные задачи в интересах Российского государства. Эйлеру, например, доведется расчеты вести, связанные с установкой Царь-колокола.
Что касается фиксированных зарплат, это наиважнейший момент. В иностранных академиях такая роскошь, как жалованье, практически не предусматривалась.
Конечно, Петербургская академия наук — явление исключительное; оно порождено исключительной, без которой и Петербурга не было бы, неуемностью Петра Великого. Никакой бы иной гипотетический правитель при подобных обстоятельствах в государстве, не знающем университетов, ни за что бы не стал затрачиваться на каких-то там наук Академию. В голову бы ему не пришло. Разумеется, можно и о предпосылках говорить сколько угодно, и об исторической необходимости, и о стратегическом предвидении царя-реформатора, и о том, что навигации и картографировании без астрономии не обойтись и астроном Делиль нужен до крайности с его обсерваторией, но все равно — нечто невероятное это. Немыслимое. Трудно сказать, чему больше было обязано начинание — холодному расчету Петра (долгая подготовка, личные встречи, переписка, проекты…) или его одержимости, граничащей с маниакальностью.
Но — получилось.
Правда, уже после смерти Петра.
«…Служить бесчисленному народу умножением наук»
Будущие академики подтягивались в Петербург — о прибытии каждого Блюментрост докладывал Екатерине. С приездом долгожданных знаменитостей — математика Германа и физика Бильфингера (равно как и философа, впрочем) — число новоприбывших достигло числа пальцев на одной руке, и публичная аудиенция могла бы уже состояться, кабы не Успенский пост, самый строгий после Великого. Приехавшие ученые были преимущественно идеалистами, притом тяготели к агностицизму и менее всего сочувствовали православию, но Екатерина здешние традиции чтила. К тому же продолжался траур по Петру, а это предполагало сдержанность. В своих пределах. Что же это за аудиенция без царского угощения?
Иными словами, академикам хватило времени освоиться и проникнуться к принимающей стороне благодарностью, покамест не изреченной, но ищущей выражения в речах и жестах.
Сразу же после поста — 15 августа 1725 года, в день Успения Пресвятой Богородицы, Екатерина принимала ученых в Летнем дворце.
Нет, не эта дата считается днем рождения Академии. Но это начало, а мы питаем к началам повышенный интерес. Есть в них особая красота. Вот и заграница в формате «Лейпцигских ученых ведомостей» оценила событие — были по горячим следам напечатаны известия из Петербурга, послужившие источником для соображений поздним историкам.
Первая часть программы — небольшая экскурсия по Летнему саду, ее провел Блюментрост. Показал статуи, фонтаны и всякие гидравлические штуковины. Неизгладимое впечатление произвел на гостей знаменитый Грот, и в первую очередь — помещенная в нем Венера, — да-да, та самая Венера Таврическая, которая, впрочем, еще не была Таврической, потому что и Таврический сад, в котором ей придется позже стоять, — это тоже, понятное дело, из поздней истории.
За дефицитом подробностей жанровые картинки нам рисует, как обычно, воображение. Проще всего представить напудренные парики, — вот, наверное, и князь Меншиков был в парике (и с орденской лентой), когда он внезапно появился на аллее — сам познакомился и представил сына как будущего слушателя ученых докладов. Блюментрост нам видится с тростью и чуть-чуть прихрамывающим, но это чистой воды фантазия, обусловленная фамилией лейб-медика. А что, помимо Венеры, должно было вызвать восторг? Не раковины ли Индийского океана, которые сплошь покрывали стены Грота? Кажется, Гольдбах, путешественник и неутомимый коллекционер впечатлений, должен был бы это обязательно оценить. Или водозаборная башня — с колесом, вращаемым пятью лошадьми на том берегу Фонтанки, — для фонтанов, конечно. Якоб Герман, механик, уже опубликовал трактат «о силах и движениях твердых тел и жидкостей» — так что гидравлика этого сада из области его интересов. А на это уже не хватает нашей фантазии: водяные оргáны, умеющие издавать соловьиные трели — как бы то поют рукотворные соловьи, удивительно похожие на живых. Что касается живых птиц, тысячи их — в грандиозном птичнике! Нетрудно представить живого тюленя. Четыре года назад его наблюдал Берхгольц — купающимся в фонтане, о чем и написал в своем дневнике. Кажется, это тот самый тюлень, которого доведется препарировать анатому Дювернуа (только вчера ему было послано приглашение на должность анатома в Академии). Да что тюлень! Дювернуа посчастливится препарировать слона, — о строении слона он прочтет несколько докладов! Никто из европейских анатомов даже мечтать о таком не мог — изучать внутренности слона, его необыкновенные печень и легкие!.. Только в Петербурге, и нигде больше!.. Ну не имел обыкновения персидский шах отправлять слонов в иные столицы!
Слон… Коль скоро о слонах заговорили, тут совсем рядом — на Царицыном лугу (на будущем Марсовом поле) расположен бывший слоновник. В нем почти что размером с хорошего слона одно время хранился знаменитый Готторпский глобус.
Парк науки какой-то, честное слово…
Полагаю, у наших экскурсантов было много вопросов. Окажись я на их месте, обязательно поинтересовался бы предназначением Косого канала (он же Косой Дементьевский — по фамилии подрядчика). 750 метров длиной, этот канал зачем-то был прокопан наискось от Невы до Фонтанки (сейчас на его месте улица Оружейника Федорова), зачем-то тянулся к Летнему саду. То есть это зачем-то, в принципе, известно зачем: для питания тех же фонтанов. Но как? Как он должен был питать фонтаны? По какому принципу?
Вероятно, у Петра был какой-то инженерный замысел, связанный с этим удивительным каналом. Сам ли он до чего-то додумался, или кто-то внушил ему какую-то мысль, но идея оказалась не вполне удачной. Для фонтанов Косой канал был бесполезным (так же как и для гипотетической водяной машины, если бы таковая, как допускают некоторые, создавалась для Литейного двора). В общем, никто не понимает, на какие течения и потоки надеялся Петр, ожидая подачи невской воды на необходимую высоту (это до водозаборной башни еще и до Лиговского канала, что понесет воду с Дудергофских высот).
У меня есть одна гипотеза, я на ней не настаиваю. Даже думаю, что, скорее всего, не прав. Но есть оно, подозрение. Мне кажется, в этой истории с Косым каналом замешан перпетуум-мобиле. Возможность вечного двигателя Петра действительно беспокоила. Да вот и упомянутый Орфиреус, как замечает Н. И. Невская, искал с российским императором через посредников контакт. И это после того, как наделенный большими полномочиями Шумахер не проявил никакого интереса к «изобретению» самовращающегося колеса. Больше того, Петр в 1725 году собирался за границу и хотел встретиться с Орфиреусом самолично — но умер. Исключительно ли механизм Орфиреуса интересовал Петра Великого, или у него были собственные идеи — ну вроде того, как поднимать воду силой той же самой воды? И не есть ли Косой канал, который все признают «загадочным», неудачная попытка осуществить подобную идею?
Заметим, невозможность вечного двигателя еще не была доказана.
Вряд ли лейб-медика Блюментроста занимали технические особенности гидравлического преобразователя, каковым быть мог бы канал, снабженный каким-то неведомым оборудованием, но среди тех экскурсантов находился по крайней мере один, кого проблема вечного двигателя, похоже, действительно интересовала. Это — Христиан Мартини, профессор по кафедре физики, ученый, согласно Пекарскому, сомнительной репутации. Согласно Пекарскому, на первом же, еще неофициальном собрании Академии, последовавшем вскоре после высочайшей аудиенции, Мартини сделал оптимистическое заявление, касающееся перпетуум-мобиле (заметим, что в «Летописи РАН» это заседание не отмечено).
Но не будем отвлекаться. Наши герои продолжают знакомиться с достопримечательностями Летнего сада. Камер-президент барон Лёвенвольде приглашает их во дворец: ее величество благоволит принять академиков.
«Государыня стояла у стола, окруженная Цесаревнами Анной Петровною и Елисаветою Петровною, герцогом голштинским и многими сановниками. За приличным поклоном академиков последовали две речи, свободно произнесенные в виде импровизации».
Это цитата из анонимного исторического очерка, опубликованного в первом томе «Ученых записок Императорской Академии наук по I и III Отделениям» за 1853 год — через 128 лет после события.
На этот источник ссылается известный современный историк, один из лучших знатоков Петровской эпохи, в небольшом сюжете, которому он придумал название — «Как царственная кухарка Академию открывала». Вот им изображенная картина: «Неграмотная кухарка, сидевшая на троне, ни слова не понимала по-латыни, но согласно кивала головой».
Петербург, петровское время! — о, как всем нам хочется мифотворствовать, — велик, велик соблазн предпочитать яркие краски!
Дело в том, что Герман, как отмечено в тех «Ученых записках», свою речь произносил по-французски, а Блюментрост ее переводил Екатерине, иначе и быть не могло, и вовсе не сидела императрица дура дурой. «Затем последовала речь Бильфингера на немецком языке: Блюментрост не переводил ея, потому что Императрица знала по-немецки». Получается, никаких проблем с пониманием не возникало — кивала ли или не кивала государыня головой. А латынь тут вообще ни при чем. Все было даже очень непринужденно. Единственное, Бильфингер, в силу своего темперамента, сверх меры жестикулировал и слишком взволнованно возвышал голос, когда говорил о Петре Великом, но если в том и была чрезмерность, эту простительную неловкость заметил один Блюментрост, поспешивший о ней сообщить как о колоритной детали в своей корреспонденции в Лейпциг. Всем, всем хочется красок!
А ведь «царственная кухарка» могла и не связываться с Академией.
После смерти Петра, казалось, на планах создания Академии можно было поставить жирный крест. Все зависело от Екатерины. Надо ей это? Однако на осторожный запрос Блюментроста касательно организации Академии всевластная вдова уверенно приказала ему «удвоить усилия».
Своим послам в Берлине и Париже она велела написать ободрительные письма ученым, заключившим контракт, — дабы «без сумнения следовали сюды». Им было обещано «особливое наше призрение».
И это не пустые слова, — еще до прибытия ученых в Петербург Екатерина обеспокоилась их бытом и дала на этот счет ряд указаний. Это она предоставила Академии просторный дом, отобранный в казну у Шафирова, и дворец покойной царицы Прасковьи Федоровны, повелев ускорить их ремонт и отделку. Это она торопила с достройкой здания Кунсткамеры и библиотеки. Почту для Академии она сделала бесплатной.
Думается, не только чувство долга перед упокоившимся великим супругом, но и неподдельное увлечение его смелым проектом побуждало Екатерину к участию в оном. Допустим, распорядиться о производстве прозрачных сосудов на стекольном заводе для Кунсткамеры и всяких там трубочек и пузырьков она могла по всепокорнейшей просьбе Блюментроста, но, чтобы заказали мундиры для четырех ею же определенных в Кунсткамеру гребцов (а как еще доберешься туда без лодочников?), она была способна распорядиться по своему разумению. И уж тем более никто бы ей не решился подсказывать передачу опять же в Кунсткамеру чучела любимого зеленого попугая с далеких солнечных Гавайев…
Да, это тот самый попка-дурак, который, если верить историческому анекдоту, выдал царскому денщику секретный замысел Персидского похода, посвящены в который были Петром только два человека — Екатерина и Меншиков.
Чучела лошади Петра, знаменитой Лизетты, отличившейся под Полтавой (на самом деле то был жеребец), и двух царских собак (одну из них, представьте, звали Тиран) доставят в Кунсткамеру лишь в 1741 году, но, раз мы о чучелах, было там и не такое — там и людей тоже были… эти самые… воспроизведения объемного изображения. Только об этом потом, не сейчас.
Хотя почему же.
Тоже пример.
После смерти «великана»-француза Николя Буржуа, семь лет у Петра прослужившего благодаря своему росту 2 метра 27 сантиметров, его «статуя» из натуральной кожи (помимо отдельно приготовленного скелета, а также препаратов некоторых органов) была произведена для Кунсткамеры. Но не без проблем. Дело в том, что Шумахер, сделав заказ скорняку Еншау на выделку кожи, не оформил сделку контрактом. Скорняк Еншау не возвращал больше года кожу «великана», воспользовавшись кончиной Петра, — так вот, почти сюрреалистическую ситуацию пришлось разруливать Екатерине. Она решила финансовый спор.
Куда проще с другой получилось кожей — рыбьей. Тут на Балтике проживали рукоделицы, способные кожицей не то салаки, не то кильки вышивать всякие красивости, ну прямо как золотом. Такую подушку Екатерина, знавшая сама толк в шитье, уже без каких-либо проблем, повелела передать туда же — в Кунсткамеру.
Это Петру II будут по барабану начинания его великого деда. Екатерину, вдову, мужнины дела весьма беспокоили.
Так что в тот праздничный день в Летнем дворце что-либо изображать из себя никакой необходимости у нее не было. Пускай и в доступном ей переводе, но «Всеподданейшую благодарность» красноречивого Якоба Германа за «царские милости… изливаемые на составляющих Академии» она, естественно, поняла и оценила. На понятном ей немецком «царственная кухарка» из уст знаменитого Георга Бернгарда Бильфингера слышала, между прочим, такое:
— «Высочайшая милость Вашего Императорского Величества доставляет нам, всеподданнейшим рабам Вашим, счастие — с униженнейшим благоговением повернуться к стопам Вашего Величества и засвидетельствовать, что мы признаем всемилостивейшее воззвание Ваше за глас Божий, которому богоугодно было привести нас в эту страну — служить, под достославнейшим Вашим правлением, бесчисленному народу распространением и умножением наук. Мы считаем для себя высочайшим счастием служить орудием, которое Богу и Вашему Величеству угодно избрать на то, чтобы трудиться над делом, которое неминуемо будет преуспевать к неистощимой пользе и вечной славе Вашего благословенного царствования».
Можно ли допустить, чтобы этакое осталось неуслышанным, невоспринятым?
Если кто и мог пропустить эти речи мимо ушей, только один человек — Иоганн Петер Коль, и не потому, что сам получил кафедру красноречия (ну и церковной истории), а потому, что впервые увидел юную принцессу Елизавету Петровну (об этом аспекте их отношений мы попозже чуть-чуть).
А вот Бильфингер о Петре Первом (это когда, слегка возбудившись, он позволил себе модулировать голос):
— «Всему свету известно, что там действует перст Божий, где зиждет великий государь Петр — вечно памятное имя, которого я не могу произнесть без волнения и которое всякий внимает с благоговением — и где довершает Богом ему дарованная преемница престола. Вашему Императорскому Величеству Богом предоставлено — через насаждение наук сделать понятным для ваших народов, чтó сделано безсмертным Императором Петром, и отличить его героическия деяния от подвигов всех героев древнего мира. От сих остается только слава, но не польза, а от дел великого Императора Петра, посредством сего учреждения Вашего Императорского Величества, останутся вечно не только имя и слава, но и плоды, и повесть о его деяниях найдет себе подтверждение в последствиях и пользе, какие перейдут на потомство».
Лесть — она, конечно, всегда лесть, но ведь и слова пророческие — не так разве?
А что до латыни…
Латынь зазвучала публично, и в частности для непосвященных, но не на этой достопамятной встрече, а позже — 27 декабря 1725 года.
Это день открытия Академии.
Приглашение на первую открытую конференцию напечатали на двух языках — само собой, на латинском и вроде бы русском, так Пекарский говорит: на русском, но, судя по тексту, который он привел в примечании к своему сообщению, — скорее на церковнославянском.
«…Первые Академии нашея творим празднества, которыи бо когда Музам нашим благополучнейшии? которыи к просвещению празднственнаго деиства сего знамеменитеишии день был бы?..»
Это вопросы. Риторические. То есть спрашивается, когда же нам отмечать? Тут и ответ единственно возможный: «В день, иже ЕКАТЕРИНЫ ИМЕНИ посвящен есть, верное наше публичное собрание сотворите уставихом…»
Иными словами, хотели приурочить торжественное собрание к тезоименитству императрицы. Не тут-то было. Лед пошел по Неве. Так же как былую аудиенцию отодвигал пост, для наших иностранцев совершенно неожиданный, так и невский ледостав, еще более внезапный, отодвигал торжество официального открытия Академии. Мостов-то не было.
Надо отдать им должное, новоприбывшие ученые пытались адаптироваться к местным погодным условиям; некоторые — с профессиональным интересом: в эти дни началось наблюдение за петербургской погодой с помощью барометра и термометра. Российская инструментальная метеорология отсчитывает свой возраст с того дня — 1 декабря 1725-го, когда без пяти минут экстраординарный академик по кафедре математики, а на тот момент студент Ф.-Х. Майер снял приборные показания и сделал запись.
Екатерина, однако, на торжественном заседании не присутствовала — мороз: большая зала дома Шафирова плохо отапливалась, так что мы должны представить облачка пара изо рта европейских ученых и многочисленных гостей, среди которых были и Меншиков, и герцог Голштинский, и Феофан Прокопович.
Так вот, что касается латыни.
«Ужели доселе ученые люди, толикая в Феории Магнетическои возъимели преуспеяния?»
Нет, это не латынь, конечно. Это из того приглашения. Все-таки оно было похоже на пресс-релиз, если по-нашему. Научная часть публичного собрания посвящалась вопросу «о изобретении долготы мест на земли и на мори» посредством магнитных наблюдений, о чем и докладывал Бильфингер, а возражал ему Герман.
Екатерина присутствовала на втором открытом собрании, случилось оно 1 августа 1726 года. Это было еще то торжество! Со знаменами, музыкой, барабанной дробью, салютом, пением придворной капеллой кантаты, сочиненной академиком по кафедре правоведения Бекенштейном специально для этого случая. Речь на латыни Германа касалась истории геометрии и вообще математических открытий, — отвечал ему Гольдбах, при этом оба старались быть краткими, «чтобы (как выразился Пекарский) императрице не показалась скучною латинская речь», то есть проблему восприятия осознавали все присутствующие, и не было у Екатерины надобности кивать, изображая внимание. «Затем императрица с высшим обществом введена была президентом в другую комнату, где был приготовлен стол с разными сластями и буфет со всякого рода винами… В Академии прошла вся ночь в пировании, так как там был приготовлен ужин».
Случай Коля и другие несообразности
Петербург встретил ученых радушно — казалось бы, все так, — куда же лучше; и все-таки дела тут заладились не у всех. Да и даты жизни некоторых из вновь прибывших словно вопиют о фатальной многознаменательности этого места: жизнь иных оборвалась раньше, чем закончился контракт.
Вроде бы — полный восторг. Математик Гольдбах писал из Петербурга в Кёнигсберг историку античности Байеру, как здесь хорошо, заключай, мол, контракт. Или вот, например, в «Летописи Российской Академии наук» (т. 1) цитируется письмо в Лейпциг профессора Коля — двадцатилетнему Миллеру, приглашенному в Академию студентом: «Поверь мне, ты не пожалеешь, что приехал сюда». В давнем переводе Пекарского обращения Коля в письмах Миллеру выглядят вежливей, на «Вы», — но смысл тот же: «Могу Вас уверить, что мне в Петербурге так же хорошо, как и в Германии». Миллер, вняв призывам, приедет, свяжет годы жизни с Россией, станет известным ученым, превратится из Герарда Фридриха в Федора Ивановича, отправится во Вторую Камчатскую экспедицию, напишет «Историю Сибири» и много чего еще, умрет российским подданным в Москве, а вот Коль, который его в свое время в Петербург призывал, как-то поладит с Петербургом ну очень парадоксально. Не излишняя ли впечатлительность тому виной?
Иоганн Петер Коль, академик по кафедре красноречия и церковной истории. О нем Пекарский сообщает: «В Петербурге он охотно читал лекции и без всякого вознаграждения принял на себя наблюдение за гимназиею при Академии; при всем том Колю не посчастливилось в Петербурге. Вскоре он впал в задумчивость, которая походила на сумасшествие, а потому Шумахер распорядился отправить его в августе 1727 года в Германию».
Дело не в петербургском климате и не в подавляющих психику долгих зимних петербургских ночах. Причина умопомешательства Коля — русская красавица. И кто бы вы думали? Елизавета! Будущая императрица! Историк Шлёцер (один из создателей норманнской теории) написал книгу, которая в русском переводе так и называется: «Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлёцера, им самим описанная»; там есть под колонтитулом «1762, январь. Императрица Елизавета» ей посвященный пассаж: «Ныне усопшая Елисавета, по мнению знатоков, видевших ее принцессою, была одна из совершеннейших красавиц своего времени. Один немецкий профессор, Коль, при виде ея сошел с ума и был отправлен в Гамбург, где он опять пришел в себя».
Замечательно, что психическое здоровье Коля в Германии пошло на поправку, — список его трудов, часть которых посвящена славянской письменности, действительно о том свидетельствует.
Кажется, у нас есть что добавить. Не о том ли казусе рассказывает побывавший в России датчанин Педер фон Хавен, чьи записки, относящиеся к эпохе Анны Иоанновны, опубликовал Ю. Н. Беспятых? В короткой главке под названием «Необычная история, приключившаяся в Петербурге с одним студентом» пересказывается слух о том, как некий «немецкий студент-юрист» некогда «возгорелся неуместной любовью к несравненно прекрасной принцессе, ныне императрице Елизавете». Фон Хавен сознается, что толком не знает, «то ли уже за само бессмысленное нахальство студента сделали придворным шутом, то ли он стал им при этой возможности, дабы остудить свою пылкую страсть. Однако хорошо известно, что его удостоили шутовского колпака и посвятили в настоящие придворные шуты, так что все и каждый могли его высмеивать, и в таком звании он и остался».
Точно! Это отголоски той истории. Академик, превращенный коллективным сознанием в некоего студента, искупает, как фольклорный герой, дерзость незаконной любви шутовским колпаком и даже, по тексту, обретает должность дурака при дворе. Не исключено, что фон Хавен, вспомнив эту побасенку уже у себя в Дании, добавил и от себя кое-что. Как бы то ни было, прекрасный пример петербургского «испорченного телефона».
Шлёцер сообщил об умопомрачении Коля через несколько десятилетий после того, как датчанин поведал о безымянном студенте, но, несмотря на большую удаленность от события, сдержанное сообщение Шлёцера, конечно, выглядит достовернее, чем слух про дурацкий колпак. Возможно, память о той неразделенной любви жила по разные стороны от российской границы в двух вариантах: как смахивающая на анекдот петербургская легенда, с одной стороны, и с другой — как запечатленное в каких-то источниках знание, которым и воспользовался Шлёцер, когда старик Иоганн Петер Коль почти уже был на пороге вечности.
Но может быть и такое: до Шлёцера, вспоминающего собственный опыт жизни в России, доходит смутный слух о каком-то студенте, влюбленном в принцессу, — о немце в русскую, — и, соотнеся факты и свои впечатления, выводит историк историю об «одном немецком профессоре».
Мне эта история по-всякому нравится. Хоть пьесу пиши!.. Академики, принцессы, любовь, шуты, Ледяной дом, «Слово и дело!»…
Вот еще один пример неприятия «парадизом Петра Великого» конкретного человека.
Христиан Мартини — он первым из академиков добрался до Петербурга (в июне 1725-го). Рекомендация от его выдающегося тезки, самого Христиана Вольфа, светила европейской мысли, была порукой ему. Но он оказался не совсем тем, кем его представляли, — не физиком. Решили считать метафизиком по причине незанятости кафедры логики и метафизики.
Известно, что он читал два дня доклад о бесконечно малых у Лейбница. Три дня — о силлогизмах в философии. Рассказывал о каком-то мальчике, обладавшем феноменальной памятью. Опять же — о перпетуум-мобиле… Что он там говорил, как докладывал — я свечку не держал, не знаю, но в конечном итоге Мартини обнаружил то, что называется на современном языке профнепригодностью или, как выразился Шумахер, «профессор не способен к тому, к чему сам приглашен».
Однако надежды Шумахера на то, что профессор уволится сам, не оправдались.
Дальнейшие сведения — от Пекарского.
Похоже, историк Пекарский вслед за бюрократом Шумахером невзлюбил героя, — первый цитирует второго: «…считаю за нужное объявить заблаговременно, что Вам не будет впредь выдаваться жалованья. Вы можете держать это втайне, а между тем подумайте о средстве, как бы выйти из такого положения с честью». И что же? Лишенный жалованья в 600 рублей, Мартини продолжает числиться в Академии более года. Тут уже мы удивляемся: что его держало в Петербурге — казенная квартира, бесплатные дрова и свечи?..
Вернувшись в Германию, он заделался экспертом по России. В своем компилятивном труде Мартини касается многих тем. «В четвертом отделе помещены объяснения разных примечательных слов и предметов, — сообщает Пекарский, — здесь в самом начале автор не усумнился войти в обстоятельные толкования непечатной брани русского народа, а закончил переводом надгробного слова Феофана на смерть Екатерины I».
Итак, Академия несет потери. Эти две назвать роковыми язык не повернется. Но если бы только так.
В Академии умирают
А это уже посерьезнее: первый год Академии омрачился сразу двумя смертями.
Всего лишь четыре месяца довелось прожить в Петербурге сорокалетнему Михаилу Бюргеру, профессору химии и практической медицины. Ничем себя зарекомендовать он не успел, кроме как, может быть, роковой неосторожностью, приведшей к нелепой гибели. Он гостил у Блюментроста и, сильно пьяный, расшибся, когда вывалился на обратном пути из коляски.
Пьянство — зло. Вспоминается забота о быте ученых, высказанная Блюментростом Екатерине незадолго до приезда будущих академиков в Петербург (есть в «Летописи РАН»). Хорошо бы, дескать, было устроить в доме Шафирова отдельный стол для них, чтобы не отвлекались ученые умы на трактиры и не перенимали бы дурные обычаи.
Вообще, от этой истории веет драмой абсурда.
«Что касается до ученых трудов, то о них не было никаких известий даже в то время, когда легче было о нем собрать сведения» — это замечено в середине позапрошлого века. Современный исследователь, доктор химических наук И. С. Дмитриев в статье «Взгляд на формирование химических школ Петербурга» сообщает название диссертации Бюргера, написанной в Кёнигсберге, — «Delumbricis» («О глистах»).
Бюргер не был химиком, он был доктором медицины. Заманивая Бюргера в Петербург, Блюментрост, его давний знакомец, обещал химией не донимать, медик пусть занимается медициной. А «химии» — это просто название кафедры. Соглашайтесь, дружище. Тот согласился. Приехал. Отметили. Ну и вот.
И ведь и приехал-то, по существу, не на свое место. По дружбе как бы.
Родня была против, там климат, а ты больной, а он будто бы бахвалился, что не боится умереть в Петербурге.
Это из того немногого, что мы о нем знаем.
Что-то похожее было с Гильденстерном и Розенкранцем в известной пьесе Стоппарда.
Вызволили из небытия, вдохнули жизнь, поручили нечто, чтобы обнулить результат. И что это было?
Глазами жены — просто кино. Как она отговаривала, плакала! Как не хотела этого Петербурга! Ты не химик, ты болен, никому там не нужны твои знания о глистах… Там медведи на улицах! А он вбил себе в голову: меня ждет Блюментрост, предлагает возобновить дружбу! Обещал годовое жалованье — 800 рублей. Едем, едем! Вот контракт! Не боюсь, говорит, умереть в Петербурге! НЕ БОЮСЬ УМЕРЕТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ! Ну и пусть дорога трудна!.. Там весна, там светлые ночи!.. Увиденное превзошло ожидания. Изумительный город среди болот и лесов… Только работай. Блюментрост: «А что я говорил!» Обнимались, пили на брудершафт, вспоминали молодость, вместе пьянея. А как хорош Петербург из коляски, когда мчится она по першпективе!.. Какой русский не любит быстрой езды? Или нет: скучно жить на этом свете, господа. И получила вдова годовое жалованье мужа. И поехала домой — в Либаву.
А через два дня после гибели Бюргера умер на тридцать втором году жизни Николай Бернулли, академик по кафедре механики. Математик. Старший брат Даниила Бернулли.
Захотели бы мы напраслину возводить на Петербург, сказали бы, что это он заманил обоих. Все же доля истины в этом есть: среди прочих достойных причин перебраться сюда у Даниила и Николая Бернулли была особая: «устранить разлуку двух братьев», — один медициной занимался в Падуе, у другого кафедра была в Базеле. Приехали, чтобы встретиться, и расстались навечно.
Раннюю смерть молодого математика объясняли коварным влиянием петербургского климата — по крайней мере, в благонамеренных биографических статьях. Вообще-то, воспаление язвы, или, иначе, «от нарыва внутренностей», как указал Пекарский, сославшись на вскрытие.
Связано ли это с тем праздником у Блюментроста? Не знаю. Похоже, в семье Бернулли грешили вовсе не на климат. Посетивший Петербург через полвека после трагедии астроном Жан Бернулли, племянник Николая, прямо указывал на «академические попойки» как на всем известный факт: вот что сократило жизнь его дяди и других академиков. Правда, заговорил об этом Жан Бернулли (у нас его называли Иваном) в связи с тем, что его самого хорошо напоил коллега, замечательный русский ученый-универсал астроном Румовский, чем и дал ему повод сослаться на пример исторический. Точно так же обратился Жан—Иван к истории, чтобы объяснить, почему не нашел дядиной могилы, — поведал будущим читателям своих записок, что-де «в былое время в Петербурге на дальних улицах валялись трупы, особенно бедных чужестранцев, их пожирали собаки и клевали вороны». Между тем известно: Николая Бернулли похоронили за счет казны по распоряжению императрицы. Так что про «академические попойки» свидетельство из этого источника не зачтем. Были, были! Но не этому же источнику верить.
Что получается? Из двенадцати прибывших в Петербург первых академиков двое умерли в течение года, — не много ли?
А вот еще
Иоганн Христиан Буксбаум, ботаник, за этот срок тоже был не раз на грани смерти, но только не здесь — в экспедиции. Вот уж кто себя не щадил так не щадил. В Петербург он вернулся с прекрасными коллекциями всевозможных редкостей — от растений, им открытых, до древних монет, а также с открывшейся чахоткой.
Буксбаум работал здесь еще при Петре. Заведовал питомниками Аптекарского огорода. Исследовал растения окрестностей молодого Петербурга и древнего Константинополя. А всего он описал около полутысячи неизвестных и редчайших растений. Писал из экспедиции в Петербург, что не решается давать названия им открытым родам растений, хочет оставить это на усмотрение Академии. Его, кстати, и зачислили в Академию в числе первых, когда он был в экспедиции.
По возвращении в Петербург, истощенный, больной, непохожий на себя прежнего, он еще работал над описанием привезенных растений. В истории Петербургской академии наук сам Петербург в этом случае мог бы стать (все к тому шло), но, впрочем, не стал местом третьей преждевременной смерти, — Буксбаума похоронили в Саксонии, куда он уехал в отцовское имение за несколько месяцев до своей кончины.
И все же: о роке и северном климате.
А тут все одно. «Он в суровом северном климате привык к неумеренному употреблению крепких напитков», — сообщает Пекарский, ссылаясь на биографа первого российского академика-ботаника. И тут же цитирует Миллера: «Дурное сообщество совратило его с добродетели и религии на достойный наказания путь заблуждений».
А по-нашему — пусть ему памятником будут пять томов его «Центурий» и в честь него названное семейство мхов, — он, конечно, не сумел бы это выговорить в переводе с ученой латыни: буксбаумиевые мхи, — а мы можем.
Еще двое
Надо бы вспомнить еще двоих — Майера и Гросса: один математик и астроном, другой философ-моралист; оба прибыли в Петербург одновременно — в июле 1725-го вместе с Бильфингером, в чьи обязанности входило привезти двух студентов-последователей. Привез. Екатерина пожелала обоих возвести в Академию наук — надо думать, по представлению их знаменитого учителя. Что ж, после торжественного открытия Академии, спустя месяц какой-то, оба были в нее зачислены экстраординарными профессорами: один — математики, другой — нравственной философии; так что оба они тоже из первых фактически.
Для обоих Петербург местом роковым оказался.
Правда, Гросс из Академии наук уже лет десять как был отчислен, когда он в самом начале 1742-го, находясь под домашним арестом, выстрелил в себя из пистолета, — но там дело серьезное: смена власти, падение Остермана, подозрение в шпионаже, — к науке это отношения не имеет. А вот Майер заболел очень скоро и на пике своих научных трудов, — болел тяжело и умер на тридцать третьем году жизни (Буксбауму-то у себя на родине еще несколько месяцев оставалось). Получается, смерть Майера в 1729-м была третьей академической в Петербурге.
Нет, правда, ведь странно это. За короткий срок… И все первые.
Но и это не всё
Адольф Бернгард Крамер, уроженец Вестфалии. В Петербург он приехал в 1725-м, зачислен студентом, с 1732-го допущен к академическим конференциям — в звании адъюнкта. Изучал историю — русскую и лифляндскую. Печатался в «Комментариях». Ему поручили работу над «Собранием по русской истории», которое до отбытия в Камчатскую экспедицию начинал издавать Миллер. Несомненно, Крамер скоро бы стал академиком, — таковым он и оказался объявлен задним числом в одном авторитетном справочнике конца минувшего тысячелетия («Российская академия наук. Персональный состав», т. 1, 1999), но в реальности до того не дошло: в 1734-м он умер, было ему тогда 28 лет. Через некоторое время на имя Крамера в Петербург пришло письмо от его матери, один из друзей покойного нашел возможным его прочесть. Мать сообщала о страшном сне, который повредил ее здоровью, при этом, точно указав дату и час кошмара, она просила сына рассеять тревогу и сообщить о себе. Оказалось, что он умер в тот самый час той самой ночи.
Это странное соответствие произвело тяжелое впечатление на академиков. Ему уделяет место Миллер в своей немногословной биографической справке о Крамере. Между прочим, им сказано: «Я читал это письмо, и, может быть, оно сохранилось в Петербурге. Можно верить и не верить подобным вещам, но они стоят того, чтобы быть замеченными». Того же мнения, надо полагать, придерживался Пекарский, потому что его цитата из Миллера, посвященная необъяснимому обстоятельству смерти Крамера, столь обширна, что занимает ни много ни мало треть объема, отданного жизнеописанию молодого ученого.
Даниил Бернулли, разрабатывающий основы теории вероятностей, возможно, мог бы поразмышлять об этом странном совпадении (если оно совпадение), тем более что в том же примерно возрасте (вот и еще одно) умер в Петербурге его собственный брат. Автору еще не написанной статьи о петербургском парадоксе была суждена, напротив, долгая жизнь — 82 года. С математической точки зрения Жребий — это тема его. Но за год до смерти молодого историка он Петербург уже покинул.
Вскрытия благоприятные и полезные
Если здесь и была какая-то тайна, постичь ее мог Иоганн Георг Дювернуа, первый академик по кафедре анатомии и зоологии, это ему приходилось осуществлять вскрытия трупов — увы, и своих сотоварищей-академиков тоже.
Но не всем же должно не везти, — академическая судьба Дювернуа вполне счастливая.
А ведь его жизнь тоже висела на волоске, равно как жизни будущих академиков Крафта и Вейтбрехта, — последний был учеником Дювернуа. Все трое могли открыть печальный список академических жертв, потому что еще на пути в Петербург их корабль потерпел крушение, — случилось это недалеко от острова Нарген. Расстояние Ревель — Петербург преодолевали посуху. Действительно повезло.
А не повезло бы?
И что бы мы сказали тогда? Даже без того кораблекрушения петербургский академик, получается, чуть ли не самая опасная профессия (не профессия, конечно же, но вы понимаете). А если бы и это еще?
Между прочим, кафедре анатомии первой удалось доказать свою практическую полезность. Можно сказать, они нашли друг друга — полицмейстерская канцелярия и анатомический стол. В Петербурге покойники не были в дефиците. В Европе анатомы дожидались каких-нибудь казней, а тут — бери не хочу: пьяная смерть, угар, хворь необъяснимая… Надо учитывать и дотошность петербургской полиции. «Во всем мне хочется дойти до самой сути», — мог бы задолго до поэта сказать о себе первый генерал-полицмейстер Девиер, до того как его еще не отправили сначала на дыбу, а потом в низовья Лены, — это при нем вновь прибывший анатом успел поработать почти полтора года. За первые четыре месяца 1726-го Дювернуа выполнил десять патологоанатомических экспертиз, сопроводив каждую актом на латыни. В 1727-м, как сообщает «Летопись РАН», Дювернуа анатомировал 18 присланных из полиции трупов. В 1728-м — 10 трупов. В 1729-м вместе с адъюнктом по физиологии И. Вейтбрехтом он провел 15 вскрытий. Правда, что-то произошло тогда между учителем и учеником, — отказался Дювернуа очередной предъявленный полицией труп анатомировать совместно с адъюнктом. В результате «смотрение» над анатомической палатой передали молодым — Гмелину и Вейтбрехту, а Дювернуа больше сосредоточивался на таких объектах, как слон, ягуар, летучая мышь, зародыш свиньи… Впрочем, к человеческому материалу все же вернулся. В 1737-м, например, он анатомировал труп Якова Васильева, старейшего монстра, проживавшего при Кунсткамере еще со времен Петра.
Дювернуа по костям, присланным из Сибири, собрал скелет мамонта и показал, чем это животное отличается от слона. Составление скелета кита с подробными обмерами — тоже его заслуга.
Несмотря на мелкие академические конфликты и неприязненные отношения с Шумахером, 15 лет, проведенные Дювернуа в Петербурге, оставили у него добрые воспоминания. Штутгарт после Петербурга удручал ученого всем — от качества воды и воздуха до дороговизны, вызванной войной. Пекарский приводит отрывок из письма Дювернуа Шумахеру: «…я утверждаю, что в отношении здоровья и удобств жизни все преимущества на стороне Петербурга. И если находящиеся там друзья мои верят мне, то пусть там и остаются, не подражая моему примеру, когда хотят быть благоразумными. Меня заставила выехать из Петербурга моя несчастная звезда».
А что его ученик?
Анатомические наблюдения над мертвыми петербуржцами дали Вейтбрехту богатый материал для его трактата «Синдесмология, или История связок человеческого тела», признанного классическим трудом в своей области.
Мы даже не догадываемся, как много объектов внутри нас названы его именем. Есть, например, Вейтбрехта хрящ, связки (и не одна), хорда, мембрана и даже отверстие — это где в капсуле плечевого сустава сообщаются сумка и суставная полость.
А еще он написал трактат «О нефти».
О науках. Продолжение

Гольдбах: простые числа
Кто-то был неудачником, а кому-то чертовски везло. Вот Гольдбах. Имя его на слуху, наверное, не только математиков. Удивительный человек, и удивительна судьба его имени.
В Петербург он приехал сам, проведав об организации Академии. Приехал, объявился и предложил Академии свои знания и опыт. Рекомендаций у него не было и особых научных заслуг, кажется, тоже. Но он, юрист по образованию, интересовался математикой, на этот счет за ним числились две публикации; он имел обширные представления по части истории, он много путешествовал, ведя подробный дневник, знал языки и даже как будто разбирался в медицине, — во всяком случае, его давнее предложение лечить опухоли с помощью сажи где-то рассматривали всерьез; да и с физикой он был, похоже, на короткой ноге: вот если выстрелить из пушки строго вертикально вверх, куда пропадает ядро? — не знаю, правда ли, пропадает оно или нет, но вроде бы этот вопрос когда-то волновал Брюса, и будто бы Гольдбах дал ответ. В чем именно заключался ответ, он, кажется, Блюментросту не докладывал, но ссылки на Брюса и на целебную сажу в письме, отправленном из Риги будущему президенту Петербургской академии наук, долженствовали подтвердить компетенцию Гольдбаха в проблемах большой науки. Главное, он умел подать себя, был красноречив, обаятелен, он легко увлекался и мог увлечь других, мог рассуждать на любую тему — в общем, «все знал»; тут не поспоришь, он был ученым.
В Петербурге на очной встрече с Блюментростом он показал себя в самом выгодном свете; одна беда — не оставалось к этому моменту свободной кафедры. Блюментрост обещал придумать что-нибудь. И трех недель не прошло со дня прибытия Гольдбаха, а он уже был в числе пяти будущих академиков представлен Екатерине (мы ведь помним его в Летнем саду и в Летнем дворце), и это притом, что с ним — и притом единственным — еще не заключили контракта. Не просто представлен — допущен к руке императрицы и двух принцесс!
Только через полмесяца с ним заключили контракт о зачислении членом Академии с окладом 800 рублей. В должности конференц-секретаря, специально на этот случай изобретенной, он будет вести протоколы, писать историю Академии, а кроме того, «развивать математику».
Гольдбаху доверили, точнее, навязали обучение малолетнего императора Петра II, не проявлявшего рвения к знаниям. Гольдбах написал несколько статей по математике. Когда надо было выступить от лица Академии торжественно на латыни, чаще всего обращались к нему, он и латинские стихи на случай тоже писал. В 1742 году его отозвали из Академии наук в Коллегию иностранных дел — на секретную службу. С этих пор академиком он оставался почетным. А что за служба секретная? О, деликатная служба. И не секретная, а сверхсекретная. Он занимался дешифровкой перлюстрированных дипломатических писем и на этом поприще достиг значительных успехов. Иностранные дипломаты не тешили себя иллюзиями насчет неприкосновенности своей почты, но были уверены в надежности числовых шифров, а Гольдбах дружил с числами.
Гольдбах дружил с числами, особенно с простыми[10].
Так вот, всемирная известность имени Гольдбаха обязана этой дружбе с числами, особенно с простыми. И переписке. Но на сей раз его собственной, частной, без государственных секретов. Конкретно — с Эйлером.
Еще конкретнее — четырем строкам на полях поперек основного текста письма от 7 июня 1742 года. Даже не четырем, а всего лишь одной строке, четвертой, последней.
Вот чему обязана всемирная слава Гольдбаха.
А про секреты никто ничего не знал, кроме трех-четырех человек, включая императрицу.
Между прочим, Эйлер, проживавший в то время в Берлине, тоже был почетным членом Петербургской академии наук и активно поддерживал с ней неформальную связь: академические «Комментарии», издававшиеся в Петербурге, регулярно публиковали его статьи. Так что маргинальное место тех четырех строк в этой почетной переписке двух почетных членов — сугубо почетное.
От ритуальных фигур прощальных расшаркиваний оба корреспондента в этой переписке воздерживались. Изложив свое понимание некоторой математической проблемы касаемо разложения чисел на слагаемые, Гольдбах просто поставил, как обычно, подпись: Гольдбах. И тут, по-видимому, вспомнил еще кое о чем. Внизу страницы уже не оставалось места, пришлось повернуть лист на 90 градусов и дописать примечание к одному положению в тексте, которое он отметил звездочкой.
Уточнение настолько простое в определении, что грех нам его сейчас обойти.
Всякое число более 2 можно представить в виде суммы трех простых чисел. («Всякое число более 5…» — в современной трактовке, потому что Гольдбах считал простым числом единицу, а мы — нет.) Например, так: 77 = 11 + 19 + 47.
Позже это назовут «гипотезой Гольдбаха» или, иначе, «проблемой Гольдбаха». Или иначе: «тернарной гипотезой Гольдбаха», потому что будет еще «динарная гипотеза», — ее в ответном письме сформулировал Эйлер (правда, дав понять, что от самого Гольдбаха это и знает): предполагается, что каждое четное число можно представить в виде двух простых (в современной трактовке — каждое четное больше двух).
Эйлер ошибся в одном: ему тогда мнилось, что доказать это легко. Оказалось, трудно. Чудовищно трудно. Гольдбах тем более не сумел.
И в XIX веке проблема Гольдбаха не была решена. Даже не знали, как к ней подступиться.
В канун XX века обрела она планетарную известность и — позволим себе слово не совсем уместное для такого объекта, как проблема, но да: обрела авторитет. На Втором Международном математическом конгрессе в Париже (1900) Давид Гильберт, знаменитый математик-универсал, представил список нерешенных проблем, наметив тем самым кардинальные пути развития математики в новом столетии, — в числе 23 позиций под номером восемь значится «проблема Гольдбаха» (проблема простых чисел). Но и в XX веке доказать или опровергнуть в общем виде гипотезу Гольдбаха не удалось, хотя выдающиеся попытки разобраться с этой задачей уже сами по себе определили новые направления в математике.
Гипотеза Гольдбаха была доказана только в 2013-м, и то не без помощи сверхмощных компьютеров.
Некоторые обобщения проблемы Гольдбаха и сейчас остаются нерешенной проблемой.
Похоже, сам Гольдбах смотрел трезво на вещи; вряд ли он, корреспондент великого Эйлера, тешил свое самолюбие мыслями о славе. Скорее уж как образец красноречия какая-нибудь его латинская речь имела шансы задержаться в истории. Его не считали крупным математиком, да он, кажется, и не претендовал на признание сверх того, которое было: с ним охотно переписывались корифеи науки, а это чего-нибудь стоит. Как бы то ни было, Истории было угодно распорядиться так, что имя его зазвучало громко, и все благодаря одному неуверенному предположению, бегло настроченному вдоль края листа и небрежно правленному на ходу.
Примечательно, что Пекарский, отмечая в биографическом очерке о Гольдбахе его заслуги, ничего не сказал (а вероятно, еще и не знал даже) об этой гипотезе — главном научном достижении одного из первых петербургских академиков. Зато Пекарский отметил некоторые замеченные современниками Гольдбаха странности его характера. Разговоры он, оказывается, предпочитал с глазу на глаз и не переносил присутствия третьего. Если это есть осторожность, мы, кажется, догадываемся, чем она обусловлена, — сверхсекретной деятельностью нашего героя в Коллегии иностранных дел; по сути, Гольдбах после увольнения из Академии в своем лице представлял отдел, сказали бы сейчас, контрразведки. Криптограф, единственный в своем роде специалист по дешифровке, он первым прочитывал то, о чем знать вообще не желал — от чего, наверное, у него спина холодела, — с такими знаниями долго не живут. Или живут долго, раз очень ты нужен.
В то время коллегия размещалась в Первопрестольной. Знаменитое письмо Эйлеру он отправил в Берлин из Москвы, куда только что перебрался из Петербурга — под крыло канцлера Бестужева-Рюмина. Здесь, на поприще криптографии, он применял свои знания о числах.
Но сами знания Гольдбах обрел, по-видимому, в Петербурге. Здесь он мог непосредственно общаться с молодым Эйлером, пока не отбыл вместе с двором на некоторое время в Москву в качестве наставника юного императора.
Вообще, вся эта история с именем Гольдбаха тянет на шпионский роман. Можно было бы назвать его «Простые числа». Причем время действия этого гипотетического романа могло бы растянуться на несколько эпох, вплоть до нашего времени. Тут и собственно математические штудии самого Гольдбаха, и его деятельность при дворе и при так называемом черном кабинете, где он преуспел в подборе ключа к зашифрованным секретам французской дипломатии, тут и соответствующие оргвыводы, касающиеся большой политики, но тут и коллизии, связанные с доказательством гипотезы Гольдбаха в XX столетии, когда подходы к проблеме и сопутствующие им интриги побуждали к сильным страстям и крушению судеб…[11] Разговор о магии чисел, конечно, сам собой напрашивается, но это к Эйлеру уже — его заботили «магические квадраты» (без всякой мистики, впрочем).
Представляя Гольдбаха, склонившегося при казенных свечах над листом бумаги у себя на Васильевском острове и разлагающего очередное число на сумму простых (а он разложил таковых до 1000), начинаешь думать, что Петербург — это то самое место, которое более всего располагает к таким вычислениям.
Эйлер — «не человек»
Иногда меня спрашивают, кому в Петербурге не хватает памятника.
Ответственно говорю: Леонарду Эйлеру.
Эйлер прожил в Петербурге в общей сложности более сорока лет.
Вряд ли бы мы сегодня пользовались мобильной связью, если бы не было в XVIII веке Эйлера. Хотя допускаю, что первые самолеты уже могли бы появиться, но далеко не реактивные.
Немыслимо, как много сумел совершить один человек. «Это не человек», — сказал мне знакомый математик, когда я заговорил с ним об Эйлере.
Господа альтернативщики, вы не верите в реальность гранитного монолита Александровской колонны, потому что, по-вашему, невозможно было обработать его без каких-то фантастических шлифовальных станков, вы отрицаете способности строителей XIX века возвести Исаакиевский собор, вам кажется выдумкой история транспортировки Гром-камня, вы убеждены, что Петра подменили, — это все ерунда, — обратите взоры на Эйлера, вот инопланетянин! «Это не человек»! Человеческому мозгу не под силу такое!
Издание Полного собрания его научных трудов в 72 томах, затеянное в Швейцарии перед Первой мировой войной, растянулось на сто лет. В числе 850 работ Эйлера — список их составлен шведским математиком Густавом Энестрёмом в начале XX века — по крайней мере 20 — основополагающие труды. И это не считая эпистолярного наследия, посвященного исключительно научным проблемам, — более 3000 писем!
«Список Энестрёма» — где произведения великого математика незатейливо пронумерованы — сильно облегчает работу специалистам по Эйлеру.
Вот — что это? — 456 468 469 470 478 479 525 536 568 569 585 603 607 621 627 634 641 649 658 659 682 825.
Математический ряд с неведомой закономерностью? Может быть, образец секретного сообщения, которое поручено расшифровать Гольдбаху?
Но я, кажется, уже подсказал. Это содержание — в данном случае одного только 9-го тома сочинений Эйлера в соответствии со списком Энестрёма; том этот (взятый наугад для наглядности) входит в серию II «Труды по механике и астрономии», — всего таковых томов в этой серии 31, а всего серий — 4. И эти вышеприведенные числа — лишь одна графа из «Перечня изданных томов Полного собрания сочинений Леонарда Эйлера» — таблицы, занимающей восемь книжных страниц![12]
Лишь одна табличная графа (один том), и таких граф — более восьмидесяти!
Но дело не только в немыслимой плодотворности Эйлера, главное — невероятная продуктивность его идей.
Эйлер дал начала целым математическим направлениям.
Число объектов, названных его именем, — более шестидесяти: формулы, уравнения, тождества… знаменитое число е.
И совсем уже кажется запредельным, что бóльшую часть своих работ Эйлер создавал, потеряв зрение. Сначала он лишился правого глаза — в 1735 году — после напряженных вычислений, на которые у него ушло три дня, тогда как другим академикам, по их оценкам, требовалось на то несколько месяцев. «Некий геометр, потерявший при вычислениях глаз», — назовет его насмешливо Фридрих II, когда Эйлер решится покинуть, к неудовольствию короля, Берлинскую академию и вернуться после двадцатипятилетнего перерыва в Петербург — на радость Екатерине II. А ведь Фридрих буквально Эйлера сглазил. В Петербурге великий математик скоро потеряет зрение на втором глазу. Он перестанет различать лица, видеть черное на белом, то есть обычный текст, но белое на черном ему удастся как-то различать, — и тогда он будет писать математические выкладки мелом на доске, положенной на стол, и диктовать своим ассистентам, первым из которых называют мальчика-слугу, совершенно далекого от математики, но понимающего в портновском ремесле.
Это трудно представить, но полуслепой Эйлер поставлял работы в Академию со скоростью, значительно превышавшей скорость их возможного изучения.
Даже если бы Петербургская академия наук была бы всего лишь клубом веселых человечков, одна причастность Эйлера к ней оправдала бы все надежды и затраты Петра.
Но Петербургская академия, при всех ее проблемах, не была клубом. Известен ответ Эйлера на закономерный вопрос короля в то промежуточное время, когда ученый работал в Берлине: «Его королевское величество недавно меня спрашивал, где я изучил то, что знаю. Я, согласно истине, ответил, что всем обязан моему пребыванию в Петербургской академии наук».
Мемориальная доска «Здесь жил с 1766 по 1783 г. Леонард Эйлер, член Петербургской академии наук, крупнейший математик, механик и физик» висит на василеостровском доме, который, однако, трудно назвать домом Эйлера, потому что тот двухэтажный, в котором вместе с ним жила его огромная семья, был сильно перестроен еще в середине XIX века: появился третий этаж, и это новое здание, удлиненное вдоль набережной Невы, продолжилось дополнительным корпусом по 10-й линии. Но слово «здесь» как нельзя уместно: вот «здесь», где между окон первого этажа висит мемориальная доска, — здесь настоящая стена дома Эйлера. Это она пережила пожар 22 мая 1771 года, что свирепствовал по всей южной части Васильевского острова — от 7-й до 21-й линии. Тогда Эйлера удалось спасти — его вынес на руках соотечественник, ремесленник Гримм; рукописи ученого тоже были спасены, можно сказать, чудом. Нет худа без добра, Екатерина, повелев о выдаче трех тысяч рублей на отстройку дома Эйлера, одновременно постановила не строить заново питейный дом, сгоревший по соседству с домом ученого[13].
Нынешний адрес: набережная Лейтенанта Шмидта, 15.
Сейчас здесь школа. Имени Бунина.
Девятнадцатилетний Эйлер был приглашен в Академию при Екатерине I; прибыл в Петербург через четыре дня после смерти императрицы (Пекарский полагал, в тот же день). Умер он при Екатерине II — на 77-м году жизни, в 1783-м, в другую эпоху. Царствие Елизаветы перекрывает берлинский этап жизни Эйлера. Но что значит «в другую эпоху», когда все XVIII столетие математики называют «веком Эйлера»!
Мама моя рассказывает, что математику им в ЛЭТИ (в Ленинградском электротехническом институте им. Ульянова-Ленина) преподавала правнучка Эйлера, — тут надо, конечно, прибавить несколько «пра». Не помнит, как звали. Отношения у них не сложились, однако. Писали контрольную по тройным интегралам, мама не была отличницей, но получилось так, что единственная в группе решила все правильно, а «она не поверила, что сама». В свои восемьдесят девять мама вспоминает, возмущаясь. Обидно. «Мама, забудь!» Хотя нет, не стоит, — по теории рукопожатий для меня здесь кратчайший путь до Эйлера. Что-то есть все-таки, что нас лично связывает.
О дубах и о том, бил ли Петр Леблона палкой

Да, так бил ли Петр Леблона палкой?
Это к вопросу о деревьях.
Правда ли, Петр по навету Меншикова приложил дубинкой генерал-архитектора Леблона — будто тот, пока Петр был далеко, порубил деревья, посаженные Петром в Петергофе? Правда ли, слег из-за этого Леблон в постель и скоро умер от потрясения, хотя и присылал к нему Петр человека просить прощения? А потом избил Меншикова за неправду?
А можно спросить так.
Правда ли, что Жан-Батист Леблон, главный архитектор Петербурга, которому Петр придумал в 1716 году особый генеральский чин, дабы подчинить этому зодчему, этому признанному мастеру садово-паркового искусства, остальных петербургских первостроителей, Жан-Батист Леблон, чье неслыханное жалованье в пять раз превосходило оклад Трезини, автор генерального плана юной столицы, планировщик Летнего сада, петергофского Верхнего сада, участник многих проектов, генератор идей, человек чести, — правда ли, он (в противоположность, к примеру, тому же Трезини и Растрелли) занимает в нашем коллективном сознании столь скромное место, почти никакое, потому только, что отвалял его Петр палкой — поступил некрасиво, нехорошо, вспоминать не хочется?
Да: и не забыть бы о деревьях.
История восходит к «Подлинным анекдотам из жизни Петра Великого, слышанным от знатных особ в Москве и Санкт-Петербурге» — книге Якоба фон Штелина, выпущенной впервые на немецком языке (Лейпциг, 1775) и многократно переиздаваемой в России — на русском, естественно.
Штелин был человек многоспособный. Художник фейерверков, автор од к ним и описаний соответствующих торжеств, историк, писатель, музыкант, проектировщик памятных медалей, собиратель, наконец, историй о Петре; среди них есть и такое — о Леблоне и Меншикове.
Слышано «от гг. почт-директора Ашева и штаб-лекаря Шульца, который тогда был лекарем при князе Меншикове», — будто бы этот Шульц видел сам, как Петр бил светлейшего князя спиной о стену.
Может, и видел. Может, видел, да не знал за что. За клевету ли? На генерал-архитектора ли? Или за другое за что?
Есть что-то в этом двойном нападении — сначала на генерал-архитектора, потом на генерал-губернатора — от клоунады. В другой раз, по Штелину, Петр бьет палкой генерал-полицмейстера Девиера — поучительно и со значением — за плохое состояние моста. И все первых лиц — все «генералов»! Урок Девиеру, кажется, прошел без свидетелей, — откуда известно тогда? — сам Девиер рассказал?
Штелин приехал в Петербург через 16 лет после смерти Леблона, анекдоты записывал на протяжении полувека. Многие из них с неизбежными переиначиваниями украсили многочисленные сочинения поздних авторов, в том числе современных. Мы часто даже не догадываемся, как много наши представления о личности Петра обязаны этим незамысловатым историям. Пушкин, знавший цену историческому анекдоту (сам записывал), подозревал Штелина в откровенных выдумках. В целом же в XIX веке эти байки вызывали доверие. Исследователи, изучавшие архив ученого (и, в частности, черновики к анекдотам), отмечают его добросовестное отношение к исходной информации. Другое дело — информанты Штелина; спустя десятилетия после смерти Петра что они-то могли знать и помнить и что могли слышать о Петре от других? По сути, собиратель «подлинных анекдотов» имел дело с фольклором.
Д. А. Ровинский, еще в позапрошлом веке работавший с архивными материалами академика Штелина, посвященными русскому искусству, сравнивал этого ученого с жуком — он, «как жук, откапывал и собирал все русское и с любовью записывал всякую мелочь, которая могла иметь только интерес для чисто русского человека». По словам Ровинского, «этот добросовестный немец отдал всего себя на служение новому своему отечеству».
Анекдоты Штелина — с точки зрения современного историка, разумеется, — документ, и прежде всего документ о восприятии петровского времени высшими слоями общества середины XVIII века (эпоха Елизаветы — Екатерины).
Характерная фигура — Меншиков. Само коварство и жульничество. Похоже, говорить открыто гадости о нем было и легко, и безопасно, и увлекательно. Крах выскочки, имевшего все и все в момент потерявшего, потому что притязал на еще большее, представлялся не то чтобы позорным, но закономерным и поучительным. Величественная фигура Петра Великого рядом с лукавым Меншиковым казалась еще величественней.
Что там Леблон? Леблон не главное. В обоих анекдотах, записанных Штелином в связи с Леблоном, главный персонаж — Меншиков: ему от царя достается не просто за дело, но еще с назиданием, — пусть видят все: не было у Петра неприкосновенных любимцев!
Радикально отношение к Меншикову изменилось только в советское время, когда Алексей Толстой написал роман «Петр Первый», но еще в большей степени — когда вышел фильм по роману и Меншикова сыграл Жаров. Обаятельнейшим человеком, при всей его жуликоватости, оказался светлейший князь. Храбрец, балагур. С хитрецой, но по-простому, по-мужицки, по-народному. Государю предан самозабвенно, отважен и готов «живота своего не беречь» ради пользы Отечеству. Да, своего не упустит, за таким нужен глаз, это верно. Но для его же собственной пользы.
Вспоминаю, как поэт Геннадий Григорьев, взъерошенный, с горящими глазами, как всегда подшофе, читал с зажигательным артистизмом где-то в конце перестройки (вечер в Доме писателя, еще не сгоревшем):
«Старая кинолента» называется стихотворение. Для того чтобы понять, о чем здесь, надо, конечно, знать этот старый фильм, снятый в 1937–1938 годах и восстановленный в 1965-м. Трудно представить человека в Советском Союзе, который бы не смотрел «Петра Первого». Между прочим, фильм, как и роман, впитал в себя и анекдоты Штелина, давно ставшие «былью». Мифотворчество там еще то, экранное, но я сейчас об авторе стихотворения — о Григорьеве — «его пример другим наука», что имеет прямое отношение к нашей теме.
Пример из «моего времени».
Фигура яркая, неповторимая и неподражаемая. Ни на кого не похожий, безбытный, экспансивный, вечно попадающий в истории, пренебрегающий условностями, пьющий, он и жизнь свою, не прилагая к тому специальных усилий, превращал в спектакль, как-то демонстративно «не берег себя», не изменяя притом природному чувству самоиронии. Виктор Топоров, «друг и учитель» Григорьева, отдавая должное таланту поэта (которого считал «лучшим в своем поколении»), печатно называл его последним романтиком и вместе с тем человеком-анекдотом. Приключения просто липли к нему. Закономерно, что человек-анекдот оборачивался в сочинениях иных авторов героем анекдота о себе (и у меня кое-где тоже — по дружбе с ним).
Однажды я рассказал писателю Р. случай с Григорьевым, которому был сам свидетелем. Через некоторое время наткнулся на газетную публикацию: писатель Р., знавший и без меня неплохо поэта, делился с читателями своими о нем анекдотами, — среди них был и тот случай, искаженный до неузнаваемости, причем в простую историю вовлекались третьи лица, к ней отношения не имевшие, и в довольно обидном для них контексте. Когда я сказал автору: что же ты делаешь, я тебе совсем не так рассказывал, он возразил: все, что рассказывают, — это уже фольклор, а с фольклора и спроса нет.
Надо заметить, литераторы вообще любят рассказывать о братьях по перу анекдоты, причем, мне кажется, более других этим грешат именно петербургские авторы. На современных, возможно, сильно повлиял Довлатов. А может быть, это традиция, берущая начало в XVIII веке. Замечательно и то, что творческий метод приверженцев этого жанра часто резко отличается от метода того же Якоба Штелина. Когда писателя А., мастера короткой истории о реальном событии (обычно с его участием), при мне спросили, не придумывает ли он сам, чего не было, А. гордо ответил: всегда придумываю, а как же без этого!
Мне кажется, здесь не установка на постмодернизм, а следование человеческой природе, естественному стремлению отстоять свою творческую независимость перед строгим лицом реальности. Вот и информанты Штелина, должно быть, подчинялись тому же неписаному принципу, когда, обращаясь к туманному прошлому, давали волю фантазии, что не мешало, наверное, им убеждать себя самих в истинности собственных воспоминаний.
Я тоже охоч до анекдотов, но моя беда — не умею придумывать. Поэтому всегда говорю правду. Да ведь всем известно, реальность интереснее выдумки о ней.
Если встретите обо мне литературный анекдот — источники не буду указывать, — знайте, это именно литературный анекдот и все неправда. Правду о себе только я сам рассказываю. Вот кто не соврет!
Ну и как же нам после этого верить добросовестному академику Штелину? Как же верить анекдотам, когда они анекдоты?
Я вовсе не хочу защищать Петра. Случиться могло все, что угодно. Но анекдот — всегда анекдот. А если без анекдота?
Леблон был из тех европейских светил, к авторитету которых Петр испытывал глубочайший пиетет, при всех своих возражениях генерал-архитектору. Жозеф-Никола Делиль, объяснявший Петру важность астрономических наблюдений для точного картографирования… Христиан фон Вольф, рекомендовавший европейских ученых в будущую Академию наук… Это люди, с которыми Петр считал за честь беседовать. Фредерик Рюйш, в преклонные годы посвятивший Петра в тайны бальзамирования и уступивший его уговорам продать свою знаменитую анатомическую коллекцию… Ударить Леблона дубиной было то же, что и Лейбница.
Точно так же Екатерина II благоговела (без дураков!) перед Дидро и Вольтером, а Эйлера, которого сумела вторично завлечь в Петербург, считала вообще чудом из чудес и живой драгоценностью (нельзя же все сводить к одному лишь престижу и стремлению выглядеть просвещенной).
Аргумент «нет дыма без огня» — вполне допустимый. Деревья действительно засохли, но не по вине Леблона; историк и археолог Виктор Коренцвит показал то, чего не знал Штелин: именно Леблон, а не кто-то другой (не Меншиков) сообщал Петру в ноябре 1717 года неприятные известия о деревьях. Так, может, отсюда и растут уши?
Полагали, что Леблон в конце жизни не исполнял обязанностей, но, вопреки общему мнению, В. А. Коренцвит в своей книге о Летнем саде показал, что это не так: Леблон, отнюдь не отстраненный от работ, продолжал строительство Летнего сада и даже незадолго до своей смерти делал соответствующие распоряжения.
Согласно «подлинному анекдоту», Петр, получив меншиковский донос, примчался из Шлиссельбурга (не из-за границы!) уже на другой день, — вообще-то, до Петергофа далековато будет. Не проще ли ему было послать гонца с приказом остановить, коли так, безобразие? А возьмем коварного Меншикова, — зачем надо было клеветать Александру Даниловичу, если знал он, что обман сразу раскроется? Чтобы — спиной о стену? Или он действительно все так тонко рассчитал с прицелом на желанный результат — убрать Леблона?
Но ведь умер Леблон, даже по анекдоту, не сразу, но «в следующем году», а на самом деле через год.
Если же без анекдота, то причина смерти тоже известна — от черной оспы.
Как же это все получается — с анекдотами?
А вот как.
Выделим действительно «достоверное» из штелинского анекдота об унижении Леблона.
Известно, что:
a) смерть Леблона — преждевременная (40 лет человеку);
b) Меншиков, склонный к интригам, питал неприязнь к Леблону;
с) Петр был крут;
d) и очень любил деревья.
Чтобы объяснить a, зная b, c, d, надо изобрести правдоподобную версию, примиряющую все пункты. Собственно, такая версия изобретается автоматически — сама собой (преждевременная смерть побуждает к догадкам, а тут вам ряд непреложных фактов).
Пазл сам складывается.
Идеально!
Попробуйте изобрести другую историю.
Можно, наверное, и другую. Но она не получится столь красивой.
Другая история потребует вмешательства Случая. Заболеть оспой — это Случай. Но зачем эта оспа несчастная? Ну ее. Оспа — просто, некрасиво, банально.
Хорош тот анекдот, который самому не терпится рассказать. Этот как раз такой.
Историку Евгению Анисимову история с побоями представляется убедительной. Во всяком случае, он ее излагает (не забывая, впрочем, назвать тем, чем является, — версией) с добавлением своих красок. Меншиков «вытер кровь и сопли кружевным брюссельским галстуком, почесал бока да и пошел по делам…».
В таком виде «версию» подхватывают на многочисленных сайтах.
Да он и рассказал ее как анекдот — с подробностями от себя. Другие рассказывают с другими подробностями.
Вспоминаю, что сам, по крайней мере дважды, слышал эту историю в устном пересказе — в обоих случаях от посетителей Петергофа. Оригинальный текст в записи Штелина рассказчики не читали, но восприняли анекдот в передаче экскурсоводов. Теперь восторженно — видно, что со своими подробностями, — пересказывали мне (признаюсь, и я на тот момент оригинальный текст Штелина не читал).
В одном случае рассказчик вполне натурально и живо изобразил радость наивного француза, который спешил с чертежом Монплезира навстречу Петру, сжимающему все крепче и крепче дубовую палку (это ничего, что Монплезир не имеет к Леблону никакого отношения, для нас важно сейчас, что палка — дубовая).
А другой уточнил суть меншиковской клеветы. Оказывается, тот донес Петру, что Леблон вырубает дубы.
Именно дубы!
Посаженные Петром!
Все, что угодно, но дубы Петр простить не мог.
Вообще-то, мы далековато ушли. Нам ведь и хотелось о них, о дубах.
Дубы первородные и их инкарнация
Дуб, который посадил Петр, — под таким сложным именем он был известен. Или Дуб Петра Великого. Вроде бы еще называли Петровским дубом, но у нас все петровское, что с Петром хоть как-нибудь связано, а иногда и никак не связано — от Петровского пруда на месте Гром-камня до пива «Петровское», с низкой плотностью и небольшим градусом.
На самом деле надо бы: дуб, который, по преданию, посадил Петр. Но мы не любим ссылок на предания. Дуб этот и без «предания» был объектом почти мифическим: все знали о нем, многие когда-то видели его, но мало кто мог сказать, где он растет. А все дело в том, что видели его обычно в детстве. Какое-то детское дерево — из детских воспоминаний.
Спрашивал ленинградцев постарше меня, помнят ли они его.
Примерно таким и помнили.
Детский писатель Николай Федоров, обитатель Петроградской стороны, наш старший товарищ, помнит, как отец в детстве остановил «Победу», вышли из машины: «Смотри, Коля, этот дуб посадил Петр Первый».
У меня похожее воспоминание, но более позднее. Дядя Слава останавливает «москвич». Мы выходим с двоюродным братом Сашей. Вот дуб, который…
Был ли он величественным? Кажется, нет. Запомнилась ограда. Необычным было, что дерево — за оградой.
Набережная реки Крестовки не самый известный городской проезд (о реке Крестовке и то не все слышали). Он там. На Каменный остров по делам не ездили. Надо было специально завернуть сюда, чтобы детям дуб показать. Потом, повзрослев, не все могли вспомнить, где же это видели в детстве.
Теперь достаточно набрать в поисковике «Петровский дуб» — и не надо напрягать память. Все перед глазами: фотографии, историческая справка. Спасибо. Только странное ощущение: будто эта определенность, нежданно дарованная, что-то вытеснила, испарила, выветрила. Будто отобрали лично тебе принадлежащее ценное что-то. Возможность припоминания, зыбкое детское ощущение сказочности этого мира, личной причастности к чему-то неведомому и даже такое — смутное понимание неспособности свидетельствовать о чем-то очень своем.
Даже текст таблички предъявлен:
«Сей дуб посажен основателем Санкт-Петербурга Петром I в память о пребывании у канцлера Г. И. Головкина в 1715 г.».
А где «по преданию»? А это и есть «по преданию». Тут как бы производная от предания. Вы-де полагаете, что «по преданию», а по другому преданию, то предание — не предание, но исторический факт: место, дата, конкретные лица.
Канцлеру Головкину Каменный остров принадлежал — это факт достоверный. И еще достоверно: Петр очень любил дубы.
Оказывается, в 1975-м на засохшем дереве одна веточка все-таки зеленела: были желуди на ней, из последних. А еще оказывается, есть у Абрама Петровича Ганнибала, арапа Петра Великого, потомки, и один из них, в седьмом колене который, придумал те желуди спасти, с тем чтобы и Петровский дуб дал потомство. Ради чистоты эксперимента собирал он только те, которые падали у него на глазах, при этом обретение каждого желудя фиксировал документально, с подтверждающими подписями свидетелей. Из желудей этих он вместе с женой в домашнем питомнике выращивал дубки, а в новом тысячелетии, когда и те стали давать желуди по достижении тридцатилетнего срока, наступило время «внуков» Петровского дуба. Один из таких дубков был подарен в 2018 году Никитскому ботаническому саду, информацией пресс-службы которого я пользуюсь в этом абзаце. Таким образом, потомок Петровского дуба стал расти на Южном берегу Крыма.
Другой потомок по той же причине растет в Петергофе.
А сам «дедушка» в Петербурге на Каменном острове зачах еще в советские годы. В конце семидесятых спили его, за ветхостью. Долго пень торчал, высокий — все так же окруженный оградой.
И пень тоже.
Но беда не в том, что мемориальный пень ликвидировали, — он хоть и продержался несколько лет, но был все равно исполинской гнилушкой, — беда в том, что сама идея преемственности дуба омрачилась очень плохим и несколько странным событием.
Местоблюстителем назначили не «сына» и даже не родственника, но соплеменника, если так можно о черéшчатом дубе. Желуди для него подобрали не на набережной Крестовки, а в Екатерининском парке, вырастили из них дубок (эти плоды дубов зарывают не по одному в лунку, а по нескольку, так лучше). Ему уже было — по-разному говорят — 15 или 20 лет, когда он очутился на Каменном острове — окруженный оградой. Семь лет висела табличка, извещавшая: «На этом месте Петр Великий, по преданию, посадил дуб. В год 300-летия Санкт-Петербурга здесь вновь посажено дерево».
Однако это «вновь» пришлось обновлять. Произошло непредвиденное.
Октябрьской ночью 2010-го молодое дерево было не то срублено, не то спилено (сведения противоречивы), а кем — неизвестно. И зачем — неизвестно. Из вредности? По каким-то концептуальным соображениям? Может быть, в шашки-карты проиграли? А может, сектанты-дубоненавистники? Или, как в известном фильме фон Триера, кто-то сумел в себе разбудить внутреннего идиота? Это ж надо было через ограду перелезть, приложить усилия, попотеть. Причем в темноте.
А теперь думай что хочешь: дуб они, оказывается, увезли (унесли?) с собой. Детектив, однако.
Нет, правда, в Петербурге люки воруют — 300 штук за полгода. Или вот, раз говорили только что о смерти Леблона, — похоронили его у Сампсониевской церкви, тогда деревянной, — кладбище не сохранилось, в 90-е прошлого века рядом памятник первостроителям Петербурга установили (скульптор Шемякин и архитектор Бухаев), а через пять лет всю бронзу ночью украли, включая массивный стол, поработали краном, — ну так ведь это же ясно зачем.
Но кому понадобился молодой мемориальный дуб — не древесины же ради?
А может, просто клинические идиоты?
Спустя несколько дней посадили новый. Третий уже.
Растет.
Получается, что этот новый, новейший дубок за прежней оградой сам по себе памятник — старому дубу. Ну и Петру. Или конкретнее — его любви к дубам.
Есть еще такой же дуб-памятник. Его тоже к юбилею города посадили — на склоне земляного возвышения, и не за оградой он растет, а в границах стилизованного бруствера как элемент мемориала или, вернее, памятного — о котором мы говорили в начале книги — знака «Крепость Ниеншанц» (ну там еще стволы пушек, направленные на Неву…). Предшественник вновь посаженного — помните, говорили о нем? — старый дуб, до войны рос на территории верфи, в промзоне, то есть на месте шведской крепости, — предание приписывало его посадку Петру будто бы в память похороненных воинов (но раскопки здесь таких захоронений, похоже, не подтвердили). Считается, что погиб во время войны от бомбы.
Пытались вырастить новый, но этот реконструкцию предприятия не перенес.
Получается, что здесь дуб-памятник, так же как на Каменном острове, не второй, а третий дуб. Получается, что был между новым и тем, историческим, и там и там промежуточный дуб, посредник-дерево, и там и там с печальной судьбой: здесь оно стало жертвою безразличия каких-то должностных лиц, отдавших соответствующие распоряжения; там, на Каменном острове, — вандализма.
Как бы то ни было, все эти дубы посажены человеком, не сами же они тут выросли, и кто бы по какому бы случаю ни сажал исторически первородный дуб, новый дубок-памятник, если угодно, — его инкарнация; ему виднее, что было с прежним (или с прежними двумя — их ведь двое). Это теперь уже их отношения.
Другие деревья
Старые деревья, не только дубы, особенно в черте города, легко окутываются легендами. Весной 1909-го петербургскую общественность беспокоила судьба ветхого тополя на Троицкой площади, — он тоже считался «петровским», хотя даже эпохи Павла застать не мог — не живут так долго в городе тополя.
«Но весьма возможно, что достаточно подставить изящные подпорки, — демонстрировал оптимизм корреспондент „Петербургской газеты“, всматриваясь в наше тысячелетие, — и этот „исторический памятник“ простоит еще 100 лет»[14].
Старейшее дерево Летнего сада, а возможно, и всего Петербурга, само по себе в глаза не бросается. Легко пройти мимо, если не посмотреть на табличку: «Дуб петровского времени». Даже допетровского времени, если верить экспертизе, проведенной в 2014 году, — тогда ему дали 363 года. Впрочем, точности датировки доверять не стоит, мы внимательно прочитали отчет: возраст определяется как среднее арифметическое из нескольких, в данном случае трех, «расчетных значений возраста дерева по разным кернам», то есть по выбуренным цилиндрикам древесины с помощью так называемого бурава Пресслера. («Алиса, что такое бурав Пресслера?» — «Дендрохронологический инструмент для взятия проб из ствола живого дерева с минимальным вредом для него. Состоит из рукоятки»[15].) Так вот, расчет по данным трех измерений в соответствии с приведенной в документе методикой дал результаты (в годах): 291, 451, 348. Разброс, на наш некомпетентный взгляд, значительный. И какова погрешность? Мы бы побоялись доверять в итоговом расчете точности до одного года.
Но похоже, действительно, дуб старше Петербурга. Шведы, поди, посадили?
Хотя не факт. Практиковали пересадку уже взрослых деревьев. Привозили дубы издалека. Еще не так давно в пригородных парках росло немало деревьев из столь отдаленных краев, что даже забыли, из каких именно, и возрастом они превосходили сам Петербург. Это естественно: Петербург образовывался как город приезжих, к деревьям нездешних пород это тоже относится.
Как бы то ни было, Петр этот дуб видел, точно. А дуб — Петра.
Дуб в Михайловском саду помоложе, но выглядит эффектнее, стоит красавцем посреди поляны. В 2014 году экспертиза определила его возраст — 278 лет. Петра он не застал, но посажен был раньше, чем разбили тут регулярный сад.
Хотя бы из уважения к возрасту дерева и стойкости, с которой оно переносит болезни, стоит вспомнить так называемый Потемкинский дуб. Надеюсь, он жив. Попасть на территорию Института Лесгафта сейчас непросто. Когда-то фасадом на Мойку (и Новую Голландию) выходил здесь Демидовский институт трудолюбия. «При посещении этого дома в 1843 г., — свидетельствует Я. К. Грот в „объяснительном комментарии“ к стихотворению Державина „На смерть Нарышкина“, — мы слышали от директора заведения, А. П. Турчанинова, что этот дуб был привезен из Крыма в угождение императрице Екатерине II, которая будто бы сидела под тению его во время своего таврического путешествия».
Сказано «будто бы», значит сомнения есть. И не сказано кем. Но только одним человеком могло быть осуществлено это невероятное предприятие — Потемкиным.
В течение трех лет он владел усадьбой напротив Новой Голландии, как раз на эти годы выпадает крымский вояж Екатерины. Ее знаменитое путешествие в Тавриду породило множество легенд, самая известная — о «потемкинских деревнях»; вот и об этом дубе возникло предание. Будто бы выкопал Потемкин с корнями и землей этот взрослый, так полюбившийся Екатерине дуб (по современным оценкам, дереву тогда должно было быть 80 лет) и переместил прямиком в Петербург, чтобы посадить в своей тогдашней усадьбе.
Кто его знает. Все может быть. Ствол прямой, высокий, колоннообразный — для Петербурга дуб весьма нетипичный.
После истории с Готторпским глобусом — как его три года перевозили, вырубая просеки, удивляться уже ничему не приходится.
Так вот, этот дуб воспел Державин.
Ни много ни мало сам Гавриил Романович Державин, и это уже не легенда. В упомянутых стихах «На смерть Нарышкина», то есть на смерть обер-шталмейстера Льва Александровича Нарышкина, владельца усадьбы после Потемкина, говорится о конкретном дубе, а других дубов здесь не замечено. «В саду, перед самым крыльцом, стоял прекрасный, окруженный цветущим дерном дуб, под которым сиживали гости Нарышкина», — замечает Я. К. Грот все в тех же «объяснительных комментариях» к стихотворению Державина во втором томе (1865) девятитомного собрания сочинений поэта (1864–1883).
К смерти Нарышкина в 1799 году, с момента своей возможной пересадки, дуб повзрослел более чем на десять лет и без большой натяжки мог «вековым» называться, когда стихотворение впервые было напечатано в 1808 году. Грот уже видел дуб окутанным легендами. А мы — больным. Губка, тутовик, стволовая гниль…
Троекратным рефреном прозвучало скорбное державинское «увы», но только здесь, в связи с этим дубом, — скорбью по утраченному веселью:
Согласимся, редкий дуб (а что — не так?) обретает место в русской поэзии.
Державин даже нарисовал этот дуб, — в бумагах поэта нашли собственноручную иллюстрацию к стихотворению. Дуб, гнезда, птицы, голые карапузики с пугающе взрослыми лицами. Грот описал рисунок такими словами: «По средине ветвистого дуба множество гнезд, около которых летают птицы, а под ним дети играют цветами». Одним словом, аллегория.
Хотя гнезда, возможно, еще и деталь садового быта.
Слабость Петра
Если это, конечно, можно назвать слабостью. Скорее, страсть. Вроде страсти к рытью каналов, насильственному лечению не без помощи хирургических инструментов и собиранию курьезов. В первую очередь, естественно, необходимость. Тут все понятно, корабли, верфи… ценные породы дерева… И все же что-то было сверх необходимости чрезмерное в этом — не то слабость с присущими ей сантиментами, не то страсть, доходящая до ярости и экзальтации.
Штелин (опять Штелин) рассказывает, как Петр «публично благодарил корабельных мастеров и морских офицеров, которые сажали в садах своих в Петербурге дубы, и, увидев то в первый раз, целовал их в лоб».
С одной стороны, все тот же анекдот, но с другой — не то что веришь, а даже видишь картинку. Петр, будучи под мухой, запросто мог расцеловать корабельного мастера или морского офицера — или кого угодно, — и не только в благодарность за посадку дуба, а вообще — по настроению; мог бы и в ярость прийти, это в его характере. По Штелину получается, что касательно дубов у Петра это целование в лоб правилом было, — ну, в это позвольте все-таки не поверить, но однажды могло бы и случиться такое, — на современников это должно было бы произвести впечатление.
Спорить не буду, но есть у меня подозрение, что деревья, дубы особенно, Петр ценил больше, чем людей. Я не о ценности строительного материала, без которого невозможен флот, я, скорее, о психологическом предрасположении к заботе о деревьях, к привязанности к ним. Деревья вполне отвечали его представлениям о регулярности и порядке — как посадишь дубы, так они и растут. А люди — сколько им ни объясняй, ни приказывай, хоть кол на голове теши, будут строить себе как хотят, ни о красоте не думая, ни о пожароопасности. Посадки деревьев образуют аллеи, регулярные прекрасные парки, а городской посад человеческий — хаос и произвол: срыть и построить заново!.. Дерево дисциплинированно, человек — нет. Ни малейшей не испытывал жалости к человеку, преступно вырубившему дерево.
Корабельные
Сколь бы ни казалась нам чрезмерной страсть Петра к дубам и как бы мы к ней ни относились — уважительно ли, снисходительно ли или как-нибудь по-другому, — нам в целом кажется, что мы ситуацию понимаем вполне, не правда ли? — ну одержим был человек идеей кораблестроения плюс индивидуальные особенности психики.
Потому что мы склонны доверять если не нашим знаниям о предмете, то хотя бы представлениям о нем.
А предмет «дуб» в нашем представлении о нем — это прежде всего что-то такое разветвленно-могучее, зеленое, златая цепь на дубе том, как на многочисленных иллюстрациях с котом ученым и ветвями, на которых русалка сидит, а стало быть, расположенными невысоко над землей, а ствол — сучковат… Или широко шумящее древо, одиноко приветствующее князя Андрея, проезжающего по дороге. «Среди долины ровныя…» — хором ли, одиноким ли голосом… «Высокий дуб, развесистый, / Один у всех в глазах; / Один, один, бедняжечка, / Как рекрут на часах». Нам ли не знать дуба?
А мне кажется, мы и представить себе не способны, что Петр знал о дубах. Что знал и что видел.
Не способны. И мне кажется, есть у меня моральное право говорить об этом.
Дело в том, что, так уж получилось, я побывал в одном удивительном, невероятном лесу. Находится он на юге Воронежской области. Известен под названием Шипов лес.
По сути, это дубрава… Даже сегодня она кажется гигантской…
Но дубы в ней не похожи на те, которые отвечают нашим литературным и житейским представлениям.
Шипов лес — название от Петра. Шипы тут ни при чем. Это от английского «корабль».
Шипов лес — это корабельный лес.
Все знают «Корабельный лес» художника Шишкина. Так вот представьте себе, что сосны — никакие не сосны, а дубы. Высокие, прямоствольные дубы. Вот это и будет Шипов лес.
Петр оценил это сокровище.
В 1709-м он перенес верфь из Воронежа на реку Осередь, поближе к дубам (это, может, и не главная причина, но одна из), — так образовался город Павловск.
Как я оказался в тех краях? А была у нас поездка дружной компанией на двух внедорожниках, ее, без дураков, допустимо назвать экспедицией. Затеяли экспедицию Павел Крусанов, писатель, и Геннадий Атаев, биолог. Писатель Крусанов и профессор Атаев озабочены оба проблемой биологического многообразия.
Достопримечательностью заповедника значится дерево, имеющее единственное в своем роде почетное звание «идеальный дуб». Прямоствольный, высокий, вызывающий у меня, приезжего, дилетантские ассоциации с эвкалиптом, он растет рядом с дорогой, этот идеальный высокий красавец. Как петербургский Петровский дуб, здешний «идеальный» окружен оградой, точнее, невысоким штакетником. Это все для впечатлительных гостей. На самом деле тут немало таких «идеальных». Даже сегодня. И вот написал «сегодня», а «сегодня»-то было в 2009 году, — тогда, в середине июля, приехали мы в Шипов лес. Хотел осторожно предположить, что за прошедшее время что-то могло измениться (ожидаемо не в лучшую сторону), — погуглил «идеальный дуб», и не просто «сегодня», а вот сейчас — только что, и узнал о нем только что, во что с трудом верится: погиб! Засох в 2010-м, не выдержав аномальной жары. Да может ли быть такое? 170 лет рос, красавец (35 метров высотой, первый сучок на высоте 20 метров), образец образцам корабельным, и засох через год после нашего посещения! Поражен. Нет, правда поражен, это не рояль в кустах, не литературный прием. Надо найти фотографии — я снимал. Да могли ли мы, рядом снимаясь, представить такое — чтобы через год этого великолепного исполина спили на дрова, именно так: сухой дуб, пишут, больше ни на что не годен. Как же это — за одно лето высох? И почему он, самый из самых?
И вот еще: абзацем выше сравнил его с нашем Петровским — из-за ограды. Но напрашивается другое сравнение. Они, получается, в одно время погибли — тот молодой, посаженный в память исторического дуба Петра Великого на Каменном острове, у которого желуди должны были вот-вот появиться, и этот, лучший дуб Шипова леса, словно выросший на радость Петру, появись тут царь и увидь это чудо природы, — оба погибли в 2010 году, один от вандалов, другой от жары. На расстоянии многих километров друг от друга, и оба с именем Петра связанные.
(Коль скоро о потерях зашел разговор — вставка в скобках, докладываю: через пять дней по завершении предыдущего абзаца сходил в Летний сад посмотреть на деревья. Здешний дуб петровского времени как стоял, так и стоит — сучья скреплены по какой-то новой методе стальными растяжками. А двухсотлетнего клена рядом с Летним дворцом, отвечаю ответственно, нет. Как же так? Он и сейчас в топ-списках петербургских деревьев значится!.. Всё. Спилили. Три года назад. Устарели топ-списки.)
…Однажды увидев корабельные дубы, начинаешь понимать Петра. Кажется, понимаешь, зачем он засаживал большие площади дубами. Вместе — они тянутся к солнцу. Вместе когда — у них прямые стволы. Минимум сучковатости. В Сестрорецке он самолично посадил будто бы двести дубов, а в общей сложности счет посадкам дубов шел там на тысячи. И по дороге в Петергоф сажал он дубы.
Сейчас Шипов лес — это всего лишь остаток огромного дикого лесного массива. Вырубка тут была основательная, особенно в XVIII веке. Насколько я понимаю, главная достопримечательность сегодня — это старейший дуб. Ему — 400. На «идеального» он, пожалуй, не тянет (в кораблестроительном отношении). Тому «идеальному», думаю, подобрали замену. (Постучать по дереву, чтобы не сглазить.)
А еще мы видели дуб-другой с трещиной вдоль ствола. Из трещины источается дубовый сок — он бродит и пенится и привлекает к себе насекомых. Среди них есть необыкновенные — жуки-олени. В Европе, кажется, крупнее нет. От края до края поперек ладони. Падки на алкоголь, на эту дубовую брагу. А когда вечером пролетает над головой неведомым летательным аппаратом, хочется спросить: «Что это было?»
В петербургских парках встречаются скопления дубов, почему бы не попробовать развести у нас жуков-оленей — это я по наивности спрашивал у биологов. Отвечали, что не получится в парках. Нужен лес, дикий. С дубовыми пнями, чтобы личинки жили в трухе. С трещинами на стволах, чтобы радовать брагой жуков, — без нее им никак.
О птицах СПб

Чайки
Левитан, запутавшись в женщинах, с досады застрелил чайку. Все остальное — Чехов. Чайка — живая, летящая над волной, — эмблематичная — не только прославила МХАТ и систему Станиславского, но стала еще, в известных пределах, символом всей культурной жизни Москвы. Чайка, надо признать, символ, скорее, московский, не петербургский, не кронштадтский даже. Черная «чайка» — представительский автомобиль, машина министров. «Чайка» — позывной Терешковой, и хотя он придуман безотносительно Чехова (по легенде, Гагариным), Терешкова, когда выходила на связь, дословно повторяла слова Нины Заречной: «Я — Чайка» (кстати, расстояние между родиной Терешковой и местом, где Левитан застрелил несчастную чайку, 270 километров — по лесам, полям и болотам). А потом — по Москве — Чайка с Хрущевым (и космонавтом Быковским) едут в автомобиле «чайка». Так что птица чайка — это не просто Москва, а советская Москва, кремлевская, «Красная Москва» как бы. В Ленинграде был «Чайка» разве что ресторан. Только город чаек — все-таки Ленинград. И Петербург, но не прежний, XIX века, а сегодняшний, новый. Это может показаться странным — раньше чаек в городе почти не было. Достоевский, переполненный замыслами нового романа, мог видеть их с палубы корабля, на котором возвращался из Копенгагена, но не в самом Петербурге. В Столярном переулке чайки не будили его на заре своими резкими выкриками. Нет у самого петербургского писателя в самом петербургском романе чаек. Да у него их вообще, кажется, в прозе нет, — чайкý попить на каждом шагу предлагают, а чтобы чáйку увидеть, этого никому не дано, — ну вот только в самом начале своих литературных трудов — в самом начале романа «Бедные люди» позволил молодой Варваре Алексеевне детство вспомнить — деревню и озеро с чайкой (не то ли озеро, где потом Левитан застрелит свою?). Только память о чайке героини «Бедных людей» не имеет к Петербургу никакого отношения. Не было в те времена в Петербурге чаек, а если было, то мало — как теперь снегирей. Сейчас как раз озерные чайки — так их вид называется — преобладают в городе. А прилетать они стали в город массово только во второй половине XX века. Когда мусор, включая органические отходы, стали организованно вывозить на специально отведенные места — городские свалки, позже названные полигонами.
Я помню Южную, старейшую и самую крупную свалку, — иначе ее называли в народе Волхонкой — потому что на Волхонском шоссе, напротив Южного кладбища. Статус последних ее лет — полигон твердых коммунальных отходов. Ныне закрыта. Кто видел эту сорокаметровую гору в ее лучшие времена, уже не забудет ни запаха, ни бульдозеров, ползающих по хребту, ни множества птиц. Понятно, оксюморон, но точнее не скажешь: тьмы, тьмы белых чаек.
Чайки на моей памяти облюбовали дворовые помойки и вытеснили с них голубей. Возможно, идет обратный процесс — если судить по нашему двору: вот уже второе лето чайки не кричат у нас по утрам. А кричат они, вообще говоря, диковато для города — словно истерично смеются, — у ворон получается элегантнее.
Чайки и вороны — враги. Воздушные сражения обычно завершаются в пользу чаек — они подвижнее, атакуют сверху. Труп вороны долго висел на телевизионной антенне дома № 22 по Коломенской улице, — был я в гостях, и, сверкая глазами, хозяин показывал мне в окне и рассказывал о воздушном бое над крышей — бились насмерть, и победили чайки.
Но будем справедливы: не все чайки преданы помойкам и свалкам. Чем бы ни были они привлечены в город, многие облюбовали каналы, реки, пруды. В садах и парках озерная чайка может свободно вышагивать по земле, выклевывая червячков и всяких козявок. В белые ночи чайки летают над тополями; орнитологи объясняют зачем: ловят на лету молодых бабочек — ивовых волнянок (чьи гусеницы жрут, помимо ивовых, тополиные листья). Так что есть польза от чаек.
Наблюдал я однажды почти сюрреалистическую картину. На канале Грибоедова (рядом с Домом книги), прямо на воде, две чайки не могли поделить большой кусок мяса. Понятия не имею, как мясо к ним попало, откуда-то умыкнули, не знаю как, но это была вырезка, насколько могу я судить. Каждая, широко разинув клюв и частично уже заглотив со своей стороны кусок добычи, тянула остальное к себе, пытаясь вырвать из клюва соперницы (я застал состязание не с начала). Так они и плавали, и довольно долго, несколько минут, — казалось, это никогда не кончится. Мне, двуногому и без перьев, с высоты набережной было неясно, кто побеждает. Но вдруг одна сдалась — отпустила свою часть и отплыла в сторону. Тогда другая, не выпуская из клюва тяжелую вырезку, грузно полетела над водой, а потом, с трудом поднимаясь, исчезла за поворотом на Итальянскую улицу.
(Только сейчас сообразил, что это все происходило напротив упомянутого ресторана «Чайка», — не оттуда ли вынесли вырезку тотемным животным? Вот, уточнил: «Чайку» закрыли в 2012-м, а наблюдал я это годами тремя раньше.)
Мы же в массе своей думаем, что чайки одной только рыбой питаются.
Но кто спорит, чайка, сидящая на парапете, — это красиво; это, кажется, по-петербургски.
Сизые чайки улетают на ночь из города, озерные здесь остаются.
А еще, бывает, прилетают огромные — серебристые чайки. У них размах крыльев достигает едва ли не полутора метров. Некоторые поселяются прямо здесь. Пишут про них, что способны гнездиться на плоских крышах. На Петроградской я часто встречаю таких.
На высокой трубе бывшей мебельной фабрики постоянно сидит. «Альбатрос», — говорят горожане. Да нет, альбатрос еще крупнее. У нас нет альбатросов. Серебристая чайка.
Ворóны
Петербуржцы в целом ворон уважают. У ворон репутация умных существ. Постоянство в их жизни внушает симпатию, — они могут годами возвращаться на одно и то же гнездо, когда-то построенное на дереве во дворе. И пары они образуют устойчивые; нового партнера выбирают, лишь овдовев. Некоторые петербуржцы серьезно считают, что вороны обладают чувством юмора, да и в самом деле, иногда эти птицы как бы дурачатся. Могут изворотливо дразнить кота или собаку, кататься с крыши, устраивать коллективные игры в воздухе, подбрасывая и ловя на лету палочку. Вороны склонны к экспериментам, иногда, на наш взгляд, абсурдным. Что заставляет ворону повиснуть вниз головой на бельевой веревке? Вот наблюдал буквально вчера, как ворона каркала на автомобиль у нас во дворе: подходила то спереди, то сбоку и постоянно каркала на него, словно отгоняла, а может быть, провоцировала на что-то. А он стоял. Один из многих во дворе. Но чем именно этот приглянулся (или не приглянулся) вороне — загадка.
Петербуржцы прощают воронам интерес к помойкам, злопамятность, мстительность и дурную славу истребителей яиц иных пернатых.
Памятник вороне установлен в Ораниенбауме (сейчас это в административных границах Петербурга): на мраморной скамейке бронзовая книга, а на ней бронзовая ворона, автор книги тоже рядом сидит, бронзовый, — это писатель Николай Шадрунов, прославивший рамбовских чудаков и «психов» («Психи» — так называлась его книга, а Рамбов — народное название трудновыговариваемого Ораниенбаума, который к тому же сейчас Ломоносов), так что памятник по большому счету ему, Шадрунову. Но и вороне тоже. Там еще есть бронзовые воробьи, однако персонально ворона («Красная ворона»), говорят, уже стала новым символом Рамбова.
Это не первый памятник вороне. За полтора века до него бронзовое изображение вороны появилось в Летнем саду, — все правильно, на памятнике баснописцу Крылову. Среди персонажей тридцати шести басен Ивана Сергеевича, окруживших постамент с четырех сторон, есть и ворона, еще не уронившая сыр. И этот примечательный портрет героини хрестоматийной басни мы вправе считать настоящим и персональным памятником вороне, хотя бы потому уже, что строка «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра» претендует на первенство среди самых известных в русской поэзии. А это слава. Да такая слава, о какой ни одна другая птица мечтать не может! Но — тут парадокс. Ворона, с одной стороны, явлена нам во славе своей существом наивным и глуповатым, а с другой стороны, хотя известную мораль мы впитали чуть ли не с молоком матери, все равно остаемся при убеждении, что ворона хитрющая и умнейшая птица: одно дело — литература, другое — жизнь.
Если бы у петербургских птиц была возможность воздвигнуть памятник реальному человеку, можно не гадать, кто был бы их избранником. Конечно, художник Куинджи. И не потому, что Куинджи так любил писать птиц (это в его творчестве далеко не главное), а потому, что просто их любил — сильно и беззаветно. Пернатые знали: по сигналу петропавловской пушки (то есть ровно в двенадцать) надо лететь на угол Биржевого переулка и Тучковой набережной, — там, на крыше, рядом со своей мастерской, он будет ждать их с овсом и белым хлебом. Это не были опыты по изучению условного рефлекса, это была бескорыстная помощь птицам, но узнал бы Павлов о достижениях Куинджи, он, думаю, заинтересовался бы ими. Между прочим, Институт физиологии им. И. П. Павлова уже после смерти художника появится в двух шагах от его мастерской. А в конце XIX века Павлов работал с собаками в Императорском Институте экспериментальной медицины на Аптекарском острове, но вот что интересно: живописец Куинджи мог бы сам справедливо гордиться своими успехами в области экспериментальной медицины, — известно, что он спас голубя, сделав ему трахеотомию с помощью трубочки из пера. Куинджи лечил больных птиц. Дом его походил на птичий лазарет.
На известной карикатуре Щербова «Пернатые пациенты (А. И. Куинджи на крыше своего дома)» Архип Иванович действительно изображен на крыше своего дома в обществе черных ворон, ожидающих медицинской помощи, и почему-то босым. В отличие от серых ворон, черные для Петербурга нехарактерны, хотелось бы думать, что это грачи, но судя по клюву — вороны; оставим их на совести карикатуриста. Одна повернулась тылом к Архипу Ивановичу и задрала хвост, позволяя выполнить деликатную медицинскую процедуру. Себя Щербов изобразил подглядывающим из-за трубы. Похоже, он в самом деле побывал на крыше — много конкретных деталей, да и панорама со Стрелкой Васильевского острова, пожалуй, то, что надо было самому отсюда увидеть. Возможно, прав был Куинджи, когда, по словам мемуариста, жаловался на Щербова, что тот-де подкупил дворника. Карикатура его страшно обидела. До прекращения отношений.
Дьявол, как известно, скрывается в деталях. Пишущие об этой прихотливо выполненной карикатуре дружно утверждают, что Куинджи делает вороне клизму. Похоже на то. Хотя тут всё тоньше. Или грубее. В руках у Архипа Ивановича так называемый шприц Жане, совсем недавно изобретенный. В исторической перспективе шприц Жане (самый большой из всех шприцев) найдет широкое применение. Но уролог Жюль Жане изобрел его тогда отнюдь не для промывания пищеварительного тракта, а для лечения (по «методу Жане») гонореи, — тем и прославился (см. Большую медицинскую энциклопедию). Боюсь, мы недооцениваем брутальный юмор Щербова. Не за себя обиделся Архип Иванович Куинджи, а за ворон.
Как-то вечером, переходя Фонтанку по Обуховскому мосту, наблюдал я странную картину. Вся клиника Военно-медицинской академии чернела от множества сидящих на ней ворон. А вороны все прилетали и прилетали, они садились на деревья, на крышу соседнего дома, они летели сюда большими стаями. Я посмотрел на запад — со стороны Троицкого собора и со стороны Коломны приближались, как-то замысловато кружа, две огромные стаи. Другие вороны летали над крышами в поисках свободного места. Кажется, я никогда не видел столько ворон. Их были тысячи — без преувеличения.
Говорят, вороны собираются вместе, когда им угрожает опасность. Не ведаю, что могло им (или нам) в те дни угрожать, — никаких катастроф не припомню.
Александр Етоев, прочитав в рукописи главу до этого места, загорелся, позвонил мне и рассказал случай — это к вопросу об умственной деятельности ворон. «Я ехал, — говорит, — на маршрутке к себе на проспект Художников — я там тогда жил, — и машина остановилась в пробке на углу Северного и Тихорецкого проспектов. И из окна маршрутки я наблюдал следующую картину. Вороны (стая, особей где-то с десять) преследуют кошку, причем не взлетают, а вышагивают рядом с ней и каркают громко. Кошка огрызается на них, но отступает. А на Тихорецкий с Северного сворачивает уборочная машина, ну такая, у которой щетки внизу вращаются, едет медленно, потому что уборочная. Так вот, вороны образуют полукруг и загоняют кошку под эту машину, под вращающиеся щетки. Не знаю, чем это кончилось, маршрутка выехала из пробки, но думаю, что одной кошкой стало меньше в городе Петербурге».
Вот-вот, и я про то же. А может быть, под тем автомобилем у нас во дворе как раз кошка сидела? (Ну, я выше рассказывал…) И это на нее ворона каркала?
Или вот.
Мы переехали на Карповку. Окна во двор. Под утро кричат чайки, каркают вороны. Воюют друг с другом. Днем ведут себя тише.
Однажды вечером услышал громкое карканье за окном (я был в комнате, сидел перед компьютером). Каркали не одна и не две, что-то у них случилось; я все думал, что затихнут когда-нибудь, а они продолжали с нарастающей возбужденностью. Наконец не выдержал, подошел к окну, отдернул занавеску. У самого стекла промчалась ворона, тут же — другая; множество ворон летало по двору. Я пошел на кухню и все понял. На самом деле — ничего не понял. Просто понял причину этого гвалта, и только. У нас за окном, примыкая к торцу дома, тянется забор, отгораживающий от двора территорию предприятия, над ним спиралевидный барьер из колючей проволоки. И вот внутри этой спирали, зацепившись крылом за колючку, висит ворона — без признаков жизни. Над ней пролетают сородичи. Им, однако, страшно приближаться к этому месту — именно к той части барьера, где висит тушка несчастной, — подлетая к нему, они резко подают вверх. Иные сидят в отдалении на крыше, другие поближе — на крыльце флигеля. Но и те, кто поблизости от мертвой вороны, тоже, при всей их смелости, осторожничают: делают несколько шагов к ней, каркают в ее сторону и сразу же подают назад, словно от этого места даже на расстоянии исходит для них опасность. Грай ужасный стоит.
Что же это все означает? Не понимаю. Прощание с товарищем? Проклятия неведомому врагу в образе спиралевидной колючки? Грай-мольба — обращение к вороньему богу? Грай-плач?
Это продолжалось до ночи. Утром стояла тишина. Дохлой вороны не было. И живых ворон — ни одной.
Несколько лет в нашем дворе не появлялось ни одной вороны.
И еще о слете ворон (вписывая задним числом сей абзац, свидетельствую о событии). 31 декабря 2019 года вечером под Новый год слетелись они на Карповку к местам моего теперешнего местожительства. Разместились в большом числе на ветвях деревьев и крыше завода «Дизель», что рядом с Иоанновским монастырем, но на самом монастыре замечены не были. Ворон не считал, но было их много. Порой они взлетали значительным числом — и снова садились. Встретили новогоднюю ночь на местах дислокации — первым утром 2020-го, выйдя из дому, я этот слет еще наблюдал, отгоняя мысли о дурных предзнаменованиях. Улетели в массе своей. Жизнь идет своим чередом.
Шел я как-то в начале июня по Каменному острову, там на деревьях вороны. Одна что-то прокаркала, а я имел глупость каркнуть в ответ (два или три раза — мне показалось, что получилось реалистично). Что с нею стало! Она изошлась в карканье. Взлетела, стала кружить надо мной. Я уходил не торопясь, но это ее мало устраивало. Она сделала большой круг и стремительно спикировала, целясь мне в голову, — я успел наклониться, она коснулась крылом моей головы. Вышла еще на один круг, выбрала угол атаки и понеслась на меня — я едва успел присесть в последний момент, а далее — далее отступил самым позорным образом: я побежал. Кажется, она меня не преследовала.
Что ж, в конце мая — начале июня вороны, оказывается, могут нападать на людей, причина — защита птенцов. Притом что сами вороны способны быть каннибалами и воровать яйца у себе подобных.
Но своих родных воронят они по-родительски опекают до самого половозрелого возраста.
Семейные ценности, ёшкин кот!
Воробьи
Оказывается, есть Всемирный день домового воробья, и отмечается он 20 марта.
Утверждается, что в первые годы тысячелетия замечено сокращение численности воробьев во всех крупных городах мира. Одной из возможных причин называют стрижку газонов и, как следствие, исчезновение насекомых, которыми воробьи кормят птенцов. Другая возможная причина — излучение антенн сотовой связи. Думаю, сотовая связь влияет и на воробьев, и на тараканов, и на людей, но справедливости ради — воробьи стали исчезать еще до появления мобильных телефонов. И до того, как пришла к нам мода стричь газоны.
Рад буду, если меня опровергнут, но первыми проблему с численностью воробьев заметили герои моей пьесы «Дон Педро», написанной в 1993 году, когда мобильных сетей у нас не было и газоны не стригли.
«Григорий Васильевич. Вы заметили, воробьи совершенно пропали… Раньше где голуби, там и воробьи… А теперь где воробьи?.. Вымерли, что ли?
Антон Антонович. Действительно… Я не обращал внимания…
Григорий Васильевич. Китайцы всю культурную революцию воробьев истребляли… и все без толку!.. А мы — раз-два и нет воробьев…»
На самом деле два пенсионера ведут абстрактный разговор о политике, а воробьи пришлись к слову, но, согласитесь, это не отменяет ценности свидетельства. Признаюсь честно, я горжусь этой ранней регистрацией воробьиного неблагополучия в экологической системе большого города.
Вот такие пенсионеры, как Григорий Васильевич и Антон Антонович, кормящие на скамейке голубей, и должны были первыми отметить уменьшение численности воробьев. То же надо сказать о наблюдательности потребителей крепких напитков, предпочитающих свежий воздух замкнутому помещению: где бы они ни останавливались — на детских ли площадках, на задворках ли общественных учреждений, всюду были готовы поделиться крохами своей нехитрой закуски с местными воробьями, которые непременно должны были откуда-нибудь появиться. И вдруг — стали воробьи исчезать. И кто бы другой это заметил?
В семидесятые годы, по оценкам орнитологов, было в городе около полутора миллионов домовых воробьев. Больше, чем любой другой птицы.
За неделю на Петроградской встретил лишь четверых — в скверике около станции метро «Чкаловская» (специально стал присматриваться, перемещаясь по городу). Правда, знакомый математик повесил в «Фейсбуке» две фотографии — селфи с неадекватным воробьем: прилетел к нему на балкон и сел на руку. Это что-то из ряда вон выходящее. (Васильевский остров, улица Кораблестроителей.) Потом оказалось, что воробей перелетел к нему с соседнего балкона, птенец, — его утром соседка подобрала в траве и принесла домой, но что-то не устроило воробья в той квартире. Математик возвратил птицу. Спустя день пишет: «Вечером столкнулся с соседкой на улице. Она так и ходит с этим орлом. Орел приветственно чирикнул и походил по моей макушке».
Голуби
Голубей в блокаду не было. Нет, их не съели — съели кошек и собак. А голуби первыми почувствовали беду и — улетели из города. Массово стали возвращаться лишь к середине пятидесятых.
Ленинградцы относились к голубям противоречиво. Да и петербуржцы — тоже. Одни питают к ним нежность и кормят их. Другие презирают — «грязная птица»; считают разносчиками орнитоза.
Речь о городских голубях, «помоечных». Голубятни я уже не застал.
Когда случалось ночевать на верхнем этаже старого дома с окном во двор под склоном крыши, трудно было привыкнуть к неожиданно громкому гулкому воркованию, напоминающему о каком-то потустороннем присутствии.
Известно, что голуби любят памятники. Но петербургские голуби, мне кажется, любят особенно преданно. Хотя далеко не все памятники. Например, на аникушинском памятнике Ленину, что возвышается над Московской площадью, вы вряд ли увидите голубя, а вот на опять же аникушинском Пушкине (площадь Искусств) всегда сидит голубь, да еще не один. Мне кажется, этот бронзовый Пушкин для голубей самый притягательный в городе, — иногда на вытянутой руке располагается по четыре особи, а всего на этом памятнике в иной день можно увидеть до восьми голубей. Обычно сидит голубь на бюсте Маяковского (улица Маяковского), на голове памятника Попову (Каменноостровский проспект), а вот Плеханова у Технологического института голуби игнорируют. Моя гипотеза такова (если будет подтверждена репрезентативной выборкой наблюдений, можете назвать «принципом Носова»), она несложная: голуби предпочитают те памятники, рядом с которыми есть скамейки, — любой присевший на городскую скамью — потенциальный кормилец голубя.
Когда-то очень давно, в пору моих первых литературных опытов, понадобился мне персонаж второго плана, одержимый какой-нибудь курьезной идеей. Чтобы он, допустим, ходил по инстанциям со своей идеей, а от него бы все отмахивались. Идею для него я придумал такую: надо изготовить шапочки вроде тех, в которых плавают в бассейнах пловцы, но чтобы из них торчали палочки, похожие на зубочистки, только чуть покрупнее (можно с внутренней стороны пробить гвозди, острием, стало быть, вверх, а шляпками вниз), эти шапочки необходимо надеть на петербургские памятники. Тогда голуби не будут садиться на памятники. Самому мне эта идея показалась очень смешной, чудаковатой, и хотя сочинение так и осталось ненаписанным, я от персонажа с его курьезной идеей решил не отказываться, держал его в уме для будущих замыслов. Но вот случилось мне очутиться в Италии, в Милане. Поднялся я на крышу собора Рождества Девы Марии и увидел с изумлением, что в Европе уже давно подобное практикуется. На головах многочисленных статуй, украшающих собор (если посмотреть на них сверху или сбоку), леса таких «зубочисток», — и голуби действительно на них не садятся. А может быть, написать все-таки? — как он ходил по инстанциям и все над ним посмеивались? — а потом он приехал в Италию, а там тебе раз — Европа! Ну и что-то еще. Надо подумать. В отличие от своего до конца не проработанного персонажа, я идеей этого изобретения одержим не был, по инстанциям не ходил и не объяснял пользу идеи. А то, что меня в Италии обошли, — пусть. Но странно мне, что за все эти годы так и не позаимствовали наши чиновники, ответственные за чистоту памятников, этот зарубежный опыт, — не один же я ездил в Европу.
Возможно, у нас к голубиному помету относятся так же, как к исторической патине.
Глава похвал

Похвала поребрику
«Поребрик», «греча», «парадная», «карточка»…
Если продолжать ряд в ином направлении, можно дойти до Новой Голландии и Эрмитажа.
Говорят, «поребрик» — слово исключительно петербургское. Это не так. Еще в советские времена отмечалось в энциклопедии: «Поребрик — разновидность орнаментальной кладки…» Другое дело, что в Петербурге под словом «поребрик» понимают совершенно не то. Здесь не надо задирать голову и разглядывать кирпичную кладку, чтобы увидеть поребрик, достаточно посмотреть под ноги, вернее, вниз и направо, если вы идете по четной стороне улицы в сторону возрастания номеров домов, или вниз и налево — если в ту же сторону по нечетной.
Отчаянная попытка сближения двух столиц была предпринята в год переименования Ленинграда; именно тогда Москва в лице соответствующего министерства, вроде бы восприняв ленинградскую традицию употреблять слово «поребрик», решительно и смело утвердила ГОСТ 6665-91 «Поребрик тротуарно-бортовой». Не будем преувеличивать ликование петербуржцев, тем более преждевременное. В тот же год великая держава прекратила существование, а вместе с ней рухнула единая система стандартизации. Призыв употреблять слово «поребрик» в петербургском смысле не был услышан россиянами. В эпоху безудержной суверенизации каждый оставался со своим: Москва — с «бордюром», Петербург — с «поребриком».
Как элемент городского ландшафта, поребрик (или то, что понимают под «поребриком» петербуржцы) для Северной столицы имеет значение, пожалуй, особое. Улицы в Петербурге, известно, прямые, словно начерчены по линейке (недаром на Васильевском острове — «линии»). Прямота, линейность визуально задаются поребриком. Поребрик обозначает перспективу, ее строгую геометрию. Параллельные поребрики сходятся в бесконечности.
Поребрики прерывны. Обрывают их не только перекрестки, но и часто — выезды из подворотен (москвичи, наверное, сказали бы по-другому). Если поребрики нанести на карту Петербурга, она будет испещрена пунктирными отрезками прямых. Так, пунктирно, обычно изображают что-либо невидимое глазом, например подземные коммуникации или условные маршруты чего-либо и куда-либо. Вот и реальный — в натуре — поребрик не замечается взглядом, если не посмотреть нарочно; всегда сбоку, он не привлекает внимания; петербуржцы свыклись с поребриками.
Однако, зацепившись взглядом за поребрик, нетрезвый человек способен идти в режиме автопилота, отмеряя прямыми отрезками путь до дому.
Поребрик — это граница, край. Шаг в сторону — и вы, покинув пешеходную периферию, вступаете на территорию магистрали. Водитель, со своей стороны, всегда волен прекратить движение и припарковаться у поребрика, а то и въехать на него, если позволяют высота поребрика и персональная дерзость водителя.
Паребрик — всегда ступенька. По сути, поребрик — частный вариант лестницы; ее высота — всего лишь одна ступенька, но зато неимоверно широкая.
Лестница — которая всегда под ногами, по какую бы сторону поребрика ты ни стоял.
Похвала трамваю
Долгая поездка на трамвае более всего похожа на путешествие, а в СПб — еще и путешествие по времени. А может, и в инобытие путешествие — у кого как это получается, Гумилев это ощущение выразил первым…
С другой стороны — трамвайный путь предопределен. Движение автобуса, как бы строго водитель ни придерживался маршрута, все равно зависит от его воли, — он может, хотя бы теоретически, свернуть в любой переулок. Некоторые испытывают страх, когда их перевозят по, допустим, Троицкому мосту, — а вдруг водитель сумасшедший и свернет в Неву? Пассажир трамвая в этом отношении может быть спокоен. Он менее подвержен паническим атакам.
Трамвай — это сама основательность. Кажется, рельсы проложены навсегда. Трамвай внушает уверенность. Вас довезут. И довезут известным путем. Ликвидация трамвайного пути означает трещину в бытие: что-то происходит неверное, мир теряет устойчивость.
Три копейки — цена проезда на трамвае держалась десятилетиями и понималась как мировая константа. Мы привыкали к трамвайному быту, и любое его изменение переживалось как смена эпох. Кондукторов прежних времен я не застал. При мне менялись виды кассы. Помню, были — бросаешь денежку в щель на транспортер, — крышка кассы прозрачная, всем видно, что туда бросил, — сам откручиваешь, сколько надо билетов (если ты не один), и отрываешь легким движением руки; — полагаю, это началось в хрущевскую оттепель, от строителей коммунизма ждали только роста сознательности. В поздний же застой (по опять же позднему определению) появились кассы, позволяющие откручивать всего лишь один билетик, дабы никто уже не злоупотреблял благородным чувством коллективизма. Потом ввели талоны, которые можно было купить в киосках Союзпечати, где вместе с газетами, шариковыми ручками и календарями продавались еще и толстые журналы с возвращенной литературой: вошел в трамвай — прокомпостируй талон: то была перестройка.
Трамвай — это зрелище, это кино: глядите в окно и что-то за окном происходит. Вы принадлежите этому миру — он вам предъявлен. Все хорошо.
Впрочем, ничего там не происходит за окном — все то же самое, что и в прошлый раз. А если ничего нового нет за окном, вы просто ждете. Отрешенность — обычное состояние пассажира трамвая. Трамвай располагает к легкой медитации.
Водитель трамвая величался красивым словом «вагоновожатый».
В трамвае бывают свои эксцессы. Самые яркие трамвайные типажи ушли в прошлое, и мы знаем о них по литературе и кинематографу: трамвайный хам, трамвайный вор. Оба связаны в известной степени с толкотней в трамвае. Сейчас петербургские трамваи чаще всего полупустые.
Сюда же надо отнести трамвайных вампиров, легко провоцирующих конфликт, бессмысленный спор. Мастера выяснять отношения тоже теряют уверенность в условиях малолюдства.
В трамвае культивировался особый вид городского сумасшедшего: трамвайный декламатор. В годы исторических переломов такие откуда-то появлялись. Он мог что-нибудь выкрикивать, громко прорицать, читать стихи, просто громогласно нести околесицу. Ему требовалась публика. Этот вид делился на два подвида — те, кто жаждал еще и общения, и те, кому было достаточно, что его слышат.
P. S. Из дневника
Ехал с женой и Митькой в трамвае. Водитель оказался разговорчивым, произнес экспрессивный монолог в связи с нерасторопностью пассажира на задней площадке. От души. А пассажир в ответ на весь трамвай: «Правильно! Я сам работал контролером!» И давай о том, что надо друг друга любить. «Я директор театра бомжей! Вот послушайте!» Стал стишки читать брутальные. Кепку снял. Мы выходили, я бросил в кепку, он очень обрадовался.
Похвала брандмауэру
1
Под «брандмауэром» нам хочется понимать глухую стену дома, не позволяющую возможному пожару перекинуться на соседнее здание, вплотную к ней пристроенное, если таковое в принципе есть.
А если нет пристроенного здания, а есть просто глухая стена, все равно нам хочется называть эту стену брандмауэром, что мы и делаем — называем.
Работники жилищного хозяйства скажут, что это неверно. Брандмауэр — это только часть той глухой стены дома, которая возвышается над пристройкой.
Нам этого мало.
Для обычного петербуржца глухая стена дома — вся целиком — уже брандмауэр.
Пусть будет так.
Брандмауэры — особенность Петербурга.
Реликтовое эхо петровских указов.
Недаром их любят художники.
Брандмауэр, глухая стена, — собеседник невротика, уныло смотрящего в окно. И сам же лапидарный ответ на вопросы, которые этот уставившийся на него мыслит вечными, вечными, вечными!.. — будто здесь всегда возвышались брандмауэры, — о смысле жизни, о причинах долгов и, главное, о перспективах.
Брандмауэры — напоминание о бренности бытия, но также о мощи сопротивления времени.
Брандмауэр — задник дворового театра. Театральные формы любые подойдут для брандмауэра, но лучше всего — пожалуй, малые формы. Скетч, пластическая композиция, фарс. Иной интерактивный зритель готов вызвать полицию.
Театр теней, театр абсурда, добротный реалистический театр…
Снесенный дом оставляет на брандмауэре соседнего здания контур своего прекращенного пребывания — последний материальный след своего петербургского бытия.
Брандмауэры не терпят насилия: несанкционированные окна выглядят преступлением против стиля и смысла. Но это на внешний, эстетский взгляд. Когда вы внутри старого дома и ваш коридор упирается в стену, хочется прорубить окно. Однако нельзя. Редкий случай, когда закон не только на стороне безопасности (в данном случае пожарной), но и на стороне стиля.
2
Я не сторонник идеи облагораживания брандмауэров стрит-артом — тем более официальным, заказным.
Не надо отягощать брандмауэры картинками — изображениями летательных аппаратов, сказочных богатырей, представителей флоры и фауны. Некоторые полагают, что монументальная живопись способна одухотворить брандмауэр и даже превратить его в предмет искусства, в памятник высокой культуры.
Петербургские брандмауэры и без того имеют историческую и культурную ценность, и я рад, что это признали официально на уровне Законодательного собрания города. Но коль скоро мы затронули тему изобразительного искусства, заметим, что петербургские брандмауэры и в этом отношении тоже артефакты самодостаточные. Что-что, а культурному контексту они способны отвечать непринудительно — без навязывания фигуративных изображений их масштабным поверхностям. Почему бы нам не вспомнить о супрематизме? Не на петербургские ли брандмауэры в свое время заглядывался Малевич?
Отец супрематизма (цитата из книги о нем Ксении Букши) утверждал: «У меня — не живопись, а цветопись, я покрываю цветом всю плоскость, чтобы луч зрения имел ровно одну опорную точку и глаз не „увязал“ в разных пространственных расстояниях».
Петербургский брандмауэр — естественный аналог этой «цветописной плоскости» в мире предметности.
На восходе или закате, если он обращен к лучам солнца, он оживает ровным, тревожащим душу свечением.
Тень на нем от соседних построек — прямые линии, отчетливый контур, углы — образец визуальной лапидарности. Не отсюда ли «Черный квадрат»?
Серьезно говорю: отсюда.
От июльских впечатлений 1913 года, когда Малевич, приехавший в Петербург, искал «опорную точку» для «луча зрения».
Убежден, что роль петербургских брандмауэров в мировой культуре недооценена.
Мне кажется, он кое-что подсмотрел у петербургских брандмауэров еще до того, как сел в поезд на Финляндском вокзале, чтобы отправиться к станции Уусикиркко, ныне это поселок Поляны. «Первый всероссийский съезд баячей будущего» — под таким названием вошла в историю авангарда встреча трех баячей-футуристов — Крученых, Малевича и Матюшина на даче последнего. Можно представить всех троих на веранде; стол, самовар, — футуристы решают поставить на сцене оперу «Победа над солнцем».
Малевич ответствен за костюмы и декорации.
Скандальное представление состоялось 3 и 5 декабря в луна-парке на Офицерской улице.
Через два года Малевич создаст свой знаменитый «Черный квадрат», но началом супрематизма объявляет 1913 год, когда он изобретал костюмы и декорации к «Победе над солнцем». Будто бы уже тогда черный квадрат изображался на занавесе (так ли оно, никто, кроме него, не помнил). Он писал Матюшину: «То, что было сделано бессознательно, теперь дает необычайные плоды».
«Плоды» — не наша тема. И чем им тогда солнце не понравилось — не наш вопрос. Но он сказал «бессознательно». Нам интересно, к чему же бессознательно обращался художник.
«Бессознательно» — значит сам не знал к чему.
А мы знаем к чему: к петербургским брандмауэрам.
Малевич — южанин, проживал в Москве: где бы еще он увидел такие обширные вертикальные плоскости? — только здесь, в городе брандмауэров — в Петербурге.
Надо заметить, в те времена брандмауэры занимали в городском пейзаже столицы более явственное место, чем в нынешнем Петербурге. Сейчас исторический вид на глухие стены во многом снят уплотнительной застройкой. Но даже Достоевский, который заставил своего Раскольникова устроить тайник под камнем перед глухой стеной, не знал таких глухих стен, какие видел Малевич. При относительной разреженности застройки (относительно наших лет) воздвиглись громады новых зданий со своими противопожарными стенами; у старых доходных домов надстраивались этажи, отчего значительно возрастала площадь брандмауэров. Нет, в начале века Петербург был действительно градом брандмауэров, и Малевич, враг линейной перспективы, глазами художника-футуриста видел это: как раскалывается пространство голыми гладкими плоскостями.
Глухая стена — устойчивый мотив позднего Малевича («Красный дом», «Сложное предчувствие», «Бегущий человек»).
А что до черного квадрата, изображенного на занавесе, Малевич скажет: «В опере он олицетворял принцип победы». Но тогда победу над солнцем, над жаром, над огненным кругом этот черный квадрат олицетворил не иначе как победой брандмауэра.
Чуть-чуть о каналах

Не теряй бдительность, срезая путь
Далеко не каждый петербуржец может точно отличить главные после Большой Невы невские рукава — Малую Неву, Малую Невку, Большую Невку, Среднюю Невку — где какая и чем между собой различаются.
Между тем с реками не столь полноводными дело обстоит проще, — трудно представить человека, способного перепутать Мойку с Фонтанкой или, например, Смоленку с Черной речкой. Хотя за ту же Мойку с непривычки можно легко принять канал Грибоедова, они рядом. Скажем, если вы впервые попали на Казначейскую улицу и заметили, что этот короткий проезд двумя концами выходит на набережные, сможете задуматься: Мойка — с какой из сторон? А нет ее. И там и там канал Грибоедова, — просто он делает тут загогулину, демонстрируя себя с двух сторон улицы…
Та же история с Малой Подьяческой. Да и со Средней Подьяческой то же. Обоими своими торцами они упираются в набережную одного и того же канала Грибоедова. Постороннего гуляку, впервые посетившего эти места, такая топология может легко сбить с толку.
Один мой знакомый, гость Ленинграда (еще в те времена), вознамерился самостоятельно посетить Юсуповский дворец, где убили Распутина. Он примерно знал, как ему идти от станции метро «Площадь Мира» (от теперешней Сенной площади) — как попасть оттуда на Мойку, к Юсуповскому дворцу. В зону топологического риска он вступил со стороны Садовой, перейдя канал Грибоедова по Кокушкину мосту, ну по тому, на котором Александр Сергеевич Пушкин, себя с этим мостом рифмуя… (нет, автор, вперед, вперед! — никаких литературных ассоциаций!..) в общем, повернул, значит, наш товарищ налево, что было правильно, и пошел по набережной канала, с тем чтобы свернуть направо у Львиного моста (деревянный мост со львами — хороший ориентир), а там уже и Мойка близко. Но, пройдя по набережной канала всего-то полторы сотни шагов, он было собрался пересечь примыкающую справа улицу, короткую и прямую, как спичка: пригляделся, а там в конце ее — еще одна набережная. Раз он стоит на набережной канала Грибоедова, то набережная на другом конце улицы — явно другая какая-то (это ж логично), а какая может быть еще другая, кроме набережной Мойки? Что тут у канала излучина, ему в голову не пришло. Короче, согласно нашей поздней реконструкции обстоятельств этого недоразумения, он решил сразу на Мойку попасть — коротким путем, а уже по ней, вдоль по Мойке, свободно прийти к Юсуповскому дворцу. Так и пошел и уже через две минуты был на набережной, только не Мойки, а все того же канала Грибоедова. Теперь он шел в обратную сторону, удаляясь от Юсуповского дворца, думая, что идет вдоль Мойки, тогда как это был все тот же канал Грибоедова, — шел и приглядывался к доходным и прочим домам, пытаясь разглядеть искомый дворец. Наконец ноги его привели к зданию бывшего Ассигнационного банка (архитектор Джакомо Кваренги). Вот он, Юсуповский, решил мой знакомый (надо заметить, этот памятник классицизма действительно похож на дворец). Университет, занимающий и поныне здание, тогда назывался Ленинградским финансово-экономическим институтом им. Н. А. Вознесенского, вход в те времена был в институт свободный. Мой знакомый зашел за ограду, осмотрел хозяйственный корпус, проник в историческое здание (правда, связанное не с той страницей истории), совершил прогулку по долгому дугообразному коридору бывшего банка, заглянул в некоторые учебные аудитории и служебные помещения. Обитатели этих пространств показались ему неприветливыми, — на разговоры о Распутине они не велись, словно что-то скрывали; в конце концов определенное представление об убийстве Распутина он составил себе самостоятельно. Потом он делился со мной впечатлениями о посещении Юсуповского дворца, и у нас был трудный, сбивчивый и очень странный разговор в лучших традициях абсурдизма. Мы, как два умалишенных, упрекали друг друга в искажении реальности, я восклицал: «Не может быть!» — а он повторял: «Своими глазами!»; мы словно говорили о разных городах, отраженных друг в друге, как в кривом зеркале. Что-то стало проясняться, лишь когда он упомянул о «крылатых львах», расположенных на мосту перед «дворцом», стало быть, перед Банковским мостом с грифонами, который он принял за Львиный мост (помнил, что Львиный должен был служить каким-то ориентиром). И все равно он еще долго не хотел признавать, что был не в Юсуповском дворце; он просто отказывался верить, что в этом городе можно, как в лесу, заблудиться, — ведь улицы прямые. А я сам ночью, вместо того чтобы заснуть, прокручивал в голове возможные траектории тех невозможных перемещений, все разобраться хотел, где обманул его канал Грибоедова, — как это: шел налево, а попал направо? Хорошо, моя голова не лопнула. Истинная правда, этот город способен на странные шутки.
Между прочим, некоторое сходство этих двух пешеходных мостов через канал Грибоедова — Львиного и Банковского — в прошлом побуждало к более драматическим недоразумениям. Дело в том, что в советские времена у Львиного моста собиралась небольшая, но весьма достопримечательная толкучка, очень специфическая, — здесь происходили съем и сдача жилья. Разумеется, неофициальные. Случалось, что иной приезжий путал мосты и, вместо того чтобы прийти к обыкновенным бескрылым львам, шел на другой конец канала — ко львам с головами орлов и золочеными крыльями. Стоял он рядом с грифонами у такого же деревянного мостика и не мог глазами найти, кто бы сдал ему жилье на время. А мимо только студенты шли в свой Финансово-экономический институт…
Так что вот. В самом деле, канал Грибоедова довольно извилист: соединяя Мойку с Фонтанкой, он приближается то к Мойке опять же, то опять же — к Фонтанке. Вообще говоря, обычные каналы с присущей им прямолинейностью так себя извилисто не ведут, но ведь русло этого следует по изгибам Кривуши, блаженной памяти тихой речушки (иначе Глухой), изначально вытекавшей из безымянного болота. В середине XVIII века эту Кривушу с другой стороны иссушаемого болота соединили с Мойкой прямой канавой, — над образовавшимся водным соединением двух рек (Мойки и Фонтанки) следовало еще поработать, — канал получился если не со стоячей водой, то с очень слабым течением. Во времена Достоевского он уже гордо назывался Екатерининским каналом — в честь императрицы, при которой был в значительной мере переоборудован и благоустроен, однако в романе, прославившем его берега, именуется однозначно «канавой», просто «канавой», — какое уж тут благоустройство!.. Да он и был, по сути, сточной канавой. Слава прогрессу, в XX веке проблему стока решили, но уже на моей памяти канализационная тема напомнила о себе в городской мифологии: стали вдруг поговаривать, что-де не в память писателя Грибоедова назван канал Грибоедова, а по фамилии другого Грибоедова, который отличился по части не литературы, а строительства. Не помню, от кого это слышал (или где читал), но одно время и мне довелось тешить себя тем, что обладаю неочевидным краеведческим знанием, — однако, как оказалось, ложным в итоге. Нет, военный инженер Грибоедов действительно был, это не выдумка: Константин Дмитриевич Грибоедов (1869–1913), видный специалист по канализационным сооружениям. Умер он за десять лет до того, как переименовали Екатерининский канал, и тут уже не поспоришь — в честь его однофамильца-писателя. Все-таки так. «Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга», вышедшая в 2002-м, развеяла последние сомнения: бывший Екатерининский канал, оказывается, с 1923-го по 1931-й назывался, что было забыто, каналом Писателя Грибоедова (именно: Писателя Грибоедова!). Ссылки на соответствующие постановления приводятся, вопрос закрыт. Хотя все равно странно — не принято у нас именами писателей называть каналы (Беломорско-Балтийский канал имени Сталина — вот это я понимаю!). Так и хочется спросить: большее отношение к этой нашей бывшей Кривуше все же кто имеет из двух Грибоедовых?
Константин Дмитриевич, говорят, определенно имел к тому отношение — едва ли не он спас канал от засыпки (был против). А что Александр Сергеевич? Жил рядом. На Средней Подьяческой, неполных два года — когда был молодым.
Что бы мы ни думали об этом, совпадение удивительное: два Грибоедовых на один канал. (На канал Грибоедова!)
Но в Петербурге, как нам уже известно, одно совпадение зовет другое.
В том же доме, где проживал реальный Грибоедов, литературное наше краеведение распознает дом, будто бы описанный Достоевским, — будто бы Алена Ивановна здесь обитала, процентщица, тут их с сестрицей Лизаветой и грохнул Раскольников.
По набережной канала Грибоедова это ныне дом № 104, а по Средней Подьяческой — № 15.
Если верить С. Н. Бегичеву, другу автора «Горя от ума», «план этой комедии был сделан у него еще в Петербурге 1816 года, и даже написаны были несколько сцен» — то есть образы грибоедовских героев тут и рождались, в двухэтажном (тогда еще) доме, который несколько позже основательно будет надстроен — аккурат для Алены Ивановны и Лизаветы.
«Лизанька, служанка» Фамусовых (или просто Лиза), открывающая своим монологом комедию, и Лизавета, прислуживающая сводной сестре, «вечно беременная», уж не в родстве ли они каком-нибудь дальнем?
Не сомневаюсь, что место самого известного литературного преступления, при всей условности этого выбора, будет отмечено памятным знаком. Пока же со стороны улицы установлена мемориальная доска, немногословно оповещающая: «Дом И. Вальха, в котором в 1816–1818 гг. жил А. С. Грибоедов».
Что жил когда-то здесь Грибоедов, Достоевский, можно утверждать с уверенностью, не знал. Доска появилась уже в XXI веке, недавно. Во времена Достоевского никаких именных досок не было, конечно. А вот висела бы такая здесь тем летом 1865 года и увидел бы ее Раскольников здесь на стене доходного дома, сразу бы вспомнил название — это уж всенепременно: «Горе от ума» (три года уже, как текст комедии целиком опубликован, все о нем говорят…). А ведь формула «горе от ума» — это к Раскольникову к самому относится, к его собственной ситуации, к «мозговым играм» его. Тут бы у него и щелкнуло в голове. Горе от ума, горе от ума… Повернулся бы и обратно пошел.
«…воды запить мою отраву…»
Вышли мы как-то с Александром Етоевым из клуба «Грибоедов», что размещается в бывшем бомбоубежище на Воронежской улице, стоим и рассуждаем о странностях Петербурга: вот взять эту же Воронежскую, говорит Етоев (он когда-то здесь где-то кем-то работал), дотягивается она до Обводного канала, а потом через него перепрыгивает и на той стороне продолжается. Да, действительно, никогда не задумывался — одинаково прямая Воронежская и на этой стороне Обводного, и на другой, а моста нет. Наверное, был мост когда-то? Стали проверять: моста никогда не было.
Не было и нет, но как бы есть — как бы, что ли, невидимый.
Мост-фантом.
Не знаю, как в других городах, тоже не обделенных реками и каналами, может, это и в порядке вещей, когда улица без моста перепрыгивает через водоток или без туннеля подныривает под ним, но в Петербурге больше такого нигде не наблюдается.
На самом деле догадаться, в чем дело, труда не составляет большого: просто улица появилась раньше, чем прокопали через нее канал. До того как стать Воронежской, она с конца XVIII века (подсказывает нам «Топонимическая энциклопедия») называлась Средней, потому как проходила посередине между Боровой улицей и Лиговским каналом, старшим братом Обводного, давно закопанным.
Вот если бы засыпали Обводный канал, то и никаких вопросов не было бы — просто одна бы улица пересекала другую.
Кстати, собирались его ликвидировать недавно совсем — уже в нашем тысячелетии, — с тем чтобы соорудить на месте канала широкую магистраль, но не решились: дорого, возни много и куча побочных проблем, не говоря уже о репутационных издержках, — какая же это Северная Венеция, когда без Обводного? Между тем канал давно не судоходен, и лес по нему сплавлять плотами давно уже надобности нет, а от наводнений (еще надежда была) он вообще никогда не спасал. Здешние мистики про него страшные вещи рассказывают и каналом самоубийц обзывают. А обмелел он без всякой мистики за счет осадков на дне, а что там оседало долгие годы и как оно взаимодействовало с самим собой — бытовое с промышленным, никто толком не знает. Когда-то, очень давно, на одном уже не существующем предприятии, выходящем историческим фасадом на Обводный канал, проходил я вместе со своими товарищами-одногруппниками так называемую преддипломную практику, так вот, на тамошнем производстве в прецизионные технологии, рассказывали нам, вносили поправки с учетом загрязнения воздуха другим, тоже ныне не существующим предприятием — с другого берега Обводного. Ну, с воздухом как раз было в целом понятно, химический его состав профильные технологи по необходимости определяли легко, а вот о твердых отложениях непосредственно на дне канала, практического интереса ни у кого не вызывавших, можно только догадываться — что там накопилось за годы. На обывателя, глядящего с набережной, могло произвести впечатление торчащее из воды бревно, но, пожалуй, топляки, которыми был славен Обводный канал, не самое нехорошее, что он скрывал и скрывает… И все-таки мне жалко Обводный канал, не хочу, чтобы его засыпали. Но боюсь, к идее его погребения будут еще возвращаться.
В Петербурге много каналов засы́пали. Меньше, конечно, чем прокопали, но все равно много.
Из всего прокопанного больше засыпанного, чем незасыпанного, — вот как можно сказать. Потому что не все каналы целиком засыпáли, от некоторых оставалось чуть-чуть.
Любили в Петербурге каналы прокапывать, — и засыпáть тоже любили.
Прокопают и засыплют. Прокопают и засыплют.
Первый петербургский канал тоже засыпали. Правда, продержался он 179 лет — дольше иных своих младших собратьев. Поэтому сказать, что все с него началось, было бы некорректно. Однако факт — его нет.
Строили его одновременно с крепостью в 1703 году. Почти ровесник города, канал протянулся по прямой через весь Заячий остров с востока на запад. Служил (поначалу) для осушения почвы, водоснабжения и, главное, подвоза всякого груза, включая строительный и провиант, а также (уже в поздние времена) напоминанием о том, как Петр-царь, бывало, — да под парусом — прямо из Невы подплывал к самой церкви. Впрочем, в начале 80-х годов позапрошлого века особых сантиментов на этот счет не испытывали, — стоило воде хорошо зацвести, канал оперативно засыпали, как водится, строительным мусором и привозной землей да и забыли о нем с непринужденной легкостью. А через век с четвертью фрагменты этого старейшего петербургского сооружения по результатам раскопок и реконструкции предъявили публике в качестве музеефицированных объектов. Можно на них посмотреть.
Лавры старейшего из ныне существующих каналов должны принадлежать Кронверкскому, больше известному как Кронверкский проток, хотя известность тут относительная: этот ров — с какой стороны к нему ни подойти, — повторяющий многоугольный контур Петром созданного Арсенала, — в общем-то, для прогулок не место. Все дело в труднодоступности: как раз подойти к протоку не везде получится, подступы перегорожены, — натурально можно поглядеть своими глазами только на отдельные части канала и уже по этим непосредственным впечатлениям судить о его замечательном зигзагообразии. Сложно сказать, как вышло, что Кронверкский проток, притом что он находится в центре города, оказался на малодоступных (а то и недоступных) задворках чего-либо. С внутренней стороны — это задворки Артиллерийского музея, ощетинившиеся на канал в некоторых местах колючей проволокой; с внешней стороны — это, например, периферия зоопарка — напротив птичника и местопребывания лесного волка (тут, кстати, сквозь ограду можно даже зимой наблюдать на обозримом участке канала огромное скопление вольных уток, не числящихся на балансе данного учреждения), или вот задворки, например, «Мюзик-холла», планетария и большого (в смысле размеров) театра — там еще не пройдешь. Со стороны Каменноостровского проспекта ситуация та же — подступами к этому историческому рву завладели различные организации.
Это похоже на реванш. Кронверкскому протоку словно мстят за его былую приверженность своему функциональному предназначению — быть полевым инженерным заграждением. С наружной стороны водяного рва, по всем правилам фортификации, начинался гласис. На обширной территории долгое время воздерживались от построек и посадки деревьев, она хорошо просматривалась, так что и сам проток был, в общем-то, на виду. В XX веке его принудили стать незаметным. Хотя, может быть, как раз благодаря незаметности, тому благодаря, что не мозолил глаза, он и уцелел, его не засыпали.
Из тех каналов, которых не стало, мне более всего жалко Введенский. Просто жил рядом. Детские впечатления какие-то связаны с ним — с его дощато-бревенчатыми берегами, старым катером, вытащенным на сушу из воды и похожим на мою игрушку, и вагонетками с углем — на эти можно было смотреть до бесконечности, — как они, грохоча, возникают из-за кирпичной стены ТЭЦ и поднимаются по наклонным рельсам… Рядом над каналом громоздится мрачноватое здание Военно-медицинского музея, — когда уже в школу пошел, у нас в классе поговаривали о каких-то страшных экспонатах, спрятанных там в подвале: если кто из неподготовленных увидит их, сразу умрет от потрясения. Обуховская больница, как по старинке называли эту клинику взрослые, — она выходит сюда со стороны нашего дома, — оказывается, еще в середине XIX века пользовалась водой из Введенского канала. Странно, жители этих мест говорили «Введенка», но «Гугл» молчит, не знает такого. Наша Введенка, соединяющая Обводный с Фонтанкой, была, прямо скажем, грязненькой, да и во времена хирурга Пирогова, отменившего здесь повторное использование бинтов, думаю, не сильно чище была, и все равно жалко — канал ведь. Засыпали долго, годами, я из класса в класс переходил — часто этим путем возвращался из школы домой, — взрослел, а он так и оставался ни то ни се. А когда окончательно побежден был канал, получилась улица, слишком широкая для этой части города, словно своей размашистой пустотой ей надо было напомнить, что не хватает чего-то. Евгений Рейн написал стихи, посвященные каналу (вернее, посвященные Александру Кушнеру, но — памяти канала[16]), последние строки:
Если иметь в виду не метафизическое, а реальное устье, то я даже не знаю, в какую тьму впадал Введенский — в Фонтанку, вытекая из Обводного, или наоборот? Надо признать, что вода в канале была стоячая. Но мне всегда казалось, что он втекает в Фонтанку. Как бы то ни было, створ канала прямо глядел на дом, где Пушкин познакомился с Анной Керн…
Однажды я заметил, что ликвидированный Введенский канал продолжает фантомное существование в названии образовавшейся улицы. Тогда как на одной ее стороне надписи гласили: «ул. Введенского канала», на другой — утверждалось прямо и просто, без обиняков, в именительном падеже: «Введенский канал», и все — будто это и есть канал, а не улица.
Все-таки странно, что «Введенский канал» существует в зримом образе обычного проезда, когда самого канала в реальности не существует, равно как нет храма (взорван в 1933 году), по имени которого получил в свое время название построенный рядом канал.
А все потому, что здесь был Семеновский полк (оттого и район — Семенцы) и этот престольный праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы — был у семеновцев полковым. Был бы другой полковой праздник, нарекли бы полковую церковь во имя другого священного события, — иначе бы назывался сегодня этот странный проезд.
Похоже, в советские времена в названии «Введенский канал» религиозный отзвук погас, иначе бы переименовали: ну, Введенский, — что такое «Введенский»? — вроде куда-то «ведет», так на то и канал, ничего страшного, пусть. Хотя почему же, есть на Петроградской стороне Введенская улица — названа тоже по храму (Введенскую церковь снесли в 1932-м), так эту улицу дважды переименовывали — доверяли ей имена и Розы Люксембург, и Олега Кошевого… Все-таки тут дело в другом. Кажется, я догадываюсь. Введенский канал, в силу своей непрезентабельности, загрязненности, неустроенности, фатальной заброшенности, просто не был достоин переименования. Похоже на то.
А что до Введенской улицы на Петроградской стороне, ее историческое название, напоминающее о снесенной церкви, как оказалось, тоже, со своей стороны, способно побуждать к взятию топонимической производной. Вот новый объект — «Введенский». Это отель. Четыре звезды. Девять этажей. Отель «Введенский»[17].
Засыпать канал и сделать вид, что ничего не случилось
Какое бы название ни написали на конверте — «улица Введенского канала» или «Введенский канал», письма, конечно, дойдут, и все же правильным нам дано полагать второе название. По крайней мере, сегодня. Ибо — согласно официальному «Реестру названий объектов городской среды», утвержденному правительством СПб, 06.02.2006, это — Введенский канал.
Не просто засыпать канал, но сделать вид, что ничего не случилось, — можно ли это назвать петербургской традицией? Не думаю. Пока еще рано. Однако фантомный Введенский канал — не единственный топонимический казус.
Есть еще такая в городе как бы улица — Масляный канал. Это в промзоне, на Васильевском. Сам канал зарыт еще до войны, но то, что могло в прошлом считаться его набережной, стало как бы самостоятельной улицей, хотя по статусу это не улица никакая и не переулок, а канал, вернее, именно Масляный канал — канал без канала. Все, конечно, меняется, — полагаю, этот проезд вообще исчезнет когда-нибудь, как бы он ни назывался, и все же в данный момент, когда это пишу, рад сообщить, что, согласно официальному «Реестру», вышеупомянутому, надо его (этот проезд) именовать Масляный канал, и никак иначе. Такой вот канал-фантом. Вроде Введенского…
А когда он был реальным каналом, еще не засыпанным, он по форме представлял собою в плане букву «П» с усеченной второй ножкой, — обе ножки упирались в Большую Неву, образуя таким образом трапециевидный остров, известный как Масляный буян. Хранились на этом буяне вещества, соответствующие его названию. Таковые, все знают, способны легко возгораться, вот и пришлось отрезать этот буян от Васильевского острова с помощью противопожарного канала.
Заметим также, что где у второй ножки буквы «П» усечение, там стоит сейчас превращенный в музей ледокол «Красин», — но это так, для ориентации.
Далее прохода нет, здесь шлагбаум; на бывший буян вас вряд ли пустят.
Новые Нидерланды
«Здесь проходил Адмиралтейский канал. Проложен в 1717 году. Соединял Адмиралтейство и Новую Голландию. В 1844 году заключен в каменную трубу и засыпан. На его месте устроен Конногвардейский бульвар».
Собственно, все главное этой мемориальной доской уже поведано. Установлена она в подземном переходе под площадью Труда на стене под кирпичным сводом, обозначающим створ той самой трубы.
Вроде бы все понятно, хотя, возможно, иной приезжий, прочитавший эту надпись, не совсем поймет, о какой Голландии речь. О Новой Голландии. Не о старой. Остров такой треугольный, тут рядом, — омывается водами Мойки и двух каналов, один из которых, кстати, остаток того Адмиралтейского — не заключенный в трубу. Точнее, два острова — потому что еще одним каналом, нет, строго сказать, водной системой из двух малых каналов и большого бассейна разделена Новая Голландия на две части.
А если приезжий из Нидерландов? Хороший вопрос. Держим руку на пульсе. «Нидерландское правительство приняло решение отказаться от употребления названия Голландия и называть страну исключительно Нидерланды для изменения ее имиджа в мире», — сообщили вслед за «The Guardian» наши новостные каналы (каналы — какое емкое слово!). Видите ли, название Голландия, по мнению нидерландского правительства, ассоциируется прежде всего с такими понятиями, как «наркотики» и «проституция», а это нехорошо, надо с этим кончать. Ну и как же нам быть? Не покажется ли гостю из Нидерландов текст на памятной доске, мягко сказать, неполиткорректным? Это у нас: «Голландия, Голландия!.. Петр, Петр!.. Новый Амстердам, новый Амстердам!..» А получается, Амстердам, старый Амстердам, в который наш Петр влюбился по уши, никакая не Голландия это. Гость из Нидерландов может испытать душевный дискомфорт, когда узнает о существовании Новой Голландии. А еще больше, когда, выйдя из подземного перехода, увидит ее во всей ее красоте и утилитарном величии на той стороне канала — Крюкова канала, тоже загнанного «в трубу», но чуть дальше — под Благовещенской площадью. Ладно Голландия, но почему Новая?
Новая — почему?
Это ж как Третий Рим, — Москва третьим стала, когда второй пал. А тут Новая Голландия… Новая — когда прежняя, старая, предается забвению…
— Так вот чем отличается Петербург от Москвы!..
— Так вот в чем различие и вот в чем сходство!..
Сейчас Новая Голландия — популярное общественное пространство. В здании бывшей кузницы — ресторан. Прежде мрачные помещения морской тюрьмы, прозванной «Бутылкой» за ее круглую форму, предоставлены многочисленным кафе, магазинам, салонам красоты и тому подобному. В доме коменданта разместилась школа креативных индустрий, там и мне довелось выступать как-то, — помню, в то время по стенам этого трехэтажного здания между окон и вдоль водосточных труб волею креативных дизайнеров «ползали» огромные, почему-то розовые улитки, что-то, вероятно, символизировавшие.
Как пространство общественное, новая Новая Голландия — прямая противоположность того, что она собой представляла в прежние годы. Этот искусственный остров был всегда для посторонних закрыт. Всегда — значит с тех пор, как он образовался по пересечению строящихся каналов, с тех пор, как затеяли тут склад корабельного леса. Мне кажется, по сроку закрытости Новая Голландия уступает только Адмиралтейству.
В советское время, да и потом еще — до середины нулевых, островом владели военные. Не буду утверждать, что именно по этой причине в ленинградских путеводителях столь достопримечательное место как туристический объект предпочитали не афишировать. Главное здание института, в котором я учился, располагалось от Новой Голландии менее чем в двухстах метрах, — в этот промежуток (если вдоль Мойки) всего-то укладывался лишь канал (Крюков канал) с единственной набережной, одно здание и одна улица. Но не в той стороне кипела жизнь города, и не туда направлялись выходившие из института; там как раз кипеть было нечему — ниже по течению Мойки начинались тишайшие уголки Коломны. Забрести сюда со стороны можно было только ради эстетических впечатлений. Лишь узкая река отделит вас от стен угрюмо-величественного здания, похожего не столько на склад, сколько на фантастический замок (способ хранить лес «по-голландски» — стоймя, с определенным креном, — требует особых архитектурных решений). И эта арка, избыточно высокая — высоченная арка, дерзко заключающая в себе кусок неба, — арка словно сама для себя, словно не для глаз посторонних, — кирпич и гранитные блоки, — она возвышается над узким каналом, уходящим под ней в неразличимое нутро чего-то непостижимо нездешнего…
А все-таки шла Новой Голландии обшарпанность и заброшенность, была к лицу. И то, что кромка берега перед стеной заросла кустарником и деревьями. И что ветви деревьев над водой нависали. И никому бы в голову не пришло на склоне к воде стричь траву. Странную вещь скажу: ей шло, что никто о ней не заботился.
Но что больше всего меня тогда поражало, вы не поверите. Я скажу: часовой.
Там по высокой траве ходил часовой. С карабином. Средь бела дня.
Ты стоишь на набережной Мойки перед чугунной ажурной оградой, а напротив, на той стороне, в нескольких метрах от тебя по береговой кромке перед кирпичной стеной архитектурного памятника, если правду сказали, утилитарного классицизма — ходит часовой с карабином.
Там был пост у него.
Для чего? От кого он и что охранял? Неужели кто-то мог через Мойку?..
Вплавь? На плоту? На надувной лодке?
Не знаю.
Но был, был. Сам видел.
Скорый мальчик
Лет двадцать назад я слышал от петербургских гидов о мальчике-бегуне. Он зарабатывал тем, что махал руками иностранным туристам, проплывавшим по рекам и каналам Петербурга. Выбегал на мост, размахивал руками, подпрыгивал, склонялся над перилами, издавал звуки радости, привлекая внимание проплывавших под собой туристов, бежал к другому мосту, и там — то же: так и сопровождал свой кораблик — знал, когда срезать угол и где, чтобы, допустим, с Крюкова канала успеть на Мойку.
Своевременно прибегал к пристани, сильно запыхавшийся, и встречал иностранных гостей города, поднимающихся на берег, как старых знакомых. Ему платили.
Надо же, какой спортивный и предприимчивый мальчик…
Я спросил: туристам-то как — им это нравилось?
Трудно сказать. Удивлялись. Они же понимали, что он за деньги.
Сам я ничего подобного никогда не видел. Наверное, это тяжелый труд — так носиться по городу. А корабликов с каждым годом все больше и больше. В белые ночи плывут один за другим.
И вот этим летом увидел такого. Правда, взрослого, не ребенка, но промышлявшего тем же. Поздно вечером (белая ночь) шел я по набережной Мойки от переулка Гривцова и услышал чьи-то вопли со стороны Синего моста. Какой-то оболтус, непохожий на пьяного, прыгал на той стороне у перил, а потом стремглав, не обращая внимания на транспорт, ринулся на эту сторону широкого моста (Синий мост, надо заметить, в городе самый широкий — 97 метров), жизнерадостно проорал вслед выплывающему из-под моста кораблику, и я увидел, что туристы, человек десятка полтора, все, обернувшись, глядят на него, а некоторые послушно машут, отвечая на навязчивые приветствия.
Если бы мне не рассказали о том предприимчивом мальчике, я бы не понял, что происходит. Подумал бы, псих какой-то, городской сумасшедший. Что ему надо? Но я вспомнил о мальчике и догадался, куда рванул этот чувак, промчавшись мимо меня, — там пристань, за Красным мостом, конец водной прогулки, надо успеть получить заработанное.
Господи, какой идиот, думал я, направляясь в другую сторону. Стыдоба какая. Ладно, дети когда, а этому за тридцать порядком. Достойнее с кепкой сидеть или даже клянчить на похороны несуществующей тещи…
Сильно задело. Все во мне возмутилось. Но когда перешел Синий мост и окинул взором площадь — словно видел ее первый раз, словно чужими глазами (иногда так хочется почему-то), — этот памятник, этот собор… на душе стало спокойнее. К чему возмущаться?
Пришло в голову, что этот субъект с его удивительным промыслом — явление все-таки уникальное, а нам уникальности гоже ценить. Он уникален в той же мере, в какой уникален сам город, чья топография задана реками и каналами. Тип (или феномен?) исключительно местный.
Город, ошеломляющий туристов, просто решил предъявить еще одну странность, вот и всего. Может, снизу, с воды, и не так дико выглядит это придурочное выступление (москвичи бы сказали «придурошное»). Когда вы плывете там, внизу, на кораблике, все видится по-другому, я же знаю, я плавал. Город, казалось бы успевший вас к себе приучить, предстает опять незнакомым. Дома видны во весь рост, и вы поражаетесь тому, что наверху не хотело казаться заметным; город раскрывается в ирреальной разверстке — нависая над вами, одновременно раздается, словно распираемый небом. Мосты, иногда похожие на туннели, гулко напоминают о возможности инобытия, и вся ваша водная часовая прогулка в гранитном коридоре берегов — как сон, — ну так что же? — вот вам еще один элемент сновидения. Элемент карнавальной культуры, по-своему оживляющий торжество петербургской строгости.
Камнями с мостов не бросается, на пристани не кусается. Зла не приносит.
Взять Венецию. Там гондольеры.
Они же поют!
И тоже за деньги.
Они поют, а этот бегает.
И между прочим, бегает хорошо.
Он так же хорошо бегает, как поют гондольеры.
И вдруг.
И вдруг я догадался…
Да, мне кажется, я догадался. Это же он!
Тот мальчик!
Только подрос!
То есть вырос, повзрослел… И продолжает работать!
В том же стиле! На тех же водных маршрутах!
Так и будет… Куда ему деться теперь…
Он состарится, а все будет бегать!.. Будет приветствовать приезжих, приплывших, тряся седой бородой, упав животом на перила…
Это судьба.
Тогда все становится ясно. Все объяснимо.
Если не все, то хоть что-то.
Хоть что-то.
Судьба.
О блокаде

1
Слово «блокада» я, по-видимому, усвоил наравне с другими важными словами очень рано — раньше тех лет, которые остаются хоть смутно, но в памяти. Должно быть, слышал в разговорах постоянно «блокада», «в блокаду», «после блокады» — меня окружали блокадники, взрослый мир в нашем городе состоял в основном из выживших и переживших, — и потом, слово «блокада» наверняка в их разговорах выделялось интонационно, что тоже, полагаю, цепляло внимание человечка, пытающегося повторять за взрослыми.
Вероятно, слово «блокада» я усвоил примерно тогда же, когда и название города, в котором живу, — Ленинград (с поправкой на неумение произнести «р»). И потом, уже в памятном возрасте, «блокада» у меня в сознании еще долго связывалась исключительно с «Ленинградом», и больше ни с чем. Блокада — это ленинградская беда, что-то по-ленинградски страшное, о чем не хочется думать.
Когда я плохо ел и капризничал за столом, бабушка, осерчав, говорила, что я бы не выжил в блокаду. Когда оставлял на тарелке, вспоминала блокаду. Небрежное обращение с хлебом — сразу: «В блокаду…»
Говорили обычно «в блокаду» и очень редко «в блокаде». Потому что «в блокаду» — это «когда»; это время, те 872 дня, хотя самое страшное время — зима 1941/42 года, на нее и пришлась бóльшая часть смертей ленинградцев.
«Блокада» и «Ленинград» так тесно сочетались в детском сознании, что само выражение «Ленинградская блокада» могло показаться маслом масляным. Конечно, ленинградская. А какая ж еще?
Приходилось потом привыкать, что «блокады» бывают разные. Континентальная, финансовая, новокаиновая…
2
Сейчас жалею, что не расспрашивал, а когда рассказывали, не записывал.
Что там с яйцом было? Бабушка и тетя, то есть мать и сестра отца… тетя Леля… выбрались на толкучку… и обменяли (что — на что?)… что-то ценное на что-то пищевое, не помню подробностей, на жмыхи какие-то, — но главное вот: они стали еще обладателями яйца, настоящего куриного яйца. Принесли домой как драгоценность и постановили «дать Толику», когда вернется с завода. Положили на стол, на блюдечко, чтобы не скатилось. А кот, еще не съеденный кот, когда никого не было рядом, лапой толкнул яйцо, оно покатилось, упало, разбилось, и кот его съел, вылизав языком дощатый пол. «Толик пришел, увидел и заплакал», — рассказывала мне тетя Леля, и это меня поразило больше всего: не мог представить отца плачущим, впрочем, как и восемнадцатилетним.
Судя по тому, что главный герой этой истории — живой, еще не съеденный кот, случай с яйцом не относится к самому страшному блокадному времени. Худшее было впереди, когда уже кошек в городе не осталось. Кто съел этого кота, в нашей семье не знали, просто он исчез (тут даже язык не поворачивается сказать «его украли»), возможно, кому-то спас жизнь, хотя вряд ли, — в маминой семье (другая история) было два кота, их съел сосед, «дядя Боря», еще в начале блокады; он не выжил.
Другая семейная история связана уже с радостным событием — отец нашел за диваном у стенки каким-то чудом завалявшийся скелет селедки — хребет с хвостом. Это был праздник. Решили с сестрой, что приготовят уху. Накормят мать. Взяли большую кастрюлю («чтобы получилось побольше»), наполнили водой и долго варили находку. Показывали друг другу жиринки на поверхности воды. «Нам казалось, ничего вкуснее мы не ели».
Я не один раз слышал от блокадников эту формулу — «ничего вкуснее не ел». Моя мама, ей тогда было одиннадцать, «ничего вкуснее не видела». Речь идет о куске рафинированного сахара и маленького, в сантиметр квадратный, кусочка шоколадки, которые держал на вытянутой ладони человек в грязной шинели посреди толкучки «где-то за Обводным каналом» (ну я-то теперь знаю где: на месте бывшего Митрофаньевского кладбища). Они ходили туда, мама и ее мама, чтобы выменять (моя старенькая мама уже не помнит, что меняли) плитку столярного клея и употребить ее в пищу (варили и ели). Кусок сахара и квадратик шоколадки на вытянутой ладони ее так потрясли, что и спустя 66 лет она помнит того человека — его шинель и костыль.
(«…К плитке клея дали в придачу кусочек дуранды. Я не знала, что это такое. Но оказалось, это было большое счастье: ее можно долго сосать, понемножку отскабливая зубами, и чувствовать долго во рту вкус чего-то съедобного…»)
Мы куда-то ехали, помню, с отцом в электричке, мне лет двенадцать, я гляжу в окно, в руке у меня билет за проезд (такие были картонки), и отец, который не очень любил вспоминать блокаду, вдруг говорит, что так вот нельзя. Что — нельзя? Ну как я, так держать нельзя. Да нет, все в порядке… просто нельзя было в очереди за хлебом держать, говорит, двумя пальцами хлебные карточки, это все знали — опасно: были такие, кто выхватывал быстрым движением, — выхватит, а ты на холоде и не заметишь, так и будешь стоять. А лишиться карточки — это смерть.
Странно, иногда мне кажется, что отец если и заговаривал со мной о блокаде, то для того, чтобы поделиться каким-то немыслимым опытом жизни — как не лишиться хлебной карточки, как в истощении не замерзнуть. Опыт не умереть в почти ирреальных условиях голодной ленинградской зимы он мне доверял с той же мерой ответственности, с какой предостерегают ребенка от вполне реальных угроз, исходящих от электричества, или огня, или бездомных собак. Как будто я, повзрослев, смог бы иметь дело с машиной времени, да еще не вполне исправной. Он словно предупреждал меня — на случай, если окажусь в том времени и в том-этом городе.
Другое блокадное правило суровой зимы 1941/42 года, тоже мною с детства усвоенное: когда покидают силы на улице, помни, что отдых — смерть. Сел — не встанешь.
Я это слышал не только от отца, об этом говорили, кажется, все пережившие.
Невозможность помочь замерзающему прохожему — постоянный мотив рассказов о блокаде.
Мои родители, уйдя на пенсию, жили в деревне. Отец, когда возвращался в город, делал звонки. Слава богу, было кому позвонить. Телефон — городской, проводной, надо теперь уточнять: стоял — стоял в прихожей, на столике. Отец садился на телефон (скоро язык все эти нюансы забудет); короче, говорил долго, до часу. Помню такой звонок в один из его последних приездов — он позвонил сестре, с которой довольно долго не приходилось общаться (она до этого приезжала к нему как-то на Псковщину). Я сидел за компьютером в комнате, — из прихожей, где телефон, доносилось отцовское «бу-бу-бу», негромкое и монотонное — настолько, что не могло помешать никаким позитивным занятиям. Шло фоном. Только вдруг что-то там изменилось в интонации этого «бу-бу», голос дрогнул, погас — что-то заставило меня отвлечься от экрана и насторожиться. Ясно, они вспоминали прошлое. После паузы отец на что-то ответил: «Помню, конечно. Как же такое можно забыть», — это было сказано, что называется, не своим голосом; а потом последовала тишина. Невозможная для телефонного разговора и слишком внезапная, чтобы разговор так мог оборваться. Я откинулся на спинку стула и посмотрел в дверной проем — все ли там хорошо. Нет, отец, седобородый, седовласый, вылитый Дед Мороз, держал, повернувшись ко мне боком, трубку, прислоненную к уху. Слушал. Тетя Леля ему что-то там говорила, а он слушал и слушал, ни одним словом, ни одним междометием не обозначая свое внимание. Так не говорят по телефону, было что-то жутковатое в этом затянувшемся одностороннем безмолвии. «Особенно последние двести метров. — Когда на Фонтанку. — Думал, что ты умрешь». Он сказал это, и я понял, что сейчас было: она благодарила его за спасение жизни.
Потом, отвечая на мой вопросительный взгляд, рассеянно пробурчал: «Вспоминала. Как мы шли и чуть не замерзла».
Я знал эту историю. Знал с детства еще, когда о блокаде, мне кажется, говорили чаще и откровеннее. Мне ли ее рассказывали, или она запомнилась по разговорам взрослых, не помню. Но как знал? Знал, но забыл. И вряд ли бы вспомнил когда-нибудь, если бы за год или два до того телефонного разговора тетя Леля — это было в поезде — не повторила бы мне ее с подробностями, не столько мною забытыми, сколько мне неизвестными. И это был не просто какой-то рассказ, это был рассказ очень адресный — для меня.
Мы возвращались в город. Она как раз тогда отгостила у моих родителей в деревне, я тоже там был. Последние годы они редко встречались, брат и сестра, а чтобы общаться так долго — неделю почти, этого не было несколько десятилетий. Разговоры о здоровье, болезнях, воспоминания на веранде за чаем, совместный поход за грибами. В тот год было много грибов, к тому же отец знал места. Помню, в лесу тетушка моя почувствовала себя обузой — пожаловалась на «куриную слепоту»: с ее глаукомой она могла пройти не везде, а найти гриб и вовсе у нее не было шансов. Между тем грибов было море. Отец придумал хитрить — он направлял ее, будто бы в обход кочки, прямо на гриб, и она радовалась, различив у себя под ногами шляпу очередного подосиновика, пока наконец эти хитрости не разоблачила. Много шутила, притом что тетка моя понимала: она собирает грибы последний раз в жизни. Ну так вот, мы с ней вдвоем возвращались поездом в город. Через Новосокольники — проходящим, ночным. Сидели за столиком у окна, и она мне рассказывала свою жизнь. Истории в стиле «надо записывать», но я не записывал, а память у меня, к сожалению, оставляет желать лучшего. Только эту, про то, как в первую блокадную зиму шли вдвоем они из пункта А города Ленинграда в пункт Б города Ленинграда, тетя Леля мне не просто рассказывала — передавала. Почти как тяжестью наделенный предмет, с которым не смогу не считаться.
На самом деле история очень простая. Пункт А — где начинаются Обводный канал, отлучающийся от Невы, и Шлиссельбургский проспект (позже назовут проспектом Обуховской Обороны — в память рабочих выступлений 1901 года, а не блокадных событий, как думают многие). Пункт В — квартира на втором этаже, в которой я проживу бóльшую часть жизни, вход со двора (это важно: двор тоже надо пройти — преодолеть расстояние), это все в доме кирпичной архитектуры на углу набережной Фонтанки и Международного проспекта (еще не проспекта имени Сталина, как будет после войны, и тем более не Московского, как сейчас).
Как попали туда, к началу Обводного? Встреча с отцом (их отцом — моим дедом). Результат каких-то военных передвижений, от него сообщили, что он в такое-то время будет там. Сейчас не об этом — как шли назад.
Сначала просто шли — шли и шли по мерзлому Ленинграду. Казалось, что сил достаточно до дому дойти, но на середине пути тетю Лелю стали покидать эти самые силы. Очень захотелось присесть, хотя бы прислониться к стене. «Нет, Леля, нельзя, идем, замерзнешь».
С этого момента повеяло смертью.
Брат и сестра, — текстуальная трудность, как их называть: по отношению к автору текста отцом и соответственно теткой они станут лишь через 12 лет после Победы — когда он родится. Так что автору текста в этот час — минус 15. Лёле — 16. Неизвестно, жив ли еще старший брат Михаил (ему 19), или он к этому часу уже убит на Ленинградском фронте.
Тогда в поезде: «У меня только одно было желание — сесть, я больше ничего не хотела, а он не давал, говорил, дойдем до угла, там отдохнешь, а когда доходили — нет, Лелечка, здесь плохо, дойдем до того».
Еще осенью в городе ходили трамваи. Вдоль Обводного — за Лиговкой (смотрю на предвоенную карту): 19, 25, 27, 31, 41-й. Сейчас они должны стоять на путях, занесенные снегом по самые окна. Трамвайную сеть обесточили на восьмой день календарной зимы — сразу, в момент? — так и застыли кто где.
Пройти мимо трамвая.
Компьютер мне высвечивает на карте кратчайший путь. От А до Б шесть километров. Вдоль Обводного — потом свернуть на Введенский канал. Психологически путь срезается с поворота от Глазовской улицы, но там — обходить строения бывшего ипподрома; в реальности — расстояние то же. На будущих картах — здесь остров зеленого: вечное лето. И где, вообще, был вытоптан снег, чтобы можно было идти?
Не стану прикидываться, что знаю точно маршрут. Хотя тогда в поезде тетка моя называла улицы, перекрестки. Но когда это было «тогда»? Минус шестнадцать, если отсчитывать от сегодня, когда пишется текст. Иногда кажется, что доживаешь чужие жизни. Там был неминуемый перекресток — угол Загородного и Введенки. Можно по Загородному, можно — со стороны Обводного, все едино — один перекресток.
Он сказал, что на углу Загородного и Введенского канала будет, помнишь, скамеечка, дойдем до нее, ну ты постарайся, а там отдохнешь.
Конечно, скамеечки не оказалось.
Дальше она отказалась идти.
Меня обескураживает, нет, бесит само возникновение паразитарного пафоса в текстах о блокаде. Он всепроникновенен, он неминуч — он сам собой заводится в подборе правильных слов, в их порядке, долготе фразы. В претензиях на образность, выразительность, умозаключения, равно как и в отказе от всего этого; и даже в отказе от самого пафоса. Между тем ничего такого не было в их устных рассказах. Я не знаю, как это передать. Не знаю, как передать едва уловимое мерцание уголков рта, которое могло кому-нибудь показаться улыбкой, когда они говорили о том, что видели и пережили.
Я бы не осмелился писать это, если бы знал, что отец жив и может это прочесть. Он не любил фильмы про войну, говорил, что у людей «были другие лица».
Она рассказала мне тогда в поезде, чтобы я знал, что она знает, что он ее спас. Как упрашивал, умолял, заклинал сделать шаг. Целовал, плакал, обещал, обманывал — снова обманывал: вот дойдем до Фонтанки, и, честное слово, там тебе разрешу отдохнуть.
«Вдоль Введенки, вдоль Введенки… где топорщится земля… где поставленные к стенке… коченеют тополя…» — когда-то я так сочинительствовал — не поэтому, по другому и весьма легкомысленному поводу (сейчас вспомнилось вдруг (это ж наши места)).
Вдоль Введенки, вдоль замерзшего Введенского канала они почти что гусиным шагом дошли до Фонтанки. Надо налево и метров двести вдоль корпуса бывшей Обуховской больницы — к Обуховскому мосту. Все. Там только двор.
Как-то много обуховского в этом тяжелом странствии — от проспекта (в будущем) Обуховской Обороны до Обуховской (в прошлом) больницы и Обуховского моста…
Как было дальше, она не помнит. Это он скажет, что там было самое страшное — когда оставалось метров двести. «Думал, что ты умрешь».
Может, кто решит, что он понес ее на себе? Нет, конечно. Он был дистрофиком.
В поезде она мне прямо сказала, зачем рассказывает: хочет, чтобы я знал это, она всю жизнь благодарна моему отцу. А я знал, что она жила с диагнозом похуже глаукомы.
И вот по телефону — то же — ему: что никогда не забывала, что спас, и что благодарна за это. Считала необходимым это сказать.
Она пережила отца на полтора года. Отец прожил 81, и она тоже — примерно с равным числом дней.
3
В феврале сорок второго отца, дистрофика, забрали в армию. Он говорил, что армия его спасла: там кормили. Взяли связистом во 2-й зенитно-пулеметный полк, защищавший Ленинград от налетов немецкой авиации. Штаб полка размещался в подвале Измайловского собора. Этот гигантский собор, закрытый при советской власти, в детстве у меня ассоциировался с одним событием: я знал, что на его куполе отец устанавливал антенну, — когда, задрав голову, я смотрел на купол и видел громоотвод, мне казалось, что он и есть та самая антенна, сохранившаяся со времен блокады. В самом деле, если спустя десятилетия после блокады на стекле одного из окон в нашей квартире можно было различить едва заметные крестообразные следы от клея, почему бы не сохраниться антенне?
Казармы роты, в которой служил отец, размещались на 8-й Красноармейской улице, которая до революции так и называлась — 8-я Рота (все здешние Красноармейские прежде были «ротами» — по расположению рот Измайловского полка). Сразу через улицу, напротив отцовской казармы, практически по соседству, находилась — и находится — школа, в которой по странному совпадению спустя много лет учились внуки отца, мои дети.
Окна казармы выходили на проспект Красных Командиров, в прежние и нынешние времена — Измайловский. Этот район сильно обстреливался. Один снаряд попал в казарму, но не взорвался — пробил перекрытия и грохнулся на кровать (его так и вынесли на одеяле). Кровать стояла у стенки, за которой стояла другая кровать — на ней спал после дежурства отец. Вскочил от грохота, и — по рассказам — первая мысль: «Где сапоги?»
4
Дом Адамини.
Бомбоубежище было во дворе направо. Там мою маму ждала ее персональная раскладушка. Дети часто ночевали в убежище, у каждого было свое спальное место.
(«Рядом была раскладушка моей подружки Тамары… Тут же была раскладушка молодой женщины с одной ногой, у нее был сын трех лет… Раскладушками был заставлен весь пол длинного бомбоубежища…»)
В тот день («Снега, — вспоминает, — еще не было, наверное, осенью…» — а я знаю когда — интернет! — 26 ноября 1941-го), в тот день моя бабушка, мама моей мамы, почему-то, когда объявили тревогу, не повела свою дочь в убежище сразу… По маминым поздним рассказам, «сердце остановило», и будто бы действительно в тот день бабушка с утра жаловалась на сердце, во всяком случае, она вообще не хотела в тот раз идти в бомбоубежище (ходили далеко не при каждой тревоге), но тут уже мама моя: пойдем да пойдем.
Пошли.
Побежали, конечно.
До парадной дома № 1, через которую проход во двор, — метров сто сорок. Дом на другой стороне Мойки, прямо к парадной ведет Мало-Конюшенный мост… Вернее, два моста: в этом месте канал Грибоедова сочетается с Мойкой, — и даже три моста, но под одним пространство застроено стеной-дамбой, ну и ладно, — те два, Театральный и Мало-Конюшенный, практически продолжение одного другим.
Они уже взбежали на Театральный мост, когда в дом Адамини, в который они так торопились, попала бомба.
Мама рассказывает, как перед ней на глазах обвалилась, рассыпалась — это она говорит «рассыпалась» — стена дома. Того самого фасада с восьмью колоннами…
Не слышала, говорит, никакого свиста и никаких иных звуков, предвещающих этот удар, — вдруг раз, и стена рассыпается.
А когда пыль рассеялась, увидела груду камней и огромную брешь в пространстве — слева, зацепившись ножкой за остатки пола, висел рояль; у задней стены стояла неповрежденная мебель — горка с уцелевшей посудой. Да, подтверждает (засомневался), с уцелевшей посудой.
Это из той серии, почему я мог не родиться.
«Знаешь, — говорю, — ты могла погибнуть под обломками дома, где впервые выставлялся „Черный квадрат“ Малевича». Нет, про выставку «Ноль-десять» мама не знает, да и при чем тут «Черный квадрат»? Какая связь с Малевичем? Никакой. К Малевичу она равнодушна. Так что это больше я о себе. Я бы мог не родиться. И никто бы не знал, что «Черный квадрат», впервые выставленный здесь, действительно кое-что предвещает: мое нерождение. Ладно, мне повезло — спасибо, мама, что тогда задержалась. Но не родились другие. Многие не родились.
В одной газетной публикации, посвященной этому дому, говорится о той бомбежке — будто бы некую женщину, спавшую после ночной смены, выбросило вместе с кроватью на тот самый Театральный мост, где она и проснулась (как сказано). Показал. «Чушь какая! — возмущается мама. — Чего не придумают только!» И весомо добавляет: «Ничего такого не видела!»
Про людей не знает — кто погиб, сколько. Увели прочь ее, не показывали ничего, не говорили. «Мне было одиннадцать лет!» Что стало с теми, кто находился непосредственно в убежище, тоже не знает. Но ведь откопали, наверное, вывели? — думаю я (на то оно и бомбоубежище?). Понимаю: не факт. Далеко не факт. А что факт? А что раскладушка ее с шерстяным одеялом осталась там, как и раскладушки других детей и взрослых. Факт, что больше бомбоубежищ поблизости не было. Все последующие обстрелы и налеты оставалась дома.
В тот налет еще, надо сказать, оставалась дома ее соседка Тамара, — у нее выбило стекла в окне и поранило ей лицо, с тех пор голова у нее стала дергаться. «И после войны дергалась голова».
О рояле два слова. Рояль, повисший на ножке в разбомбленном доме, — сильный образ. Немного о нем.
Мама говорит, это была квартира профессора Руллэ, известного ленинградского гинеколога. Бабушка была знакома с его женой. И он, и жена в тот день остались живы. У меня есть сомнения, что Павел Иванович Руллэ в ноябре сорок первого проживал именно в этой квартире (интернет, интернет…), но мама в этом убеждена твердо. Да и не так это важно, в конце концов, чья квартира с роялем.
А не та ли это, в которой режиссер Алексей Балабанов снимал эпизод фильма «Брат», — на втором этаже, правда, уже в перестроенном доме? Это где Данила приходит на Мойку в квартиру к брату-бандиту (на дворе девяностые), а братом плотно занимаются в этот момент другие бандиты, и тут герой фильма их уверенно на месте расстреливает… Из окна еще виден храм Спас на Крови и канал Грибоедова. Да, это — квартира на месте той квартиры с роялем. Странное совмещение, ничего, впрочем, не значащее. Ничего, кроме того, что Балабанов запечатлел на кинопленке то же обитаемое пространство, которое в ноябре сорок первого взлетело на воздух на глазах моей мамы.
После эвакуации она вошла в Музей обороны Ленинграда, только что открытый в Соляном переулке, и ахнула. Там, прямо перед входом, был выставлен макет разбомбленного дома Адамини с тем самым висящим роялем.
Музей, как известно, просуществовал недолго — скоро прикрыли: не так освещалась блокада…
Не помню, когда я впервые услышал об этом рояле, — в детстве, наверное. Но расспрашивать маму стал только сейчас — через семьдесят с лишним лет после той бомбежки. Мама помнит детали. Я бы засомневался в достоверности ее воспоминаний — мало ли что на что могло наложиться за многие годы, — но я сам, и не могу вспомнить где, видел эту фотографию: развалины дома на Мойке и висящий рояль. Напечатана в каком-то издании? На выставке где-то?..
Вероятно, рояль висел не минуту, не две, а достаточно долго. Вероятно, он произвел впечатление на ленинградцев.
Радий Погодин похожую сцену включает в повесть «Боль». Правда, место трагедии у него по другую сторону Невского — на улице Гоголя. На глазах героя бомба попадает в жилой дом:
«Может, Сережа и убежал бы, но на той стороне улицы, на тротуаре у фруктового магазина, лежала девчонка.
Широкий угол дома с вывеской „Фрукты“ сползал на нее. Некоторое время стена оседала целиком, но сломалась и рухнула наземь, сминая самое себя и крошась в клубах пыли. Сережа стоял, не двигался. И всего-то времени утекло — пять раз ударило сердце.
Из известковой тучи выпадали на асфальт осколки. Туча редела, и уже очертилась под ней гора кирпича, деревянных балок и штукатурки. Угол дома был широко срезан. Пыль оседала.
Обнажились оклеенные разноцветными обоями стены квартир. На третьем этаже у стены стояла кровать с розовой от кирпичной пыли подушкой. На четвертом — на голубой стене криво висела картина. И на самом верху, зацепившись ножкой за балку, висел рояль. Крышка рояля открылась, обнажив его как бы расчесанное нутро с киноварью и позолотой. Но вот ножка хрустнула, рояль полетел вниз, медленно переворачиваясь и как бы взмахивая крышкой, и упал, зазвенев. Звон этот был печален и долог. За роялем упала и кровать. Осталась висеть картина на голубых обоях».
Радий Погодин зиму 1941/42 прожил в Ленинграде, тогда ему было шестнадцать. Его эвакуировали. Потом взяли на фронт. После войны вернулся в Ленинград. Повесть «Боль» впервые была опубликована в журнале «Нева» в 1983-м.
Мама Погодина не читала, а он не слышал, как она рассказывала об этом. Не мне судить, в какой мере личное переживание писателя связано с конкретным истинным событием, в какой мере этот эпизод — свидетельство, в какой — вымысел. «Боль» — проза художественная. Но Погодину ли не знать, как взрываются бомбы и рушатся дома? Ну а рояль он мог и в доме на Мойке увидеть, мог услышать о нем — как повис на этаже, зацепившись ножкой (ленинградцы наверняка о нем говорили); мог увидеть макет уже после войны, в еще не разогнанном Музее блокады.
Удивляет другое: случай Роберта Уилсона, британского писателя, автора детективных романов. Он мой ровесник, войны не видел. Роман «Компания чужаков» опубликован в 2001-м, на русском издан в 2010-м. Часть действия происходит в Лондоне во время Первой мировой. Вот что происходит с героиней романа — 30 октября 1940 года («54-я ночь блицкрига») она становится свидетельницей гибели своего отца:
«Страшный взрыв прогрохотал на соседней улице, земля затряслась под ногами <…>. Завидев пожарную машину возле того дома, она ускорила бег. <…> Стену полностью снесло взрывом, роскошный рояль двумя ножками завис над разверзшейся бездной, крышка его распахнулась, словно рояль облизывался от невыносимого жара; пламя пожирало струны, рвало их одну за другой, скручивало в мертвую, черную спираль.
Она стояла, прижав ладони к ушам, не впуская в себя жуткий гул разрушения. Но глаза и рот невольно раскрылись при виде того, как задняя часть дома неторопливо обрушилась в соседский сад и обнажилась кухня — противоестественно мирная, совсем не задетая взрывом. Шипение выползавшего из разорванных труб газа вдруг прорвалось огненным валом, прокатилось по улице, сшибая спасателей с ног. В кухне осталась лежать неподвижная фигурка в горящей одежде.
<…> Пожарник обхватил ее сзади, грубо поволок прочь и швырнул в объятия патрульного, попытавшегося было удержать девушку, но та вырвалась как раз в тот момент, когда рояль — на котором два лишь часа тому назад она играла ему! — рояль рухнул-таки в бездну, испустив последний нестройный аккорд, и ей показалось: что-то порвалось в ее легких, лопнуло в ее груди. Нотные листы вспыхнули и сгорели, музыка исчезла, а он — он лежал ничком у подножия огненного вала, который спасатели поливали из множества рукавов, но кровавая стена, шипя и отплевываясь, не собиралась сдаваться.
Снова громкий треск — обрушилась крыша, оконные рамы, как были, целиком, посыпались на улицу, точно выбитые зубы. Крыша совпала с полом, рассыпалась по асфальту черепица. Мгновение передышки, и крыша, пробив пол, полетела этажом ниже, гигантским пыльным облаком накрыла рояль, загасив огненную музыку, раздавив изогнутый хребет инструмента, и увлекла его вместе с собой промеж огненных столпов балок на первый этаж, прямо в стеклянную дверь веранды»[18].
Возможны ли такие совпадения? Я понимаю, Гитлер уже посылал бомбардировщики на Лондон, еще только планируя напасть на СССР, время действия говорит само за себя, но что-то кажется мне, что в этом разбомбленном лондонском доме зависает ножками и срывается вниз по воле английского романиста тот же рояль, что и в блокадной повести ленинградского автора, написанной значительно раньше.
Сдается мне, что первообраз этих печальных картин — дом Адамини на Мойке — с тем жутким роялем, дом, разбомбленный на глазах моей мамы.
Достоевский-плюс

Памятуя о массе про это написанного
Иногда просят назвать «самый петербургский» роман. Не мудрствуя лукаво и не обманывая ожиданий, так и ответим: «Преступление и наказание».
С одним пояснением.
Тут ведь дело такое, сочинений об СПб написано превеликое множество, но исключительная редкость — это роман, в ткань текста которого Петербург впитался, проник, хочется сказать, физически, почти что вещественно, молекулярно, — просто не разработана терминология для подобного рода проникновений. В этом отношении роман Достоевского и есть Петербург — сам Петербург в одном из своих проявлений.
С другой стороны, овеществляясь в романе, Петербург делает роман Городом. Самим Городом — в его особенном воплощении.
Ну а образность — это немножко другое. Мы, скорее, о телесности текста — о взаимоединстве этого текста и места его осуществления; о спайке обоих в единое целое. Причем состояние этого целого — непреходящее. Что бы ни происходило с городом как таковым и нашими читательскими головами, взаимоединство не отменяется.
Мог — но не жил
На лавры дома Раскольникова претендовало несколько домов, но главным образом два в Столярном переулке: если соблюдать современную нумерацию — № 5 и 9.
№ 5 был рукоположен в «дом Раскольникова» еще в двадцатые годы самим Анциферовым, общепризнанным корифеем петербурговедения, — таковым № 5 считается до сих пор, хотя у сторонников № 9 есть свои аргументы, и весьма веские. Наиболее убедительные из них были оглашены в ту пору, когда Столярный переулок назывался улицей Пржевальского.
Сам Николай Михайлович Пржевальский, о чем уведомляет мемориальная доска, жил в доме 6, но, похоже, адрес реального исторического лица, великого путешественника, географа, биолога, военного разведчика, чьих приключений хватило бы на десятки «нормальных» жизней, чтобы каждую из них сделать головокружительно бесподобной, — местожительство этого человека мало кого волновало, тогда как мнимое место, назначенное вымышленному убийце двух женщин, невротику и ипохондрику, возбуждало страсти, дискуссии, паломничества и поисковый энтузиазм.
Персонаж Достоевского как объект общественного внимания превозмог в этом плане даже своего автора, что отразилось, кстати, в особенностях увековечивания: если дом 14, в котором реально жил Ф. М., отмечен обычной мемориальной доской, то на углу дома 5, объявленного «домом Раскольникова», установлена композиция, притязающая на значительность памятника, с горельефом и развернутой надписью.
Да, № 5 снискал славу. Установкой мемориальной композиции на углу этот дом удостоился официального признания статуса «дом Раскольникова». Однако первенство не прекращено до сих пор — даже после того, как № 5 попал в гайдбуки.
Сам вопрос, в каком доме, вероятнее всего, мог жить Раскольников, замечателен. Мог — но не жил. А не жил, потому что Родиона Романовича физически не было. Но если бы физически был, вероятнее всего, жил бы в доме таком-то.
Или так: с какой вероятностью Раскольников жил в том или ином реально существовавшем доме, при условии, что сам он лицо, реально существовавшее?
Условная вероятность при невероятном условии.
В этой ситуации ничего доказать, в принципе, невозможно; условна сама по себе сила любых аргументов. Говорить можно лишь о правдоподобии, а критерием правдоподобия будет выразительность соотношений вымышленного и реального.
Если некто, назовем его Z (допустим, наш общий знакомый), однажды заявит, что «дом Раскольникова» — это дом, например, № 13, и предъявит всего один довод: был ему, дескать, об этом голос во сне, — разве ценность данного утверждения будет меньше любого другого, относящегося к № 5 или 9 и построенного на аргументах, вычитанных из романа?
Наоборот, довод Z будет весомее прочих — в силу его большего отношения к реальности: сновидец Z нами мыслится как реально существующий. А все, что во сне, — это в том же слое действительности, что и бытие вымышленных героев. И как бы мы ни относились к вещим снам, у нас куда больше оснований доверять свидетельству нашего реально существующего Z, выступившего в амплуа ясновидца, чем жестам, поступкам и речам безусловно вымышленных персонажей.
Но тогда тем более Раскольников должен был жить в другом доме — № 14, угловом, знаменитом, под одной крышей со своим создателем, — потому что вдова писателя свидетельствовала о том. И должны мы ей верить по одной лишь причине: она реально жила здесь сама и реально принадлежала нашему миру.
Если же последовательно соотносить «за» и «против» различных версий, отдавая отчет в их принципиальной неоднозначности, логичнее всего будет согласиться на допущение: Раскольников жил одновременно в разных домах сразу — и в № 5, и в № 9, и, возможно, в № 14, и еще в нескольких, — однако Достоевский по каким-то причинам это не стал оговаривать.
Точно так же Соня жила одновременно на втором и третьем этажах, соответственно, и Свидригайлов, а полицейская контора занимала одновременно третий и четвертый этажи, хотя по логике вещей должна была быть на одном.
Аналогия — принцип неопределенности в квантовой механике.
В самом деле, раз мы так сильно убеждены в абсолютной точности описаний Достоевского и при этом признаем наличие некоторых мешающих нам нестыковок в тексте, отчего бы нам, вместо того чтобы зацикливаться на одной версии, не признать существование, пусть будет, странной, внешне фантастической, но и непротиворечивой модели реальности, отраженной в романе с однозначностью, отвечающей той самой точности, которая так нам любезна? Возможно, тогда покажется, что Раскольников живет примерно в том же странном мире, что и гоголевский майор Ковалев, где, в принципе, возможно все. Включая одновременное проживание — более того, одновременное (и нами до сего момента не замечаемое) пребывание — по (хотя бы) двум адресам.
Вот тогда и будут декорациям романа, при всех странностях бытия героев, однозначно соответствовать реалии эмпирического Петербурга.
А не этого ли нам так хочется?
С другой стороны — где еще мог жить никогда не существовавший человек, как только в никогда не существовавшем городе?
Однако стоп. Так рассуждая, скоро свернем в область парадостоеведения.
Нет. Мы пойдем другим путем.
Чуть-чуть о психологии творчества.
Чуть-чуть о психологии творчества
Позволю себе некоторое количество общих фраз. Прошу простить занудство, но:
— Какова главная задача у любого писателя?
Ответственно свидетельствую, что современные литераторы таких вопросов не любят и, когда им задают подобные на встречах с читателями, обычно стараются уйти от прямого ответа.
Ответ, однако, есть. Прямой.
— Быть убедительным.
Если ваш голос неубедителен, бессмысленно говорить о других задачах и сверхзадачах.
Текст убедителен, когда оставляет впечатление достоверности. Именно — впечатление. Все-таки писатель не настолько колдун, чтобы претендовать на большее — на буквальное овеществление слов. Задачи другие. Читатель должен поверить автору, а поверив — довериться. Есть много способов добиться ощущения достоверности. Среди них — работа с реальным планом.
В «Преступлении и наказании» она выполняется виртуозно.
Ощущение достоверности, вплоть до «эффекта присутствия», способно внушаться читателю этой книги независимо от места его обитания — будь он жителем окрестностей Сенной площади или человеком, никогда не бывавшим в Петербурге. Просто первому, равно как и туристу с гайдбуком в руках, заинтересованному гуляке, посетителю черных лестниц и дворов-колодцев, может посчастливиться еще испытать и «эффект узнавания», но это уже дополнительный бонус, не имеющий отношения к существу рассказанной истории.
Достоевский, конечно, много бродил по этим улицам — присматривался, усматривал, запоминал.
Топографическая точность в романе, так восхищающая его исследователей, — это от впечатлений фланера, от его цепкой памяти. А неточность, так огорчающая желающих «во всем дойти до сути», она-то откуда?
Оттуда. Просто находил он естественным пренебрегать точностью.
Не было у него задачи изображать городскую реальность с фотографической верностью. Но была задача — быть убедительным.
Он мог и сам не знать, в каком доме жил Раскольников точно. Степень точности задана в тексте. Ее вполне достаточно для решения авторских задач, обусловленных главной — быть убедительным. Остальные приближения от лукавого.
И уж меньше всего он хотел угодить будущим реконструкторам.
Я почти уверен, что 730 шагов — это просто деталь, создающая эффект достоверности, — такая же, как липкий стол в трактире, «слишком голубые» глаза Свидригайлова или «слишком приметная» шляпа Раскольникова — «высокая, круглая, циммермановская» — «вся в дырках и пятнах».
Проблемы шагометрии
Заглянул: Википедия числу 730 посвятила отдельную страницу. Отмечается математическое свойство числа — оно делится без остатка на сумму своих цифр (так называемое число харшад). Есть микрораздел «В культуре». Оказывается, на Окинаве 730 символизирует возвращение острова в состав Японии. Про Раскольникова на сей момент ничего не сказано.
И тем не менее в Петербурге 730 — почти культовое число. Обыгрывается во многих названиях, так или иначе связанных с Достоевским. На петербургском «Эхе Москвы» много лет идет передача «730 шагов». Однажды меня пригласили поговорить о памятниках. Ведущая Наталья Костицина спросила в конце беседы об этих шагах, что я о них думаю. Думаю, что Достоевский их не считал.
Конечно, не считал, уверен. Впрочем, уверенность моя того же сорта, что и убежденность других в обратном, а кажется, их большинство. Как там было у классика, нам уже не узнать.
Мое личное мнение — не стал бы он занимался такой ерундой — самолично высчитывать шаги между домами своих героев, чтобы подарить одному из них это ценное знание. Допускаю, что домом процентщицы он действительно назначил конкретный дом «на канаве», тот самый, посмотреть на который теперь водят ценителей его прозы, равно как дому Раскольникова выбрал известный прототип, но чтобы между ними измерять расстояние шагами… нет, увольте. Делать ему нечего было? Да он каждую минуту берег.
И потом:
«Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался».
Мне одному эта фраза кажется странной?
Как можно считать шаги, размечтавшись — то есть о чем-то определенно думая?
«В то время он и сам еще не верил этим мечтам своим и только раздражал себя их безобразною, но соблазнительною дерзостью». И далее говорится о том, как не «в то время», а «теперь» он смотрит на вещи. То есть — думает. И тогда думал, и сейчас думает (не важно о чем), но сейчас, идя на «пробу», он просто думает, а тогда шел и думал, считая шаги.
Размечтавшись, по-моему, нельзя шаги сосчитать. Сосчитать шаги можно — сосредоточившись.
И даже хорошо сосредоточившись, — мы же знаем, как легко сбиться, когда идет счет на сотни.
Хотя бы технически, как это выглядит? «Четыреста восемьдесят восемь, четыреста восемьдесят девять…» Чувствуете, как замедляется шаг? В три раза как минимум! После первой же сотни. И при этом надо не сбиться. А он считает, да еще думает о чем-то своем.
Очень специальное предприятие, на которое надо решиться с какой-то определенной целью. Я могу представить исследователя петербургских реалий в романе Достоевского, вот он медленно бродит по улицам Петербурга и считает шаги в поисках того рокового маршрута: где повернуть на Садовую?.. где на канал Грибоедова?.. Сергея Владимировича Белова, автора книги «Петербург Достоевского», могу представить — его счет шагов объясним, но Раскольникова, считающего собственные шаги, да еще просто так, между делом, «размечтавшись» о чем-то, да еще когда этим злополучным шагам счет на восьмую сотню идет, — нет, не верю, не представляю.
А Достоевского — тем более не представляю за этим занятием. Да у него бы просто терпения не хватило сосчитать столько шагов. И время он свое берег. Ощущал себя в постоянном цейтноте.
Вы сами-то давно шаги считали на улице?
От дома до метро? От дома до магазина? Причем без всякой необходимости.
Одно дело — прикинуть на глазок, а другое — учитывать каждый шаг, чтобы «ровно» было. («Ровно семьсот тридцать» — не округленно!)
Я бы, может, поверил, если бы Раскольников время засек (отцовские часы, серебряные, еще не заложены), — да, для этого предприятия время подхода, готов допустить, имеет значение, но число шагов тут при чем?
А если все так, как написано, одно можно сказать: мозги у него действительно какие-то особенные.
Считать шаги и при этом думать о чем-то… Никто, по-моему, так не может. Или кто-то может? У кого мозги не как у всех?
Так откуда же?
Так откуда же Достоевский взял эти 730?
Мое мнение — с потолка. Ну, не совсем с потолка. Прикинул, конечно, и взял с потолка — в первом приближении с учетом правдоподобия, а во втором — достаточно безотчетно.
Мысль о числе шагов, думаю, была спонтанной, появилась в момент создания фразы. Авторская установка на максимум реалий. Ну вот. Прикинул. Семьсот с чем-то. Шестьсот — мало, да и на слух похуже будет. Восемьсот — тоже не то. Семь хорошая цифра. А где семерка, там и тройка у нас, — на самом деле наоборот: где тройка, там и семерка: тройка, семерка, все равно рядом. Без туза. Но если буквализма хочется, то за туза ноль может сойти, «зеро». Ноль и по смыслу хорош: число поражения, раз — и все обнулилось.
370 в этом отношении эффектнее, чем 730, ближе к Пушкину, что ли, но 370 — мало, это они со старухой почти соседи.
Тройка, семерка, туз — это у русского человека в подсознании. А если он еще и игрок!
Тут и задумываться не надо — 730 само просится.
Да он и не думал, я полагаю: прикинул — оно и выскочило само.
Без мистики и метафизики.
Потому что 730 — это образ. А скажем, 720 — уже нет. Или 780… Явно 780 проигрывает 730 по выразительности и долготе — больше слогов. Даже без Пушкина.
740… Ничего, ничего, вполне. «7:40» само в песню просится, но во времена Достоевского никаких одесских ассоциаций эти числа, конечно, не вызывали. По ритму слогов 740 могли бы составить конкуренцию 730. Но поставьте два числа рядом, и чем-то 730, даже без Пушкина, покажется привлекательней: семерка невольно с тройкой складывается в уме, а там уже и ноль появляется без единицы…
790 — много. Тогда уж 800 надо. Напрашивается пояснение, что-то вроде «десяти до восьмисот не хватило».
710 — мало. Ну тогда: «А почему не 700?»
700, 750, 800 — круглые числа, не то.
В 729, 736 никто не поверит. Ноль необходим в конце.
Да и вообще — просятся для ритма фразы два двухсложных слова.
730. Лучше и не придумать.
«А бабке поделом!»
Лестница в каморку Раскольникова в свое время прославилась надписями на стенах, — там собирались юные почитатели романа, вероятно неудовлетворенные его школьной интерпретацией. Я сам несколько раз показывал эту неформальную достопримечательность гостям города. Ахали, охали. Думаю, Федору Михайловичу, прочитай он, что пишут на стенах юные ценители его прозы, самому бы стало не по себе. Надписи обновлялись по мере смены поколений читателей. Спустя годы, когда вход посторонним во двор закрыли и установили у ворот домофон, время от времени заливаемый красной краской, я пожалел, что поленился скопировать те настенные откровения. Впрочем, некоторым из них, относящимся к концу девяностых и началу нулевых, случилось быть опубликованными — соответственно Игорем Золотусским и Сергеем Ачильдиевым.
Вот свод ранних надписей. Его скопировал литературовед Евгений Петрович Кушкин в 1991 году во время своего посещения Петербурга (сам он, специалист по Камю, проживает во Франции). Как-то, в начале нулевых, в его очередной приезд, мы, прогуливаясь по «местам Достоевского», посетили лестницу «альтернативного» дома Раскольникова (№ 9), а в «официальный» уже было не попасть; я тогда посокрушался, что-де не переписал надписи, и услышал в ответ: «А у меня есть, я вам пришлю». И прислал, с любезным разрешением опубликовать. Пожалуйста:
Родя, ты прав, так держать!
Родя, я с тобой
Крепитесь, Родион Романович!
Да здравствует преступление!
Здравствуйте, Алёна Ивановна!
Деньги зря закопал, надо было купить колбасу
Милый мой Роднянка
В Храм Роди —
Филиал Храма John’a Lennon’а
Мы ещё сюда вернёмся, обещает Х
Психи здесь
Родя, я тебя понимаю. Правильно сделал.
Люди не совершайте такого
Ты вечно живой
Мне тебя лишь жаль
Путь мы не забыли
Родя, тебя осудили, но не поняли
Не умеешь, не берись, надо было косой
Ты хотел стать великим человеком, ты им стал. Ты может быть выше того самого Наполеона
Кто прочитал Преступление и наказание, тот уже не сможет сделать то, что сделал Родя
Придурок, свидетелей не оставляй, убирай всех!
Почему ты не убил Порфирия?
Жизнь, это свято, Родя
Здесь был Родик
Раскольников Р. Р. — профессиональный killer
От греха к истине, через страдания
Родя, по себе людей не судят, козёл
Но это ведь плохо, но я всё равно Родю люблю
Родя, ты клёвый, правда я не дочитала до конца, но ты крут
Что до черной лестницы «альтернативного» дома Раскольникова, после закрытия входа во двор «официального» дома ее тоже по-своему обжила продвинутая молодежь, о чем свидетельствовали надписи на стене, покрашенной зеленой водоэмульсионной краской (уж эти я сфотографировал).
Родя!
Мы тебя любим!
Ты самый необычный!
Держись! Мы с тобой!
10 б шк. 175
Москва
06.05.08
А ниже приписка:
Раскольников
Ты супер перец!
Есть и такое:
Спасибо Ф. М. Достоевскому за прекрасное произведение. (Две подписи. Рядом приписка другой рукой: Здесь был я.)
Родион!
Ты лучший! Самый интересный герой!
А бабке поделом!
Рады за тебя что ты все-таки
нашел себя! (смайлик)
10 б 08.05.2008
Мы оставим след в истории!!
(четыре подписи)
10 б: forever!!!!
Раскольников Р. Р. — я с тобой!!
Непосредственность как она есть
Надписи, конечно, шокируют — если посмотреть на них «по-взрослому». Но так ли правомочен этот взгляд? Давно ли мы, «взрослые», перечитывали роман? И нет ли в откликах «детей», одолевших роман только что, своей, по свежим впечатлениям сермяжной правды?
Раньше я тоже дивился на эти отклики: юность жжет. На мой теперешний взгляд, все сложнее. Думаю, ценность этих высказываний интересом социологии не покрывается, и побуждают они к размышлениям не столько о молодежных умонастроениях, сколько о заряде провокативности, скрытом в самом романе.
Во-первых, никто не заставлял десятиклассников сюда приходить и устраивать конференции; наоборот, здешние жильцы с этой активностью пытались бороться. Так что одно лишь влечение к заветным ступеням уже говорит о многом.
Во-вторых, эти высказывания — непосредственные, что само по себе ценно, особенно сегодня, когда пресловутый «дефицит непосредственности» ощущается как общечеловеческая проблема. Здесь же, на стенах невзрачных петербургских лестниц, представлен документ беспримесного восприятия классического романа, жеваного-пережеваного посильными средствами нашей общей образованности и, как нам мнится, прожеванного целиком. Документ восприятия, не замутненного ни литературоведческими установками, ни кинематографом, ни даже уроками литературы с их заданной нормативностью (потому что как в школе проходят литературу, мы знаем: лучше б не знать).
И в-третьих. Не только восприятию, но и интерактивному пониманию романа с его непростой проблематикой эти надписи — памятник. Хотя и своеобразный. Весьма.
А что нас так сильно смущает? Мы тебя любим! Это? Так его все положительные герои любят. Молодые поклонники Раскольникова всего лишь присоединились к той группе поддержки, которая так ярко изображена в романе: мать, сестра (или родственников не считать?), Разумихин, Соня… — все они честные, порядочные люди, и Раскольников ими любим. Даже Порфирий Петрович по-своему сочувствует Раскольникову, — и более того, подыгрывает ему, представляя (см. Эпилог романа) в конечном итоге дело так, что с повинной-то пришел человек, ни в чем, оказывается, не подозреваемый. Сам! Свои заслуги по раскрытию преступления Порфирий Петрович благородно — и даже благотворительно — скрыл («вполне сдержал слово»).
Раскольников рассчитывал на двадцатку, а получил всего восемь лет, спасибо автору. Если бы не убийство двух человек и досадная раздражительность как следствие болезни, был бы он безукоризненно положительным героем. Он заступается за слабых, изобличает подлость. Он не позволяет себе дурных поступков (если не брать во внимание убийство двух женщин) и все делает исключительно по справедливости. Раскольников суперсправедлив. Он и на преступление идет из чувства справедливости — чтобы исправить погрешность этого мира. Родион! Ты лучший! Самый интересный герой! А что, разве не так? Заметим по ходу, что не доведи он свой замысел до конца, тогда бы и рассказывать о нем было бы нечего: герои, сугубо положительные, в литературном отношении скучны. А тут — самый интересный герой! И это правда.
Но для того чтобы судья уменьшил срок в два с половиной раза, этого мало. Требуется экстраординарная помощь автора, и вот необходимые сведения сообщаются о подсудимом. О них обычно забывают — эпилог вообще у читателя не в чести. Но что есть, то есть. Благодаря Разумихину обнаруживается, что в недавнем прошлом Раскольников, сам терпящий нужду, «почти содержал» своего чахоточного университетского товарища в течение полугода, а потом «ходил за оставшимся в живых старым и расслабленным отцом умершего товарища (который содержал и кормил своего отца своими трудами чуть не с тринадцатилетнего возраста), поместил наконец этого старика в больницу и, когда тот тоже умер, похоронил его». Родя, ты клёвый, правда я не дочитала до конца, но ты крут. А ведь эта, не дочитавшая до эпилога девушка еще не знает о настоящем подвиге Раскольникова. По свидетельству его бывшей хозяйки, «Раскольников во время пожара, ночью, вытащил из одной квартиры, уже загоревшейся, двух маленьких детей и был при этом обожжен». Настоящий герой! Среди наших знакомых много ли награжденных медалью «За отвагу на пожаре»? Живи Раскольников сейчас, мог бы быть одним из них.
Сдается мне, что Достоевский — возможно, невольно — сам уступает здесь ненавистной ему «арифметике». Характерно, что мимоходом. Но каков «мимоход»!.. Действительно, два трупа — двое спасенных. Это, конечно, не тождество. Уравнение — с одним неизвестным и некоторым числом параметров, значения которых в конце чуть-чуть подгоняются. Ответ известен: икс = 8 лет. («Кандалов он даже на себе не чувствовал», — к вящему удовлетворению читателя, сообщает между прочим писатель.)
Странно, что о подвиге Раскольникова мы узнаем только в Эпилоге. Тем более странно, что вообще о пожарах речь заходит несколько раз. Он, конечно, персонаж скромный, и не в его характере побуждать автора в основном корпусе текста вспоминать о том страшном пожаре, но дело тут не в личных качествах героя. Коль скоро сам он задумывался об «арифметике» («ясно как день, справедливо как арифметика»), коль скоро вслушивался в слова случайного постороннего («Одна смерть и сто жизней взамен — да ведь тут арифметика!»), как же он мог игнорировать такой убийственный «арифметический» аргумент в пользу своего предприятия? Ведь когда замышлял Алёну Ивановну грохнуть, «вошь», «ведьму», «никому не нужного человека», и еще в себе сомневался, он уже был спасителем двух детишек. «Право имел». Опять же: когда сверх плана второго человека убил и три дня потом бредил, почему-то успокоительная мысль о взаимозачете (при всей сомнительности ее, казалось бы, вполне естественная в его положении) не посетила ни разу ценителя арифметики — или забыл о тех спасенных? Понятно, что спасение детей на пожаре Достоевский, скорее всего, придумал, когда уже писал эпилог, — надо же было помочь хотя бы задним числом Раскольникову. Но для нас, воспринимающих роман как своего рода сформированную реальность, это не объяснение.
Хотя объяснение и этому можно найти. Преступление — особо продуманное, оно, согласно концепции, совершалось «по совести». И совесть Раскольникова не нуждалась в отбеливании. Она чиста. В этом парадокс «Преступления и наказания» — с преступлением вроде бы ясно все, но чем наказан герой? Тем-то, тем-то и тем-то. Чем угодно, но только не угрызениями совести. За час-другой до целования земли на Сенной площади и явкой с повинной Раскольников заявляет сестре: «То, что я убил гадкую, зловредную вошь, старушонку процентщицу, никому не нужную, которую убить сорок грехов простят, которая из бедных сок высасывала, и это-то преступление? Не думаю я о нем и смывать его не думаю. И что мне все тычут со всех сторон: „преступление, преступление!“» Это говорит человек, решивший сдаться полиции. Немного раньше он просит мать молиться за него. А еще раньше — девочку Полю. Но никого он не попросил молиться за тех, кого убил топором.
Эта странная «бессовестность» часто смущает ученых интерпретаторов романа, желающих определенности по части морали, — им хочется верить, что где-то там, за пределами текста, Раскольников наконец раскается. Однако обещанное в конце эпилога духовное возрождение героя связано вовсе не с этим. Там о другом — о возвращении к людям, о будущей жизни и чувственном переживании полноты бытия. Библейские просторы. Восторг. Катарсис. Или почти катарсис. А бабке поделом!..
Вот об этом не будем.
Проехали.
Но непосредственный читатель не знает, что проехали и что не будем. И он прав. «Бабке поделом». Никто в романе не пожалел старуху. И что делать нам, читателям, с этим? — ведь признаемся, нам ее тоже не жалко.
Так что вот. Даже на каторге Раскольников винит себя лишь в том, что не сумел отвечать высоким требованиям своей теории — оказался не тем человеком, слабаком. Вот в этом его вина и жизненная неудача. Не умеешь, не берись, надо было косой… Привет от Наполеона. С его позиций заявлено. Чтобы косой, надо по теории как раз Наполеоном быть, а это не прерогатива Раскольникова.
Туповато, конечно, но только на первый взгляд: Раскольников Р. Р. — профессиональный killer. Вставим слово «несостоявшийся», нарушив почти стихотворный размер (а если ударение в последнем слове перенести — заметили? — тут же рифма еще!..). Для киллера самое важное что? Крови не бояться? Бить метко? Нет: киллер не должен рефлексировать по поводу печальной участи своих жертв. Этому важному требованию Раскольников отвечает на все сто. При его-то склонности вообще к рефлексии. Но в том и беда, что склонен. Нервы, нервы подводят! Были бы крепкие нервы, и кто знает — может, понравилось бы. А почему должно не понравиться, если теория, подтверждаясь, требует развития — при крепких нервах-то? Это ж логично. Примеров тьма. Да и как иначе — сделать столь решительный шаг, а потом взять и остановиться?
И что до совести. На самом деле Раскольников — совестливый человек, даже сильно совестливый, но совестливый парадоксально: верит в преступление по совести, на которое способна и право имеет сильная личность, — стало быть, если по совести, то и совесть в этом случае ни при чем. Но становится совестно — если ошибешься в себе, что и произошло с Раскольниковым: «…я и первого шага не выдержал, потому что я — подлец!» Так и хочется успокоить, поддержать человека — ну по-человечески как-то. Крепитесь, Родион Романович! Возразить задушевно. Жизнь, это свято, Родя. Порадовать тем, что герой романа о себе не знает еще. Ты вечно живой.
Родя, я с тобой. Так и Соня с ним. Она за ним в Сибирь отправилась. И мы ее за это уважаем. И сестра с Разумихиным, молодожены, в будущем хотят податься на восток — поближе к нему. Хорошие люди «с ним», надо же!.. А нам нельзя?
Родя, тебя осудили, но не поняли. Чистая правда. И мы о том же.
Перечитывая надписи эти, испытывал что-то вроде дежавю. Словно где-то уже было или могло быть похожее. Тут и думать не надо где: в романе — где же еще? Чьи-то неожиданные голоса, реплики неопознанных персонажей, выкрики из толпы, выплески шума. От знаменитого «Ты убивец» (человек «из-под земли», напугавший Раскольникова) до «Сохрани тебя Бог!» (нищая, получившая в последней главе пятак — «для курьеза»).
На стенах лестниц обоих «домов Раскольникова» достаточно издевательских изречений, с приколами. Читаешь, и вспоминается герой на Сенной площади: он землю целует, а народ смеется. «Ишь нахлестался!» — «Парнишка еще молодой!» — «Из благородных!» — «Ноне их не разберешь…» И конечно — комментарий на тему «в Иерусалим едет»: «…столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает». (Между прочим, единственное место в романе, где название города употреблено в полной форме.) Публика притом не знает, что перед нею убийца.
«Все эти отклики и разговоры сдерживали Раскольникова, и слова „я убил“, может быть готовившиеся слететь у него с языка, замерли в нем».
А если бы не замерли? Если бы сказал он: «Я убил»? И стояли бы вокруг наши десятиклассники?
Тут же посыпалось бы на него:
— Ты супер перец! — Рады за тебя, что ты все-таки нашел себя! — По себе людей не судят, козёл. — А бабке поделом!
И т. д. и т. п. И все ведь правы по-своему.
Вот так стоишь на черной лестнице доходного дома и словно сам попадаешь в роман — со своим временем.
Ситуация взаимозачета
Алёна Ивановна не так проста, как может показаться с первого взгляда. Сестрицу в черном теле держит, из клиентов кровь пьет, жадна, глупа, деньги копит. Но копит не просто так, а с определенной целью. Согласно завещанию процентщицы, отправятся деньги в монастырь на помин ее души. То есть и она тоже человек идейный.
Даже, быть может, еще более идейный, чем сам Раскольников.
Идейный Раскольников знает об идее Алёны Ивановны.
В ее идее он находит оправдание идее своей.
Идея Алёны Ивановны, против которой все протестует в Раскольникове, только подтверждает его идею.
С другой стороны, без таких, как Раскольников, не осуществится идея старухи (где деньги-то взять, если никто не будет вещи закладывать?).
В старухе все подчинено тому, чтобы спасти душу. Раскольников делает все, чтобы погубить душу.
Как такового конфликта нет между Раскольниковым и старухой. Это не конфликт, они оба работают на одно и то же.
Оба озабочены идеей спасения: старуха — идеей посмертного, там, на небесах; Раскольников — прижизненного, здесь, на земле. Но оба осуществляют свои проекты за чужой счет. Ситуация взаимозачета. В принципе, оба они одного поля ягодка.
Проект старухи шире проекта Раскольникова. Во всяком случае, проект Раскольникова «органично» вписывается в старухин проект. О том не задумываясь, Раскольников сам работает на Алёну Ивановну, на ее идею: сначала он финансирует ее проект, потом завершает его первый (земной) этап, то есть часть накопительную. Подводит черту. Теперь о старухе будут заботиться другие — те, кто похоронит ее, и те, кто будет отпевать по высокому разряду согласно завещанию. А далее — уже силы небесные. Но ведь того и хотела старуха, к тому и стремилась.
Здесь не только убийство одного человека другим, здесь парадоксальное столкновение двух идей.
И что же? Раскольников вписывается в «проект» старухи, — деньги теперь в самый раз подойдут на ее помин, даром что не могла причаститься.
Стоит только подумать…
Кстати, что касается отваги на пожаре и обновленной реальности. О подвиге Раскольникова известно от его бывшей хозяйки Зарницыной. «Этот факт был тщательно расследован и довольно хорошо засвидетельствован…» Где был пожар, мы знаем: у Пяти Углов, там прежде (известно когда) Зарницына проживала в доме некоего Буха (сообщает нам Разумихин); Раскольников, со своей стороны, уже тогда снимал у нее комнату, и, можно предположить, на льготных условиях: он обещал жениться на дочери Зарницыной. Ситуация съема типично петербургская, но оставим подробности. Вопрос в другом. Кто-нибудь проверял по тогдашним (хотя бы) газетам, был ли в известное время пожар у Пяти Углов? Я бы этот момент исследовал, но, признаюсь, лень. А вдруг был?
С позиций здравого смысла об этом и задумываться не надо. С чего бы пожару быть, если ситуация явно придумана автором для оправдания персонажа?
Да кто ж спорит. Оно конечно. Только тут сейчас не о воле автора, а о способности этого города нас удручать странными совпадениями.
А вдруг был пожар у Пяти Углов и чуть не сгорели двое детей, но удалось их спасти?
Если так, то не знаю даже, что и подумать об этом.
(Вышеприведенный размышлизм о пожаре был записан недели две назад, — он, что называется, пустоват, и включать бы я не стал его в общий свод этих заметок, если бы не вчерашнее обстоятельство. Вчера (26.11.2018) мне случилось стать свидетелем пожара на Большом проспекте Петроградской стороны. Я пил кофе в «Двух палочках», когда загорелся дом напротив. Сначала повалил дым из окон второго этажа, весь Большой оказался в дыму. Горел магазин элитной одежды. Пожарные приехали быстро. Посетителям кафе надлежало организованно эвакуироваться (именно так), хотя пожар был через дорогу. Перекрыли проспект, зевак прогнали на соседние улицы. А меня и еще человек двух-трех посетителей, в соответствии с планом, который висел на стене, быстро рассчитав, принудительно эвакуировали через заднюю, служебную дверь — на улицу Бармалеева, уже перекрытую со стороны Большого. При этом персонал кафе героически остался на месте. Ну ладно. Тушили долго. Сильный пожар был. Тогда, уходя через заднюю дверь, я думал примерно так: вот написал о Раскольникове на пожаре, тут и пожар. Как по заказу. А когда пришел домой, кое-что узнал о месте события: «по заказу»-то оказалось повыразительнее, чем я думал вначале. Тень Достоевского и здесь была потревожена. Прежде, оказывается, тут был каменный дом, принадлежавший Марии Николаевне Ставровской, племяннице Достоевского, это о которой ее свояченица писала так: «Вечно жила под каким-нибудь страхом: боялась и думала о пожаре…» А чего же ей не бояться пожаров, когда мать ее мужа и одновременно тетка Достоевского погорела в церкви когда-то (там вообще жуть была — на девятом месяце беременности). Ее же престарелая тетка, старшая сестра писателя, московская домовладелица, была убита и ограблена в собственном доме, а тело ее, облив керосином, преступник поджег. Вчера на моих глазах горел уже перестроенный дом — через девяносто семь лет после смерти М. Н. Ставровской. А до того на этом месте стоял деревянный дом ее матери. Достоевский здесь бывал у сестры. То есть, оказывается, я пил кофе напротив того места, где Достоевский с женой, бывало, пивали чай в кругу родственников, и вот теперь на этом месте приключился пожар. Ничего удивительного, в Петербурге все со значением: куда ни шагни — не то, так это. По-видимому, куда-то сюда, по следам своего создателя, отправлялся Свидригайлов по Большому проспекту незадолго до самоубийства, но почему-то повернул назад и «уехал в Америку» возле пожарной части.)
(А вот еще — рядом, в доме № 69 по Большому проспекту — через два с половиной месяца. В ночь на 14 марта обвалился пол в круглосуточном супермаркете на первом этаже прежде доходного дома. Человек провалился — в подполье.)
О смертной казни
Между прочим, проблема сочувствия читателя «Преступления и наказания» главному герою романа имеет отношение к вопросу о смертной казни.
Достоевский, как известно, был убежденным противником смертной казни.
Хочется сказать: «Еще бы!»
Опыт переживания смертельного приговора в балахоне-саване на морозе и недорасстрел на Семеновском плацу — это что-то уже совсем запредельное… ну, тут ясно все, распространяться не будем.
Прямо на тему о смертной казни говорит князь Мышкин в «Идиоте». Трепетный монолог. С этим тоже, кажется, ясно.
В «Преступлении и наказании» тема казни дана пунктиром на заднем плане. Вот Раскольников, идя на убийство, сравнивает себя («мелькнуло как молния») с «теми, которых ведут на казнь», а между тем это он, вопреки нежеланию, отправляется казнить по собственному приговору. (Авторской воле персонажу трудно противиться.) А вот после содеянного, когда у себя дома чувствует, что нервы подводят, вскочил с дивана: «Что, неужели уж начинается, неужели это уж казнь наступает? Вон, вон, так и есть!» Страх — это казнь, да, — но еще не смертная. Между тем смертная ему не грозит по законам Российской империи, разве что самоубийство грозит, возможность чего допускает Порфирий Петрович. Сам Раскольников полагает, что получит лет двадцать. (В реальности двадцать лет каторги дадут дворнику Ивану Архипову за вышеупомянутое убийство старшей сестры Достоевского, совершенное при обстоятельствах, сильно напоминающих описанные в «Преступлении и наказании»; его подельнику Федору Юргину присудят каторгу и вовсе бессрочную; это будет 1893 год.) Вспомним, что пятнадцать лет каторги получил в «Идиоте» Рогожин за убийство Настасьи Филипповны — почти вдвое больше, чем в итоге Раскольников.
Это интересный вопрос: почему убийца Настасьи Филипповны, получивший пятнадцать, не вызывает у нас такого сочувствия, как Раскольников, чье двойное убийство оценили восьмью годами? Не потому ли, что студент Раскольников, со всеми своими интеллектуальными закидонами, нам ближе ментально, чем не читавший книжек Рогожин? Или Настасью Филипповну, с которой мы свыкнуться уже успели, Рогожину труднее простить, чем тех двух Раскольникову? Неужели потому только, что одна из них «вошь», «гадина», с чем у читателя нет желания спорить? Или потому, что эти две так и остались для нас персонажами второго плана, тогда как Настасья Филипповна, во всем своем противоречивом великолепии, одна из главных?
У этих не вполне удобных вопросов есть обратная сторона.
Наши современники в большинстве своем, известно, за смертную казнь. Представим-ка опрос на петербургской улице: да вот на 5-й Советской, к примеру, — сегодня, «в разгар рабочего дня».
Спрашивается. Некто с целью грабежа (ради брошек, цепочек и прочей ерунды) убивает двух женщин у них на квартире — обеим размозжил головы, — какой меры наказания он заслуживает?
— Высшей! — ответят прохожие с вероятностью, обусловленной степенью поддержки смертной казни в обществе (а она, как известно, высокая).
Парадокс в том, что никто из читателей, преодолевающих этот роман, не желает казни герою, как бы те ни сочувствовали идее высшей меры наказания.
Это даже с учетом намека на беременность одной из жертв.
Жестокий Достоевский загоняет нарочно героя, а вместе с ним и читателя, в безысходное состояние, почти в угол. Мало ему одной жертвы — вот еще одна, получай. И как с этим быть?
Роман ведь не о том, что убивать — плохо. А о том среди прочего, что всегда есть путь к Спасению.
Поборник смертной казни мысленно чешет репу. Что-то где-то как-то не так.
И тут хоть тресни, Раскольников — не зверь, не насекомое. Он человек. А главное — не абстракция.
Достоевский ходил смотреть, как вешают Млодецкого, чем неприятно удивил знакомых. Дата события — 22 февраля 1880 года. Место казни — Семеновский плац.
И. Л. Волгин в книге «Последний год Достоевского» пишет о «круговой поруке смертников». Он допускает, помимо явных причин посещения казни, еще тайную: «Не мелькала ли у него безумная надежда, что в последнюю минуту казнь будет остановлена?» Ведь на этом месте уже была однажды остановлена его собственная казнь. Мне кажется, этот мотив посещения казни — самый естественный и психологически убедительный, — пожалуй, убедительней прочих. Но если такая надежда действительно была у Достоевского, он ни с кем не поделился ею. Может быть, он не хотел выдавать сокровенное. Он мог ее просто стесняться — потому хотя бы, что она оказалась несбыточной, наивной. Могли быть и другие причины. Великому князю Константину Константиновичу он объяснил (сообщает тот в дневнике), «что его занимало все, что касается человека, все его положения, его радости и муки». Объяснения профессиональным интересом всегда похожи на отговорки. Вот и Некрасов, певец народного горя, объяснял профессиональным интересом свои посещения обедов Петербургского кулинарного общества.
Случай с большой буквы
Случай, и непременно с большой буквы, вмешивается в миропорядок романа.
Случай с маленькой буквы себя заявляет повсюду и постоянно, и даже с претензией на закономерность. Пример — случайное соседство Сони и Свидригайлова. Или перекрестные знакомства героев романа. Совпадения обстоятельств, чреватые локальным резонансом. Все это естественно, когда убедительно: совпадения, когда убедительны, — движитель нарратива.
Случай с большой буквы — кондуктор необратимости.
Случай с большой буквы способен подчинять силы Рока — своего коллективного двойника.
Первый раз он спасает Раскольникова на месте преступления, — каскад совпадений позволяет убийце уйти. Этим же исключительный Случай дает развернуться роману в том виде, в каком нам знакомо творение Достоевского.
Нам, но не героям романа. Откуда им знать об управляемости совпадений?
Второй раз Случай спасает Раскольникова в момент нервного срыва, когда психологические манипулирования Порфирия Петровича почти достигли успеха. Как бог из машины, являет себя Микола с мнимым признанием в преступлении. Совпадение, изумляющее фантастической невероятностью, кажется, всех — и героев, и читателя, и даже самого сочинителя, настолько перекрывается демонстративной дерзостью последнего, что воспринимается убедительным, достоверным.
Вместе с Раскольниковым исключительный Случай спасает интригу романа.
Третий эпизод касается Дуни, сестры. Зачем она стреляла в Свидригайлова?
Ну, зачем, там понятно зачем.
А зачем?
Стреляла из его же собственного пистолета, который прежде у него же украла. Или мягче сказать — одолжила? Чтобы привезти в Петербург? А зачем? Значит, знала, понадобится? Значит, мысленно допускала такой вариант? Значит, это не импульсивный порыв?
Метила в голову. Пуля скользнула по виску. Была кровь.
Только не надо говорить, что он хотел изнасиловать.
Да, запер дверь. И обещал быть рабом до гроба.
На этот эпизод обычно не обращают внимания. Как бы с ним все понятно — как бы дань мелодраме. Не застрелила же. Все равно он сам застрелился. Одним словом — ну ладно.
Да как же «ну ладно», если чуть не убила?
А теперь представим: отклонение пули на полсантиметра — Свидригайлов кувырк. И что теперь делать?
В его комнате. Из его пистолета. Практически сразу после того, как он обеспечил деньгами на годы осиротевших детей Мармеладова. (Присяжные заседатели, представляем, мрачнеют…)
Бедная мать… Мать двух убийц. Брат и сестра с разностью в несколько дней совершают убийства…
Ах да, о преступлении брата еще неизвестно общественности.
Тем хуже. Свидригайлов-то знал. Сам ее только что посвятил в тайну преступления брата. И после этого она достает пистолет… Уже заряженный… (Заряженный!!!) И кого убивает? Обладателя тайны… (Получается так.)
Плохо дело Авдотьи Романовны…
А ведь могла и не убить наповал, могла выстрелом в голову ранить. Он лежит на полу. Судороги. Паралич. Становится идиотом. Свидригайлов — и идиот!.. («Идиот» еще не написан…)
А то глядит в потолок, не теряя сознания… И что Авдотье Романовне делать? Выстрел контрольный? Способна ль?.. Нет, мы не верим… Но что же? Но что?
Два миллиметра, и весь роман перечеркнут. Всё насмарку, что было.
Дуню арестуют, конечно, и Раскольников, узнав, что случилось, можно не сомневаться, откажется от идеи пойти с повинной. Против него одна психология и нет улик. А он не убийца матери. Да и вообще — известный нам сюжет при таком раскладе никак невозможен. И увольте меня от альтернативных сюжетов. Это не я придумал. Это Авдотья Романовна стреляет в голову.
Авдотья Романовна, зачем вы?
Убьете.
Вы же хотите убить.
Случай. Так не бывает. Но исключительный Случай. Пуля только задела висок.
Случай предотвратил катастрофу.
И спас роман.
Случай спас, и этого никто не заметил.
Город бубнящих
«Да вот еще: я убежден, что в Петербурге много народу, ходя, говорят сами с собой. Это город полусумасшедших. Если б у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Чего стоят одни климатические влияния!»
Это Свидригайлов.
А это современная статистика. Через полтора века после первой публикации романа выяснилось, что наибольшее число психических расстройств из всех субъектов Федерации фиксируется в Петербурге (имеются в виду первые обращения за психиатрической помощью). Москва с большим отставанием — на втором месте.
Оглашение данных по 2017 году особого эффекта не произвело, но аналогичная статистика за 2018-й была представлена так, что всполошила общественность, особенно петербургскую. В этом году впервые за психиатрической помощью в парадизе Петра Великого обратилось 4,7 тысячи человек, а в Первопрестольной, при всей ее огромности, — 2,8 тысячи. То есть с учетом численности населения городов получается, что из пятерых с психическими расстройствами в обеих столицах четверо проживают в Северной!
А по стране каждый двенадцатый-тринадцатый (двенадцатый с половиной) из впервые обратившихся к психиатру — петербуржец.
Петербургские медиафигуры, спровоцированные корреспондентами местных изданий, по этому случаю высказались, но ничего дельного не сказали. Тогда в Петербурге решили слегка подсластить горожанам пилюлю и сообщили чуть погодя одно позитивное дополнение. Все так, мы в лидерах, но зато в Москве основная причина психических расстройств — алкоголизм, и по этому показателю Москва значительно обгоняет Петербург.
Но позвольте, что это значит? Значит, что за вычетом тех, чьи психические проблемы обусловлены очевидной, понятной и до известного смысла естественной причиной (алкоголизмом), в Петербурге доля подверженных «резким и странным влияниям» будет еще выше, чем в Москве. (О да, именно «доля» — во всех значениях слова — не только в арифметическом!..)
Вряд ли в Петербурге меньше пьют, чем в Москве, но тогда не следует ли из этих соотношений, что алкоголь в Петербурге как раз уберегает от умопомешательства?
Как мы помним, слова о «влияниях на душу человека» трезвомыслящий Свидригайлов произносит в трактире, за стаканом вина. Раскольников не пьет, его дело. Слушая Свидригайлова, он ставит ему про себя диагноз: «Это помешанный». Он и раньше, при первой встрече, заявлял Свидригайлову: «Но вы действительно, действительно сумасшедший!» Будто это Свидригайлов, а не он грохнул двух человек по теоретическим выкладкам. А ведь Свидригайлов деликатнее (и точнее): он говорит о полусумасшедших, населяющих город.
На 1865-й у нас статистики нет.
Но Свидригайлов-то, похоже, прав.
Похоже, не только Свидригайлов, но и сам Достоевский испытал на себе эти «влияния».
Свидригайлов знает, что говорит. Он несколько дней как приехал — ощущения свежие.
Ко всему прочему он скоро застрелится — счет идет на часы.
Я знаю многих приезжих, которые не смогли в Петербурге прижиться.
N, мой добрый знакомый, переехавший в Петербург из Москвы, едва с ума не сошел к началу первой зимы. Его рассказы о мелких конфликтах с какими-то непонятными незнакомцами порой напоминали воспоминания о галлюцинациях. Ситуация усугублялась тем, что в Петербурге он запил. Потом бросил пить. Отчего впал в глубокую депрессию, которую лечил таблетками. Я часто встречал его на Сенной, рядом с которой он в то время жил, — он бродил по площади в длинном сером пальто, наброшенном чуть ли не на голое тело, и почему-то напоминал мне Раскольникова, который вернулся с каторги.
Мне довелось разговаривать с французом, который жил в Петербурге более года. Мы оживленно беседовали; я (к слову пришлось) поинтересовался, легко ли он перенес нашу зиму. Он помрачнел, он сказал: это хуже, чем он мог предположить. Имелись в виду долгие зимние ночи. Он не понимал, как их переносят другие.
Свидригайлов приехал в Петербург летом, когда стояла жара, — тоже, конечно, не подарок, но, по крайней мере, не долгая ночь…
Депрессия Раскольникова, его болезнь, предшествующая убийству, совпала с белыми ночами. Не они ли причина?
Только кому это он говорит про город полусумасшедших? — Раскольникову!
«Между тем это административный центр всей России, и характер его должен отражаться на всем. Но не в том теперь дело, а в том, что я уже несколько раз смотрел на вас сбоку. Вы выходите из дому — еще держите голову прямо. С двадцати шагов вы уже ее опускаете, руки складываете назад. Вы смотрите и, очевидно, ни пред собою, ни по бокам уже ничего не видите. Наконец, начинаете шевелить губами и разговаривать сами с собой, причем иногда вы высвобождаете руку и декламируете, наконец, останавливаетесь среди дороги надолго. Это очень нехорошо-с. Может быть, вас кое-кто и замечает, кроме меня, а уж это невыгодно».
Так и есть. Петербург — город бубнящих. В 90-е годы прошлого века я часто думал об этом. Часто встречались прохожие, говорящие сами с собой. Потом бубнить на улице стало в порядке вещей, но это уже из-за мобильных телефонов, — истинно бубнящие потерялись в массе тех, кто был с кем-то на связи.
Свидригайлов подметил в Раскольникове черту, которая незаметна читателю, равно как и самому Раскольникову: он постоянно говорил сам с собой. Мы знаем, как воспринимал других Раскольников, но трудно сказать, как они воспринимали его — вне зависимости от известного нам взгляда рассказчика. Может, так же, как Свидригайлов, — постоянно бубнящим? А если так, то не выболтал ли он свои секреты — и не в бреду, а в обычных бытовых ситуациях? Может, Порфирию Петровичу и расследовать ничего не надо было? Может, Раскольников уже все сам рассказал этому городу, блуждая по его улицам и переулкам?
СПб лихорадит
…Приходили гости; тело убитой (сообщают массмедиа) было спрятано в другой комнате. Вечером он купил пилу. И водку. Приступил ночью. Выносил в три захода, бросал в Мойку (он жил у Фонарного моста).
Вся эта глава — вот эта, про роман Достоевского, — была практически завершена уже, когда город потрясла немыслимая жуть. Вот еще одно отступление — вставка про то, как «СПб лихорадит», и я, правду скажу, не до конца пока еще убежден в ее оправданности. Просто тяжело видеть, как реальность из нашего «сейчас» грубо вломилась в тему, совпав с ней и «срифмовавшись», — ничего хорошего в этом нет, уж слишком событие омерзительно, слишком горячо все это для текущего дня, слишком касается живого — когда способен вот так человек с человеком. В конце концов, здесь я о Городе. А что Город? Город нервничает. С Городом что-то происходит сейчас (середина ноября 2019-го). И не у меня одного ощущение: Город — сам Город, одушевленность которого обычно воспринимается метафорически, реально съезжает с катушек.
Убийство уже объявлено «чисто петербургским»[19] («типично петербургским» назвать язык не повернется, здесь нет ничего «типичного»). Литературные ассоциации смахивают на декларации — они вопиют, они навязчиво заявляют о себе, с какой-то пугающей прямолинейностью.
Ему 63. Доцент, историк, один из виднейших специалистов по Наполеону. Одновременно его открытый почитатель. Автор «Армии Наполеона» и других книг. Кавалер ордена Почетного легиона. Светский лев, устраивающий у себя на дому костюмированные балы. Стоял у истоков движения военно-исторических реконструкторов, известен в неформальных сообществах под прозванием Сир. Эффектные фотографии с реконструкторских мероприятий — он на белом коне в форме французского генерала. Эполеты. На голове треуголка.
Ей 24. Аспирантка, соавтор своего, как это ни дико звучит, убийцы. Его ученица. Красавица, умница. Школу окончила с золотой медалью. Та, о ком говорят «одна из лучших». Жили вместе.
Ну и что нам теперь до мотивов — ссора, ревность, алкоголь, «не могу вспомнить», «не знаю», «не помню»?
Трагедия превратилась в жестокий фарс, в невозможно глупый, идиотический, зловещий, мерзкий анекдот. Он сам упал в Мойку. Пьяный — он выпил для храбрости. Не мог выбраться (на дворе ноябрь!). Его вытащили спасатели из МЧС, заодно достали из воды неутонувший рюкзак с «чем-то» (там руки). Дома при обыске была найдена голова.
Вот тебе и «блистательный Санкт-Петербург», «культурная столица»… Девушка приехала из Краснодарского края. Будущность, «перспективы», талант, конвертируемый в реальные достижения, — ну и как же, по факту, на это смотреть, как не под углом «если бы не…»? Если бы не золотая медаль, не исторический факультет, не «блистательный Санкт-Петербург»…
Какой-то запредельной пошлостью веет от преступления. Добивался ли он чего-нибудь или нет, одно у него получилось: расчленив у себя на квартире человеческое тело, он сумел расчеловечить в обывательских мозгах едва им предъявленный образ ее — как существа живого. Сейчас она интересует общественность как исключительно жертва, функционал, нечто вторичное по отношению к нему — герою-чудовищу, объекту судебно-психологической экспертизы. А снимки красавицы в белом бальном платье только усиливают это ущербное восприятие. Ее и обозначают через страдательные причастия, самое нейтральное из которых — «возлюбленная»; опять же — им! Всё через него. А любила ли она сама — что чувствовала, о чем мечтала, на что надеялась, чем жила — это не важно, не важно, — он ее обнулил.
Спящую — четырьмя выстрелами из обреза, стилизованного под пистолет начала XIX века.
Бред какой-то. «Следствие покажет» — слабое утешение, но, похоже, единственное: наших извилин на это не хватит.
Вот пишут, ударил — за несколько часов до. Звонила брату в Краснодар; перезвонила потом: не волнуйся, все хорошо. (Опять же — всё наши массмедиа.) Между двумя звонками — какая-то бездна, смысловая дыра.
У меня с десяток знакомых, знавших его, что называется, «хорошо». С хорошей стороны, разумеется. Сказал мне знакомый режиссер: «Он к нам приходил на спектакли, он был другом нашего театра».
И — Город. Мы ведь о нем. Петербург как будто с какой-то нервозной готовностью, с режущей глаза охотливостью предоставил для этого дикого преступления свои декорации, добавив к тому же, сверх всякой меры, своего, специфически петербургского абсурда. Тут, куда ни ткни, всюду словно издевка. Такое бывает? Убийца жил по соседству с организацией, полное официальное имя которой звучит не иначе как: Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу. Искупался он в Мойке прямо напротив этого управления, после чего уже побывал дома только на следственном эксперименте, — а здесь, в ста шагах от собственного жилья (после нескольких часов, проведенных в больнице), он подвергся допросу и дал признательные показания. Первый результат поисков останков был ошеломляюще неожиданным: Мойка отдала череп другого человека, неизвестно, как и когда упокоенного на ее дне — на том же месте, где этот убийца топил… то, что топил.
А это? Рядом, на Мойке, — Юсуповский дворец, где 103 года назад убили Распутина. Тело его утопили тоже в реке, правда не в этой и нерасчлененным.
Мимо дома автора исторических монографий постоянно проезжают экскурсионные автобусы: туристы, посетившие Юсуповский, будут помнить восковые фигуры Распутина и его убийц. А теперь какое-то экскурсионное бюро объявило об организации экскурсий к дому ученого-расчленителя. Больно тема востребованная — «Бандитский Петербург».
В доме, в котором произошла трагедия, располагается ресторан «Идиот», с вегетарианской кухней, с традиционной рюмкой водки от заведения. Настоящий эстет обязан оценить интерьер ресторана. Будущий убийца, известный историк, наверняка не раз входил в эту дверь под большим уличным козырьком в виде книги, на корешке которой значится слово «Идiотъ». Странная рифма с убийством Настасьи Филипповны — когда без подробностей.
Кстати, это литературное убийство произошло недалеко отсюда — на Гороховой, согласно тексту романа. Отсюда — пройти по набережной и повернуть направо. Минут десять ходьбы.
А до места другого убийства — из «Преступления и наказания» — еще ближе.
Да что там! Ближе даже, чем самому Раскольникову было идти с топором под полой. И ведь наверняка историк Наполеоновских войн ходил туда, а может быть, даже водил друзей-французов.
И да, все три преступления — два литературных, одно реальное — означаются отчетливыми предметными символами. В первых двух — нож и топор. В третьем — пила.
И уж совсем близко место, где Раскольников прятал добычу под камень.
Более того, Раскольников прятал добычу под камень еще и здесь, во дворе дома № 82, где непосредственно проживал этот наш современник, автор статьи «Дух армии Наполеона», только речь идет уже об экранном Раскольникове, — это покажется невероятным, но прямо здесь, во дворе, снимались эпизоды британской версии «Преступления и наказания». Волею английского режиссера Джулиана Джаррольда именно тут Раскольникову было дано услышать страшное слово «Убивец!» («Murderer!»).
А примерно за 40 лет до этого — мы во власти невероятных совпадений! — Иван Пырьев снимал в этом же дворе сцену для своего «Идиота»! К чему ресторан «Идиот», надо полагать, отношения не имеет! Ну не мог англичанин Стивен Огден, основатель ресторана «Идиот», быть осведомленным до такой степени о прошлом этого двора. В пырьевском «Идиоте» эпизод во дворе крохотный — всего лишь проходка — Ганечка ведет князя к себе домой. Снег идет, шарманка играет, и девочка, на которую оглядывается князь, пронзительным голосом поет: «Он вез ее в карете под белою фатой, и всех она пленяла своею красотой», — жестокий романс (специально сочиненный для фильма) — про то, как муж зарезал жену.
А ведь второй серии «Идиота» не было: у актера Юрия Яковлева сдали нервы. Экранные герои первой серии так и не узнали, чтó их ждет во второй. Получается, песенка, по замыслу создателей фильма предвосхищающая трагический финал, просто «атмосферно» повисла в воздухе, так ничего и не предвосхитила, кроме уже реального убийства в этом доме.
В общем, места более чем «достоевские».
Хотя мне кажется, знатока французской истории времен Наполеоновских войн Достоевский вряд ли интересовал. Мысли Раскольникова о Наполеоне он мог считать профанацией… Или нет? Но у Порфирия Петровича про Наполеона все уже есть — прямым текстом. «Кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?» А реплика Заметова «из-за угла»? — «Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алёну Ивановну на прошлой неделе топором укокошил?» Как же можно после этого не бояться превратиться в пародию?
Свидригайлов провещал, констатируя: «Наполеон его ужасно увлек». Убийственная констатация. Как же после этого «ужасно увлек» можно было, не боясь оказаться пародией, так серьезно относиться к себе, к своему любимому я?
А перейти Мойку, там «Англетер» — Есенин в петле.
Город словно выказывает свою претензию на соавторство нового кровавого сюжета. Или на то, что сам он этого сюжета чуть ли не главный герой. В этих нервных подмигиваниях неантропоморфного героя, каковым себя навязчиво рекомендует Город, словно намек на соучастие в преступлении. Но намек двусмысленный, исполненный каких-то кривляний. Все как бы так, да не так: как бы я тут, ку-ку, только это не я… Все доводится до неправдоподобия, до невозможности, до какого-то сюра.
Вот как раз в такие дни и начинает казаться, что Город сходит с ума.
На третью ночь после той, когда доцент пытался утопить человеческие останки, в том же месте — напротив Следственного комитета — прыгнула девушка в Мойку (это середина ноября!). На ней была бумажная треуголка, раскрашенная под флаг Франции. Другая снимала прыжок на видео — регистрировала, понимаете ли, перформанс. У сиганувшей в Мойку взяли, конечно, интервью, она что-то лепетала насчет концепции… Тогда же появились в нескольких местах трафаретные надписи на граните — «Зона утилизации тел» — с изображением отрубленных рук. Вот что это? Для чего? Актуальный художник-любитель, анонимный концептуалист, арт-партизан? Может быть, просто маньяк?
Вспоминается легкий шум в литературоведческих кругах в конце девяностых, связанный с публикацией текста Георгия Иванова «Дело Почтамтской улицы», — это своего рода «воспоминание» видного эмигрантского поэта, не предназначенное для печати, посланное им в 1956-м (в конце своей жизни) Роману Гулю, тогда ответственному секретарю нью-йоркского «Нового журнала». Там описывается преступление, будто бы совершенное в марте 1923 года на петроградской квартире, в которой прежде (до того) жил сам Иванов. Был убит человек, труп его расчленили и отправили багажом, без головы, железной дорогой подальше из города, а голову «с большой черной бородой» в мельхиоровой шкатулке, обернутой белой простыней, один из участников преступления бросил в прорубь, но промахнулся, так что шкатулка там и была обнаружена — «на льду реки Мойки против б. протестантской кирхи». Исполнителем этой неудачной акции автор называл своего бывшего друга Георгия Адамовича, ведущего критика русской эмиграции. Андрей Арьев, обстоятельно изучив дело, убедительно показал, что «мемуар» Иванова, мягко говоря, не отвечает действительности. Об этом бы не стоило говорить, если бы не жутковатое совпадение.
«Бывшая протестантская кирха» — это Немецкая реформаторская церковь, в тридцатые годы перестроенная согласно принципам конструктивизма во Дворец культуры работников связи. На это угловатое здание с другого берега Мойки глядит дом № 82, в котором и проживал («проживает»?) убийца. Именно здесь, напротив теперь уже бывшего ДК, наш современник бросал в воду мешки с останками человека.
Пускай «мемуар» Георгия Иванова — плод фантазии больного обитателя дома престарелых в пригородах Тулона. Но что получается? Именно здесь, на Мойке, на этом месте, отмеченном болезненными фантазиями отлученного отсюда поэта, они и осуществились однажды, эти фантазии, воплотились — только не в жизнь, а в реальную смерть, материализовались — с точностью до наоборот в отношении пола жертвы и прочих деталей, обретя еще большую выразительность в какой-то особой зловещей завершенности.
Надо отметить мрачность, заброшенность, обшарпанность здания этого бывшего ДК, расположенного прямо напротив дома убийцы. Революционный горельеф давно осыпался; на верхотуре башни, в которой не распознать контура колокольни, растет кривое одинокое дерево. Дом-то доцента как раз наряден вполне (архитектор фасада П. Ю. Сюзор), — наряден, но не сейчас, когда из-за косметического ремонта весь его фасад затянули густой сеткой, и пешеходы теперь, лишенные тротуара, должны передвигаться по дощатым настилам в пристроенном коридоре, отгороженном от проезжей части разновеликими щитами. Отсюда, из предусмотренного строителями проема, и выныривал историк-убийца со своей ношей, чтобы быстрым шагом подойти к перилам, не думая о камерах видеонаблюдения. Нет, все-таки это пространство между осыпающимся Дворцом культуры и фасадом доходного дома, затянутым сеткой, поделенное Мойкой, в темных водах которой плещутся отражения редких светильников, — место, благоприятствующее безумию, если тут постоять, подумать, побыть.
А ведь этот дом ленинградцы хорошо знали. И петроградцы, и петербуржцы, до того как они стали петроградцами. Там во дворе размещались бани — знаменитые Фонарные, они же Воронинские. Мы их называли «на Фонарях» (сейчас то ли ремонт, то ли снос, то ли что[20]). Раскольников до них недотянул, но его создатель мог сюда приходить — впрочем, теоретически: когда их открыли, Достоевский жил уже в другой части города, но в Петербурге это были лучшие бани.
И в Ленинграде они ценились. Там был замечательный пар. Хорошо было, купив пиво у банщика, устраивать, завернувшись в простыни, в раздевалке симпозиумы. Но мое воспоминание о другом, и оно, предупреждаю, дурацкое. Был я, значит, студентом. С третьего курса место нашей учебы было на Мойке, в ЛИАПе, здесь главное здание института. И вот однажды наступил вечер, когда наша группа, согласно подошедшей очереди, должна была участвовать в ДНД — добровольной народной дружине. То есть нам следовало слоняться по району часа полтора, отвращать своим присутствием потенциальных правонарушителей от их нехороших замыслов, а благонамеренным гражданам внушать уверенность в текущем вечере. Обычная практика тех лет. Это был мой единственный опыт участия в ДНД, совершенно формальный. Да все тогда было формальным, для галочки, это «поздний застой». В здешнем отделе милиции с нами провели инструктаж; не помню звания милиционера, он посвящал нас в секреты местной статистики и рассказывал о криминогенных точках участка. Одна показалась нам всем примечательной. Это лестница дома № 82 по набережной Мойки, — там, на площадке второго этажа, собираются маньяки и подглядывают через окно в женское отделение бани. Мы, конечно, пошли смотреть на маньяков. Никаких маньяков на лестнице не было, и вообще было непонятно, как и за чем тут можно подглядывать. Больше мне вспомнить о том дежурстве нечего, но мысль о маньяках как-то прочно связалась с образом этого дома.
Безобидные. Все же в сравнении познается… Почти святые. Может, их и не было вовсе? Может, милиционер тогда пошутил?
Лучше бы все они были такими. Лучше бы на женщин в бане — со стороны…
Вот бил ли женщин по лицу Наполеон?
Страшно, когда хотят стать бонапартами.
……………………………………………………………………………………
А потом случилось вот что.
Тоже невероятная история. Невероятная — потому что непонятно, как это технически могло получиться? — тронуться и с места рвануть прямо в Фонтанку, не задев перил! Такое только здесь и возможно — перед Гуманитарной академией, где спуск к воде таков, что гранитные тумбы слишком широко разнесены по краям. Вроде бы гибэдэдэшник попросил перепарковаться, и, трогаясь, пятидесятишестилетний водитель от волнения перепутал педали, нажал на газ вместо тормоза.
Машина быстро оказалась на середине реки, ее понесло течением, у всех на глазах стала тонуть.
Помимо водителя, в салоне был девятилетний мальчик и девочка в люльке — пять месяцев.
Двое прохожих бросились в воду. Один за другим. Не сговариваясь.
Молодые люди — риелтор, художник.
Кто-то из них потом сказал, что один бы не справился.
Это простой и хороший сюжет. Хороший в том смысле, что просто хороший. Петербург, мне кажется, в чем-то таком нуждался.
Посмотреть непредвзято — невероятны обе истории. Что-то в них от литературщины, как привыкли мы ее понимать, — с непременным «уроком». И с детализацией — что-то вычурно петербургское видится в этом. Но как же быть, если так было?
Относительно второй надо добавить, что температура воды была четыре градуса. Как следствие — гипотермия. Иначе — переохлаждение. Всех забрали в больницу.
Но все хорошо. Все спасены. Все живы.
Случилось это в городе Санкт-Петербурге 16 ноября 2019 года, на девятый день после того убийства.
Дальше, глубже, альтернативнее…
Есть некоторое число ультрачитателей, по всей вероятности небольшое, которое полагает, что Раскольников никого не убивал. Знаю, что есть. Лично я с такими не знаком, но их альтернативные концепции в пересказах до меня доходили. Суть всех этих умозаключений в том, что «Преступление и наказание» следует воспринимать как поток сознания больного Раскольникова, чьим печальным состоянием кто-то пользуется, — Родиона Романовича явно подставили, он жертва сторонних манипуляций. Возможно, настоящий убийца — Разумихин, родственник Порфирия Петровича, а может быть, кто-то другой; цель взыскательного читателя — разгадать ребус и разоблачить убийцу, доказательства вины которого будто бы зашифрованы в самом тексте.
Можно пойти дальше и объявить роман сном Раскольникова. Повод к такому прочтению есть. После убийства герой в своей комнате засыпает в полубредовом состоянии; потом его будят Настя и дворник с повесткой. Раскольников отправляется в контору, далее прячет деньги под камнем, приходит к Разумихину, возвращается, ложится на диван, вновь засыпает, пробуждается от «ужасного крика». Пробуждение ложное — то ли снится ему, то ли мерещится, как бьют хозяйку. Настя приносит еду. Потом беспамятство — «лихорадочное состояние, с бредом и полусознанием». Но где гарантия того, что он из этого состояния вышел? Не есть ли все дальнейшее сон его и не было ли сном все предыдущее, включая убийство, — все, начиная с первого абзаца романа, когда он «медленно, как бы в нерешительности, отправлялся к К — ну мосту» — не совсем ведь к Кокушкину, а почти к Кокушкину, как бы к Кокушкину: К — ну. Ну, «к К — ну мосту»? Не сон ли все это — с множеством ложных пробуждений?
Смог же ступенчато просыпаться в последнюю ночь своей жизни Свидригайлов. Первое мнимое пробуждение обмануло как его самого, так и читателя, но откуда читателю знать, когда Свидригайлов уснул по-настоящему. Граница между явью и сном здесь размыта, или лучше — стушевана, — не этим ли словом Достоевский обогатил русский язык? И откуда нам знать, окончательно ли проснулся в гостинице Свидригайлов и не есть ли его самоубийство — событие сна, что-то вроде очередного ложного пробуждения? А дальше — сон, но теперь без него.
Тогда весь роман — это многослойный сон Свидригайлова, включающий сны о Раскольникове.
Или, напротив, многослойный сон Раскольникова, содержащий сны Свидригайлова.
Или еще лучше — они оба снятся друг другу, Раскольников и Свидригайлов. Их сны — как параллельные миры с общими «складками». Пример такой «складки» (есть и другие) — кусты на Петровском острове, под которыми внезапно уснувший Раскольников, еще не преступник, оказывается во власти мучительного кошмара — долгого, методичного избиения лошади.
В свое время Шкловский распознал в этих кустах «тот самый куст», под которым предполагал убить себя Свидригайлов. Как известно, до Петровского острова он так и не дошел — застрелился на Петербургском. Его последние блуждания по Мокрушам — характерно, что Достоевский ни разу не употребил это «говорящее» название местности, — отягощались мрачной грезой, — странно: то, что «мерещилось» ему, было на самом деле, но он этого тогда не видел: «…высоко поднявшаяся за ночь вода Малой Невы, Петровский остров, мокрые дорожки, мокрая трава, мокрые деревья и кусты и, наконец, тот самый куст…»
И вот наблюдение Шкловского: «Свидригайлов как будто ищет тот куст, в котором спал Раскольников и о котором больше ничего в романе не говорится».
Хотя почему же? Кое-что говорится.
Строго говоря, «и, наконец, тот самый куст» определенно относится к тому «большому кусту», о котором думал Свидригайлов этой ночью в гостинице: «Выйду сейчас, пойду прямо на Петровский: там где-нибудь выберу большой куст, весь облитый дождем, так что чуть-чуть плечом задеть и миллионы брызг обдадут всю голову…» Он думал об этом, стоя перед открытым окном, вглядываясь в темноту, — не то во сне, похожем на явь, не то наяву, как будто во сне. Но если то сон, то только ли его, Свидригайлова? Сон-то ему наведен. Во время тех последних блужданий — вроде бы уже наяву (наяву ли?) куст, до которого он так и не доберется, будет ему, вспомним еще раз: «мерещиться» — то есть, по сути, сниться (а может, сниться во сне?).
«Свидригайлов знает про убийцу то, что может знать только сам Раскольников», — это у Шкловского. Но как знать, — может, «может», а может, и нет. Может, никто ничего не «может». И тем более «знать». Да, это «тот самый куст», под которым Раскольников пережил свой персональный кошмар, но Свидригайлов не обязан знать, что этот «тот самый» — «тот самый», — довольно и того, что Свидригайлова тянет к нему, влечет.
Сторонники идеи многомирья могли бы объяснить притяжение куста общей «складкой» или еще чем-нибудь другим соединительным, сочетательным, взаимосущим и взаимопроникновенным. Читателю открыты оба мира с поправкой на искажения при их локальной интерференции, но сами герои живут каждый в своем.
А может быть, они вообще все друг другу снятся, если продолжать в том же духе, — и Мармеладов, и Соня, и третьестепенные персонажи вплоть до пьяной девочки, которую спасал Раскольников (она так и не пришла в себя). А все события — это внезапные резонансы персональных снов, рельефность которых обусловлена четкостью совпадений. О, да тут роман можно, оказывается, прочитать как фантастику, с психоделикой! На любой вкус. Хочешь — ближе к науке, хочешь — в мистику подавайся.
Ну, это все не на мой вкус. Просто сейчас фантазирую на тему возможных фантазий.
Что меня по-своему радует (в том же ключе) — наличие в «Преступлении и наказании» героя по фамилии Чебаров; этот закадровый персонаж, «надворный советник и деловой человек», манипулировал хозяйкой квартиры Раскольникова, дабы получить с Родиона Романовича по просроченному заемному письму. Но что замечательно: столь же закадрово этот персонаж присутствует в «Идиоте», — на сей раз он манипулирует Бурдовским в надежде отобрать у Мышкина часть наследства. Сколь бы ни была неприглядной его сюжетообразующая роль в отдельно и вместе взятых романах, столь же замечательно его положение в качестве связующего звена между двумя мирами. Мышкин знаком с Чебаровым, Раскольников, по-видимому, тоже да, шапочно, а если в личном порядке нет, то знает его через квартирную хозяйку и Разумихина. Стало быть, между Мышкиным и Раскольниковым по «теории рукопожатий» всего один-два человека. В принципе, Раскольников мог бы передать через Чебарова привет Мышкину. Правда, этот привет дошел бы до князя через два года: к моменту появления Мышкина в Петербурге Раскольников уже отбывал срок на каторге. Вообще говоря, через этого Чебарова могли бы перезнакомиться герои обоих романов, а некоторые из них наверняка были и так знакомы, о чем нам, впрочем, дано только догадываться.
«Идиот» — роман тоже «петербургский», хотя Петербург здесь представлен не столь рельефно. В «Идиоте» Петербург — менее мрачный, менее депрессивный, более, что ли, нейтральный — не претендующий на роль самостоятельного героя. Хотя само имя Петербург (всегда без Санкт-) звучит в «Идиоте» значительно чаще, чем в «Преступлении и наказании», что может удивить, — читатель «Идиота» действительно почти не замечает этих многочисленных поименований. Петербург в «Идиоте» не так навязчиво и болезненно напоминает о себе. Это Петербург, но несколько иной Петербург. И вот эти два мира, эти два самостоятельных Петербурга, тоже соединяет закадровый Чебаров. Он как трубочка между сообщающимися сосудами, которые, однако, заметно отличаются по форме.
Что касается «теории рукопожатий», многие из нас, наверное, применяли ее по отношению к лицам из отдаленного прошлого. Ну так вот, сообщаю: между мною любимым и Федором Михайловичем Достоевским всего три человека — три знакомства. Цепочка в три звена — не единственная, есть варианты. Мостик в два знакомства пока не зафиксировал, но теоретически и такой может быть (с Толстым и Чеховым точно есть). Но здесь я не знакомствами с классиками похваляюсь, а докладываю о возможности одного умственного приключения вследствие подобных условных соединений.
Дело вот в чем. В середине первой главы первой части «Идиота» — по существу, в начале романа — то, что принято называть образом автора, внезапно конкретизируется, персонифицируется посредством местоимения «я». Достоевский — вдруг! — начинает говорить от себя лично. Это тем более замечательно, что в дальнейшем ничего похожего мы в романе не встретим, — автор откажется от демонстрации собственного «я» и лишь в редких случаях обозначится неопределенным и неответственным «мы». (Разве что в начале четвертой части автор-рассказчик отвлекается от сюжета и заявляет «от себя» о своем отношении к одному из персонажей Гоголя, — этим случаем пренебрежем.) А тут — прямо: «Я…» — в «Идиоте», по сути, единственный раз — по праву свидетеля происходящего, — в единственной фразе, вот так: «Я видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели…» — речь там о науке всезнайства (избыточной информативности, сказали бы сегодня), это он отреагировал на вагонную болтовню Лебедева, своего же персонажа, но нам сейчас решительно безразлично, о чем речь; здесь главное — я. Я — это он, непосредственно Достоевский. Подозреваю, что он прозевал это «я» при окончательной правке, — в иных случаях он, похоже, «я» исправил на «мы». Не важно! Важно, какие это «я» открывает возможности нам! Мы, уже по нашим цепочкам знакомые с Достоевским, сразу же через предъявленное нам это авторское «я», принадлежащее телу романа, попадаем туда, в начало повествования, в «один из вагонов третьего класса», и с ходу знакомимся — лично, а не как абстрактные читатели — через это «я» с князем Мышкиным, а также Рогожиным и примкнувшим к ним Лебедевым. Но подождите: а за кем тут в вагоне четвертое место? Почему пустует? Не для себя ли приберегло это место авторское «я» Достоевского, а потом передумало — не захотело больше светиться? И теперь это место предназначено нам: сидим тихо и не высовываемся? Мы — там. Следуя стратегии «рукопожатий», мы теперь легко через Мышкина и общедоступного Чебарова знакомимся — лично! — с Раскольниковым. И со всеми, кто в «Преступлении и наказании». Вот это да! Каков фокус! Раз-два — и мы в том мире сообщающихся романов. Здравствуйте, господа персонажи!
Не ждали?
Ну так что же насчет идей Достоевского?
Задают, задают вопросы, так или иначе с его идеями связанные.
Прямо как Петрашевский, который встретил молодого Достоевского, выходящего из кондитерской у Полицейского моста, и обрадовался случаю познакомиться: «Какова идея вашей будущей повести?»
Что ответил Достоевский, история умалчивает, но точно известно — стал отвечать. Толстой бы не стал отвечать. Но это их право. А мы-то что? А мы без их идей никак не можем. Нам надо идеи назвать, сформулировать. Да мы уже полагаем, что они все сформулированы в окончательном виде и по порядку где-то разложены — в каком-то особом хранилище; это берется как данность. «Какие из идей Достоевского можно перенести на современную почву?» Ну как на это ответить? Седьмую идею. Одиннадцатую. Сорок четвертую.
Мне кажется, когда мы начинаем очень конкретно и предметно формулировать так называемые идеи Достоевского, ударяемся в неизбежное упрощенчество и схематизм. Да, безусловно, он сам готов был излагать идеи — как, например, в письме к Каткову идею еще не написанного романа, — но одно дело — расчет на скорый аванс, и другое — нечто неизреченное, невычленяемое из уже в последних пределах осуществленного. А мы среди этих как раз тонких материй высматриваем, чему бы ответить могли красотой наших правильных формул — в соответствии с тем, что нам кажется актуальным сегодня. Или интерпретируем афоризмы. В любом случае это уже, скорее, наши идеи. Наши идеи — за чтением Достоевского. И ответственность Достоевского за них относительна. Хотя в этом тоже есть его непреходящая актуальность: индуцировать в наших читательских головах убежденность в том, что мы им не оставлены.
Достоевский-плюс. Продолжение

Юбилейный январь
Волею жены и по стечению благоприятных обстоятельств нахожусь во Флоренции. Идея-то была меня развеять, отвлечь от работы, от книги о Санкт-Петербурге, но — Флоренция! — январь! — Достоевский! — уж я-то знал это, он завершил тут «Идиота» в январе месяце 1869 года! И вот еще одно, касаемо личного восприятия порядка вещей, — опять совпадение: мы ничего не подгадывали специально, просто проведать захотели Флоренцию, когда меньше всего туристов, и только в ночь перед вылетом я понял, что упустил из внимания год — круглая дата у нас получалась: Достоевский завершил здесь «Идиота» не просто в свой исторический срок, а ровно 150 лет назад! Ровно 150 лет назад, в эти же январские дни, он, опоздав к сроку, дописывал здесь последнюю главу, одиннадцатую, четвертой, последней части романа, — заставляя князя Мышкина метаться по Петербургу в предчувствии большой беды. В журнальной публикации последним текстуальным элементом дата была: «17-го января // 1869.», — это, конечно, по юлианскому календарю, понятному русскому читателю. А в Европе у них с Анной Григорьевной в этот день было число января — 29. Дату поставил в конце не просто так: она косвенно объясняла, почему задержали декабрьскую книжку «Русского вестника» и почему подписчики получат финал «Идиота» отдельно напечатанным приложением; собственно, читатель это и сам знал («…автор, находясь за границей, замедлил с доставкой рукописи» — извещала редакция), но теперь за автором слово — последнее: конец — делу венец. (Не так уж и опоздал сильно…)
По-видимому, в этот день Достоевский и дописал последние слова «Заключения»[21], весьма показательные для места пребывания писателя. Лизавета Прокофьевна, генеральша, повторяет жалобы на заграницу самого Достоевского (из его письма С. А. Ивановой), ну это про то, что «зиму, как мыши в подвале, мерзнут» (хотя нет — наоборот: это Достоевский повторяет в письме к С. А. Ивановой уже сказанное Лизаветой Прокофьевной: «как мыши в подполье»). Короче, хочет генеральша в Россию: «„Довольно увлекаться-то, пора и рассудку послужить. И всё это, и вся эта заграница, и вся эта ваша Европа, всё это одна фантазия, и все мы, за границей, одна фантазия… помяните мое слово, сами увидите!“ — заключила она чуть не гневно, расставаясь с Евгением Павловичем».
Примечательно, что «Заключение», а не «Эпилог».
«Заключила она чуть не гневно».
Заключила!
Ну так эти слова ее и есть «заключение».
Всего романа, стало быть.
Не поспоришь.
Обзор метаний
Фактор юбилея — вещь сильная. Вы, приехав из Петербурга, прогуливаетесь по Флоренции, зная, что здесь, ровно 150 лет назад, бродил Достоевский, воображая Петербург, в котором давно не был и по которому заочно «водил» своего героя.
Соотносил ли он со своими флорентийскими маршрутами причудливые перемещения князя по памятным улицам Петербурга?
Наверное, да. Мы ведь знаем, что иногда он выхаживал, вышагивал тексты, «добывал ходьбою», сказал бы Даль.
Показательно, что в романе, писанном за границей, герой, склонный к импульсивным передвижениям, чаще всего именно что блуждает — отправляется куда-то не туда, а если туда, то все равно как-то не так, неправильно. Вспомним, как пьяненький генерал Иволгин водил его по Петербургу, равно как за нос — якобы к Настасье Филипповне.
Вот и в последней главе, написанной во Флоренции, теряющий самообладание князь мечется по Петербургу с мыслями о Настасье Филипповне, еще не зная, что она мертва.
Петербург, с щедрой прямолинейностью предлагающий свои улицы и переулки, словно насмехается над героем.
А может быть, и над автором тоже?
Мышкин приехал в тот роковой день — день потери рассудка — на воксал Царскосельской железной дороги. Тут же отправился к Рогожину на Гороховую — в надежде узнать о Настасье Филипповне. Вероятно, отяжелять дополнительными значениями это техническое перемещение в задачи автора не входило, но тут за логику маршрута отвечает извозчик, — так, на заметку: думал ли о том Достоевский или нет, но от вокзала до Гороховой князь не мог доехать иначе, чем проскочив мимо Семеновского плаца — места казни самого Достоевского.
После невстречи с Рогожиным на Гороховой князь Мышкин торопится «в Измайловский полк», где Настасья Филипповна снимала две комнаты у некой «учительши». Измайловский полк со своими «ротами» как исторический район Петербурга занимает немалую площадь, но Достоевский, проживая во Флоренции, избегает адресной детализации, хотя, несомненно, в момент сочинительства он какое-то конкретное место в уме держал, хотя бы для удобства представлений, и нам сдается, оно должно быть связано с его биографией, — скорее всего, ему вспоминался дом в 3-й роте, где он жил лет семь назад и писал там «Записки из Мертвого дома», или, быть может, ему представлялось что-то близкое к Измайловскому собору, в котором два года назад был обвенчан с Анной Григорьевной. Квартиру «учительши» за этот день князь посетит два раза, что только подтверждает необходимость технической фиксации места на воображаемой карте города.
Как бы то ни было, кратчайший путь «в Измайловский полк» — по заповедным местам Раскольникова.
Разумеется, и для Достоевского лично эти места примечательны — Садовая, Сенная… — нет, мы больше скажем: всю остроту сей примечательности он даже представить не мог у себя во Флоренции.
Потому что еще жить предстояло порядком, а жизнь щедра на сюрпризы.
В самом деле, вот, к примеру, князь Мышкин, судя по всему, должен проехать мимо гауптвахты на Сенной площади, где через пять лет проведет Достоевский два дня под арестом. Вряд ли бы гость Флоренции, известный русский писатель и бывший каторжанин, мог поверить в реальность такого ареста, когда бы открыли ему тайну ближайшего будущего. А уж Мышкину-то и вовсе не до того было.
В «Измайловском» князю рекомендовали «съездить в Семеновский полк, к одной даме, немке, знакомой Настасьи Филипповны, которая живет с матерью», но сначала попробовать еще раз «достучаться к Рогожину».
Обращаем внимание: Достоевский обозначает конечные пункты передвижений (информация сродни той, что сообщает Мышкин извозчикам), у Достоевского все динамично: Мышкин мечется — надо показать его смятение, темп. А мы тормозим. Нам бы разобраться с траекторией перемещений князя. Простим себе небольшое занудство.
Если бы князь возвращался к Рогожину по Загородному, он бы как раз оказался, тут близко, «в Семеновском полку» — или в Семенцах, как называли этот район петербуржцы, — но Достоевский, похоже, избавляет героя от необходимости повернуть на Гороховую второй раз от Семеновского плаца, раз оставлена знакомая Настасьи Филипповны на потом — на второй черед после Рогожина. Хотя кто его, Мышкина, знает, — нежеланию зря тревожить незнакомую даму, согласимся, могли быть у князя простые причины. Ладно, все равно никуда от этого места не деться: после второй невстречи с Рогожиным князь, согласно советам, «поскакал в Семеновский полк» — представляем как: по Гороховой, в обратную сторону — в сторону, да, места казни писателя.
Безрезультатно.
«Он вспомнил однако, что ему нужно остановиться в трактире, и поспешил на Литейную», несомненно — мимо дома у Пяти Углов, где Мышкиным сказано было: «Я вас… Настасья Филипповна… люблю. Я умру за вас, Настасья Филипповна» — и где сам Достоевский, по молодости, терял голову от Авдотьи Панаевой, и далее — через Владимирскую площадь — мимо места будущего памятника создателю «Идиота» и храма, прихожанином которого он станет по возвращении в Россию, и далее, далее — мимо дома, в котором были написаны «Бедные люди» (и уж если на то пошло — мимо современной гостиницы «Достоевский»), — а что хотите? — Петербург: куда ни поедешь, всё места достоевские.
Трактир с гостиницей «на Литейной», в коридоре которого князя Мышкина однажды уже чуть не прирезал Рогожин, был, вероятно, на углу Моховой и Пантелеймоновской (как авторитетно считает Б. Н. Тихомиров). Сняв там номер, князь в полном отчаянии снова отправляется на Гороховую и, в третий раз не застав Рогожина, торопится снова «в Измайловский полк», на бывшую квартиру Настасьи Филипповны. Оттуда, сам не свой, «в невыразимой тоске», — уже пешком — возвращается в трактир «на Литейной» — «может быть, прошел гораздо больше, чем следовало» (интересно, каким путем, если он по дороге не заходил к Рогожину?). Но скоро покидает свое пристанище, и только тогда «в пятидесяти шагах от трактира, на первом перекрестке, в толпе» убийца Настасьи Филипповны сам находит его.
Далее — тягостный поход Рогожина и Мышкина — по разным сторонам улицы — на Гороховую, где уже покоится на рогожинской постели тело Настасьи Филипповны (в романе — «труп»; исключительно «труп»).
Если все передвижения князя нанести на карту, с поправкой на адресную неопределенность, получится, что траектория его передвижений тяготеет к замкнутому контуру, этакому аттрактору. При этом он трижды пересекал Сенную, мимо Семеновского плаца проезжал не менее трех раз, по два раза побывал в одной из Измайловских рот и в трактире на Литейном, на крыльце дома Рогожина на Гороховой появлялся четыре раза, а на перекрестке Гороховой и Садовой — семь раз.
Всего он за день преодолел, мотаясь по Петербургу, расстояние более двадцати верст, а скорее всего, более двадцати пяти. В основном — на извозчике. Последние два перехода — пешком.
Невский он пересекал четыре раза, Фонтанку — не менее семи.
Метаниям князя Мышкина можно найти более наглядный геометрический образ. Вспомним из средней школы о таком векторе — перемещение. Зафиксируем пять мест, обозначенных в тексте, и соединим соответствующие им точки векторами (направленными отрезками) в соответствии с передвижениями героя. Картинка получится выразительная, хорошо отражающая смятения несчастного князя. Сумма этих векторов — по правилу многоугольника — будет представлять вектор, направленный из начальной точки блужданий к конечной, то есть от воксала Царскосельской железной дороги к роковому дому на Гороховой. Царскосельский воксал с железнодорожным полотном, вообще говоря, занял часть прежнего Семеновского плаца еще в годы московской юности Достоевского. Гражданская казнь над петрашевцами совершилась на плацу где-то рядом — расстоянием до ее места от вокзала в масштабах всего пути можно смело пренебречь: так что начальную точку странствий обозначаем наиболее подходящим идентификатором «Семеновский плац». Тогда векторная сумма всех блужданий любимого героя Достоевского будет представлять собой вектор, направленный от места казни самого писателя к месту финальной драмы его романа — то есть от Семеновского плаца до сумрачного дома на Гороховой. Заметим, что промежуточные отклонения, заданные адресной неопределенностью, на результирующий вектор не влияют. Как бы ни метался Мышкин, все в конечном итоге свелось к одному направлению: стрелка суммарного вектора направлена от места реальной казни к месту убийства, пускай и литературного (тоже ведь казнь). Зрелищно, согласитесь.
Достоевский, конечно, об этом не думал. Но что получается?
Получается, что за тысячи верст от реального Петербурга писатель водил по воображаемому Петербургу своего героя, а на самом деле это далекий Петербург водил по себе писателя.
Тогда как сам Достоевский бродил по Флоренции.
И вспоминал Петербург.
«В этих окрестностях…»
Возможно, прогулки по Флоренции как-то накладывались в его воображении на петербургскую топографию, пленником которой он сделал Мышкина. Возможно, мысленно он совмещал ключевые локусы двух городов. Возможно, за точку отсчета он брал дом, в котором они проживали тогда с Анной Григорьевной.
Этот дом находился на левом берегу Арно вблизи (возможно, на) Пьяцца Питти: «…вблизи palazzo Pitti», — вспоминала А. Г., но мемориальной доской отмечено здание непосредственно на самой площади — с дверью под номером синего цвета 22 (нумерация домов во Флоренции путана очень, — нумеруются, во-первых, двери, а не дома, а во-вторых, здесь важен цвет номера). Впрочем, надпись на памятной доске вполне корректна — в отношении достоверного события «…завершил роман „Идиот“» («…compí il romanzo „L’Idiota“») употреблено осторожное «В этих окрестностях…» («In questi pressi…») — об этом нюансе я, не владеющий итальянским, узнал еще в Петербурге, из давней публикации Н. П. Прожогина.
Мемориальным доскам, вообще-то, чужда неопределенность. Почему-то флорентийское «в этих окрестностях» напоминает мне петербургскую «эту местность» — на другой доске, что на углу «дома Раскольникова» в Столярном переулке. «Трагические судьбы людей этой местности Петербурга послужили Достоевскому основой его страстной проповеди добра для всего человечества». Как бы то ни было, петербургскую «эту местность» (и эту, и эту, и ту тоже…) он, конечно, в уме держал «в этих окрестностях» во Флоренции.
Мне было трудно изноровиться сфотографировать мемориальную доску, потому что в нашем юбилейном январе часть дома — с нею как раз — закрыта строительными лесами: идет ремонт косметический. По той же причине загорожен строительными щитами (соседняя дверь, но под номером красного цвета 37) канцелярский магазин, известный своей древностью: гордое число 1856, изображенное над дверью, говорит само за себя. Щиты, однако, можно обойти — магазин работает.
Дорогой. Канцелярские товары тут все подарочные, сувенирные, включая перья и какую-то особую бумагу, — все это не для обиходного пользования. Мы с женой были единственные посетители. Нас встретила хозяйка. Заговорили. Очень она оживилась, узнав, что мы из России. Конечно, спросили о Достоевском. Да, она знает Достоевского. Ее прапрадедушка встречался с Достоевским, потому что русский писатель сюда заходил покупать бумагу, — их семья уже в шестом поколении владеет магазином. Хозяйка сказала, что Достоевский поселился здесь, в этом доме. Этажом выше (у итальянцев это «первый») размещался склад, и там жил, насколько я правильно понял, прапрадедушка со своим семейством, а еще выше — там был пансион: вот там и писал Достоевский своего «Идиота».
Что касается магазина, даже сомнений нет, ну не мог никак Достоевский сюда не зайти (тем более что в те времена продавали здесь писчие принадлежности, отнюдь не ориентированные на туристов), так что насчет встречи с прапрадедушкой охотно верю, а вот сообщение о точном местожительстве четы Достоевских — прямо у пращура над головой, это, похоже, из области семейных легенд. Возражать хозяйке мы не стали, и жена моя даже купила у нее некий предмет — парчовый мешочек какой-то.
Тогдашний адрес Достоевского между тем известен, он несколько иной: улица Guicciardini (Гвиччардини), № 8, но ныне такого не существует, дом, судя по всему, не сохранился. Адрес установил в свое время Н. П. Прожогин (Достоевский. Материалы и исследования. Т. 5. 1983) по сделанной лично Достоевским библиотечной записи. Дело в том, что на правом берегу Арно, на площади Санта-Тринита, Святой Троицы, в палаццо Буондельмонте размещалась библиотека с русским отделом — так называемым русским кабинетом Вьёсё. Услуги библиотеки были платные. Посетители, приобретая право на пользование читальней, должны были расписываться в специальной книге с указанием своего адреса. В одной из таких книг (регистре) нашел Н. П. Прожогин еще две, в дополнение к одной уже известной, прежде не замеченные записи Достоевского; так был определен адрес, где дописывался «Идиот».
Надо два слова сказать о первой записи. Она относится к первому посещению Достоевским Флоренции — в 1862-м, краткосрочному (не больше недели), это когда вдвоем со Страховым они совершили вояж по Италии. Факт посещения «кабинета Вьёсё» установил А. Н. Гедройц в 1974 году, он и раскопал эту запись в регистре, о чем сообщил в 1980-м А. Л. Осповат, опубликовав снимок соответствующей страницы. Мы же говорим здесь потому об этом, что, согласно данной записи, остановились тогда Достоевский и Страхов в гостинице «Швейцария». А она в двух шагах от «кабинета Вьёсё». И Достоевский о ней не забыл, конечно, когда привез жену во Флоренцию. Как-нибудь так: «Посмотри, Аннушка, вон там на третьем этаже мы со Страховым жили» (а по-итальянски — на втором; и в угловой комнате, разумеется). Кстати, сейчас там доска мемориальная — здесь останавливалась Дж. Элиот.
Ну так вот.
Возвращаясь к Пьяцца Питти.
Придираться к словам хозяйки магазина, в общем-то, причины нет: где-то здесь — «в этих окрестностях» — они и жили, не в этом доме, так рядом — маститый писатель и его молодая беременная жена. Как бы то ни было, допустимо предположить, что в фантазиях Достоевского место его флорентийского проживания соотносилось как-то с петербургским домом Рогожина. Достоевский писал ночами (уточним: и ночами тоже), когда Анна Григорьевна уже видела сны. Каково ему так? — она спит, а он рядом сочиняет жуткую сцену с трупом Настасьи Филипповны, лежащим на рогожинской постели под американской клеенкой и простыней. По творческой необходимости он, конечно, раздваивается, попеременно перевоплощается в своих героев — сначала в Рогожина, да так, что самому становится страшно, и вот он уже Мышкин — и еще страшнее. Правда, правда! Если читателю страшно, значит писателю было еще жутче — это закон!.. А портьера, которой завешена кровать, — не отсюда ли он взял ее, не из этой ли комнаты? А разнокалиберные подушки с дивана? Три месяца назад, в Милане еще, он набросал в черновике сцену — там был матрас какой-то, а разнокалиберных подушек не было, и портьеры тоже. Представим бытовые условия написания последней главы, — не отсюда ли эта жутковатая достоверность почти сюрреалистического эпизода?
Вот цветы. Анне Григорьевне доктор прописал прогулки, и водил ее муж, вспоминает она, каждый день («каждый день»!) в сады Боболи, рядом с дворцом Питти, где, «несмотря на январь, цвели розы». Мы, допустим, в своем январе в саду Боболи не увидели цветущих роз, но мы видели их на площади Сан-Марко, белые розы, цвели, — а в Петербурге как раз в этот день минус десять ударило, и завалило весь город снегом, — так и тогда, наверное, так же было, — даже, думаю, был крепче в Петербурге мороз. А тут — свидетельствую! — январские розы! Имя города как цветок — Флоренция! Кафедральный собор у них — собор Святой Марии с цветком, и Достоевский был им восхищен, этим собором Санта-Мария дель Фьоре. И на гербе города тоже цветок. Крестоцвет.
Цветы как идея попадают в финальный эпизод «Идиота».
«Потому оно, брат, <…> ноне жарко, и, известно, дух… Окна я отворять боюсь; а есть у матери горшки с цветами, много цветов, и прекрасный от них такой дух <…>. Купить разве, пукетами и цветами всю обложить? Да, думаю, жалко будет, друг, в цветах-то!»
Так он ведь с этим замыслом о цветах уже во Флоренцию приехал. Еще в миланском черновике наметил Рогожину тему — подле трупа Настасьи Филипповны изрекать о цветах: «Купить разве, цветами обложить? Да жалко будет, ее жалко будет в цветах-то! Точно невеста». Попробуй-ка догадайся, на какие мысли наводил Федора Михайловича вид флорентийских январских роз.
Проблема «духа» была в окончательном тексте худо-бедно решена без цветов — с помощью четырех склянок ждановской жидкости. Рогожин, вероятно, купил их рядом с Гороховой — в Апраксином Дворе. Это противозловонное химическое средство производилось на заводе минеральных красок братьев Ждановых, на Петровском острове. Может быть, Достоевский и не знал, где находится этот завод, но почему-то покончить собой мечталось именно на Петровском острове Свидригайлову.
Без цветов, в общем.
Но если дом в окрестностях Питти — это правда дом Рогожина на Гороховой, нет ли других соответствий петербургских романных реалий флорентийскому «здесь и сейчас»?
Навстречу безумию
Итак, гостиница при трактире. Здесь на недолгое время устроился князь Мышкин (это где еще раньше Рогожин, во второй части романа, хотел его зарезать). Наш герой преодолевает путь отсюда, с Литейной стороны, до дома на Гороховой дважды — второй раз в сопровождении самого Рогожина. Это их совместное перемещение по выражению безысходности и ужаса перед неотвратимостью может разве что сравниться с походом Раскольникова, «как на смертную казнь», убивать старуху. Раскольников идет на убийство, а эти двое — к уже убитой одним из них. Старуха, по выражению Раскольникова, «бесполезная вошь», рухнет на пол с размозженной головой (и Лизавета так же), — а здесь, на Гороховой, лежит на кровати убийцы женщина неземной красоты, зарезанная почти без крови («…с пол-ложки столовой на рубашку вытекло; больше не было…»). Основной путь крестовые братья Рогожин и Мышкин, несомненно, проходят (в своем 1868-м) по не названной в романе Садовой — по разным сторонам улицы, лишь однажды сойдясь, чтобы отстраненно обменяться туманными репликами. От Гороховой рукой подать до Сенной, но там уже другие пути — за три года до них пройденные Раскольниковым (1865). Так и выходит у героев Достоевского — что Раскольников, что эти двое идут по Садовой в одном направлении, но по разные стороны от Сенной.
Надо заметить, расстояние по Садовой улице Рогожин и Мышкин преодолели немалое, и все по противоположным тротуарам, через толпу, да так, что Рогожин был за ведущего, а ведомый Мышкин не терял из виду Рогожина, который и сам не оставлял Мышкина без внимания. Понятно, что столь странный принцип парного передвижения мотивирован психологическим состоянием персонажей, и все же Садовая не по-европейски широка, Петербург не Флоренция, — когда я, читая, снимал по привычке кино у себя в голове, явно мешала мне известная широта Садовой.
Не исключено, что Достоевский, представляя скорбный путь своих персонажей, выхаживал ногами эту часть финального эпизода, как он прежде, считывая впечатления, поверял ногами блуждания Раскольникова — не только героя своего романа, но, по существу, и тогдашнего соседа. Сейчас Рогожин и Мышкин его соседями не были, персонажей и автора разделяли тысячи верст. Может быть, поэтому петербургские реалии в «Идиоте» менее конкретны, более расфокусированы, чем в «Преступлении и наказании». Мне кажется, замысел последней главы романа просто обязан был побуждать сознание автора «Идиота» к преображению живых флорентийских впечатлений в образы Петербурга, каким Достоевскому он запомнился. Финальное шествие Рогожина и Мышкина он мог, например, проиграть сам — в настоящем времени, — выходя из той же библиотеки на площади Святой Троицы и направляясь в сторону Питти, своего дома, то есть дома Рогожина на Гороховой. Тогда палаццо Буондельмонте совмещалось в сознании автора, вероятно, с трактиром «на Литейной», а русский кабинет Вьёсё — с номером при трактире, где поселился князь Мышкин в последней главе романа. Да нет, все еще проще: опять же пансион «Швейцария», где Достоевский уже останавливался однажды — когда в 1862-м со Страховым путешествовал по Италии, был в каких-то ста метрах отсюда. Почему бы и Мышкину не остановиться тут — то есть там как бы: в гостинице при трактире «на Литейной», если держать в голове Петербург? И вот теперь, возвращаясь домой к жене из читальни, начитавшись русских газет, автор «Идиота» переходит мост через Арно, так же как Рогожин и Мышкин перейдут мост через Фонтанку (а вот, кстати, по воспоминаниям Страхова об их тогдашних прогулках, Достоевский «находил иногда, что Арно напоминает Фонтанку»). За мостом он сворачивает на via dello Sprone — как если бы те двое, Мышкин и Рогожин, повернули на Садовую. Потом поворот направо — как вариант, на via de’ Guicciardini (как бы на Гороховую) — и вы у Рогожина, то есть в доме, где Достоевский ночью будет дописывать «Идиота» (ровно 150 лет назад, если иметь в виду наш персональный случай посещения Флоренции); тот ли это дом, что украшен мемориальной доской, или какой поблизости, не суть важно — здесь всё рядом.
Конечно, здесь все компактнее, чем в Петербурге. Via dello Sprone значительно короче Садовой. Так она и ýже ее в несколько раз. Лично мне представляется совместно-парный проход по разным сторонам улицы куда более естественным и выразительным, когда улица по-флорентийски узка и безлюдна, а не широка и полна по-петербургски народу, что наша Садовая. Впрочем, о какой тут естественности можно говорить, когда оба идут навстречу своему безумию?
Суммарный вектор
Хорошо. Вспомним теперь о векторной сумме всех петербургских блужданий князя Мышкина. Итак, результирующий вектор, как мы выяснили, направлен от Семеновского плаца к дому Рогожина и совпадает по направлению с Гороховой. О символизме (по-видимому, непреднамеренном) этого суммарного вектора мы говорили. Посмотрим, отвечает ли ему по топологии и символичности улица Гвиччардини (Guicciardini), в которой мы уже заподозрили соответствия нашей Гороховой?
А почему бы и нет? Улица Гвиччардини вместе с пор Санта-Мария (por S. Maria) образуют одно почти прямолинейное целое. Обе улицы соединяет мост через Арно, так же как части Гороховой соединяет мост через Фонтанку. Эта por S. Maria начинается у Старого рынка, где течет вода изо рта бронзового кабана, который, по свидетельству Анны Григорьевны, ее супругу чрезвычайно нравился (туда они по весне переедут, там дешевле). Кабан — замечательно, но нам интереснее площадь, примыкающая к улице с другой стороны, это — знаменитая piazza della Signoria, площадь Синьории. Тут, между прочим, автор «Идиота» имел возможность видеть под открытым небом мраморного Давида, того самого, настоящего, оригинал, а не копию, выставленную для нас. Площадь многим знаменита, но более всего эта пьяцца, мне кажется, должна была интересовать Достоевского одной исторической особенностью. Здесь казнили. Именно здесь 23 мая 1498 года повесили Савонаролу и двух его сподвижников, а потом сожгли их тела. Вот вам и аналог Семеновскому плацу. Трех привязанных к столбу Достоевский видел сам, ожидая своей очереди. Впрочем, к моменту написания «Идиота» на Семеновском плацу в реальности еще никого по приговору не казнили смертью — пока; и все же — тогда, в свой час, — ему пришлось там выслушать смертный себе приговор.
Князя Мышкина, как помним, весьма волновала проблема смертной казни. Монологи на эту тему Достоевский написал задолго до приезда во Флоренцию. Тем более della Signoria должна была его привлекать — и даже безотносительно забот об образе персонажа. Площадь эта в первую очередь будила в нем воспоминания о собственном стоянии на морозе, барабанном бое, внезапном фельдфебеле с известием о смягчении приговора.
Стало быть, вектору рокового перемещения князя Мышкина Семеновский плац — дом Рогожина на Гороховой улице (то есть суммарному вектору литературных блужданий героя в декорациях реального Петербурга) отвечает флорентийский путь по направлению della Signoria — пристанище Достоевских на площади Питти (или около где-то).
От места, где казнят, до места, где убивают любимого человека.
От места, где казнят, до места, где с любимым живут.
Врата Рая
Если скажут, что все это притянуто за уши, даже спорить не буду. Конечно притянуто. Но как-то странно выходит: я притягиваю, а оно и радо притягиваться. Не получается разве?
А ведь суммарному вектору петербургских метаний князя Мышкина можно найти и другое соответствие во Флоренции.
Оставим за все той же площадью Синьории изначальное значение квази-Семеновского плаца и направим отсюда вектор суммарного перемещения несчастного князя дальше — в самое известное, в самое знаковое место Флоренции, и притом ценимое Достоевским, — к фасаду собора Санта-Мария дель Фьоре, или, что в нашем случае то же, к Вратам Рая, восточным воротам Баптистерия, — они ведь друг против друга.
Благо сюда, в узкий перешеек между собором и Баптистерием, ведет via dei Calzaiuoli — безупречно прямая, — ну чем не Гороховая?
Вратами Рая знаменитое творение Гиберти назвал Микеланджело. Ими восхищался Достоевский. Во Флоренции он говорил жене (по ее воспоминаниям), «что если ему случится разбогатеть, то он непременно купит фотографии этих дверей, если возможно, в натуральную величину, и повесит у себя в кабинете…» — надо полагать, в петербургском кабинете (мечты, мечты!), которого нет и который не скоро появится. В Россию они вернутся через два с половиной года, пасынок Достоевского к этому времени продаст в Петербурге библиотеку отчима. Они поселятся в дешевой гостинице, потом, не найдя квартиры, — в меблированных комнатах, где родится сын. А в перспективе ближайшей, здесь, во Флоренции, когда «Идиот» будет закончен, им придется оставить жилье около Питти: слишком дорого здесь. И вот до кучи еще: совсем недавно, когда жили в Милане, пришло из Петербурга известие от долготерпеливого Алонкина: домовладелец отказался держать за Достоевским прежнюю квартиру — ту, что в Столярном переулке (проживавшая там семья покойного брата вместе с пасынком была обязана съехать), — естественно, причина одна: долги. Интересно, знал ли Достоевский, что копия этих дверей — Врат Рая — есть в Петербурге и она украшает Казанский собор?
Мог и не знать. А мог ведь и знать.
В любом случае восхищение Достоевским этими замечательными дверьми кажется несколько чрезмерным, по крайней мере неожиданным, — не потому, что они недостойны восхищения, а потому, что как-то мы не расположены ожидать от Федора Михайловича такого порыва. Надо же — «повесит у себя в кабинете»!
Кстати, технически это возможно (с точки зрения экспозиции). Сами двери «в натуральную величину» ни на какую кабинетную стену, понятно, не поместились бы, но имел он в виду, надо полагать, в натуральную величину прямоугольные панно по отдельности, которые и составляют ворота, — их десять. Десять историй из Ветхого Завета.
Поневоле пытаешься глядеть его глазами. Что же он разглядел здесь такое? А ведь что-то ему тут определенно увиделось, что-то тут ему было — помимо общего впечатления.
Сотворение Адама, сотворение Евы, грехопадение, изгнание из рая. Другой сюжет: Авель и Каин — и вся история братоубийства. Третий: Ной, ковчег, опьянение Ноя. Сыновья Иафет и Сим отвернулись, чтобы не видеть срама отца, а недостойный Хам на срам смотрит, и он предъявлен, Ноев срам, во всей откровенности нам с Хамом, так что мы вместе с Хамом глядим и видим. Правильно ль это? Не отвернуться ли лучше? Спасибо туристам из Китая — всегда готовы загородить.
Но вот четвертый сюжет: Авраам, явление трех ангелов ему (вспомним «Троицу» Рублева), жертвоприношение Исаака. Авраам нож занес, но ангел, спустившийся с небес, остановил ему руку.
«…Выбрал место, где сердце, глаз смотрит, я тут погрузил изо всей силы, секунда, на 2 вершка, голову приподняла, одна капля крови, внутреннее излияние».
Это Рогожин — из наметок финальной сцены, — Достоевский сделал наброски еще месяца два-три назад, в Милане. И вот теперь — с этим в голове — разглядывает Врата Рая. И смотрит на ангела, остановившего руку с ножом.
В тех миланских набросках нет слова «нож». Прежде о ноже было много в романе. Так много, что из журнальной публикации Достоевский в конечном итоге вычеркнул целый кусок, относящийся к предчувствиям князя (после первого посещения дома Рогожина). А в миланском черновике с набросками последнего эпизода на Гороховой — о ноже, если сказать словами князя, ни-ни-ни! Нож будет назван ножом — здесь, во Флоренции.
«Он у меня всё в книге заложен лежал…»
А книга с ножом в «запертом ящике».
В миланском черновике не было книги, — и она вместе с ножом появляется здесь, во Флоренции. (Ну как бы на Гороховой, что ли.)
Что это за книга такая, что ее надо запирать в ящик? Или, может, это Рогожин от греха подальше прячет нож от себя?
Ну да. Интерпретаторы эпизода знают, о какой книге сказал Рогожин. Принято думать, что это «История России» Соловьева. Не так давно (в третьей главе второй части романа), когда князь Мышкин впервые пришел к Рогожину на Гороховую, действительно видел он на столе том «Истории» Соловьева. Рогожин рассказывал тогда на Гороховой, как в Москве еще попрекала его Настасья Филипповна необразованностью: очень темен, книг совсем не читает и не знает всеобщей истории. И как она здесь, на Гороховой, порадовалась, увидав, что за «Историю» Соловьева вроде бы взялся.
Поговорим о книге. Это важно.
«Историю» Соловьева он тогда действительно заложил ножом на глазах князя Мышкина, — какой том, неизвестно; к тому времени уже семнадцать томов вышло.
Да и прекрасно. Что из этого следует? Неужели мы поверили, что все эти месяцы он штудирует Соловьева? Это Рогожин-то? Который книг вообще не читал?
Известно, что Достоевский какие-то тома Соловьева брал за границу. Ну так то Достоевский, а то Рогожин.
Согласитесь, кто читал Соловьева: Соловьев — чтение непростое, не слишком-то увлекательное. Чтобы так взять и читать методично? Без подготовки? Без опыта чтения трудных книг?
Князь тогда «заметил на столе, за который его усадил Рогожин, две-три книги». Странная неопределенность — так две или три? Хорошо, пусть две — по минимуму. Так, может быть, вторая была проще «Истории» Соловьева, была доступнее рассудку Рогожина?
Я бы поверил еще, если бы Рогожин «Историю» Карамзина читал — про призвание варягов, про Бориса и Глеба — как заколот Борис был и зарезан Глеб в силу злобы их брата-злодея (Достоевский вырос на Карамзине). А еще лучше — если бы Ишимову (ценимую Пушкиным) — «Историю России в рассказах для детей». Или другое для детей что-нибудь. Лучше с картинками.
Священные истории для детей с картинками.
«Была у меня тогда книга, священная история, с прекрасными картинками, под названием: „Сто четыре священные истории Ветхого и Нового Завета“, и по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь на полке лежит, как драгоценную память сохраняю».
Так через несколько лет Достоевский заставит в «Братьях Карамазовых» вспоминать старца Зосиму их первую прочитанную в жизни книгу. «Их» — это Зосимы и самого Достоевского, персонажа и автора. Достоевский подарил своему Зосиме книгу, по которой учился читать в детстве, а также свою память о ней.
Полностью книга называется так: «Сто четыре священныя истории, выбранныя из Ветхаго и Новаго Завета, в пользу юношества, Иоанном Гибнером; с присовокуплением благочестивых размышлений». — Перевод с немецкого.
Зачем об этом говорю?
А затем, что стоит сейчас Достоевский перед Вратами Рая и вспоминает картинки из книги, по которой учился читать.
Врата Рая — это и есть Священная история в картинках.
Точь-в-точь.
Или почти.
Я бы, наверное, и не вспомнил о «Священных историях», если бы не случай: довелось мне как-то описывать некоторые музейные экспонаты для сайта, затеянного Государственным музеем истории российской литературы, — и среди них была эта книга — вернее, муляж. Так что поинтересовался вопросом. Но послушайте, если даже я, человек посторонний, глядючи на Врата Рая, сразу же подумал об этой книге, то уж сам Достоевский-то непременно должен был вспомнить книгу своего детства. Ни секунды не сомневаюсь, что он думал о ней. Смотрел на эти панно и вспоминал иллюстрации на те же сюжеты.
Вот эта книга была вполне по плечу Рогожину.
Просто, доходчиво. Там и вопросы после каждой истории задавались пытливые — для верного усвоения. Мне кажется, такой интерактив должен был понравиться Рогожину. «Что сделал Авраам, когда они поднялись на гору?», «Что случилось, когда Авраам взял в руки нож?».
Но вы, похоже, не верите, что в ящике лежала именно эта книга? Нужны железные доказательства?
А что — есть противному доказательства?
Просто меня осенило, вот и доказательство, нет?
Я больше скажу. Что бы там ни лежало в запертом ящике, это из тех областей неведомого, когда даже сам автор не обязан быть на все сто уверенным, что там у него в ящике происходит. Нет, бывает такое, бывает, — положил герой в ящик одну заложенную ножом книгу, время прошло, а там — другая. Да и вообще… не хотел, но скажу… Знаете ли, конечно, по моему убеждению, там лежат «Священные истории в картинках», но по большому счету там лежит роман «Идиот», уже написанный. И одно не мешает другому. Постмодернизм, скажете? Нет, не совсем. Смотрите. Какой бы ни была эта книга, как бы она формально ни называлась, как бы ни выглядела — если в ней вместо закладки нож, орудие неотвратимого убийства, это — книга персональной судьбы Рогожина. А Книга Судьбы Рогожина — это и есть «Идиот». Поспорьте-ка с этим. Просто Рогожин читает свою часть, скрытую от нас, допущенных к остальному. Об остальном он не догадывается. И эта сокровенная часть — «Священные истории в картинках», которыми автор подменил Соловьева незаметно для Настасьи Филипповны, а скорее всего, и для самого себя незаметно.
Потому что в подобных запертых ящиках то же самое происходит, что и в голове у автора, не побоимся сказать, даже автора «Идиота», когда он стоит у Врат Рая и вспоминает детство.
Мы, конечно, не можем знать точно, какое издание в ящике у Рогожина. «Священные истории в картинках» переиздавались многократно, с различными иллюстрациями. Могло и пóзднее быть. Но я склонен думать, старое: пятое — 1819-го (или шестое 1825-го?), в общем, то, по которому в семье Достоевских учили читать.
Как бы то ни было, можно не сомневаться, на какой странице Рогожин заложил нож.
На начале десятой истории, которая так и называется — «Об Аврааме, приносящем своего сына в жертву Богу».
Там ангел, вестник Господень, останавливает руку с ножом, занесенным над любимым человеком.
Руку с ножом самого Рогожина не остановил никто.
Страшный суд
Если повернетесь к Вратам Рая спиной и сделаете всего несколько шагов, вы окажитесь на ступенях Дуомо — собора Санта-Мария дель Фьоре. Вот он. По воспоминаниям жены писателя, это одна из тех флорентийских достопримечательностей, которые вызывали у Достоевского восхищение. При этом русский писатель не видел роскошной отделки фасада, поражающей современных туристов, — ею займутся позже, когда Раскольников уже вернется с каторги, а завершат, когда вернется, если жив будет, Рогожин. Это кажется невероятным, но перед глазами Достоевского фасад собора был явлен в непривычной — для нас! — мрачноватой незавершенности.
Главная достопримечательность Дуомо — грандиозный купол Брунеллески. Многим не нравилось, что сделал с ним Джорджо Вазари — расписал изнутри в своем стиле (завершил работу Фредерико Цуккаро). Так вот, нижний и самый крупный ярус росписи посвящен Страшному суду. Тема Страшного суда интересовала Достоевского — в «Идиоте» Лебедев, в своей характерной манере, охотно интерпретирует Апокалипсис, вызывая смех у гостей князя Мышкина (но только не у Рогожина, между прочим бывшего среди них). «Ибо нечистый дух есть великий и грозный дух, а не с копытами и рогами, вами ему изобретенными!» На куполе изображены как раз вполне антропоморфные бесы — рогатые, и даже сам Сатана, глядя на которого вспоминаешь выражение «людоед человечества», допущенное Лебедевым по отношению к Мальтусу, — мерзкая рогатая трехрылая уродина засовывает в разинутые пасти сразу несколько человеческих тел.
Разглядывать купол снизу — занятие непростое. Сотни фигур на концентрических кругах росписи, кажется, приходят в движение и даже у здорового человека способны вызвать головокружение. От них рябит в глазах. Внимание рассредоточивается. Запрокидывать назад голову, чтобы увидеть все это коловращение, менее всего полезно для страдающего эпилепсией. И уж точно не стоит смотреть ему на яркий восьмиугольник в центре купола — раструб фонаря, освещающего храм естественным дневным солнечным светом.
Но есть тут другое, то, что вызывает потрясающий оптический эффект на некотором удалении от купола. То, что не передают фотографии и о чем не пишут в путеводителях. Вы увидите это, войдя в храм, но оценить по-настоящему сможете, лишь выйдя из-под купола, когда уже потеряете надежду рассмотреть фрески подробно. Из всего нагромождения изображений свод главного нефа выделит только один фрагмент — в нижнем ярусе с восточной стороны купола, и эта часть росписи покажется огромной на расстоянии — значительно крупнее того, что виделось вам, когда вы смотрели на нее, стоя под куполом непосредственно. Она будто увеличивается, растет по мере удаления от нее — по мере изменения угла взгляда. Отчетливо выделяются две фигуры: голый крылатый старик, размахивающий песочными часами, и скелет, ломающий косу о выставленное колено. Это Время и Смерть уничтожают свои атрибуты. Конец времен.
Один ли или в компании Страхова осматривал собор Достоевский в первое свое посещение Флоренции, но это он видел уже тогда.
Через шесть лет в Женеве он напишет главу, в которую резко введет мотив конца времени. Князь Мышкин, впервые побывав в рогожинском доме на Гороховой, бредет по Петербургу и, предощущая приступ, вспоминает московские разговоры с Парфеном, — как раз о той необыкновенной секунде, что предшествует удару: «…Эта секунда, по беспредельному счастию, им вполне ощущаемому, пожалуй, и могла бы стоить всей жизни». И далее: «В этот момент, — как говорил он однажды Рогожину, в Москве, во время их тамошних сходок, — в этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет».
Редкостный прием для данного романа — выделение текста курсивом. Похоже, тут дело не только в том, что это почти дословная цитата. Тут что-то важное чрезвычайно, — быть может, здесь настоящий ключ к пониманию романа «Идиот», подразумевающего существование горизонта событий и возможность коллапса бытия.
А что до «времени уже не будет» (Откр. 10: 6), именно это апокалиптическое «уже» изображено на фреске Вазари.
Примечательно, что в тогдашнем болезненном перемещении князя Мышкина по Петербургу можно разглядеть прообраз его фатальных метаний в последней главе.
Цель — дойти до все того же трактира, до все той же гостиницы.
Начало движения — от «дебаркадера Царскосельской железной дороги», от того же воксала — по сути, от Семеновского плаца.
На вокзале он купил билет до Павловска, но не поехал — вдруг передумал (не прообраз ли здесь «возвращения билета» из «Братьев Карамазовых»?). Он пошел, и его повело.
Путь был замысловат — он побывал на Петербургской стороне, на том берегу Невы. Путь — величина скалярная (расстояние). Перемещение — вектор.
Направление вектора: Семеновский плац — трактир с гостиницей «на Литейной».
То есть: место недоказни автора «Идиота» — место недоубийства идиота, как себя сам рекомендует князь.
Он перемещается навстречу Смерти.
Парфен Рогожин поджидает героя в закутке на лестнице.
«Правая рука его поднялась, и что-то блеснуло в ней; князь не думал ее останавливать».
Его спас эпилептический приступ, внезапный удар, то «времени больше не будет», та безграничная секунда со своим горизонтом событий — обретшая форму крика, и ничего более. Крик. Черная дыра. Коллапс этого мира.
Инобытие. Роман, вывернутый наизнанку.
Песочными часами замахнулся голый крылатый старик — Время.
Смерть-скелет надломила косу.
В конце «Идиота» Время и Смерть являют себя, по сути, героями книги. Для князя Мышкина здесь необратимый переход из эмпирического «когда-то» в его персональное «никогда». «Никогда» Рогожина обозначено грядущим каторжным «сроком», перечеркивающим всю оставшуюся жизнь, что-то из области уже третьестепенного, о чем он и не думает вовсе, — все главное осталось в прошлом, ушло. Настасья Филипповна, со своей неземной красотой, — там, в своем «никогда» — где «все будем».
Сцена медленного распознания князем Мышкиным присутствия Смерти — в кабинетных сумерках перед накрытым простынею трупом — одна из самых мрачных и тяжелых у Достоевского. И опять же по ощущению безысходности и какой-то кошмару свойственной неотвратимости сравнить ее можно разве что с убийством Раскольниковым двух женщин, представленным читателю словно в замедленном действии — его собственными читательскими глазами, то есть глазами самого Раскольникова, с которым читатель уже привык отождествлять себя в известных пределах. И подобно тому же, теперь здесь, на Гороховой, у рогожинской постели, вызывается это провокативное ощущение невозможной причастности к чему-то немыслимому, навязанному тебе против твоей воли, как и бывает только в кошмарах, а не наяву. Вот тут и демонстрирует свою власть это самое Время: если захочет, оно способно быть медленным. Убийственно медленным.
Время в романе вообще ведет себя иногда странно, — хронотопу «Идиота» посвящено множество работ, и все это известно. Да, время в романе иногда растягивается до неправдоподобия, вмещая в себя нереально много событий и совпадений, но последние метания Мышкина по Петербургу оставляют впечатление документального отчета. Мы знаем, когда проснулся князь, когда сел на поезд — на «машину». В Петербурге он был примерно в половине девятого (выехал примерно в полвосьмого, час на дорогу, «в десятом часу звонил к Рогожину»). А завершились перемещения «уже около десяти часов вечера», когда наконец он пришел с Рогожиным к нему на Гороховую. Похоже, Достоевский выверял передвижения князя, сообразуя с реальными возможностями извозчиков и топологией Петербурга.
Единица времени — день. С точным обозначением его границ.
В миланском черновике на этот счет есть одна только фраза: «Ходил день по Петербургу, видения». Подчеркнул слово, а что за видения? Вероятно, Достоевский тогда представлял, что за видения у персонажа. Они остались при авторе. Во флорентийском окончательном тексте никаких видений нет. И Время, пока Мышкин бродил по Петербургу, вело себя как следует, сдержанно.
И только там, около трупа…
Голый крылатый старик Время размахнулся персональными песочными часами князя Мышкина.
И наконец разбил.
А что Смерть? Смерть — это смерть.
Князь там, где времени нет.
Просвечивание
Век живи, век учись…

«Палатка при палате»… Однажды я узнал, что в здании нашей школы на Подольской улице когда-то располагалась эта замечательная институция — первая поверочная палатка Петербурга при Главной палате мер и весов, созданной Менделеевым. Я поступал в обычную школу, формально она такой и осталась, пока в ней учился, но все-таки не совсем, — с некоторых пор у нее появился химический уклон, дело дошло до того, что наших выпускников принимали в Технологический институт без экзамена. Все это объяснялось исключительно инициативностью директора школы Федора Ивановича, его энтузиазмом и склонностью к педагогическим экспериментам. Таких тогда (или чуть позже) называли учителями-новаторами. Но вот что странно: при всем нашем общешкольном интересе к химии и даже ориентации на поступление в находящийся рядом Технологический институт имени (тогда) Ленсовета, никто нам и слова не сказал о палате мер и весов, чье городское отделение размещалось в здании школы, и о причастности к нему Менделеева. Просто никто не знал об этом — ни учителя, ни директор.
Федор Иванович преподавал физику. Физика у нас была особо уважаемым предметом. Но ведь что-то склонило Федора Ивановича в сторону химии. Не стены ли этого дома как-то влияли на его подсознание?
Закрываю глаза и вижу школьный портрет с бородой великого химика, способной по вызывающей основательности конкурировать с бородой автора «Капитала». Эти бороды у нас всех в подсознании. Но как же так? Мы не знали, что он поднимался по нашей лестнице и, может быть, бывал в помещении, где у нас над школьной доской висела усовершенствованная таблица, названная его именем!
Это не все. Оказывается, заведовал поверочной палаткой не кто иной, как Д. Б. Шостакович, отец композитора. Семья Шостаковичей жила в будущей нашей школе на казенной квартире; здесь — в квартире № 2, на первом этаже[22] — и счел возможным родиться будущий композитор. Здесь он провел первые годы жизни — мы бы сказали, дошкольные. То есть в пространстве тех же стен, на которых у нас, в годы нашего младшешкольного малолетства (и позже, впрочем), висели портреты классиков, географические карты, расписания уроков и наглядная агитация вроде лозунга «Учиться, учиться и учиться! В. И. Ленин». Ну вот зачем я помню со школы, что Ленин этого не говорил? Наша учительница обществоведения утверждала, что это псевдоленинский лозунг, а Ленин сказал на Третьем съезде комсомола по-другому: «Учиться! Учиться коммунизму!» Нет нигде у него «учиться, учиться и учиться». В тайну этих нюансов мы были посвящены прямо на уроке обществоведения — зачем-то запомнил. И никто нам ни разу не сказал, что здесь родился и жил Шостакович. А почему? Да потому, что не знали этого.
Я сам узнал об этом из книги С. М. Хентовой «Шостакович в Петрограде — Ленинграде», вышедшей через пять лет после того, как окончил школу. А спустя еще несколько лет на стене здания уже бывшей школы (мы перешли в десятый, когда вся наша триста седьмая вместе со своим номером переехала на Малодетскосельский) появилась мемориальная доска, посвященная композитору. Тогда же узнал, что школа наша теперь музыкальная. Почему Федор Иванович предпочел химии музыку, не ведаю. Сомневаюсь, что это связано с Шостаковичем как-то. Если связано — то в плане тонких структур…
Да и о том, что в этом доме Ленин бывал, тоже нам не говорили, а между тем это так. В квартире № 6 (пытаюсь представить, где это, — не там ли, где был у нас кабинет биологии с примыкающей к нему кладовой комнаткой, заставленной всякими препаратами?) проживал тридцатисемилетний преподаватель все того же Технологического института Л. Ю. Явейн, ученик Бутлерова и знакомец ни много ни мало самого Энгельса. К нему и заходил молодой Владимир Ульянов, приехавший в столицу сдавать экзамены в Университете экстерном (ему 20 всего, скоро 21 — теперь одно рукопожатие до Энгельса, до Маркса — два). А тот его снабжал марксистской литературой (загадочный, однако, человек) — «Анти-Дюрингом», например, или, например, журналом «Die Neue Zeit» («Новое время»), редактор Каутский.
Сейчас я знаю: этот адрес упоминается в книге «Ленин в Петербурге», изданной еще в 1957 году к сорокалетию Октября (подобрал на лестнице на подоконнике), — как же могло это пройти мимо внимания наших учителей истории и обществоведения в семидесятые годы? От нас требовалось по программе знание ленинских работ. Например, от нас на уроках литературы (советский период) требовали в десятом классе знания наизусть целых кусков из статьи «Партийная организация и партийная литература», ну вот это хотя бы: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания…» Правда-правда, — как «чуден Днепр при тихой погоде», учили наизусть, не вру. На уроках истории проходили стадии разложения империализма по Ленину. «Лев Толстой как зеркало русской революции» и другие первоисточники входили в билеты школьных экзаменов. Понимали, почему перед «как» в этом названии не надо ставить запятую! Все мое поколение получивших среднее образование знало «Памяти Герцена» — кто кого там будил и в какой последовательности, — это было ну как «Мой дядя самых честных правил», как «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять» — все знали, все: декабристы разбудили Герцена, Герцен разбудил революцию, — и если попадали кому-нибудь в руки самиздатские «Москва–Петушки» (я прочитал, когда уже окончил школу, — по слепой машинописной распечатке), этот счастливый читатель — без всяких ссылок — точно знал, какие буждения-поднимания пародирует Венедикт Ерофеев («— Как же! Разбудишь его, вашего Герцена! — рявкнул кто-то с правой стороны. Мы все вздрогнули и повернулись направо»). И что же? Такой уникальный случай — Ленин был в нашей школе! — такой выгодный для школы исторический эпизод остался совершенно незамеченным?! Невероятно.
Между тем.
Множество (теперь я уже полагаюсь на справочник «Ленин в Петербурге–Петрограде», 1980, он под рукой), множество, говорю, частных квартир, которые посетил Ленин за все время своей петербургско-петроградской деятельности, исчисляется трехзначным числом (и не все нам известны). А эта — из них первая!
Первая. Во всяком случае, одна из первых двух-трех.
Был он тут весной и осенью, — что до весеннего визита, дата указывается расплывчато: «апрель — ранее 17 мая» (1891). Известно, что 6 апреля он побывал у родственников на Среднем проспекте, а перед этим они вместе с сестрой ходили на Неву смотреть ледоход. Но что-то мне подсказывает, что, чем ледоход на Неве и визит вежливости к кузине, журнал на немецком под редакцией Каутского был ему интереснее. Первым делом, сдается мне, он к этому таинственному химику должен был бы поторопиться — к знакомому Энгельса и Либкнехта (да, и Либкнехта тоже) — в нашу будущую школу, сюда.
И вообще — что же это получается? В нашей, получается, будущей школе как бы бил один из ключей, что ли, марксистского самообразования молодого Ульянова?
А таинственный ранний марксист, шестнадцатью годами Ульянова старше, Людвиг Юльевич Явейн, собеседник Энгельса, был вроде как, что ли, предтеча?
И это было прозёвано?
И я сейчас, что ли, по существу, работу тех идеологов выполняю?
Отлично. Вот вам сюжет, любители альтернативной истории. Преподаватель химии Л. Ю. Явейн, вместо того чтобы запасть в числе первых в России на марксизм, разделяет побочное увлечение своего учителя Бутлерова, а тот, как известно, кроме того, что был великим химиком, слыл еще и видным спиритом (из-за чего ссорился с Менделеевым). Нет, не слыл — был одержимым приверженцем спиритуализма (как называли у нас тогда спиритизм). И вот новоиспеченный спирит Л. Ю. Явейн, под влиянием учителя и с яростной силой убежденного неофита, заражает, со своей стороны, идеями спиритизма молодого Ульянова, причем в ущерб учению о прибавочной стоимости. Как это отразится на судьбах России, думайте сами. Тут главное, что кульминация действия произошла в нашей будущей школе.
А если серьезно? Разве не были в школьные наши годы так называемые ленинские места возведены в культ («здесь каждый камень Ленина знает») и разве почитание этих мест не достигало той степени, когда уже в плане обратной реакции начинало себя оно отражать в анекдотах (коньяк «Ленин в Разливе», мыло «По ленинским местам»…)?
Хотя — с чем сравнивать.
Про Северную Корею ничего не скажу, я там не был, а вот случилось мне побывать в Австрии на родине Шварценеггера, в небольшом поселении Тале, в десяти километрах от Граца: школа, в которой учился Арнольд, – – дерево, под которым он сидел со своей будущей женой, – – озерцо, на котором они катались на лодке, – – пешеходная тропинка в виде контура его головы и т. д. и т. п. – –: с указателями, табличками, информационными стендами… В самом Граце двое заезжих московских концептуалистов убедили городские власти в необходимости воздвигнуть дорогостоящий гигантский прижизненный памятник Шварценеггеру в образе Терминатора, и уже дело на мази было, но против культа выступил сам герой — потребовал убрать, как мне объяснили, его имя из названия стадиона (стадион его имени был) и отказался от звания почетного гражданина города, а все потому, что местные левые осудили губернатора Калифорнии Шварценеггера за конкретный случай смертной казни. Так что в Граце, когда я там обитал около месяца, культ Шварценеггера присутствовал в латентном виде. У выхода из супермаркета, например, просил подаяние раздетый по пояс человек: демонстрируя мускулы, он изображал из себя Арнольда. В целом, мне кажется, прижизненное почитание шварценеггеровских мест давало фору нашему прежнему почитанию — ленинских.
Нет, чем пристальней всматриваемся в прошлое дома № 2 по Подольской улице, тем выразительнее обнаруживает свое значение прикладная сторона дисциплины «химия». Преподаватель-то аналитической химии не был кабинетным теоретиком: во время революции 1905 года профессор Явейн входил в «боевую группу химиков», — уже по названию ясно, чем она занималась.
Чтобы ни на кого не наговаривать зря, обратимся к источникам. Николай Буренин, ключевая фигура в «боевой технической группе большевиков», пианист, которому доводилось аккомпанировать «с душевным трепетом» (его слова) самому Шаляпину, став вдобавок писателем, вспоминал: «Взрывчатые вещества добывали частью в Финляндии, а частью, всеми правдами и неправдами, получали от петербургских химиков… Принимал в этом деле участие и профессор Явейн». Да, это он, Людвиг Юльевич, специалист в области технического анализа, исследователь гексиленов и метафосфорных кислот (знал бы я, что это такое…).
Надо полагать, химик Явейн относился к той категории людей, которую Ленин через 14 лет после того визита в нашу будущую школу назовет, пребывая в Женеве, «пионерами вооруженной борьбы». Выражение из статьи с характерным названием «От обороны к нападению», опубликованной в женевской газете «Пролетарий» 26 (13) сентября 1905 года. В России — разгар революции. И вот: «Бомба перестала быть оружием одиночки-„бомбиста“. Она становится необходимой принадлежностью народного вооружения» (курсив Ленина). В той же статье автор лапидарно констатировал: «Изготовление бомб возможно везде и повсюду». Имелось в виду «везде и повсюду» — конкретно в России, конечно, куда он собирался отправиться. Вот и боевик-пианист Буренин, посетивший в Женеве Ленина, ретранслировал через годы эту цитату в виде развернутого воспоминания: «Владимир Ильич, говоря о ручных бомбах, подчеркивал, что их изготовление, в отличие от других видов оружия, „возможно везде и повсюду“».
Интересное свидетельство оставил Буренин, член Союза писателей СССР. «С оболочками для бомб, — вспоминал он боевое прошлое, — дело обстояло сравнительно благополучно. Я очень хорошо помню, как вначале мы присматривались ко всем предметам, которые могли бы служить для этой цели. Коробки от сардин, от монпансье, от всяких консервов, отрезки газовых труб и т. д. привлекали наше внимание». Лично мое внимание в этом перечне привлекают коробки от сардин: где-то я это уже встречал.
Ну конечно, это же у Андрея Белого в «Петербурге»! Николай Аблеухов, получивший задание взорвать отца родного, сенатора, принес домой сардинницу — с часовым механизмом. («Сардинница ужасного содержания, способного превратить все вокруг в сплошную, кровавую слякоть».) Помню, мне эта сардинница, когда читал, казалась вещицей надуманной — что-то было в ней нарочито бакалейное, искусственное, литературное, неубедительное — нестильное. А вон как оказывается! Именно такие и употребляли в революционной борьбе! И что примечательно, Белый навязал своему герою сардинницу задолго до того, как реальный боевик Буренин рассказал о пользе «коробок от сардин» в своих воспоминаниях!
Между прочим, вопрос о взаимодействии «боевой технической группы» с «боевой группой химиков», по свидетельству Буренина, был поднят у профессора Явейна «на одной из явок». Впрочем, в то время (1905, 1906), согласно справочнику «Весь Петербург», Явейн проживал на Можайской улице в доме № 3 (не сохранился), — это уже не наша школа, но рядом: зачем-то перебрался восточнее, если по проходным дворам — шагов на сто пятьдесят — сто восемьдесят. Царская охранка, похоже, все прошляпила, но мы следим внимательно. Ленин-то, оказывается, нелегально приехав из эмиграции, 8 ноября 1905 года, прямо с Финляндского вокзала, сопровождаемый Бурениным, отправился куда? — к сестре последнего на конспиративную квартиру по адресу: Можайская улица, дом № 8. А это от тогдашнего дома № 3, где жил наш профессор, — перейти улицу наискосок. Как-то кучно у них получается. Впрочем, кто их разберет, этих конспираторов, с их явками и легальными адресами. Про ученого-химика ничего не скажу, а вот Красин, руководитель «боевой технической группы», на той квартире в тот урочный час докладывал Ильичу о положении дел на участке своей ответственности.
Но я отвлекаюсь от темы школы. Начал Шостаковичем, а сам вон куда…
Ближе к Шостаковичу.
Так вот.
А что «вот»? Опять к тому же вернемся…
Итак, Ленин, то есть, конечно, еще Ульянов, приходил «к нам» на Подольскую через четыре года после исторического покушения своего старшего брата Александра на его августейшего тезку. Но что интересно: независимо от визита Владимира Ульянова в квартиру № 6 весной и осенью 1891 года посещал уже в XX веке семью Шостаковичей другой участник этого покушения — Иосиф Лукашевич[23]; ему, в отличие от Александра Ульянова, смертную казнь заменили бессрочным заключением в Шлиссельбургской крепости, где он отсидел восемнадцать лет и был освобожден в 1905-м. Лукашевич — племянник Клавдии Владимировны Хмызниковой, восприемницы Дмитрия Шостаковича, будущего композитора, родившегося в будущей нашей школе.
Как тут все переплелось!.. Малолетний Дмитрий Шостакович, родившийся в квартире № 2, – – племянник его крестной Иосиф Лукашевич, участник покушения на Александра III, – – брат его казненного товарища Владимир Ульянов, посещающий квартиру № 6, – – ее жилец преподаватель Явейн, в будущем член «боевой группы химиков», а в 1891-м, по сути, сосед Шостаковичей!.. Все имеют отношение к этому дому, здесь и замыкается наше кольцо.
Известно, что многие заключенные одиночных камер в Шлиссельбургской крепости по мере возможностей предавались литературным и научным трудам: Николай Морозов написал сочинений на 26 томов, включая работы по астрономии, давшие толчок изысканиям сегодняшних альтернативщиков во главе с Фоменко; Михаил Новорусский предавался самоанализу в формате дневника и отражал на письме «размышления», а Лукашевич написал научный труд «Неорганическая жизнь Земли», он был геологом («талантливый геолог», уточняет С. Хентова).
Так вот, к «неорганической жизни Земли» школа наша тоже имеет касательство, и связано это с именем другого геолога.
И опять все прошло мимо нас!
«В этой школе с 1937-го по 1941 год училась геолог, первооткрыватель месторождения коренных алмазов в нашей стране Лариса Анатольевна Попугаева».
Это уже вторая доска, которая появилась на нашей школе после того, как я в 1974 году ее окончил.
Меня, человека от геологии далекого, информация о причастности места еще к одному событию — открытию месторождения алмазов в Якутии — тем только и удивила, что ничего я до этой доски ни о какой Попугаевой слыхом не слыхивал, притом что учился тут с первого по десятый. В общем, удивился и принял к сведению, но не более того…
Как-то оказался я в Красноярске в одной гостинице с Василием Авченко, автором книг о Владивостоке, его родном городе. Красноярск посреди страны, а Петербург и Владивосток — на противоположных окраинах, стали мы с ним собеседовать, то да се, — Авченко из семьи геологов и сам знаток горных пород, вот я и сказал ему, что узнал недавно о Попугаевой, она в нашей школе училась, говорит ли ему это имя что-нибудь? Надо было видеть выражение его лица. Он мне тогда, в холле гостиницы, такой спич выдал о кимберлитовых трубках, об их разновидностях, о минеральном составе этого самого кимберлита, о тяжелейших обстоятельствах открытия Ларисой Попугаевой и о значении звания «Первооткрыватель месторождения»! Надо было мне из Петербурга в Красноярск приехать, чтобы услышать об ученице нашей школы от жителя Владивостока. Потом я уже сам обратился к источникам. Ну что сказать? Если бы не Попугаева, еще неизвестно, как бы экономика наша выкручивалась!..
Так ведь то же самое: никто и не говорил про Попугаеву в школе. Просто не знали о ней. Иначе, может быть, не в химики из нашей школы многие подались бы, а в геологи.
И вообще, с появлением интернета стали мы узнавать об этом доме кое-какие подробности. Например, что это здание — до революции сиротский дом и училище — принадлежало Латышской церкви, а сама церковь находилась по другую сторону — на Верейской улице, примерно там, где на уроке военной подготовки (на «войне») отставной капитан товарищ Селиванов учил нас маршировать строевым шагом. Тут надо сказать, что дом № 2 по Подольской улице немаленький, — он делился на жилую половину и на принадлежащую школе, — так вот, в той части дома, что примыкала к Загородному, проживал в коммунальной квартире уже не первой молодости художник Михаил Шемякин, но пока еще никому не известный. Сдается мне, что я даже гостил в этой квартире — у одноклассницы, впрочем врать не буду, — как бы ни был по тем временам ярок и экстравагантен облик свободного художника, я Шемякина персонально не помню, хотя сталкиваться на улице мы с ним должны были многократно — нос к носу.
О своем коммунальном быте Шемякин написал очерк специально для московского сборника «В Питере жить». На обложке поместили репродукцию его картины, изображающей весьма условный Введенский канал, в реальности уже давно закопанный. Это все рядом с его домом — нашей школой. Иногда я вдоль канала домой из школы ходил, но это дальний путь. Глядя на эту обложку, я узнавал и не узнавал ойкумену моего детства. Но фокус вот в чем. Мне тоже предложили дать что-нибудь в этот сборник. О составе я ничего не знал, но надо же такому случиться, мы, незнакомые люди, снова оказались соседями, — в числе сорока авторских материалов наши — его, как он жил в этом доме, и мой, о петербургских совпадениях, — следовали один за другим.
Конечно, выискивание во всем совпадений может смахивать на паранойю…
…но мне кажется, это не есть проблема конкретного автора, это свойство самого города — генерировать всевозможные соответствия, только протри глаза.
Молочные бутылки и соленые огурцы
Раз в четверть примерно обычные уроки нам заменяли «трудовой практикой», чаще всего мы отправлялись на молокозавод по ту сторону Обводного канала, где в каком-то дворовом закутке выполняли нехитрую работу — раскладывали молочные бутылки по ящикам, а битые отсортировывали в специальные баки.
Наши трудовые достижения находили численное выражение в человеко-часах. Кажется, они каким-то образом монетизировались на благо школы и класса, за что наш классный руководитель потом отчитывался на родительском собрании, — впрочем, не помню, а наверное, и не знал, помнить тут нечего, — просто нам в целом эти мероприятия нравились: так веселее, чем писать диктант на неправильные глаголы или отвечать закон, открытый Бойлем и Мариоттом.
Я и не знал, что территория, на которой мы манипулировали пустыми бутылками, изображая трудовую деятельность, — это бывший Скотопригонный двор, или иначе — бойни.
Бронзовые быки, которых я видел на Московском шоссе из окна автобуса, когда ехал в Новгород, раньше стояли здесь, у входа на Скотопригонный двор, это потом их перенесли к воротам нового мясокомбината. На обширной площади двора, где мы сортировали молочные бутылки, за сто лет до нас могло одновременно находиться по три тысячи быков, распределенных по загонам. Особо любопытные человеки, забредя сюда со стороны, могли попасть в небольшой музей и увидеть здесь теленка-циклопа, а также теленка с двумя головами и прочие странности…
Где-то тут в задумчивости бродил Иван Петрович Павлов, профессор, будущий академик, — мысли знаменитого физиолога были заняты проблемой о безболезненном убое скота: какой способ лучше — «русский» (на самом деле «немецкий») или «еврейский»? Павлов отдавал предпочтение второму способу. Экспериментировал он, как водилось у него, на собаках…
Возможно, значительных исторических событий тут не случалось. Но все равно это какое-то особое место. Со своей исключительной памятью — специфической, весьма мрачноватой. Знал бы я тогда, может быть, огляделся бы, посмотрел бы по сторонам повнимательнее. Молокозавода давно уже нет. На днях проходил мимо: видел забор. Главный корпус (архитектор И. И. Шарлемань, 1821–1825) не тронут как памятник классицизма, и два боковых флигеля вроде бы тоже пока на месте. Утолил любознательность посредством щели в заборе: кирдык молокозаводскому конструктивизму — все срыто уже, все расчищено, голое поле, — словно пригонят прямо сейчас три тысячи голов на убой. Нет, конечно, — здесь будет комплекс элитного жилья (и, быть может, раньше, чем я завершу книгу). Говорят, бронзовых быков Демут-Малиновского возвратят — правда, передвинут их за угол — на Обводный. А что им делать на Московском шоссе? Мясокомбинат тоже закрыт.
Однажды нас отправили на Октябрьский колхозный рынок — на овощную базу, кажется тоже Октябрьскую, хотя затрудняюсь ответить, была ли эта база самостоятельной организацией или же принадлежала непосредственно рынку. В общем, это было рядом с площадью Мира. Хорошо, рядом с Сенной. Стоит отвлечься от названий наших детств и юностей, и антураж обретает исторические очертания. Главные ассоциации, связанные с Сенной, — теперь уж от этого никуда не уйти, — бессрочно провоцируются Достоевским. Но рынка, по которому бродил Раскольников, уже давно на площади нет. Рынок уже давно во внутреннем пространстве квартала между площадью и Фонтанкой — на месте прежних трущоб, известных как Вяземская лавра (по фамилии домовладельца).
Так вот, тот колхозный рынок я знал хорошо — жил рядом. Как минимум раз в неделю там бывал. Но я и представить не мог, что здесь за скучными торговыми лавками скрывается нечто удивительное — вход в подземелье! Местная начальница потянула рукой за рубильник, зажегся на лестнице свет, и мы, ею ведомые, спустившись по ступеням, оказались в сводчатом подземном зале: мне кажется, любое строение с поверхности рынка могло бы в нем поместиться.
Бóльшая часть этого высокого подвала была заставлена деревянными (дубовыми?) бочками — до самого потолка. Нам выдали резиновые перчатки. В бочках оказались огурцы. Соленые. Все они были покрыты ровным слоем пушистой плесени. Нам показали, как плесень легко отмывается (это было действительно так). Мы должны были отмывать от плесени соленые огурцы один за другим и перекладывать их в другие бочки.
Нам не понравилось. Не только работа, но и сама идея этой работы. Мы бы ни за что не стали есть такие огурцы, — почему их должны есть другие? Это был идеологический спор. После недолгих пререканий нас вывели наружу и отпустили. На этом и закончился наш трудовой день.
Сейчас я думаю, это были подвалы Горсткиных складов. Поручик Горсткин на пару с компаньоном купил здесь участок, построил кирпичные лавки и проложил улицу от Сенной до Фонтанки. Мне кажется, те подвалы были значительно глубже Фонтанки — пол их, наверное, был ниже дна.
Улица Горсткина упирается в Горсткин мост, один из немногих деревянных мостов, сохранившихся в центре, — да нет, она теперь улица Ефимова — в память летчика-аса, погибшего во время войны.
Мне жаль уходящую натуру Сенной. Но признаемся, в конце прошлого века (конец 90-х) улица Ефимова выглядела, что тут скажешь, не очень. Напротив лавок зиял огромный пустырь (занятый ныне торговым центром). Сюда, на улицу, протягивалось со стороны Сенной площади плотное щупальце гигантской барахолки. Оно не то чтобы шевелилось, но колыхалось, а вечерами, когда оно рассасывалось вместе с основным телом, принадлежащим площади, тут среди разбросанного картона бродили мрачные тени.
В начале нулевых ряд кирпичных торговых строений по улице Ефимова подвергся реконструкции: кое-что уцелело — довольно в презентабельном на внешний взгляд виде. А внутри этих построек появились кофейни и им подобные учреждения. Поговаривали, что подвалы использовали в качестве подземной парковки, — не совсем понимаю, как это, но все может быть.
Интересно, видел ли эти подвалы Всеволод Крестовский? Автора «Петербургских трущоб» водил по ночлежкам и притонам Вяземской лавры знаменитый сыщик Путилин. Надо полагать, в подвалы они не заглядывали. Вполне себе респектабельные купеческие подвалы, к тому же от вяземских трущоб в стороне.
Со времен Крестовского и Достоевского, может быть, и хранились те огурцы.
Зимнее
Вспоминается мне один зимний лагерь — кажется, в классе четвертом. Я и прежде бывал в зимнем лагере — раз или два, и потом еще ездил. Но в те зимы жили мы в Комарово, в деревянных финских домах, а в этот раз — в другом месте, не на северном направлении, а на южном.
Это было большое здание, историческая постройка, охраняемая государством. Сейчас мне представляются какие-то переходы с коридорами, меняющими по ходу ширину, и разнокалиберные помещения с перегородками, отобравшие куски пространства у чего-то несоизмеримо большего. В нашей палате (где дети спят, это всегда в лагерях «палата») запомнились высокая дверь и высоченный потолок с потемневшей лепниной. А еще там была винтовая лестница, вероятно чугунная, — с одного этажа на другой.
В остальном — обычный детский пансионат (наверное, это и называлось «пансионат»? — ну да, именно так, вспомнил). Столовая, кухня. Игротека с детским бильярдом и настольным хоккеем. А снаружи большая, очень большая новогодняя елка. Каток. Рядом парк — лыжные прогулки и финские сани.
Это Пушкин. В смысле, Царское Село. Хотя взрослые иногда называли еще по привычке — Детское Село. Царское Село называлось Детским Селом с 1917-го по 1937-й. В пору Детского Села тут было множество детских учреждений… Не знаю, стало ли их меньше в годы моего детства, но время сказать, что же это было за историческое здание, в котором мы тогда жили.
Это был Екатерининский дворец.
Та его часть, которая тогда не считалась музеем. Свободная от убранства и императорской роскоши.
Но все же — дворец. Екатерининский!
Вот так отправляют тебя родители в зимний лагерь-пансионат по профсоюзной путевке, выданной на работе (наверняка со скидкой), и ты оказываешься во дворце, воздвигнутом Растрелли, и воспринимаешь это как должное. Мне кажется, все воспринимали это как должное — и воспитатели, которых, впрочем, не помню, и поварихи на кухне.
Нас однажды сводили в музей на экскурсию. Как же не сводить, если живем в том же здании?
После обеда был тихий час.
Потом полдник с компотом.
А когда в школе «сдавали лыжи», ехали электричкой на трассу. И в институте на первом курсе зачет по лыжам сдавали там же, на той же практически трассе.
Там был павильон, в котором получить можно было и лыжи, и ботинки по размеру ноги, с универсальными креплениями.
И где эта трасса была? А в Павловском парке. Ну да, где дворцово-парковый пейзаж. В Павловске, который ныне часть Петербурга.
Хотя ничего особенного. Весь город на лыжах кататься в Павловск ездил. Не весь: отец меня маленького в Токсово брал, там холмы.
А в Павловске — уже по обязанности, на сдачу зачетов.
Бежали на лыжах по аллеям парка три или пять километров.
Над берегом Славянки — кто выкладываясь, кто сачкуя.
Мимо мраморной колонны, где Павел принимал парады, мимо мавзолея «Супругу-благодетелю» о четырех колоннах, мимо Старосильвийских прудов (конечно, не зная, как это все называется), Розового павильона, места Константиновского дворца…
«Лыжню!»
На Лягушачьем болоте
Место, формально обозначаемое адресом: ул. Гастелло, 15, сегодня, при нашей моде на петербургскую мистику, значится в числе самых мистических. Выражаясь осторожнее, назовем его крайне необычным, для Петербурга во многом нехарактерным и вместе с тем — очень петербургским.
Определение урочище, которое употреблял Анциферов для обозначения в городском пространстве отдельных местностей, хорошо подходит именно к этой, заслоненной со стороны Московского проспекта одно время кинотеатром «Зенит», а ныне жилым комплексом, — вот оно: воинское кладбище в глубине и церковь псевдоготической архитектуры, два дота времен Великой Отечественной и это, о котором, собственно, речь, обособленное, ни с чем не соседствующее здание. Притягательной мрачностью тревожит оно посторонних гуляк, — впрочем, без цели сюда забрести трудно. Из тех, кто в курсе, многие (из немногих) не отказались бы побывать внутри, только это желание трудновыполнимое: вход по-прежнему по пропускам — как в годы моей молодости.
Этот петербургский локус — кусок моей жизни. Я приходил сюда в течение двух лет — ежедневно, если не считать воскресений, каникул и тех дней, когда нас отправляли на картошку.
Тогда наш институт назывался ЛИАП — Ленинградский институт авиационного приборостроения. Сейчас он именуется по-другому, сложнее, — СПбГУАП (от прежнего названия осталось только одно слово) — Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Главный корпус в другой части города — на Мойке, а здесь, на Гастелло, был — и есть — так называемый инкубатор — филиал, первые два курса.
Я перестал удивляться своему тогдашнему нелюбопытству. Мы ходили по стертым ступеням замысловатой лестницы, слушали лекции в аудиториях с высокими узкими окнами, в буфете без окон, похожем на келью, покупали кулебяки и чай, но ни я, ни мои товарищи, сколько помню, не интересовались прошлым этого места. Ну да, что-то тут было когда-то — не то монастырь, не то психбольница (по внешнему виду и по внутренней планировке), что-то не очень веселое, — и хорошо, студенты живут настоящим, — какое нам дело до прошлого этих стен, неопрятно обшарпанных — что снаружи, что изнутри. Это сейчас на сайте переименованного института находим горделивый перечень исторических событий, связанных и с этим зданием тоже. А мы — что мы могли, хотя бы теоретически? Даже если бы кому-нибудь из нас, хотя бы теоретически, запало в его студенческую голову отыскать статью о Чесменском дворце, выпущенную в 1927-м в составе сборника «Изобразительное искусство» в издательстве «Academia»? В Публичку записывали только с дипломом о высшем образовании, а мы еще даже не доросли до Мойки. Кстати, автор той статьи (за 11 лет, скажем в скобках, до расстрельного приговора), Екатерина Александровна Тартаковская, во второй же фразе констатировала: «…в наше время о нем почти забыли». Это тогда. Правду говорю, «в наше время» Чесменский дворец был забыт еще сильнее.
И кстати, у Пыляева — то же: «Забытое прошлое окрестностей Петербурга», — и, в соответствии с предметом обозрения — «забытое прошлое», — книгу, изданную в 1889-м, любители старины (кроме, пожалуй, ленинградских библиофилов) «забыли» более чем на столетие; только в 1994-м вышло репринтное переиздание достаточно внушительным тиражом — 15 тысяч. Несколько страниц там посвящены Чесменскому дворцу (он ведь был во времена Пыляева в окрестностях города). После того памятного переиздания это странное место, вроде бы обреченное на постоянное «забывание», стали вспоминать, причем все более и более активно.
Я сказал о нем «не очень веселое» — по дороге на Царское Село это пустынное место действительно было одним из самых унылых и заболоченных. И все же дворец Екатерина II замышляла «увеселительным». Путевой увеселительный дворец.
Изнутри он, как пишут, не был унылым. Но что там снаружи могло веселить, кроме лягушачьего кваканья?
Упомянутый буфет подобием кельи примыкал к сводчатому залу, там, на первом этаже, была наша столовая. Кроме кулебяки, в буфете продавали порционную сметану — по половине стакана. Берешь полстакана сметаны (настоящей, совхозной), посыпаешь сахарным песком и ешь чайной ложечкой, — но я не любил, не брал, не ел. Где-то здесь, на первом этаже, в екатерининские времена хранился драгоценный сервиз на пятьдесят персон (теперь он в Эрмитаже). Сама Екатерина в часы торжеств потчевала с него гостей этажом выше — над нашей студенческой столовой. Там, в Тронном зале, собиралась Кавалерская дума ордена Святого Георгия. Я понимаю, что слуги, но все равно в голове не укладывается, как можно было перемещать сотни предметов сервиза вверх-вниз, вверх-вниз — по винтовой лестнице, по причудливым проходам дворца… Инвалиды военной богадельни, награжденные Георгием, для призрения которых дворец перестроили, уже обходились не столь драгоценной посудой; легендарный сервиз отправился в Петергоф, в Английский дворец, в котором останавливались дипломаты… И уж совсем не до качества тарелок было узникам первого в стране концентрационного лагеря, размещенного в корпусах за три дня ликвидированной богадельни.
Однако мне везет. Надеюсь, еще один элемент дневниковости не сильно повредит книге. Частный эпизод — в реальном времени: только что получилось снова оказаться в Чесменском дворце, где не был уже лет сорок.
По правде говоря, на такую удачу я не рассчитывал. Оказывается, мой славный друг философ Александр Секацкий — новых ему глубоких прозрений — с некоторых пор в этом закрытом вузе преподает культурологию. Узнав, чем я занят сейчас (вот этим текстом), он сказал, что может, если хочу, меня провести, и пригласил к себе на занятия. Конечно хочу. Послушать Секацкого я всегда рад, но и побывать просто в ЛИАПе, для которого я уже давно посторонний, как же мне не хотеть? Конечно хочу. Когда я здесь учился, гуманитарная сторона нашего образования была представлена такими обязательными для всех вузов страны предметами, как «история КПСС», «диалектический материализм», «политэкономия социализма» и «научный коммунизм». В остальном институт был стопроцентно техническим, никакие культурологи отсюда не выпускались. Теперь философ Секацкий разъясняет своим студентам, вернее, студенткам (культурологи — исключительно барышни) суть понятия рессентимента — как это представлял Ницше. Я сижу в сторонке, на правах почетного гостя, и, пока они разбирают очередной фрагмент «К генеалогии морали», пытаюсь представить, что заключала в себе эта аудитория в бытность Чесменской богадельни.
Вообще, в названии этого городского урочища, благо Секацкий в культурном пространстве города сам по себе фигура культовая, запросто можно использовать его фамилию: места эти — секацкие. Здесь Александр Куприянович, будучи студентом Ленинградского университета, подрабатывал киномехаником в «Зените», и вполне возможно, я сидел в зале кинотеатра, когда он крутил на своей установке какой-нибудь фильм (но мы тогда не были знакомы). «Зенит» и ЛИАП в то время вполне дополняли друг друга, как сообщающиеся сосуды. Конечно, не в той мере, но заметим, что в екатерининские времена еще не перестроенный Чесменский дворец представлял собою единый ансамбль с Чесменской церковью. Слава богу, ее не снесли, но от бывшего дворца отделили улицей, а вот советский кинотеатр «Зенит», типовой постройки, уже в годы не столь далекие снесли до основания, что было, может, и неплохо: открылся замечательный вид с проспекта, — однако нет: на месте «Зенита» строят дом. Так вот, вновь образованный приход Чесменской церкви (вход с торца восточного корпуса бывшей богадельни) предоставлял в недавние годы одно из помещений для культурологического семинара по феноменологии кино (или по чему-то вроде), — и Александр Секацкий на правах постоянного участника вернулся в эти края. Похоже, они его не отпускают. Теперь его позвали преподавать в одном из петербургских университетов, и надо же, это заведение как раз то самое, которому предоставляет стены, как ее называли, Чесма — бывший замок-дворец-богадельня-тюрьма… Институт, наконец, в котором и я поучился.
Иными словами, у меня появилась возможность побродить по коридорам и лестницам альма-матер. Лестниц, к слову, интересных две. Одна — главная, винтовая, под куполом западной башни. Ступени ее, особенно первые, сильно стерлись за два с половиной столетия, но почему-то по-разному (это для меня загадка): некоторые испещрены глубокими выщербинами, другие отполированы так, словно их намеренно стачивали под углом, чтобы заострить края, и шлифовали до блеска — вот настоящий памятник ходу времени! Кто только не поднимался по этим ступеням — российские императоры, начиная с императрицы Екатерины II, европейские монархи и их министры, полководцы, включая Суворова и Кутузова, ученицы «Дома трудолюбия», позже известного как Женское Елизаветинское училище… инвалиды сражений, герои войн, невольники Первого лагеря принудительных работ, а также сельскохозяйственной колонии при Втором исправительном доме, увечные жильцы по ведомству Губсобеса… инженеры, преподаватели, студенты технических вузов — автомобильно-дорожного и авиационного институтов, родного моего ЛИАПа, или как это теперь — Университета аэрокосмического приборостроения, — подчиненных скоросменяемым ведомствам от Главного управления шоссейных дорог НКВД СССР до Министерства образования Российской Федерации.
По этой лестнице поднимали гроб с телом Распутина.
Был тут Распутин отпет.
На втором этаже, в Рождественской церкви, под утро 21 декабря 1916 года — епископом Исидором.
Вряд ли это знание, если бы мы им тогда владели, смогло бы как-то повлиять на усвоение технической литературы, когда мы склонялись за столами над книгами в круглом помещении бывшей церкви — проще сказать, в читальном зале институтской библиотеки. И все же, вспомни-ка, уважаемый автор, — как там насчет ауры? А никак. Не вспомнить даже, чьи портреты висели на стене. Один был точно Попова, изобретателя радио.
Проще сказать, что было тогда — при том отпевании. Это известно.
Отпеванию предшествовало многочасовое ночное вскрытие в срочно и сильно обогретой мертвецкой, где окоченевшее на морозе тело старца с необходимостью для успешности процедуры оттаяло.
Отсюда, из Чесменской военной богадельни, гроб с Распутиным вывезли ранним утром в Царское Село, где тайно и вроде бы надежно погребли, — и все же, как оказалось, не настолько надежно, чтобы полностью исключить возможность будущих глумлений.
…Другая винтовая лестница — далеко не парадная, малозаметная, можно легко проскочить мимо. Чтобы ее обнаружить, надо свернуть в закуток из коридора, ведущего в восточный флигель через башню, на башню тут, изнутри, меньше всего похожую: обыкновенный проход, и за дверьми с обеих сторон по бокам служебные помещения. Между тем первая зимняя церковь, пока еще к башне не пристроили флигель для богадельни, находилась определенно здесь. А что до тайной винтовой лестницы (мимо мы уже проскочили), она закручивает свои ступени в условное никуда, если понимать под «условностью» одну из лабораторий. Туда не пойдем.
Так вот, о первой зимней церкви.
В ночь с 5 на 6 марта 1826 года здесь покоилось тело Александра I.
Чесменский дворец был последней печальной остановкой траурного кортежа перед въездом в столицу.
За два месяца кортеж с телом императора преодолел почти две тысячи верст.
Здесь, в ту ночь, свинцовый ящик с телом Александра I переложили из походного гроба в парадный. Обитый малиновым бархатом (а по бархату золотом вышиты пятиконечные звездочки), с двуглавыми орлами на углах, золоченой бахромой, царскими вензелями, он тут и стоял на позолоченных бронзовых львиных лапах, этот парадный гроб, творение Монферрана. Николай I самолично опечатал по углам свинцовый ящик, уже со вчерашнего дня (после прощания у открытого гроба в Царском Селе) залитый оловом.
Больше открывать не будут — так и повезут на катафалке в столицу навстречу слухам о том, что пустой.
Что ж, круглую дату, о которой никто и не подозревал даже, 150-летие пребывания тела Александра I в Чесменском дворце, я, как и все лиаповцы, невольно отмечал будничной суетой в первый четверг марта 1976 года (день недели легко вычисляется): мы просто сновали туда-сюда на этом историческом месте, по короткому коридору, проходу, замещавшему середину бывшего храма. Да вот же это место, тут и сейчас проход.
Между прочим.
Был я в Таганроге однажды. Пригласили на Чеховский книжный фестиваль, ежегодное культурное мероприятие. Город чудесный, он меня изумил сохранившейся стариной — купеческими домами, историческими улочками, садами… Нам достопримечательности показывали. Дом, где Чехов родился. Дом, где он юношей чай продавал — в силу жизненных обстоятельств. Повели нас в детский санаторий «Березка», вернее, в тот одноэтажный дом, где размещается санаторий, — не к детям. Детей тогда там не было (или был тихий час?), в общем, мы никому помешать не могли, никого не могли потревожить, кроме, если только, духа царя: в этом доме — доме градоначальника — остановились Александр I и супруга его Елизавета Алексеевна, тут Александр и умер. Честно скажу, посещения этого места в моих планах не было. Но течением неформальной экскурсии занесло. И что-то почувствовал. Странность. Касаемо лично себя.
Странное одно совпадение меня озадачивает. В Петропавловском соборе у могилы Александра I побывало народу множество. Но много ли нас из того несметного числа побывало на месте, где император умер? А из этих немногих, кто еще физически там побывал, где останки Александра I в свинцовом ящике опускали в парадный гроб и туда же складывали порубленные доски от прежнего деревянного дорожного гроба? Не я ли один?
Ну и зачем этот опыт мне? Я ж к тому не стремился. Что за странные совпадения? Ребус какой-то.
У нас Александра I принято считать самым загадочным императором; его супругу Елизавету Алексеевну, урожденную Луизу Марию Августу Баденскую, — самой загадочной императрицей. В отношении загадочности (разумеется, в наших глазах) они действительно могли бы посостязаться друг с другом. Только Федор Кузьмич тут ни при чем, и Вера Молчальница тоже. Не было бы Федора Кузьмича и Веры Молчальницы, нашлись бы другие, в ком распознали бы царя и царицу, мнимоумерших. Простые объяснения скучны и неинтересны — вопреки, между прочим, булгаковскому: «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!..» Так в том и фокус, что никакого фокуса нет, — как бы ни поражали нас какой-то запредельной синхронностью эти две смерти, совмещающие рисунки судеб.
Он привез ее лечиться, а фактически — умирать. Сам умер. Внезапно. Через сорок дней тело его отправили в Петербург. Она осталась в Таганроге. Похоронили уже без нее. Болела всю зиму. Сердце, одышка. По весне, после распутицы, в конце апреля тронулась в путь. Той же дорогой, что и он, мертвый. Умерла, не доехав до Тулы, в Белёве.
Разница между их смертями — менее полугода.
Она была моложе его на один год, один месяц и один день.
13 мая гроб доставили в церковь при Чесменском дворце.
Ровно через два месяца после похорон Александра.
Через два месяца и неделю после пребывания здесь, в Чесменском дворце, его парадного гроба.
Еще одна башня — южная — нижним своим этажом предана кухне. В прямоугольном зале — так же, как в круглом, центральном, — сегодня столовая. Над столиком с табличкой «Для преподавателей» висит большая репродукция картины художника Г. И. Бортневского «Обед инвалидов в столовой зале Чесменской военной богадельни», 1859. Бородатые герои войн в парадных мундирах при орденах расположились за двумя длинными столами. Теперь столиков много, расставлены они в поперечном порядке, — перед студентами, помимо подносов с тарелками, еще и раскрытые ноутбуки: реальные борщ и гуляш совмещаются с пребыванием в виртуальном пространстве.
И все равно странно как-то, что нас не занимало прошлое этих стен. Там, где нам профессор Зингер, в одном из трех флигелей, примыкающих к башням дворца, читал матанализ, прежде стояли на месте наших студенческих парт казенные койки, на которых в свой срок могли еще почивать инвалиды войны с Бонапартом. В этих нижних помещениях обитали герои из рядового состава, — инвалидам-офицерам полагались отдельные комнаты на втором этаже — возможно, там, где был у нас лингафонный кабинет. А здесь, внизу, под сводами высокого потолка, ты мог записывать доказательство какой-нибудь теоремы Коши, и кто знает, может быть, именно на твоем месте стояла койка, принадлежавшая Никтополеону Святскому, безрукому-безногому поэту-мученику, герою Шипки, — стихи он записывал пером, приделанным к самоварной лучине, которую зажимал зубами.
Или вот. Что касается курса «История КПСС», обязательного для всех советских вузов, и технических, и гуманитарных. Лектор с необыкновенно звучным голосом излагал нам среди прочего ленинскую оценку эпохи «военного коммунизма» (1918–1921), тогда как именно в этой аудитории, в соответствии с практикой того самого «военного коммунизма» (вне пределов грядущих учебных программ), томились после выселения инвалидов политические заключенные первого концентрационного лагеря (1918–1922), известного как Чесменка. Но это сейчас известного — как тогда «известного», а в годы нашей учебы и сами преподаватели ничего ни о какой Чесменке не слышали. Пытаюсь представить, где был карцер, в который за непослушание запекли Бадмаева, самого известного узника Чесменки — доктора восточной медицины, лечившего царскую семью… Может быть, в одном из круглых внутренних помещений без окон, но с глубокими нишами — может быть, там? — в одной из них, что, согласно искусствоведческому описанию Тартаковской (побывавшей в Чесме после закрытия лагеря), были «оставлены в виде тайников с небольшой дверкой»?
Наш историк партии, обладавший звучным голосом, роста был невысокого, — прозвище ему пристало рискованное — Пи-пополам (то есть 1,57). Обижаться на себя он, однако, не давал повода — не злобствовал, ставил зачеты практически автоматом, не заваливал на экзамене, и никто его не боялся. На лекциях занимались кто чем хотел — оформляли отчеты по лабораторным, списывали, читали, дремотствовали, запускали бумажные самолетики (авиационного же приборостроения институт), а он вещал звучным голосом о значении «Апрельских тезисов», о признаках революционной ситуации по Ленину, о государстве и революции. Вообще говоря, по общественным дисциплинам нас в нашем техническом вузе не гоняли, не помню насилия, — во всяком случае, ни в какие сравнения это не шло с тем, что потом рассказывали выпускники Ленинградского университета. Не могу вспомнить настоящую фамилию Пи-пополам. Поисковики молчат — как не было. Не русская, какая-то непонятная. А рост помню. Он однажды пришел в форме полковника ВВС. Никто и подумать не мог, что он военный летчик. Аудитория (большая! — лекции для всего потока…) одобрительно охнула. Этим и ограничилась: принято к сведению. Отставник. Как обычно, занялись делами своими, а он приступил к лекции. И говорил он вот о чем: о депортации народов в 1944-м. Говорил — как о лично пережитом (но это я позже понял). Возлагал ответственность лично на Сталина. Говорил о преступлениях, зачитывал свидетельства. Осуждал. Вероятно, была годовщина одной из высылок, мы же не знали этого. Я даже не вспомню сейчас, о каком народе шла речь именно. О крымских татарах? Об ингушах? Для нас это была просто лекция, не совсем обычная, ну вот так он решил, так захотел, — на экзамене, наверное, не пригодится. Один-два самолетика пролетели, бумажные. Первокурсники, дураки. Читали, списывали. Только потом я понял, уже годы спустя, чтó это выступление для него значило. Гражданский подвиг ведь. Подвиг. А мы не заметили. Ждал ли он от нас чего-нибудь? Вряд ли. Да нет. Заметили же. Ведь я вот — мог бы и забыть, как все остальное. А помню. Что помню? Помню, что в форме был. Просто мы к этому отнеслись — буднично. Так же, как если бы слушали про раскол партии на Втором съезде РСДРП(б).
Часто вспоминаю этот эпизод. С тех пор, как однажды понял, чтó для него это выступление значило.
Представил, как готовился, как примерял загодя форму, как целовал жену, уходя. Как потом поднимался по истертым ступеням лиаповской лестницы, останавливая на себе удивленные взгляды.
Когда рассказывал об этом, всегда спрашивали: и чем кончилось — его уволили?
Да нет. Продолжались занятия, как обычно. О диктатуре пролетариата рассказывал. На экзамене не заваливал никого. Ставил пятерки.
Путевой дворец, каким он был изначально построен, представлял собой в плане равносторонний треугольник, с круглыми башнями при каждой вершине. Полагают, образцом архитектору Фельтену послужил треугольный Лонгфордский замок, позже сильно перестроенный. Чесменский замок-дворец в первозданном виде простоял тоже недолго. К нуждам богадельни приспосабливал его архитектор Штауберт. Он пристроил к башням по флигелю. Вряд ли замысловатая геометрическая фигура с тремя осями симметрии в плане могла ему что-нибудь напоминать предметно-конкретное, — нам же, на наш взгляд с некоторой, как бы птичьей, высоты, Университет авиакосмического приборостроения то и напоминает: космический аппарат с тремя солнечными батареями.
После всех перестроек от прежнего дворца осталось не так уж и много.
Как ни странно, наиболее сохранившаяся часть дворца — это английский сервиз. Тот самый.
Знаменитый сервиз — действительно часть дворца, без преувеличения.
Он был заказан Екатериной для увеселительного замка, когда еще даже не приступили к строительству. Создавались они одновременно — столовый сервиз на заводе Веджвуда, в Англии, и замок-дворец, на седьмой версте от Фонтанки, на Лягушачьем болоте.
Потом вместе соединились.
Все 944 предмета на 50 персон были расписаны вручную неповторяющимися видами Англии общим числом 1222.
Веселили в ту пору Екатерину аглицкие мотивы, похоже. Дворец воздвигался с оглядкой на английскую псевдоготику, а сервиз и подавно английским был. Замечательно, что рисунки для столовых приборов делались исключительно с натуры, так что сегодня этот сервиз по части визуализации прошлого Британии остается уникальным историческим документом. В большинстве своем те ландшафтные и архитектурные памятники не сохранились, тогда как их изображения на хрупком фаянсе продолжают жить. И Чесменский дворец, для которого создавался этот сервиз, давно перестроен, и Английский дворец в Петергофе, где позже хранился этот сервиз на протяжении века, полностью разрушен во время Великой Отечественной (линия фронта проходила по Английскому парку), а сам сервиз удалось по большей части сохранить. И это притом, что довелось ему перемещаться на многие тысячи километров — и даже на Урал, в эвакуацию.
На каждом предмете — эмблема дворца: лягушка. Такова воля Екатерины — чтобы непременно было с лягушкой на каждом столовом предмете.
Сохранилось, полагают, 700 предметов сервиза[24]. Это что же, только за счет одного лишь сервиза 700 лягушек присутствуют в Эрмитаже? Может ли тогда зеленая лягушка претендовать на признание самым распространенным существом во всем эрмитажном собрании?
Узнал любопытную новость. Оказывается, 100 % акций компании «Веджвуд», всегда гордившейся «Сервизом с зеленой лягушкой», в 2015-м купила финская «Фискарс», — о да, ножи, топоры, огородное оборудование…
Бракосочетание Стали и Фаянса. Капитализм.
Финский мотив имеет отношение к нашей лягушачьей истории.
Местность называлась по-фински Кекерекексинен — «Лягушачье болото».
Поправьте меня, если «лягушка» по-фински не звукоподражание.
В первоначальном названии дворца — Кекерекексиненский — русскому уху (по крайней мере, не владеющему финским) слышится лягушачье кваканье. И оно куда натуральнее присутствует тут, чем по-русски когда.
Следующее название — Чесменский, данное в десятую годовщину победы, — после этого бытового, почти юмористического кваканья звучит, как и подобает ему, возвышенно, героически.
Но символ дворца — все равно зеленая лягушка.
Сейчас в окрестностях Московского проспекта встретить живую лягушку невозможно, и брачные лягушачьи песни ни на финском, ни на русском уже давно не слышны. Между тем стоило бы напрячь фантазию и представить, как здесь оглашали себя эти неподражаемые, непередаваемые на письме звуки. И было ли от них спасение.
Как могло звучать и было ли от того спасение, я, кажется, догадался, когда однажды, примерно в 1982-м, ночевал в общежитии ВГИКа, расположенном в многоэтажном здании. Я тогда оказался в Москве и нашел приют у знакомых слушателей Высших сценарных курсов. Этаж у меня был где-то седьмой, если не выше. А внизу рядом с общежитием был пруд. Может, лужа. Я не рассматривал, что это. И была весна.
И они квакали.
Пришлось закрыть окна. Но все равно — казалось, это сами стены издают жуткий ровно-дребезжащий шум.
И не только стены, а все — стакан на столе, сам стол, шкаф, кровать, моя черепная коробка, вмятая в подушку, — все было источником нечленораздельного шума.
Общегородской московский шумовой фон подавлялся экспансивными лягушачьими песнями.
Уверен, там, на берегу водоема, звук не достигал такой силы. Может, это свойство стен многоэтажного дома и чем выше этаж, тем сильнее кваканье, — может быть, тут какие-то резонансные феномены, — я не знаю физику явления, но мне известно одно: уснуть под такой аккомпанемент невозможно. Не представляю, как высыпались будущие кинематографисты, — у меня и сейчас, по прошествии многих лет, в ушах стоит это несносное широкополосное кваканье.
Но ведь что-то подобное должна была испытывать Екатерина, отдыхающая по пути в Царское Село в своем дворце на Лягушачьем болоте.
Толстые стены путевого дворца с узкими окнами не могли ее уберечь от этих нескончаемых звуков. Живые, жизнелюбивые источники этого кваканья со всех концов окружали дворец. Он, возвышающийся над равниной, был в эпицентре лягушачьего шума. И вовсе это не изысканный каприз — заказать с какой-то зеленой лягушкой сервиз для дворца, который назовут в честь великой победы; лягушачье всенепременное присутствие — самое характерное свойство этих болот.
Да что говорить, представляем ли мы звуковой фон Петербурга петровских времен? Пальба из пушек — это прекрасно, повод к тому появлялся ежедневно: салютом сопровождались даже тосты за царское здравие. Удары трофейного колокола? Барабанная дробь, извещающая о царских указах? Стук топоров? Но и лягушки, болотные лягушки, квакающие по весне. Из каждой канавы!
Кстати, к Ниеншанцу тоже подбирались болотца. Петр подошел к стенам крепости в конце апреля — самое лягушачье время. Ночью, когда стреляли по крепости из всех орудий, было не до лягушек. Но отмечали победу под лягушачьи песни.
Не знаю, где можно в Петербурге сегодня услышать кваканье лягушек? Последний раз мой слух ублажало такое в Рыбацком, но это было давно, когда еще не построили там современных высоток, колокольня при храме старообрядцев тогда еще виднелась издалека, а весь район походил на большое село.
Казармы и дворец
Итак, главный корпус родного моего института — на Мойке. Здесь мы с третьего курса…
Аудитории, лестницы, коридоры. Кафедры, библиотека… А во дворе была свалка — сюда выносили ненужный отработанный радиохлам, от которого освобождались в лабораториях. Всегда кто-нибудь копался в нем, выбирая для себя что-нибудь полезное — дроссели какие-нибудь или конденсаторы там, мало ли может понадобиться радиолюбителю…
…Прослушав лекции по специальным предметам вроде теории радиотехнических цепей или физики твердого тела, мы шли в столовую. В большой такой продолговатый зал со сводчатыми высокими потолками (значительно выше, чем в Чесменском дворце). Внимательно приглядевшись к этому просторному помещению, можно было догадаться, что это бывшая конюшня. Кое-где висели кованые кольца на стенах — к ним когда-то привязывали лошадей. Кольца не были элементом дизайна, это сейчас бы их присутствие как-нибудь выразительно обыграли, а тогда они просто висели, потому что не сумели их выдернуть, ну уж очень крепко приделаны (лошадь — животное сильное).
В исторической конюшне лейб-гвардии Конного полка мы получали на конвейерной раздаче первое, второе, третье и несли это на пластиковом подносе к ближайшему свободному столику. Ешь, допустим, борщ, или котлету, или бефстроганов (еще один историзм), или, если четверг, жареный минтай (четверг был «рыбным днем» в Ленинграде), а рядом из стены торчит кованое кольцо, к которому, быть может, привязывалась лошадь Александра Пушкина, сына Александра Пушкина, который поэт (Александр Александрович Пушкин станет потом генералом) или, допустим, Ланского, второго супруга Натальи Николаевны…
Но чтобы тогда кого-нибудь история этих стен беспокоила? Не помню такого. Мне сейчас это странно, а тогда — ничего особенного: институт — он и есть институт.
И никто не замечал изображений лат, шлемов и прочих воинских атрибутов над высокими дверями со стороны Мойки — единственное прямое указание на историческое назначение здания, — взгляд эти украшения не останавливали. Просто входили, и все.
А напротив института, по другую сторону Мойки, располагался Ленинградский областной дворец культуры работников просвещения, все его называли Домом учителя. Библиотекарша в Доме учителя была знакомая моих родителей, и я, когда готовился к школьным экзаменам, пару раз в библиотеку приходил. Я, конечно, знал о главном событии Дома учителя, и мне библиотекарша даже показала, где это случилось, но как-то неопределенно: «внизу, где-то там». Зато рассказала с «подробностями».
А случилось вот что: здесь убили Распутина.
Потому что Дом учителя — это Юсуповский дворец.
Теперь сюда водят иностранцев. Экскурсанты могут увидеть в исторических помещениях восковые фигуры участников драмы. Феликс Юсупов и сам Распутин представлены в подвальной комнате, куда ведет деревянная винтовая лестница. Старец, вкусивший яда, сидит в задумчивости за столом, Феликс ждет стоя. Остальные убийцы в кабинете Феликса тоже заждались развязки — Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович. И врач-отравитель Лазоверт. Поручик Сухотин, отдернув занавеску, стоит у окна, глядит с осторожностью. Что же он видит? Офицерскую казарму лейб-гвардии Конного полка, в которой мне довелось учиться.
Патентный поиск
Когда я работал инженером на кафедре, мне приходилось иногда иметь дело с реферативными журналами. Надо было провести патентный поиск по нашей теме. Для этого я отправлялся в местную командировку — в специальную библиотеку при Ленинградском центре научно-технической информации. Толстые, очень специальные журналы большого формата стояли на высоких металлических стеллажах, многие были потрепанные, а некоторые вообще нетронутые. Находил подходящие по теме и шел с ними в большой зал — там за столами сидели такие же, как я, сюда командированные.
Ну и где же это все происходило? В каком месте города?
В Инженерном замке.
Вот так из бывших офицерских казарм лейб-гвардии Конного полка я между делом (и по делам) отправлялся ни много ни мало в Инженерный замок.
Это мне сейчас кажется странным, а тогда — ничего удивительного. Ну, из института в библиотеку пошел.
К тому же в этом замке было и без того несколько своих институтов — научно-исследовательских.
Весь замок представлял собой служебное здание.
Весь он был изнутри обшарпанный, неухоженный — деньги тогда на такую ерунду, как косметический ремонт, не тратили, тем более в пропускных учреждениях. Думаю, он был при нас еще мрачнее, чем во времена Павла, когда был еще Михайловским, а не Инженерным. Да уж это точно — мрачнее, тут и сомневаться не надо. Все, конечно, знали, что Павла где-то здесь убили, но в какой комнате, местные служащие рассказать не могли, а я спрашивал. К тому же за обилием организаций со своими кодовыми замками любопытству не было где разгуляться, — все замкнуто, не погуляешь по замку.
Патентный поиск — в некотором роде взгляд в прошлое: вы ищете по своей теме изобретенное до вас. Удивительно, но нигде в Петербурге, как здесь, в Михайловском замке (еще до того, как он стал Инженерным), не беспокоились так напряженно о будущем: прямо здесь, на весьма необычной квартире, происходили радения в духе хлыстов, здесь пророчествовали, прорицали — причем в сильном экстазе. Собрания до семидесяти человек можно было бы назвать массовыми, если бы не избранная публика — вплоть до министра просвещения и духовных дел А. Н. Голицына и знаменитого художника В. Л. Боровиковского. И длилось все это достаточно долго, с 1817 по 1822-й, пока Александр своим указом не подвел черту эпохе увлечения мистицизмом, закрыв тайные общества и масонские ложи. Правда, я тут ни при чем — о секте («кружке») Екатерины Татариновой не знал ничего, — был я молодой инженер, озадаченный темой «Временной дискриминатор» (действительно, так называлось наше устройство)[25].
Еще здесь учился молодой Достоевский. В перерывах между экзаменами по фортификации и прикладной механике сочинял трагедию «Мария Стюарт» (до нас не дошла). Карьерой военного инженера, как известно, в итоге он пренебрег.
Патрон писателей-технарей.
Сейчас все здесь по-другому, и это, конечно, хорошо, что музей. И все же поразительно: столько лет ему не изменяла «память места», — вот и я сумел этот замок застать, когда он был по-настоящему «инженерным».
Сторожение
Некоторое время, полгода примерно, мне довелось работать сторожем. Дежурство «сутки через трое» — идеальный режим для литераторов и философов. Моя мечта была — пойти оператором газовых котельных, или кочегаром, как это называли в быту. Многие друзья мои, поэты-писатели, работали в котельных. Акмурат Широв, кочегар в Доме писателей, поступил во ВГИК на Высшие сценарные курсы, в мастерскую к Андрею Тарковскому, Акмурат собирался в Москву (а Тарковский в Европу) и держал для меня, по дружбе, место. Потом там работала поэт Ольга Бешенковская, а меня не взяли на курсы операторов газовых котельных по одной формальной несообразности. А то бы был сейчас повод рассказать о специфике отопления такого исторического места, как бывший дом Шереметева.
И в «девятку» Герценовского института не взяли, хотя поэт Андрей Крыжановский, внук Евгения Шварца, подписал мое заявление, — не помню, кем он был в институтской системе котельных — старшим механиком, что ли?
А взяли меня в сторожа — в систему Метростроя.
Склады какие-то охранял на Расстанной улице рядом с Волковым кладбищем, — иногда отлучался побродить средь могил; там канава между кладбищенской оградой и трамвайными путями, — я в щель ограды пролез (трамвай идет, остановка рядом), перепрыгнул канаву (бурьян, кусты, одет не по-парадному), раз — и в трамвай (остановка), — помню, еще когда подбегал, заметил, что на меня единственный пассажир в окно смотрит, а когда вошел, увидел, кто это: декан нашего факультета (радиотехнического — где я учился) В. А. Черноглазова — глядит на меня, из кладбищенской канавы явившегося, и ужас в глазах; ну что сказать, сказал «здравствуйте», на следующей выскочил, там склады мои.
А дольше всего охранял я шахту Метростроя. То есть сидел в сторожке, размышлял о бренном, а грузовики глину вывозили, без всякого со мною взаимодействия, — странное было сторожение.
Город словно позволял быть при себе, слово снисходительно прикрывал очередного амбициозного неудачника. И хотя, может быть, именно в эти часы довольно странного контакта с Городом обостреннее всего ощущалась причастность к нему. Ничего достопримечательного, надо признаться, я не сторожил, если по-честному пренебрежем натяжками.
Достопримечательные места сторожил поэт Аркадий Драгомощенко — лодочную станцию на Пряжке напротив знаменитой психлечебницы.
Поэт Алексей Ахматов (несколько позже, в начале девяностых) сторожил участок с какими-то строениями, на месте которого потом появился памятник Анне Ахматовой. Тот самый, который глядит за Неву на «Кресты». Петербургские кочегары выпускали самиздатский журнал «Топка», что свидетельствовало об их способности к самоорганизации — качестве, каким были обделены сторожа, хотя об одном малоизвестном коллективном предприятии последних можно упомянуть как раз в связи с Алексеем Ахматовым. Однажды на его участке несколько стихотворцев, связанных общей работой, провели встречу, дружеские посиделки, объявленные Первым съездом сторожей-поэтов (о чем информировала газета «Петербургский литератор», например). О значении события говорить ничего не буду, но вот деталь: читали они в рамках того мероприятия друг другу стихи на рабочем месте (крапива, лопухи, забор, какие-то строения…) — стихи Ахматовой преимущественно. А спустя годы здесь памятник Ахматовой возник.
Но это не самое удивительное совпадение, связанное с Алексеем Ахматовым. Самое удивительное то, что он живет в Комарово на литфондовской даче — таковых там всего шесть, они однотипны, среди них есть знаменитая «будка» Ахматовой. Да, все верно: Ахматову досталась «будка» Ахматовой.
Тут надо пояснить, что эта «будка», при всей ее известности, никакой не музей, а летний домик, без каких-либо удобств, — наравне с пятью такими же он сдается писателям на определенный срок (обычно на пять лет по очереди). Далеко не все ценят бескомфортный быт, даже такой, с каким в свое время мирилась Ахматова. Связываются с литфондовскими дачами ради уединения и чистого воздуха. Некоторые тут чувствуют «ауру».
Ахматов занял «будку» Ахматовой потому, что наступила его очередь, а из всех литфондовских дач освободилась именно эта.
А именно эта освободилась именно потому, что от нее досрочно отказался ее бывший… обитатель… ведь не скажешь «владелец» или «обладатель», и арендатор — тоже не очень подходит… Да и вообще сейчас эти дачи, поделенные надвое, занимают соответственно два писателя. В «будке» Ахматовой часть с большой верандой занимает Валерий Георгиевич Попов (бессменно), а та часть, которая с печкой, до Ахматова принадлежала еще одному автору.
Этот еще один был я.
Знаете ли, жить в комнате, в которой жила Ахматова, топить печь, которая ее грела, спать в том же углу (у меня-то диванчик, а у нее был матрас на кирпичах — это Найман рассказывал, когда зашел в комнату), смотреть, сидя за столом, в то же окно, что и она смотрела, — это опыт, скажу вам, исключительный.
И опять все нежданно-негаданно. Написал заявление: поскольку дачи нет у меня, попросил, чтобы включили в очередь на литфондовскую. А мне говорят: да тут ахматовская «будка» освободилась — бери. Взял.
Про «будку» Ахматовой у меня большой рассказ написан — называется «Аутентичность».
Мироощущенческий такой рассказ.
Хороший.
Автору нравится.
Написáлся он потому, что я от этого места отказался — освободился, если угодно, — почувствовал однажды, надо изжить этот опыт. Три года она за мной была, «будка» Ахматовой, та комната с печкой, — пора и честь знать. Отказался досрочно.
Как-то сквозит — от такого просвечивания.
О науках и немного в сторону
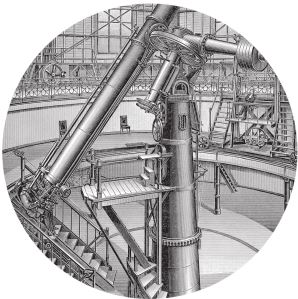
«Гром электричества»
25 апреля 1753 года в очередной раз отмечался день коронации Елизаветы Петровны. Основные торжества проходили в Москве. По проекту Ломоносова там устраивалась иллюминация, но есть все основания полагать, что самое интересное, с точки зрения достославного академика, должно было произойти здесь, в Петербурге, в момент пушечной пальбы с Петропавловской крепости. Дело в том, что его друг профессор Рихман («академик в Академии и профессор в Университете»), заблаговременно озаботившись получить соответствующее разрешение, готовился провести научный эксперимент, связанный с праздничным петербургским салютом.
Вот уже год, после открытия Франклином атмосферного электричества, друзья-ученые проводили эксперименты над этим таинственным явлением. Георг Рихман изобрел то, что Ломоносов называл «громовой машиной», — каждый установил по таковой у себя дома (оба жили на Васильевском острове). Устройство простое: подвешенный на шесте металлический прут (это над крышей) и соединенная с ним проволокой железная линейка, которую можно закрепить, например, на гвозде, вбитом в стену в сенях, — и далее, это наиважнейшее: к верхнему концу линейки прикреплена льняная нить. С приближением грозы линейка и нить электризуются, причем зарядом (сказали бы позже) одного знака, отчего нить отклоняется под некоторым углом. Рихман придумал измерять «электрическую силу»: он приспособил для определения углового отклонения нити квадрант. То есть создал, по сути, первый измерительный прибор для исследований электричества, его так и называли — «электрический измеритель». Занятно, что измерения «электрической силы» производились в градусах.
Ну а при чем тут пушки?
А при том, что на тот момент не было точного знания, не есть ли гром причина «электрической силы».
Рихман и раньше не замечал отклонения льняной нити во время выстрелов пушки, но то в домашних условиях. А жил он на углу Большого проспекта и 5-й линии — на некотором расстоянии от источника крепостной пальбы. Сейчас ему представился случай испытать грохот сразу пятидесяти орудий непосредственно в крепости.
Рихман подвесил железный прут на шелковой веревке вблизи от двух пушек. Было в тот день ветрено, опыт с нитью пришлось отменить, но это не повлияло на общий результат эксперимента, потому что измерять в градусах оказалось нечего: сколь бы часто во время пальбы ни подносил ученый к железному пруту палец, никаких искр не случилось, а потому стало известно («Санкт-Петербургские ведомости». 1753. № 45), что «произведенный искусством гром и молния электрической силы не показывают». Именно это профессор Рихман «в торжественный праздник коронации е. и. в. на санктпетербургской крепости при пальбе пушек способом пристойных инструментов пробовал».
О результатах эксперимента ученый докладывал Академии уже на другой день после праздника, — описание опыта и выводы занесены на латыни в протокол. Между прочим, сообщено в протоколе и о дублирующем опыте «в близлежащем помещении, огражденном от ветра». Там Рихман «по совету Ломоносова… подвесил саблю, а к сабле привязал нить; однако и в этом случае не наблюдалось никакого отталкивания нити»[26]. Так что чистота эксперимента была соблюдена.
Несомненно, о результатах исследования доложили Елизавете. Подобно тому как порадовали ее стихи Ломоносова, сочиненные к этому торжественному дню, и учиненная по его «проэкту» московская иллюминация, весело ей было, можно не сомневаться, узнать, что салют в ее честь способствовал научному открытию: гром электричества не производит. Елизавета и раньше проявляла интерес к электричеству. За пять лет до того она даже повелела у себя во дворце оборудовать специальную «камору», в которой Рихман мог бы демонстрировать ей свои опыты (до экспериментов с атмосферным электричеством было еще далеко), но в какой степени осуществилась эта затея, историкам науки неизвестно.
Возможно, логика тогдашнего экспериментаторства кому-то покажется забавной, — но не нам, право, не нам обижать снисходительностью память о тех естествоиспытателях. В конце концов, Рихман эти поиски оплатил жизнью.
Он погиб через три месяца после той пушечной пальбы — 26 июня — от своей же «громовой машины».
Появилась грозовая туча, оба — Ломоносов и Рихман, — приметив ее в окно, прямо с академического заседания рванули по домам. Рихман успел захватить «грыдоровального мастера Соколова», он должен был зарисовать опыт для публичного собрания, на котором Академия доверила Рихману и Ломоносову выступить с докладом по электричеству.
Иван Алексеевич Соколов был лучшим российским гравером. Недавно он закончил большую работу. В тот день, когда на валу Петропавловской крепости вместо льняной нити вздрагивали от пушечной пальбы друзья-академики, в Москве был поднесен Елизавете роскошный «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов, изданный трудами Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге», — вот эти замечательные изображения по рисункам Махаева гравировали ученики Соколова под его неусыпным «смотрением». Само появление лучшего «грыдоровального мастера» в сенях дома Рихмана, где на шкапе был установлен «электрический измеритель», говорит о важности эксперимента. Увы, именно Соколов стал невольным свидетелем гибели ученого. Да и сам на себе испытал силу удара.
Предупредив художника об опасности и заметив, что нить-стрелка еще не отклонилась значительно, Рихман подошел к измерителю, и тут «увидел Соколов, что без всякого прикосновения от железного прута… пошел белый огненный ком с добрый кулак величиною ко лбу профессора, который, не произнося из себя никакого более звуку, упал спиною на ящик… к стене». Так сообщал в рапорте со слов Соколова доктор Х.-Г. Кратценштейн, чьи попытки оживить Рихмана (он и кровь ему пустить пытался, и «дул ему, как то с задохшимися обыкновенно делается») остались тщетными.
Вспоминается описание одного раннего опыта из первых трудов Рихмана по электричеству (1745). «Если держать в зубах рубль и прикоснуться краем рубля к наэлектризованному железному пруту, то возникнет очень болезненное ощущение, сопровождающееся дрожью во всем теле».
Вызывать «дрожь во всем теле» — нет, правда, это неожиданное рублю применение. Судьба так распорядилась, что тема рубля возникла снова — теперь уже над мертвым телом экспериментатора. Есть у Кратценштейна такое в рапорте: «…у него на лбу на левой стороне виска было красное пятно с рублевик величиною…» А Ломоносов, скрупулезно описывая обстоятельства гибели Рихмана, отметит в своих «Изъяснениях, надлежащих к Слову о электрических воздушных явлениях», что «было у покойного Рихмана в левом кафтанном кармане семьдесят рублев денег, которые целы остались». 70 рублей — это много, и весят они порядочно (полтора килограмма серебра примерно). Зачем ему 70 рублей нужны были в кармане? Не хотел ли как-нибудь снова использовать в опыте?
Считается, что это была шаровая молния.
Дело темное. И загадочное.
Соколова, единственного свидетеля, самого шарахнуло. Он у двери стоял — упал. Когда вскочил на ноги — в сенях дым был, — выбежал из дома в беспамятстве.
Но картина перед ударом ему хорошо запомнилась.
Рапорт Кратценштейна написан на немецком. Перевел его Василий Лебедев, академический переводчик. В «Санкт-Петербургских ведомостях» текст слегка обработан. В частности, «белый огненный ком» заменен на «бледносиневатый огненный клуб»[27]. Что ж, художник Соколов разбирался в оттенках. Куда важнее — «с кулак величиною».
Вроде бы действительно похоже на шаровую молнию.
Безусловно, Рихман рисковал. «Электрическая машина» была не заземлена (в противном случае она бы «не работала»). Права была жена Ломоносова, когда просила мужа в ту грозу отойти прочь от его «громовой машины» (это в их доме на 11-й линии Васильевского острова), а он «руку держал у железа, и искры трещали». Да и самого Ломоносова можно понять, когда через несколько часов после трагедии писал он графу Шувалову: «Я не знаю еще или по последней мере сомневаюсь, жив ли я или мертв. Я вижу, что господина профессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое время». Да, все так, вероятность погибнуть от молнии была достаточно высокой. От обычной молнии.
А тут — шаровая.
Кратценштейн был не только врачом, — профессор по кафедре механики Петербургской академии наук (контракт истекал через несколько дней), он, кроме прочего, интересовался магнетизмом и электричеством. Обследовав место трагедии, по различным признакам вроде местоположения оторванной колоды и косяка двери установил (во всяком случае, так ему казалось), что «проведение электрической силы молнии с кровли не было важнейшею причиною сего приключения», «действительный луч молнии… принесло в сени» извне — через двери. «Оный луч, отворяя сперва себе вход, пошел после отчасти по лестнице наверх, а отчасти следовал до проволоки и ударил стоящего перед нею г-на профессора Р. Посему проволока ничего более не способствовала, как что вела она молнию так, что ударило точно его, а не наипаче стоящего перед нею Соколова». На обычную молнию, действительно, не похоже. Странно, странно все это. Кроме того, Кратценштейн глухо упоминает о чем-то необыкновенном, происходящем вне дома, — он допускает, что «вошедший луч молнии» — это тот самый, «который по скоплению людей и в соседстве на улице жестоко шумел и пыль вертел и подымал»[28]. Тут хотелось бы поподробнее, наипаче свидетелей было гораздо, но увы, увы.
Неужели действительно шаровая?
Природа шаровой молнии до сих пор не разгадана. Явление это редчайшее. В лабораторных условиях создать ее еще не удалось никому.
Никому — кроме убитого ею Рихмана?
Пускай он не думал об этом, пускай он этого не хотел и не было никаких вразумительных физических предпосылок для появления шаровой молнии в сенях одноэтажного дома на углу Большого проспекта и 5-й линии, — но ведь это же произошло? Практически в лаборатории.
Вместо обычной случилась там шаровая?
В литературе об этом событии пишут как о само собой разумеющемся: «убит шаровой молнией».
Ничего себе! Шаровой!
Мало того, он единственный, кто вызвал сам шаровую молнию практически в лабораторных условиях, это еще смогло произойти в один из первых экспериментов, связанных с электричеством.
Фантастика. Невероятно.
Петербургские шаровые
Никогда не видел и не надеюсь увидеть шаровую молнию.
Да что я! Думаю, физики, изучающие шаровую молнию, дорого бы заплатили за возможность на нее посмотреть.
«…А еще в „новостях“ сказали, что случилось на Невском проспекте: проникла в магазин „Охота и рыболовство“ шаровая молния и попала в металлический аппарат кассы».
Это из моего рассказа конца восьмидесятых, я действительно ради антуража вставил в текст упоминание о реальном происшествии, но спустя тридцать лет что-то не получалось у меня найти следов того события, вяло искал, должно быть, — сам уже засомневался, не авторская ли то была фантазия. Однако нет, случай, оказывается, попал в хронологию Ильи Лапина на его сайте «История Петербурга, XX век, фрагменты», — дате 5 июля 1988 года соответствует запись: «В магазин „Охота и рыболовство“ на Невском, 60, влетела шаровая молния и ударила в кассовый аппарат, происшествие имело большой резонанс в прессе»[29]. Ага! Даже большой резонанс. Значит, правда было такое.
(А то еще как будто там после взрыва денежка в кассе спаялась… Как же не оценить тогда замечание Ломоносова о 70 рублях в кармане кафтана Рихмана, оставшихся невредимыми?..)
Из моих знакомых только один человек имел нечаянность увидеть шаровую молнию — Татьяна Алферова, поэт и прозаик, автор книг, никаким боком не связанных с этим атмосферным (?) явлением.
Случилось это в 1987 (или 1988) году здесь, в Ленинграде. Татьяна тогда работала в организации, связанной с водоснабжением, — в общем, опуская детали, их контору временно приютило родственное отделение водоснабжения Управления дороги Финляндского вокзала; размещалось оно в административном здании восточнее подъездных железнодорожных путей (сейчас там уже все перестроено). Окна выходили на безымянный проезд. Третий этаж. Всего в комнате находилось семь человек, все женщины. Пили чай. Час дня было примерно. Алферова сидела у самого окна. Мимо окон чуть выше уровня подоконника проплывал шар размером с футбольный мяч — черный. Ей он вспоминается черным, с ярко светящимся верхом, может быть, потому, говорит, черный, что перед этим за окном резко потемнело (туча накрыла?), но дождя не было, она даже не помнит грозы. Там росли невысокие деревья, шар касался их вершин, проплывая. Алферовой овладел такой ужас, что она кинулась из комнаты в коридор, — за ней бросились остальные. Я спрашивал о природе ужаса, — напугало ли то, что столкнулась с чем-то неведомым, невозможным, необъяснимым, или от шара исходила реальная опасность. «Не знаю, просто накатил ужас, было солнечно, вдруг потемнело, и это плывет перед окнами…» Шар где прошел, там срезал ветви — земля была ими усеяна. Рабочие потом стояли задрав голову — не понимали, что произошло с деревьями. Спросил Татьяну, не сообщали ли они куда-нибудь об этом феномене. «А куда сообщишь? „Фейсбука“ тогда не было».
У меня нет оснований не верить рассказу Алферовой. К тому же некоторые нетипичные детали (черный цвет, контакт с деревьями) работают, по-моему, на достоверность известия.
Возвращаясь к Рихману, еще раз отмечу поразительный факт: как бы ни усложнялись эксперименты и ни развивалась наука, появление шаровой молнии в лабораторных условиях было инициировано один только раз, хотя и непреднамеренно, и роковым для экспериментатора образом, — причем на простейшем оборудовании — на заре изучения атмосферного электричества, да и вообще электричества как такового.
Такое впечатление, что шаровая молния сама решала выбрать кого и когда и пришла только однажды — на первый и только на этот призыв.
Коллизия несколько напоминает
Коллизия несколько напоминает историю с так называемым парадоксом Штермера. Речь идет о необъяснимом (на сегодняшний день) явлении, также известном как мировое эхо, или, иначе, LDE (от Long delayed echo), или, иначе, ЗРЭ — задержанное радиоэхо, а если употребить название одной из глав книги Карла Штермера, это «эхо коротких волн, приходящее через много секунд после основного сигнала».
Норвежский инженер-радиолюбитель Иорген Халльс первым заметил крайне необычное эхо в 1927 году. Он и заинтересовал этой проблемой Карла Штермера, физика, математика, известного исследователя полярных сияний. Штермер, со своей стороны, посвятил в суть проблемы голландского физика Ван дер Поля, и все трое приступили к поиску таинственных отголосков. Результаты были потрясающими. Им удалось в коротковолновом диапазоне обнаружить несколько серий отголосков с промежутками между сигналом и эхом от 1 до 40 секунд. Чтобы представить величины этих задержек, достаточно вспомнить, что только за одну секунду радиоволна должна была бы обойти Землю более чем семь раз. Где, в каких краях, в каких мирах витает сигнал десятки секунд, прежде чем вернется обратно? Величины фантастические, но скоро они подтвердились данными других исследователей. Обо всем этом есть в упомянутой главе книги Штермера «Проблема северных сияний» (у нас она вышла в 1933-м); там же исследователь пытается дать свое объяснение столь необычному феномену, — увы, сегодня предложенная им физика явления не признается верной. Вопрос о природе радиоэха с большой задержкой остается открытым.
Но в чем же сходство коллизий?
Да в том, что этот таинственный феномен обнаруживал себя преимущественно для первых исследователей. По мере освоения частот он просто стал «закрываться».
Он, подобно шаровой молнии, «выбравшей» Рихмана, тоже «выбирал» первых — только без угрозы их жизни.
Сведения о современной регистрации долгого эха противоречивы, — в любом случае величины запаздываний, коль скоро что-то подобное есть в природе, стали гораздо «скромнее». Мировое эхо словно затаилось, молчит.
Стоит ли говорить, что научная чистоплотность первых исследователей не вызывает сомнений? Феномен, конечно, есть. Хотя вопрос: есть или был?
Сейчас эта тема стала вновь популярной — в определенном секторе интернета. Во-первых, за счет, вообще говоря, безусловной загадочности, свойственной этой проблеме. А во-вторых, что конкретнее, — благодаря нашим братьям по разуму. Все началось еще в 1960-м, когда астроном Рональд Брейсвал предположил, что причина явления — зонд, подосланный к нам внеземной цивилизацией, это он ретранслирует нам же (зачем-то) наши собственные сигналы. И понеслось! Открылся новый источник идей.
Сам я узнал о задержанном радиоэхе в 1985 году из книги, в тот же год выпущенной издательством «Наука», — коллективный сборник статей под редакцией академика В. С. Троицкого называется «Проблема поиска внеземных цивилизаций». Но приобрел я эту книгу из-за одного автора — П. В. Маковецкого. Он преподавал у нас в институте и работал на нашей кафедре.
Об узкой специализации Маковецкого в профильных трудах кафедры мне ничего не ведомо. За их пределами на вещи он смотрел широко. Все его знали в ЛИАПе как составителя расписания связи с внеземными цивилизациями.
Идея оригинальная, смелая, и, похоже, вдохновил на нее Ленинград—Петербург, со своим главным символом, привлекающим неизменно туристов.
Только прежде чем об этом говорить, скажу, что лично думаю о внеземном разуме.
А ничего не думаю. Думаю, мы во Вселенной одни. Нет, кроме нас, никого. Плохо это или хорошо — но одни.
Встреча в городе как модель
Помимо научных статей (большинство из которых так или иначе связано с вопросами радиолокации), Петр Васильевич Маковецкий написал книгу «Смотри в корень!», чем и снискал славу популяризатора науки. Общий тираж четырех прижизненных изданий — более миллиона. Четвертое и пятое (посмертное) издания выходили тиражом по 500 тысяч. Вот в эти два и вошла глава о принципах связи с внеземными цивилизациями. Не надо, однако, думать, что Маковецкий поднимал тему в расчете на массового читателя. Разрабатывал он ее как раз отнюдь не в популярных изданиях. У меня сохранился межвузовский сборник статей 1977 года — «Аналоговые и цифровые методы обработки радиосигналов в современных радиосистемах», там все просто кишит интегралами и матрицами, — кажется, нет страницы без формул; вошла в сборник и статья Маковецкого с названием весьма неожиданным — «Вспышка Новой Лебедя — потенциальный синхросигнал для внеземных цивилизаций».
В этой статье Маковецкий приводит среди прочего даты возможного приема сигналов внеземных цивилизаций из различных точек космического пространства.
Идеология такова. Невозможно «слушать» весь космос. Бессмысленно «слушать», когда придется, когда нам захочется, на авось. Нужно знать, откуда и когда приходит сигнал.
Так, от звезды Барнарда имеет смысл (то есть имело) ждать сигнал внеземной цивилизации, согласно расчетам Маковецкого, 14 сентября 1978 года (плюс 18 суток).
От Альтаира — 25 августа 1982 года (плюс 45 суток).
От звезды Альфа Центавра — 25 октября 1982 года (плюс четверо суток).
И так далее.
В статье объясняется принцип подхода к проблеме. Но более наглядные объяснения даны в популярном четвертом издании «Смотри в корень!». Примерно в том же духе была прочитана Петром Васильевичем специальная лекция у нас в институте — на нее, кажется, пришла вся наша кафедра, и я в том числе.
Маковецкий предлагает такую задачу. Вы — ленинградец (Маковецкий жил в Ленинграде), к вам приезжает некто, неизвестно откуда и неизвестно когда (где-то в ближайшее время, при всей растяжимости этого понятия), и у него нет вашего адреса. Но вы оба горите желанием встретиться. Как поступить?
Можно ли найти друг друга в огромном городе, не обладая никакой информацией о партнере, кроме знания о том, что ваше стремление встретиться — обоюдное?
(Без, разумеется, всяких там «волшебных палочек» вроде нынешнего интернета, платных объявлений и тому подобного…)
Поскольку эта задача одновременно решается обеими сторонами, решение возможно лишь в том случае, когда стороны придут к заключению, что они должны рассуждать одинаково. То есть они не должны бессмысленно метаться по городу, но с одинаковым успехом обязаны выбрать в городе определенную точку и задаться определенным временем встречи (не стоять же круглосуточно на одном месте).
Что касается места, Маковецкий опросил некоторое число людей, и большинство из них (я с ними солидарен) высказались в пользу Медного всадника. На втором месте, если не ошибаюсь, шла Александровская колонна (хотя, конечно, стояла на месте), также называли крейсер «Аврора», одинаково тогда почитаемый как ленинградцами, так и гостями города трех революций. Только что поинтересовался у жены, как бы поступила она в этом случае, — Александровская колонна на Дворцовой площади в ее рейтинге наиболее благоприятных мест для встречи закономерно заняла вторую позицию, а на первой — к моему величайшему изумлению — оказалась лестница городской Думы на Невском проспекте… Ничего себе! Никогда бы в голову не пришло… Да, жена, это действительно чудо, что мы встретились!..
Итак, Медный всадник. А когда? Тут почти без разногласий — в 12 часов дня, когда выстрелит пушка.
(Заметим, что, согласно статье 7 действующего Устава Санкт-Петербурга, принятого Законодательным собранием СПб 14 января 1998 года, Медный всадник — один из трех официальных исторических символов города (наряду с ангелом над крепостью и корабликом над Адмиралтейством), а полуденный выстрел с Нарышкина бастиона, согласно статье 8, пункт 1.1, официально воплощает собой понятие «петербургская традиция»[30]. Стало быть, для успеха встречи обе стороны всего лишь должны придерживаться официальной линии Законодательного собрания СПб, но, боюсь, это мало кому покажется очевидным.)
Стратегия ясна: вы должны приходить изо дня в день в 12 часов к Медному всаднику, — однажды вы встретитесь. При условии, конечно, что ваш партнер этого сильно хочет — настолько сильно, что готов отгадать ваши намерения (а другого ему не остается).
В космосе та же история. Для того чтобы контакт цивилизаций состоялся на уровне передача-прием сигнала, необходимо существование какого-то синхронизатора — яркого краткосрочного События, заметного на значительных космических расстояниях. Цивилизация, желающая быть услышанной, включает передатчик позывных в тот момент, когда узнает о Событии. Земля, зная координаты События и звезд, может составить расписание связи. Маковецкий считает, что на роль События лучше всего подходит вспышка сверхновой, различимая во всех областях Галактики. Вспышку Новой Лебедя наблюдали на Земле 29 августа 1975 года.
Я сильно упрощаю рассуждения Маковецкого, но ведь логика наша должна быть простой, чтобы до аналогичного могли додуматься наши гипотетические космические партнеры (в существование которых, повторюсь, я не верю).
Маковецкий задумывался и над структурой позывных. По его мнению, за «семантику» должна отвечать будто бы известная всем цивилизациям частота межзвездного водорода. Помноженная на иррациональное число π или √ 2, таковая «оказывается рабочей частотой, а число верных знаков в принятой частоте — критерием искусственности». Но не будем углубляться в эти идеи.
Он сильно в них верил. Он был убежден, что рано или поздно позывной сигнал, посланный в прошлом из космоса, достигнет Земли, уверенно ждущей позывной в нужное время и с нужного направления.
Однажды что-то подобное опубликовали американцы, — Маковецкий отнесся к этому двойственно. С одной стороны, это прекрасно: разных людей осеняет одна и та же идея, значит то же способно случиться с внеземным разумом. Но с другой стороны, помня о судьбе изобретения Попова, Маковецкий был готов отстаивать приоритет. Обнаружился старый номер газеты «В полет», нашей лиаповской многотиражки, с небольшой заметкой, в которой уже все было сказано по существу.
Наверное, я бы не стал так долго останавливаться на этом, но тут есть один личный нюанс. Для меня самое странное в этих идеях то, что они в существенной степени изменили мою жизнь. Не сами идеи, а их предметное существование… Если тянуть цепочку «если бы не… если бы не… если бы не…», то вообще бы, если бы не… — было бы у меня все по-другому.
Но это из серии «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…».
Дело в том, что я однажды решил рассказать о Маковецком детям.
«Костер» и внеземное
Однако вон куда заплываем. Это как если бы с Большой Невы, вместо того чтобы в залив войти, резко свернули в Екатерингофку, а там уже на выбор — или в Обводный канал и в обратном направлении, или кругалем в Бумажный канал, плавно переходящий в Таракановку. Но слово сказано. Плывем, куда плывется.
Дело было в начале восьмидесятых, после очередной конференции молодых литераторов Северо-Запада (такие случались), — я тогда написал небольшой очерк в детский журнал «Костер». У них в журнале возникла потребность в материалах на темы «науки», вот я и рассказал об идеях Маковецкого, касающихся расписания связи с внеземными цивилизациями, — с учетом, по своим представлениям, возраста аудитории. А взялся за эту тему, потому что была зацепка. Ту самую Новую Лебедя, которую Маковецкий полагал синхронизатором связи, открыл в 1975 году, как тогда утверждалось в печати, школьник, на самом деле «вчерашний школьник», то есть студент — но в любом случае не ученый. Событие тогда стремительно обросло своей мифологией, но теперь под рукой интернет, и мы знаем некоторые подробности. Сергей Шугаров, «хорошо знавший небо», проходил практику в Крымской обсерватории и как-то ночью, взглянув на купол зеркального телескопа им. Г. А. Шайна, увидел невооруженным глазом новую звезду, совершенно лишнюю в созвездии Лебедя. Сверхпопулярный поэт Андрей Вознесенский то ли гостил тогда в обсерватории и оказался свидетелем переполоха, то ли узнал об этом позже, но его стихотворение «Новая Лебедя — 75», вскоре опубликованное в журнале «Юность» (фантастическим по нашим временам тиражом) с посвящением «первооткрывателю», прославило факт явления новой звезды «совсем непристойному свистуну» (тогда как «корифеи» проспали). Очень скоро первооткрыватель в общественном сознании сделался школьником. «Школьник» или «бывший школьник», для меня важно другое: если бы не эта возрастная зацепка, я бы не стал браться за тему. Не стал бы вообще с детским журналом связываться.
Материал в «Костре» благополучно потеряли, и я забыл о его существовании. Прошло время, я — сторож, был март 1983-го, когда мне вдруг позвонили из «Костра». Тот ли я, кто написал о внеземных цивилизациях? Да, тот. Если тот, со мной хочет встретиться главный редактор.
Прихожу. Святослав Владимирович Сахарнов, сверкая очками, встречает меня в своем кабинете радостным возгласом: «Я вас не таким представлял!» (в смысле, не таким молодым, по-видимому). На столе у него лежит мой текст с перечеркнутыми кусками. «Кто? Кто это сокращал? — кипятится главный редактор. — Надо печатать как было!» Расхваленный и воодушевленный, ухожу домой.
Через день или два снова звонок — опять приглашают в «Костер». Сахарнов предлагает мне место младшего литературного сотрудника. 150 рублей. Плюс гонорары, если буду писать. От звонка до звонка здесь не сидят. И вообще «работа не должна мешать творчеству».
Взяли меня с испытательным сроком на два месяца, а проработал я в «Костре» восемь лет.
Уже потом я узнал, что должность младшего литературного сотрудника была единственной неноменклатурной, то есть главный редактор мог брать на это место, кого хотел, без согласований с обкомом и прочим начальством.
За несколько лет до меня на этой должности поработал Сергей Довлатов. Но тогда о Довлатове я слышал немного. Иногда в «Костре», кто знал, вспоминали Довлатова, — только самого Довлатова, чтó он написал о «Костре», я прочитал много позже. Забавно получается: я работал в «Костре» среди довлатовских персонажей, иногда вспоминавших — за чаем или еще как-нибудь — своего автора.
Сахарнова, в прошлом командира торпедного катера, автора множества детских книг о морях, путешествиях и обо всем на свете («Морская энциклопедия», переложение «Рамаяны»…), насколько мне известно, иногда упрекали по партийной линии в «непродуманной кадровой политике». На самом деле кадровая политика у него была очень продуманная. Больше всего он боялся, что ему спустят сверху какого-нибудь «чужака». Через много лет я узнал, как примерно получилось со мной. Сахарнову срочно требовалось заполнить штатное расписание, чтобы блокировать возможность перестановок. Ему кого-то сватали в тот момент — не то в «замы», не то в «завы». Если бы должность младшего литературного сотрудника оставалась вакантной (а он ее берег «на всякий случай»), то на это место перевели бы одного из редакторов, а на освободившееся место редактора перевели бы «исполняющего обязанности» одного из трех отделов (когда и. о. — тут без проблем). Должностной пузырь, таким образом, переместился бы выше, облегчая дальнейшую перестановку или даже прямое включение «чужака». Чтобы опасного пузыря не возникло, Сахарнову срочно потребовалось кем-то занять ставку младшего литературного сотрудника, — вот и взял он на эту безответственную должность молодого беспартийного стихотворца из сторожей, который только что послал на творческий конкурс в Литинститут, на заочное отделение, свои триста стихотворных строк.
Редакция «Костра» — удивительный организм. С одной стороны — миниатюрная модель всего тогдашнего общества, а с другой — нечто совершенно оригинальное и неповторимое… Но я уже заплыл в Бумажный канал… или это река Таракановка?
Скажу только, что ленинградский «Костер» был журналом с репутацией. Московский «Пионер» мы считали официозом, «Костер» держал марку. Журнал «Костер» читал еще до войны мой отец — там печатали «Двух капитанов» Каверина, «Необыкновенные приключения Карика и Вали» Яна Ларри и многое другое. Мне в детстве тоже выписывали «Костер», и я читал в нем, например, «Алису в Зазеркалье», какую-то фантастику, повесть Василия Аксенова «Мой дедушка памятник». И вот мне предложили работать в «Костре». Это же здорово.
И о звездах. Вспомнил одну костровскую командировку. Сахарнов (проницательный человек) однажды решил, что мне необходимо развеяться. И отправил в Крымскую астрофизическую обсерваторию. Гостиница была прямо на ее территории. Среди телескопов бродила корова, звеня бубенчиком. С приезжими астрономами беседовал я о проблемах вечности. Помню, один доктор наук тосковал: скоро вот американцы отправят на орбиту телескоп «Хаббл» и окажется, что наша работа никому не нужна. Был в башне солнечного телескопа. И в башне большого — 2,6 метра — зеркального телескопа им. Г. А. Шайна. А первую же ночь провел у старого телескопа-рефлектора (подарок Гитлера Муссолини), на котором Н. С. Черных открыл вместе с женой-астрономом множество малых планет, он показал мне едва заметное пятнышко — это была знаменитая комета Галлея, которую ждали в феврале. Утром я отправил телеграмму в Ленинград: «Видел комету», — ну, дескать, все хорошо, доехал. Моя беременная жена ждала телеграмму от мужа, а ее не было, позвонила на почту, нет ли ей телеграммы. Уже доставлена. Кем? Когда? Тогда ей сказали, что почтальон вместе с сумкой исчез. Она поставила на уши почтовых начальников. Оказалось, он вместе с сумкой попал в вытрезвитель — в двух шагах от нашего дома, на Фонтанке, не доходя до Измайловского сада, — впрочем, телеграмму «Видел комету» жена нашла на почтовом ящике в соседней парадной. Вот подумалось мне сейчас, что «вчерашний школьник» уже окончил давно университет и мог работать в обсерватории, когда я там был, и я мог его видеть (гуглю: ба! — С. Ю. Шугаров — «в первом десятке по миру наблюдателей-астрономов»!). А юных астрономов, школьников, я встретил в Бахчисарае: они лежали ночью в спальных мешках на плоской крыше какого-то строения. Я тоже залез на крышу со своим спальным мешком. Я — чтобы спать, они же работали. Они лежали в мешках с тетрадками и фонариками, смотрели на небо, каждый в свой сектор, и отмечали метеоры палочками в тетрадях. Я был поражен: они знали названия всех звезд на небе. Как это? А что такого, говорили они, надо просто знать все созвездия и буквы греческого алфавита.
Все-таки это забавно, что укомплектовать в спешном порядке штатное расписание помогло расписание связи с внеземными цивилизациями. Если бы не Маковецкий, не было бы и повода для нашего разговора в кабинете главреда «Костра». Конечно, взяли бы кого-нибудь другого, тут и вопросов нет. Но раз получилось, как получилось, то это в данном случае факт: именно расписание связи с внеземными цивилизациями повлияло на штатное расписание редакции журнала для детей среднего возраста.
И на мою судьбу, получается, повлияло.
Иначе бы я не познакомился со многими людьми. Иначе бы не пригласили меня в 1992-м, по сути безработного, в детскую редакцию «Радио России» и не стал бы я для художественной редакции писать радиопьесы. И просто пьесы писать мне бы не пришло в голову. Да и многое что еще. Просто у меня было бы все не так, как сейчас, — все по-другому.
А если вспомнить «зацепку», то первым звеном в этой цепочке надо поставить того «вчерашнего школьника», который в ночь на 30 августа 1975 года посмотрел на небо и обнаружил в созвездии Лебедя новую звезду необычайной яркости. Причем тут исключительно важно, что он был для нас «школьником», пускай и «вчерашним», — был бы он уже дипломированным астрономом, и никакой бы «зацепки» не произошло.
И не встретился бы я со своей будущей женой. А как тут встретишься, когда один готов ждать у Медного всадника, а другая — у башни Думы на Невском?
Так ведь это же так! Без преувеличений!
То, что «школьник», мне незнакомый, посмотрел однажды на звездное небо, предопределило мою с нею встречу годы спустя — нас познакомила ее подруга Наташа, работавшая машинисткой в «Костре».
Поэтому дети мои — вот эти. А внуки — вот эти.
Как это странно, непостижимо, невероятно!
Книжное

Ночная очередь
Как-то раз проходил я ночью по проспекту Энгельса, в тот час безлюдному, — было это в конце семидесятых. Внимание мое привлекла толпа, человек пятьдесят, в скверике за детской площадкой. Некто с тетрадью в руках стоял на ступенях под фонарем перед магазином с погашенными витринами, — он выкрикивал фамилии, на которые тут же их обладатели отзывались в толпе. Ясно было: люди отмечаются в очереди. Это могла быть очередь на какой-нибудь ценный по тем временам дефицит — на немецкие швейные машинки, например, или чешскую мебель. Знак времени. Но — тут я увидел: магазин — книжный. Подошел.
Оказывается, отмечались на собрания сочинений. Вернее, не так: на подписку на собрания сочинений. Собрания сочинений в определенном для каждого автора числе томов распространялись по предварительной подписке, но кто бы ни был этот автор и что бы он ни написал, желающих получить абонемент на им написанное было значительно больше, чем самих абонементов. Это была очередь на подписку — на разрешение подписаться конкретно в этом книжном магазине.
Считалось, что тиражи книг вообще и в частности собраний сочинений, издававшихся комплектами по нескольку томов, были недостаточными. Между тем выходили эти собрания, иногда даже более чем десятитомные, гигантскими тиражами — по 200 тысяч и более. Куда еще больше?
Сейчас отмечались желающие получить Фолкнера. Кажется, в шести томах.
Я спросил одну даму, когда Фолкнер выйдет, и она, посмотрев на меня с удивлением, спросила: «А вам зачем?» Может быть, я в тот год еще молодо выглядел и, на иной, умудренный жизненным опытом взгляд, до Фолкнера еще не дорос, а может, и это скорее всего, тем было дано знать мне, что я, человек со стороны, не имею на Фолкнера шансов. Вопрос мой, однако, вызвал в толпе разговор об издательских перспективах Фолкнера, и я узнал, что ожидается собрание сочинений лет через пять, не раньше. Ближайшее собрание сочинений — Есенина, но очередь на него уже отметилась, перед Фолкнером. Оказывается, одни и те же люди записались на несколько собраний сочинений и теперь они отмечались по отдельному списку на каждого автора.
Раз в месяц — впрочем, за точную периодичность отвечать не решусь (может, чаще, может, реже) — они собирались ночью вот здесь и — отмечались по списку. Некоторые не приходили — кто-то выбывал в силу естественных причин, кто-то в силу житейских обстоятельств, — в любом случае эти выбывали из списка, увеличивая шансы следующих за ними.
Но шансов было мало.
На магазин выдавали от одного до пяти абонементов.
А этих — десятки. Это тех, кто только записался. Вероятно, у организатора книжной очереди была договоренность с администрацией магазина — о признании списка и выдачи абонементов на подписку по этой очереди. Организатор, будучи первым номером, вероятно, получал абонементы как вознаграждение за инициативу — он обладал заветной тетрадью. По мере возрастания номеров шансы у любителей чтения падали. Причем начиная с номера два.
Подписные издания
У меня плохая память на лица, но на книги как вещи, вполне осязаемые, — хорошая память. Странно, я быстрее содержание книги могу забыть, чем ее саму, обладающую весом, объемом, размерами.
Зачем помню вот это? Как по дороге из института (Чесменский дворец, Чесменская богадельня…) захожу в книжный магазин на Московском. Там отдел подписных изданий. Книги по абонементам. Просто смотрю. Это середина семидесятых. Вот — по памяти:
— Очередные тома из собрания сочинений Островского, драматурга… Салтыкова-Щедрина… Некрасова (зеленого, академического)… Достоевского (из тридцатитомника, издание которого растянется на два десятилетия)… Четвертый том Виталия Бианки, с дневниками и письмами… А еще сразу четыре большого формата книжищи коллективного труда с удивительным названием «Космическая медицина» — мрачновато-красивые суперобложки с изображением какой-то галактики и лица космонавта в болезненном цветоделении… И первый том «Справочника по радиолокации», перевод с английского, — ну это как бы по моей будущей специальности, как мне на тот момент еще мнилось…
Не запоминал нарочно, честное слово. Но как перед глазами.
Вот уточнил: «Основы биологии и космической медицины», — не уверен, что на это подписывались так же лихорадочно, как и на Фолкнера, хотя все может быть, — не было и «Космической медицины» в свободной продаже, только по абонементам в соответствии с предварительной подпиской. Насколько я понимаю, это издание являло собой памятник эпохе разрядки напряженности (детант), — американо-советский проект в контексте программы «Союз — Аполлон»…
Что до собрания Достоевского, тут могу похвастаться: все 30 томов (33 книги) я скупил по одному в ленинградских «Букинистах». Иногда мои гости, видя на полке полного Достоевского с закладками, удивляются: а ты разве не сдал его в «Старую книгу»? Нет, это мой персонаж сдал, это я его подбил на сдачу — в самом начале романа «Член общества, или Голодное время», — после чего у него и начались сюжетные неприятности. А я наоборот — купил. А он — наоборот: сдал.
В связи с этой сдачей занятный случай произошел однажды с писателем К., о чем он поведал как-то в своем блоге. Зашел он тогда в «Букинист» и взял с полки роман какого-то Носова, открыл, а там в самом начале (от первого лица роман): «В этот день я сдал Достоевского. В 30 томах, или 33 книгах, двухпудовое, полное — сочинений собрание — я тащил на себе в этот день на далекий Рижский проспект, по-тогдашнему проспект Огородникова… — закоулками, огородами, пролазами… — просто тамошний „Букинист“, он работал по воскресеньям». Фокус в том, что К. находился как раз в том самом «Букинисте» — на Рижском проспекте (в прошлом — проспекте Огородникова). Вот сюда и сдал герой носовского романа своего Достоевского. А теперь кто-то и сам носовский роман сдал, который сейчас держал в руках К., читая про то, как сдал сюда Достоевского герой Носова. Может быть, он герой романа и сдал сам роман, раз он уже сдавал сюда однажды всего Достоевского? В общем, что-то К. тогда почувствовал и даже книгу купил. И даже написал об этом случае[31].Мне тоже нравятся такие совпадения — когда реальность и вымысел совмещаются. По-моему, это очень петербургское совпадение. Хотя в отдельную главу «Петербургские совпадения» включать не буду его — там поярче, повыразительнее.
А когда я купил один из томов того полного собрания Достоевского в магазине «Старая книга» на Литейном проспекте, тоже был случай. Принес я домой этот одиннадцатый том с рукописными редакциями «Бесов», положил на стол, открываю, а оттуда, из-под корешка — шмыг таракан — и побежал по столу проворно. Не сумел поймать, так и унесся. Сколько книг покупал, никогда ничего подобного не было. Не иначе, это был таракан капитана Лебядкина, о котором на странице 41 сказано: «Таракан от детства, т. е. от самых пеленок, или, лучше сказать, от рождения». Ну да, тот самый: «Жил на свете таракан…»
Скрылся и больше не появлялся. Тараканы в нашем старом, в прошлом доходном доме поселились через несколько лет, независимо от этого беглеца — когда на первом этаже открыли продовольственный магазин. Мы с ними боролись. Но пропали они уже в новом тысячелетии. Во всем городе. Сами.
Без очков
Десятиминутные «Новости дня» перед показом фильма, на который покупался билет, зрители воспринимали с рутинной обреченностью, надо так надо, можно и подождать, — это называлось «журналом». Новости, причем запоздалые, непременно вчерашнего «дня», сплошь о достижениях, забывались мгновенно, с первыми кадрами обещанного кино, и все-таки отдельные «журнальные» эпизоды — трудно сказать почему — умудрились почему-то запомниться. Вот, например, этот сюжет (я тогда учился в классе пятом-шестом) о необходимости беречь зрение. Едут пассажиры в метро, и куда ни нацелится камера — везде читают книги. Сидя читают, стоя читают. А голос за кадром говорил примерно следующее: наша страна — самая читающая на планете, нет силы, которая нас могла бы отучить от чтения, но каждый советский читатель не должен забывать о здоровье: чтение в вагонах метро опасно для зрения, это доказали московские офтальмологи, — дрожание букв, даже когда оно незаметно, ослабляет хрусталик (ну типа того), что ведет к близорукости. Не надо читать в вагонах метро. Берегите зрение. Да-да, хорошо, но почему же я это запомнил? Наверное, не поверил. Дома я читал и лежа, и при плохом освещении, и при плохом освещении лежа (за что корили меня, а я все равно читал — и что? — даже без очков обходился пока что), а тут — в метро!.. Не читать?.. Смешно даже. Все читали и будут читать.
Да так и было: читали книги в метро — до эпохи смартфонов.
В 70-е годы прошлого века страна испытывала, как тогда называли это, книжный голод. Почему-то всем хотелось читать. Мне, например. У меня, допустим, в голове был щелчок — с определенными последствиями; но не у всех так же? Или у всех?
Литература на моем веку никогда не пользовалась таким авторитетом, как в те годы.
Сначала говорили «самая читающая страна», потом догадались о себе: наша страна — «литературоцентричная». Слово это появилось примерно тогда же, когда вошло в обиход слово «менталитет». Менталитет во многом объяснялся литературоцентризмом.
Вот данные на 1980-й (по материалам статистических таблиц ежегодника «Печать в СССР», чей собственный тираж, к слову сказать, был весьма показателен для своего времени: 10 тысяч).
Выпуск русской художественной литературы — 3966 изданий общим тиражом 536 382 900 экземпляров. Именно русской — в смысле, не переводной, и именно художественной — то, что позже стали называть «фикшен». И не детской. Также здесь не учтены журналы и вообще периодика. При этом проза — 2843 издания, поэзия — 888 и драматургия — 56 изданий.
Отдельно надо отметить число 939 из графы «Литература зарубежных стран» — количество переводных изданий; общий тираж — более ста миллионов: 108 140 500.
Средняя номинальная цена одного экземпляра прозаической книги советского писателя была 81 копейка (это уже я сам подсчитал).
Дореволюционного автора — 1 рубль 23 копейки. Их книги в среднем были значительно толще.
Переводная литература (художественная) стоила в среднем 1 рубль 53 копейки.
Купить нужную книгу по номиналу (если она уж совсем не специальная) было практически невозможно. Вот, допустим, в нашем контрольном 1980 году в московском издательстве «Юридическая литература» выходят «Избранные произведения» А. Ф. Кони, судебного деятеля и знатока отечественной словесности, автора, казалось бы, не самого популярного. Полтыщи страниц. Номинал, указанный на переплете, — 1 руб. 20 коп. Нет, в магазине за эту цену книгу не купите. В магазине новые книги сметают сразу. На черным рынке она пойдет за 15 рублей. А что, очень хочется? Воспоминания о деле Веры Засулич желаете почитать?.. Ну хорошо, 12 рублей. Да это же недорого, почти бесплатно! При таком-то небольшом тираже!.. Всего 30 тысяч каких-то!..
Страсти по макулатуре
Недалеко от нашего дома, на той стороне Фонтанки, в доме, где встретились Пушкин и Анна Керн, за кирпичной стеной, вдоль которой тянулся проход к колхозному рынку, одно время работал пункт приема макулатуры. Часто я видел, как жители окрестных домов подтягиваются сюда с пачками газет и журналов, перевязанными тесемками. Здесь не просто принимали «отходы потребления бумаги» по две копейки за килограмм, но за эти отходы весом в 20 килограммов, помимо 40 копеек, давали сдатчику, и это главное, документ на право приобретения (точнее, покупки) определенной, заранее объявленной книги, например «Пармской обители» Стендаля.
Документ был, собственно, абонементом. К нему прилагались непочтовые марки.
Каждую марку украшало слово «СОЮЗГЛАВВТОРРЕСУРСЫ». Поскольку такое длинное наименование не умещалось в одной строке, приходилось разбивать на две: «СОЮЗГЛАВ-/ВТОРРЕСУРСЫ». Так назывался главк, занятый сбором (что следует из названия) вторичных ресурсов, причем во всесоюзном масштабе, но по данной, книжной программе — первое время лишь в десяти городах: Москве, Ленинграде, Киеве и других.
Стоимость марки выражалась в единицах веса, а именно килограммах, или, как сказано, «кг макулатуры». Марки имели следующий номинал: 1,3, 5, 10 (кг макулатуры).
Декларированная цель кампании — спасение леса.
Вот читаю на последней странице «Рассказов» Шукшина (1979 г., тираж 1 200 000, — да, это не опечатка, миллион двести тысяч) типичное для книг «макулатурной серии» обращение:
«Уважаемые товарищи!
Чтобы сохранить лесные богатства нашей страны, с 1974 года организован сбор макулатуры в обмен на художественную литературу, для чего расширен выпуск популярных книг отечественных и зарубежных авторов.
Сбор и сдача вторичного сырья — важное государственное дело. Ведь 60 кг макулатуры сохраняют от вырубки одно дерево, которое вырастает в течение 50–60 лет».
Далее следует призыв «активно содействовать заготовительным организациям в сборе макулатуры».
«Королева Марго» в 1974 году вышла тиражом 500 тысяч, книга была успешно распродана по макулатурным абонементам. Сочинения Козьмы Пруткова через год потянули уже на миллион. Потом случались тиражи и по три миллиона. И даже больше.
Сомнительно, чтобы главк «СОЮЗГЛАВВТОРРЕСУРСЫ» ставил себе целью утолить книжный голод жителей хотя бы крупных городов, — это, скорее, по профилю иных ведомств. Так или иначе, макулатурная кампания только взвинтила ажиотажный спрос на книги. А тут и абонементов стало не хватать. Невероятно, но это так: сколь бы ни были колоссальны обещанные тиражи, число желающих сдать макулатуру на книги превышало все мыслимые пределы. Характерная ситуация. Привозит человек тележку газет и журналов, а ему говорят: абонементы закончились, идите домой, — и везет человек макулатуру обратно, чтобы снова с нею прийти, но теперь непременно к открытию приемного пункта.
Между прочим, в числе других макулатурных изданий было и такое — «Пушкин в Михайловском» Ивана Новикова; там поэт в одной из глав дарил Анне Керн стихотворение «Я помню чудное мгновение» и упоминался в той же главе соответствующий запечатленному мгновению «вечер у Олениных», проведенный Пушкиным как раз в этом самом доме, во дворе которого теперь сдавали макулатуру за книгу о Пушкине, в которой поэт, стало быть, дарил Анне Керн стихотворение и упоминался «вечер у Олениных» в доме, где теперь сдавали макулатуру за книгу, где Пушкин… дарил… ну и т. д. Не странно ли это? «Душа», которая «переживет и тленья убежит», действительно, тут получается, на наших глазах «переживает» — не то чтобы «в заветной лире», но в какой-то причудливой гротескной рекурсии, и не то чтобы «прах», но вторсырье, собранное по народной любви к поэту… Каково? Впрочем, тираж этой книги о Пушкине был по макулатурным меркам ничтожным почти — всего 150 тысяч.
А романы Дрюона о французских королях в четырех томах (80 кг за все) выходили тиражом четыре миллиона.
Как бы это пообразнее представить…
Вот я и прикидываю, сколько надо вагонов, чтобы перевезти всю собранную за дрюоновские талоны макулатуру, если за среднюю расчетную величину ее объемного веса (плотности), согласно нормативам, возьмем 0,53 т/м3.
По моим прикидкам, требуется около семи тысяч вагонов (точный расчет мой таков: 6988 крытых товарных вагонов распространенной тогда модели 11-066 с загрузкой до уровня люка). Ничего себе! А сколько железнодорожных составов, сами считайте. (Или представим себе хранилище в виде куба с гранью в 85 метров, доверху заполненное макулатурой, — и это только в пользу возможности — дозволения, иными словами — купить «Проклятых королей» Дрюона!)
(В расчетах, кому интересно, я исхожу из того, что четырехполосная газета формата А2 весит 20 граммов; по идее, надо бы положить 22 грамма, но знатоки утверждают, что тогда экономили на бумаге.)
Рекорд тиража по макулатурным абонементам — 5 000 000, пять миллионов! — у романа Дюма «Две Дианы»: издательство «Правда», год 1990-й. К этому времени то же издательство завершало печатать двухтомник Лермонтова — без всяких талонов, но по предварительной подписке, проведенной без ограничения до полного удовлетворения спроса. Спрос удовлетворился при фантастическом сверхтираже 14 000 000! (Восклицательный знак в данном случае означает не факториал, но неподдельное изумление автора!..) В магазине «Подписные издания» на Литейном проспекте на втором этаже левый зал предоставлен был целиком для оформления безлимитной подписки, — несколько очередей сразу стояли каждая в свое окошечко, а там оформляли абонементы по предъявлении паспорта, не знаю, взимался ли залог, но штамп в паспорт точно не ставили.
А еще раньше, в 1985 году, — считайте, с этого и началась перестройка, — издательство «Художественная литература» решило накормить читателей трехтомным Пушкиным (сколько подпишется!) до полного удовлетворения, — оно наступило при тираже 10 700 000. Печатался трехтомник в Финляндии, железнодорожные составы шли в двух направлениях: туда — сосновый лес, оттуда — Пушкин из леса.
Мне напоминают, о чем совершенно забыл, но да, ведь было и такое: лотерея макулатурных талонов. Это где-то около 1982-го. Желающих сдать вторсырье на заявленные книги оказалось больше, чем самих книг. За невозможностью гарантировать приобретение конкретной книги придумали объявлять сразу о пяти готовящихся к печати книгах, — на каждую выделялся талон, обеспеченный четырьмя килограммами макулатуры, так что, сдав те же 20 килограммов, клиент гарантированно получал книгу, но какую конкретно из тех пяти, он знать заранее не мог — тут была лотерея. Сложная система. От нее быстро отказались.
Что сдавали? Преимущественно газеты. Но и журналы, конечно, — например, «Работницу», «Здоровье», «Экран», «Крокодил». Члены партии — «Коммунист», их обязывали на него подписываться (а что будто бы нельзя такое в макулатуру было сдавать, это сказки, — куда же еще, как не в макулатуру?).
Это картон обычно не принимали. А «Коммунист» — за милую душу. Он толстый был, тяжелый и выходил часто — в пересчете на один месяц полтора номера было. Так что, если шел по улице человек с перевязанным бечевкой комплектом серовато-синеватых журналов, можно было не сомневаться, куда он идет: за талонами на популярную книгу в пункт сбора вторсырья.
Литературные журналы тоже были толстые, и их тоже сдавали. Эти так и называли — «толстые журналы». Некоторые романы вынимались — чаще всего из «Иностранной литературы» — и переплетались в мастерских, имевшихся в городе. Остальное — макулатура.
Редкие несознательные граждане, мало заботящиеся о том, какой они урон наносят государству, жульничали — например, увеличивали вес газет по методу частичного увлажнения. А некоторые слишком сознательные несли сдавать антиквариат. От прижизненного Чехова до комплектов «Журнала автобронетанковых войск». Поэтому в пунктах приема работали люди, хорошо разбиравшиеся в макулатуре, — да и странно было бы, если бы туда попадали иные.
Эпоха макулатурных абонементов длилась 17 лет. За это время в рамках макулатурной кампании было издано более ста книг, практически все гигантскими тиражами. Общий тираж макулатурной серии — около 200 миллионов. Нет, не в силах прекратить расчеты!.. Смотрите. Если всю — ради приобретения дефицитных книг сданную тогда макулатуру перевести в эквивалентную по общему весу газетную массу формата А2 («Правда», «Известия» и т. п.) и представить склеенную полоса к полосе шириной в одну газетную полосу ленту, то ею можно будет обернуть экватор примерно 5000 раз или протянуть ее к Луне и обратно 250 раз, когда Луна в апогее!
Да что Луна! Невский, Невский… Если Невский проспект весь — от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры — загрузить этой спрессованной макулатурой, уровень ее достигнет 150 метров! А если загрузить широкую Дворцовую площадь — макулатурная глыба во всю ее ширину вырастет высотой в 480 метров, что будет выше башни Газпрома!
Эра тотального дефицита закончилась вместе с 1991 годом. Государство перестало влиять на ценообразование, все, включая книги, сильно подорожало и стало отвечать спросу, теперь уже невысокому из-за отсутствия у населения денег. «Унесенные ветром», недопроданные по макулатурным талонам (что осталось от двухмиллионного тиража), уходили по «коммерческой» цене; более в талонах никто не нуждался.
Макулатуру продолжали собирать и после, но уже за деньги, за мелочь — теперь приемщики принимали даже картон (абонементы категорически за картон не давали). Читающая публика в пункты сбора вторсырья более не заглядывала. Макулатурой промышляли теперь малоимущие граждане, чаще бомжи, которых становилось все больше и больше.
Как-то раз, где-то на рубеже тысячелетий, за разговором об «уходящей натуре», забрели мы с поэтом Геннадием Григорьевым в один двор на Гороховой — был он весь макулатурой завален. Посреди этого макулатурного изобилия стояло какое-то древнее механическое устройство с колесом и рычагами, и на нем работали двое. Вернее, так: один управлял этим устройством, а другой ему ассистировал. Что-то вроде пресса для бумаги — на выходе получалась пачка-брикет. Но вот в чем заключалась работа ассистента. Он брал книгу из кучи (там было много книг), ловким движением отрывал переплет, отбрасывал его в сторону, а блок книжных страниц выкладывал на ящик перед оператором этого фантастического станка. Тот нагружал бумагой машину, что-то крутил, на что-то жал, вынимал брикет, исправлял что-то. А этот отрывал и отрывал переплет за переплетом, один за другим — с какой-то пугающей методичностью. Работа его заключалась лишь в этом. Мы молча стояли. Они молча трудились. Только станок скрежетал и гремел. Постояли. Ушли.
Обмен Обменыч
Это в начале восьмидесятых стали практиковать в магазинах «Старая книга». Для книгообмена обычно выделялся отдел (хотел написать «отдельный отдел», и так было бы правильнее: в магазинах тех лет отделы нумеровались — 1, 2… (ну вот, все-таки написал)).
Идея простая: выставляешь дефицитную книгу и делаешь заявку на ту, которую надеешься обрести в обмен, — кто-нибудь, возможно, на обмен согласится. Такой отдел, помню, был, например, на втором этаже магазина «Военная книга», что размещался в бывшем доме Голландской церкви на Невском проспекте.
Один раз я воспользовался книгообменом. Чем пожертвовал, уже не вспомню, а просил, можно сказать, экзотику — книжку стихотворений Виктора Сосноры «Кристалл», — ну вот хотелось мне такую иметь. И получилось. Кто-то откликнулся, предоставил этот «Кристалл» практически в идеальном состоянии. На самом деле обмен удивительный. Тонюсенькая книга ленинградского поэта Виктора Сосноры, изданная в Ленинграде тиражом 10 тысяч, здесь не продавалась вообще, — весь тираж был отправлен куда-то в Среднюю Азию, — таковы чудеса тогдашней книготорговли, — нетипичные книги, чтобы, что ли, умы не тревожили, отправлялись в продажу как можно дальше от потенциальных читателей.
Строго говоря, книгообмен был взаимопродажей: я покупал «Кристалл» по номиналу — платил в кассу 30 коп., 6 из которых (20 процентов комиссионных) забирал магазин, а мой неизвестный партнер выкупал таким же манером книгу, предложенную мною.
А в книжном магазине на улице Герцена (ныне Большая Морская), да и в других некоторых, книжный обмен осуществлялся с учетом категории книги, которую устанавливал тамошний специалист по книжному спросу. Градаций было немало, чуть ли не десять. Вот принесли, допустим, «Комментарий» Лотмана к «Евгению Онегину» (тираж 400 тысяч), какая это категория? — допустим, четвертая, — а что у нас в четвертой категории? — а пожалуйста, «Воспоминания» Анны Григорьевны Достоевской (тираж 75 тысяч) или вот еще, к примеру, «Математические досуги» Мартина Гарднера. — А мне хочется «Алису в Стране чудес» («Лит. памятники») с комментариями того же Гарднера, вон ту. — Нет, это другая категория. За «Алису» предлагайте что-нибудь в категории Мандельштама из большой «Библиотеки поэта» (была еще малая).
На прилавках
Нельзя сказать, что в книжных магазинах города полки были пустые. Нет, книги стояли. Отдел политической литературы был всегда заставлен книгами. На самом видном месте — одиннадцатитомное собрание речей и статей Леонида Ильича Брежнева под общим названием «Ленинским курсом». Его же воспоминания — «Малая Земля», «Возрождение», «Целина» — во всяком случае, подписанные его именем. Помню толстый том речей и статей Константина Устиновича Черненко, но это когда он сам стал генеральным секретарем. Прочих членов политбюро стояли сборники выступлений. Материалы очередного съезда… Под стеклом на прилавке отдела политической литературы всегда лежали брошюры — ленинские работы и отдельные выступления генерального секретаря, возглавлявшего в тот момент партию.
Отдел технической литературы был богат книгами. Я иногда покупал кое-что по своей прежней специальности («радиотехника»).
На втором этаже Дома книги продавалась художественная литература. Проза была в основном представлена малоинтересными переводами современных писателей из республик, да и своими, малоизвестными, эти расходились без ажиотажа.
В торговом зале постоянно дежурили несколько человек, ожидающих появления дефицита — когда «выкинут», как тогда говорили. «Выкинуть» могли в любой момент: как только появлялась тележка, на которой в отдел доставляли новые поступления, стремительно выстраивалась очередь в кассу, — покупатели еще не знали, что привезли, но были уже готовы к приобретению. Иногда около кассы можно было видеть холостую очередь, ожидающую своей счастливой минуты.
За современными отечественными поэтами, кроме самых известных (вроде Вознесенского и Евтушенко), покупатели не ломились. Надо заметить, отделы поэзии были во всех книжных магазинах, даже в «Судостроителе» на Садовой. Даже первая книга начинающего поэта редко выходила тиражом менее 10 тысяч.
В Доме книги в отделе поэзии работала Людмила Леонидовна, ее знали все пишущие, и она всех знала. Обычная картина: стоит у прилавка какой-нибудь ленинградский поэт и беседует с ней о новинках. Иногда подходишь к прилавку, пробегаешь глазами по обложкам, что на витрине, а она без лишних слов достает откуда-то чем-то примечательную книжку и кладет перед тобой: оцените. Киваешь: да, оценил. Спасибо. Для своих могла и попридержать дефицитную книгу. Вот такой оказалась первая книга Ивана Жданова «Портрет», метаметафориста. Это было в 1982-м. Жданов — знаменитость, притча во языцех, его книгу ждут. Известно, что она вышла в Москве и вот-вот будет в продаже. Заходил в Дом книги, спрашивал, — нет, не поступала еще. И вот однажды — только подошел, не спросил даже ничего, а Людмила Леонидовна — тихо так: «Тридцать копеек в кассу». Иду в кассу, плачу 30 коп., приношу чек. Она кладет книжку на прилавок обложкой вниз: «Не переворачивайте». Убираю, не переворачивая, — рассмотрю, когда из магазина выйду. Тираж, кстати, подрезанный (дефицит, дефицит!) — всего 5100.
Когда выручала нагрузка
В институте у нас образовалась… не знаю, как это назвать, ячейка или первичная организация, в общем — общество книголюбов. Занималось оно исключительно распространением книг. Причем исключительно с нагрузкой. Причем исключительно издательства «Наука».
Лучше и не придумать. «Наука» — это серии «Литературные памятники», «Литературное наследство», много чего иного. Дороговато — с нагрузкой, но у меня повышенная стипендия (хорошо учился), а кроме того, нам всем доплачивает десять рублей к стипендии Министерство обороны, такой у нас институт — авиационного-то приборостроения.
Получаешь от активиста общества таблицу — список книг с указанием номинала и стоимостью нагрузки, обычно не превышающей номинала. Хоть бы один «Литературный памятник» на прилавке появился, а тут — глаза разбегаются, бери не хочу. На самом деле это так издательство «Наука» придумало избавляться от неликвида. Кроме дефицитных книг, на складе накопилось много всякого по узкоспециальным темам — что-нибудь вроде каталога глиняных черепков какой-нибудь археологической экспедиции в Узбекистане или монографии об органах пищеварения паукообразных. Вот эту очень специальную литературу, пылящуюся годами на складах, издательство и сплавляло в качестве ненужной нагрузки к тем же «Лит. памятникам», не доходившим, в принципе, до прилавка (несмотря на свои заоблачные тиражи).
Довелось мне таким манером кое-чего обрести, на что я до сих пор не могу нарадоваться. Например, «Яснополянские записки» Маковицкого, домашнего врача Толстого, — в четырех книгах (плюс отдельно — «Именной указатель»), в замечательной серии «Литературное наследство». А то еще из того же «Литературного наследства» приобрел с нагрузкой первые три книги (четвертую — потом, когда из института уволился) «Александр Блок. Новые материалы и исследования», — на любителя, конечно, так я и есть тот любитель. Ох как порадовался, когда в третьей книге в обширнейшем разделе «Блок в поэзии современников» обнаружил на странице 584 стихотворение молодого Вл. Сирина, прежде напечатанное в Берлине в 1921 году, — но здесь, здесь! — то ж была первая, почти контрабандная публикация Набокова в советской печати, — на дворе-то был позднезастойный 1982-й, и вкупе с краткой справкой о Набокове эта публикация казалась чудом каким-то!.. А четвертая книга вышла уже на заре перестройки — в 1986-м. А пятая — задержалась. Почему задержалась, мне объяснял В. Л. Топоров, один из авторов этого сборника: Пушкинский Дом, по словам его, не хотел выбрасывать публикацию К. М. Азадовского, получившего ранее срок (о том же Топоров писал в книге «Двойное дно»).
Только в 1993-м вышла пятая книга блоковского «Лит. наследства», тираж ее — 1800, тогда как первых четырех был 30 тысяч.
Тридцать тысяч — научного издания, да еще распространяемого с нагрузкой по линии общества книголюбов!
По заказу
В Доме книги на втором этаже был еще библиографический отдел, там на столах лежали особые книжицы — планы издательств на текущий год, с анонсами, указаниями цены и тиража. Можно сесть за стол, полистать. Предполагалось, что любой покупатель может оставить предварительный заказ на нужную книгу и заполнить открытку, которой его потом известят о возможности выкупить поступившую в магазин новинку. Но это теоретически. В реальности прием заканчивался в первый же день, если не час появления этих планов на длинном столе библиографического отдела. Листаешь брошюру, а там все перечеркнуто: ты опоздал. Но иногда кое-что заказать удавалось. Например, в 1990 году заполнил я открытку на романы Константина Вагинова, которые прежде мог читать лишь в читальном зале библиотеки (ох, как я хотел эту книгу!); ничего, — купил по открытке (издательство «Современник», Москва, 1991, а тираж — нет, здесь нет ошибки с нулями, — тираж 100 000). И с первой книгой вновь разрешенного В. В. Розанова у меня получилось — сумел оставить на нее открытку. Появление имени Розанова в издательских планах само по себе казалось невероятным. Издательство «Искусство» обещало «Легенду о Великом инквизиторе» и другие работы. Книга долго не выходила. Весной 1990-го я наконец купил ее по тому предварительному заказу и понес из Дома книги в сторону Садовой по Невскому — в руках. И пока я шел по Невскому до Садовой, то открывая, то закрывая на ходу, два человека меня спросили, где я купил эту книгу. Розанова! Не Агату Кристи, а Розанова Василия Васильевича!
А я отвечал, что по предварительному заказу в Доме книги купил. Повезло, дескать, сумел заказать. До прилавка нет, не дойдет.
(Говорили тогда: «не дойдет до прилавка».)
45 тысяч экземпляров, к слову сказать.
Впрочем, Павел Крусанов убеждал меня потом, что отдельной книгой Розанова впервые после семидесятилетнего забвения издал он. За что даже получил медаль ВДНХ (книгу на ВДНХ выставляли). Вышла она в Ленинграде, в филиале издательства «Васильевский остров», где Крусанов работал. «Всесоюзным молодежным книжным центром» назывался тот филиал. Мне Крусанов подарил эту книгу. Тираж — 100 тысяч. И пожалуй, для 1990 года она посмелее той была, что издало «Искусство», — более, что ли, «розановская» получилась. Но вот сравниваю и замечаю: при всей нашей дружбе с Крусановым им составленный сборник был подписан в печать на месяц позже, чем тот, что я купил в Доме книги. Хотя, допускаю, в свет крусановский Розанов мог и раньше выйти на неделю-другую.
Я, наверное, потому тут распространяюсь об этом, что Крусанов живет на Коломенской улице рядом с домом, где в свое время проживал Розанов (с женой и детьми, считавшимися, к печали родителей, по тогдашним порядкам незаконнорожденными, — прежняя супруга В. В. так и не дала ему развода). И до сих пор нет на доме Розанова мемориальной доски. А еще потому, наверное, что последние тома тридцатитомного собрания сочинений Розанова уже в XXI веке вышли тиражом — для сравнения — по 2 тысячи, тогда как первых (в 90-е прошлого века) — 25 тысяч был тираж. Короче, потому, что время бежит и все меняется. Короче, что время непрожитое все короче, короче.
Ну так вот, о тогдашней практике предварительных заказов — не рассказать ли анекдот из своей биографии? «Лавка писателей», что на Невском проспекте, от других книжных магазинов в то время мало отличалась. Но был у нее свой секрет. Особая дверь была в «Лавке писателей», куда могли входить только члены Союза. Там за дверью в особом помещении члены Союза писателей за длинным столом просматривали планы издательств и делали заказы на книги. Имели право. Ради этого стоило вступить в Союз. Меня приняли в начале 1991-го, по первой книге — в еще большой Союз писателей СССР. В тот же год все развалилось — и Союз писателей, некогда единый, и Союз Советских Социалистических Республик, который «сплотила великая Русь». Но я еще успевал воспользоваться своей писательской привилегией. Новоиспеченный член Союза писателей, я смело зашел в заветную дверь. Другие члены Союза писателей, бывалые и маститые, сидели за столом и просматривали планы издательств. Я сказал «здравствуйте», все посмотрели на меня и тоже сказали «здравствуйте». Я снял пальто и повесил в большой шкаф на общую вешалку, сел за стол, взял план одного издательства, потом другого издательства, потом третьего издательства и совершил все, за чем пришел в эту тайную комнату. Потом я встал, надел пальто и, выходя, сказал писателям «до свиданья». Писатели посмотрели на меня и сказали мне «до свиданья». В торговом зале обычные покупатели стояли, не знавшие о существовании особой комнаты, — прошел я мимо них и вышел из магазина, иду по Невскому и чувствую, что как-то мне неуютно. Глядь, а на мне чужое пальто. Мать честная! Перепутал! Что делать? Возвращаюсь обратно. А как иначе? Вхожу. Писатели, отвлекаясь от дела, на меня смотрят. «Здравствуйте», — говорю им. Они мне тоже говорят: «Здравствуйте». Я снимаю пальто, вешаю на общую вешалку и сажусь на прежнее место — беру план издательства и делаю вид, что для меня это важно. Сделав ненужный заказ, я подхожу к общей вешалке, надеваю теперь уже бесспорно свое пальто и, выходя, всем говорю «до свиданья». Писатели смотрят на меня и говорят «до свиданья». А я удаляюсь по Невскому прочь от этой «Лавки писателей».
Больше я в ту комнату не заходил ни разу.
За трубой
В конце семидесятых книжный рынок обосновался в Ульянке — южнее железнодорожной платформы. Приезжали на электричках, преодолевали по деревянному настилу лежащую на земле большую трубу, направленную в плюс-минус бесконечность, и шли по полю в сторону перелеска. Сейчас вместо трубы здесь проходит КАД — кольцевая автомобильная дорога, — единственное строительное сооружение на этом участке земли южнее железнодорожного полотна. Вряд ли обширное поле не застраивают в память о черном книжном рынке — скорее, из-за соседства с территорией, принадлежащей аэропорту.
Надо было пройти за трубу на расстояние около километра, чтобы присоединиться к многочисленному скоплению людей, связанных одной обоюдовыгодной целью: продать — купить. Хотя почему же одной? Пообщаться еще. Посмотреть на то, что на прилавках невозможно увидеть.
Книги, разложенные на полиэтилене, лежали у ног продавцов. Мимо медленно проходили покупатели, останавливались, иногда приседали, но бессмысленное листание не приветствовалось: покупатель-знаток знает, чего хочет.
Место было тем замечательно, что сюда не могла нагрянуть милиция.
Нагрянуть-то могла, но не могла незамеченной.
С милицейской точки зрения, если на книге указана цена 2 р. 45 коп., а продается она за 50 р., это есть спекуляция.
Цены в самом деле кусались.
«Романы» Булгакова стоили 60–70 рублей. Об этой книге, изданной тиражом 30 тысяч, ходили легенды. Поговаривали, что был украден грузовик — прямо на выезде из типографии — со значительной частью тиража. Говорили, что можно эту книгу купить за границей — в ГДР, Польше и других социалистических странах, куда ее будто бы нарочно сослали, то ли чтобы соотечественникам нашим меньше досталось, то ли чтобы там могли оценить наш плюрализм; если кому доводилась в те края турпоездка, он получал поручение.
Средняя зарплата инженера была при этом рублей 140.
На иные книги можно было смотреть как на чудо. Не верил глазам, что они есть. Пруста тома в суперобложках. Томик Ахматовой, уже не помню за сколько…
Сборник стихотворений Мандельштама в «Библиотеке поэта» (1978) при номинальной цене 1 рубль 50 копеек стоил на черном рынке 25 рублей. Можно было купить и дешевле на пять рублей, но так уже ценился «ворованный» экземпляр, то есть отпечатанный и переплетенный нелегально в ночную смену и так же нелегально вывезенный за пределы типографии. Знатоки отличали эти книги по обрезу, он был не столь гладок, как у книг, изданных официально. Тираж официального издания — 20 тысяч. Трудно представить, каков был истинный тираж Мандельштама с учетом «левых» допечаток.
Самая дорогая книга была, похоже, сборник Кафки («Роман. Новеллы. Притчи», 1965, тираж не указан), стоил он до ста рублей, а то и более ста, и появлялся на рынке крайне редко. «Опыты» Монтеня в трех томах, изданные в серии «Литературные памятники», стоили около 80 рублей. Столько же стоил в конце семидесятых Пастернак из «Библиотеки поэта», напечатанный в 1965 году накануне ареста Андрея Синявского, автора предисловия.
Сюда же, в поле за трубу, переместился черный рынок пластинок. С книжным он не пересекался. Это скопление было чуть в стороне.
Между прочим, я здесь впервые в жизни увидел наперсточников.
Петербург выпивающий

Шестой
Пятеро из разных слоев общества — представитель офисного планктона, продавщица водочного отдела, мент-гаишник, водитель-гастарбайтер и музейный экскурсовод (музейная экскурсоводша?), — испытав каждый при особых своих обстоятельствах стресс, резко бунтуют против порядка вещей и, все послав по известному адресу, находят друг друга, чтобы сообща предаться единственно верному и духоподъемному делу — буйно-восторженному, катарсическому распиванию водки на улицах, площадях и крышах Санкт-Петербурга — под энергичную песню Шнура «В Питере — пить!».
Припев:
Клип вывешен на «Ютьюбе» 1 мая 2016 года. За первую неделю число просмотров достигло семи миллионов. Сейчас (ровно через три года, когда это пишу) — 75 132 400; счетчик продолжает работать.
Сразу же появились подражания и пародии, например в стиле «позитивного ответа», типа: «В Питере — петь!» (и действительно поют поставленными голосами) — как бы не все мы здесь алкоголики.
«В Питере жить» — удачный книжный проект. Сборник эссе, изданный в Москве (редакционная аннотация начинается словами: «В Питере жить» — это вам не в Москве…»): 35 петербургских авторов рассказывают «личные истории». Название, понятно, отсылает к Шнурову, но есть еще два эпиграфа, один — из его же песни, другой — из Иннокентия Анненского.
Слова гаишника: «Все нормально, деньги есть» — сразу же стали народным мемом. Говорят, выражение особенную популярность обрело среди сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга.
Слава таких выступлений недолговечна, но и минутной ее не назовешь. Почему бы не приглядеться-прислушаться, в чем феномен успеха?
Только не будем касаться приемов художественной выразительности — исключительно ими популярность не объяснить. Ничего не объясняет и такая особенность клипа, как артикулированный мат, раздающийся из уст персонажей, — не ему, внецензурному, задевать тонкие струны современной души. Но ведь что-то задело, задело, — и свидетельство тому — 22 тысячи с гаком восторженных комментариев. В чем дело?
Три момента отметим. — Первое. Быть хозяином своей судьбы. Прекратить мириться и терпеть. Взять вот так да и послать все опостылевшее куда подальше, — о, как сильно отзывается в сердцах миллионов мотив решительной перемены!.. Какая разница, «в тренде» ли тема? Тут другое: эта тема — архетипична. Очищение. В чистом виде катарсис. — Второе. Мотив стихийного единения непохожих людей — в повседневной жизни почти антагонистов. Стихийно выявленное родство, по которому истосковалось общество индивидов; возможность союза без оглядки на интересы и выгоду. А я всегда говорил: борьба с обстоятельствами — вот наша национальная идея. Обстоятельства всегда найдутся — была бы воля к единству. — Третье. Ну а третье — это Петербург.
Неотразимый, достопримечательный, восхитительный Петербург не отвергает незадачливых бунтарей, не оскорбляется их отчаянной и самозабвенной попойкой, но приветствует преображение героев своей красотой и простором: я — ваш, пейте! — я с вами!
По сути, он шестой!
Провокативно, ничего не скажешь. Один из отзывов звучит так: Если бы не шнур, питер так и остался бы просто культурной столицей. Надо думать, Петербург теперь себя реабилитировал, причем без потери лица.
Вот еще несколько отзывов — взяты почти наугад (орфография и пунктуация сохраняются).
То чувство когда живёшь в Питере;-)
Последний раз там был када ещё Ленинград звался этот славный город. Надо срочно смотаться на пару дней водочки попить
Два раза был в Питере: в 1973 и в 2017 году. Всегда о<–>л от красоты города, от театров и музеев. И кабаки классные: Красная Бавария и Уголёк!!!
в Питере не был, но кто из моих знакомых уезжал туда не вернулись (не как с москвы) дай бог этому городу счастья и здоровья
Был в Питере один раз и полюбил его. Особенный город.
В Питере хорошо пить, знаю по сибе! В Питере пить!!!!
Всё. Еду в Питер.
После того клипа уже 2 раза съездил)
а я сейчас в Питере (Стрельна), пью.
После просмотра этого офигительного клипа в Питер сразу захотелось
Тут же добавление:
И пить
Ну вот, а еще говорят, что петербургский миф иссяк. Да где же ему иссякнуть? Он возникает прямо на глазах, в стремительном порыве самоусиления. Зарождается из ничего, дайте лишь повод. Петербург по-прежнему мифогенен.
Несколько раз в других городах, когда узнавали, откуда я приехал, меня (кстати, клипа тогда принципиально не смотревшего) приветствовали словами «В Питере пить!» — и это звучало как веселый пароль, как выражение солидарности с чем-то таким невыразимо этаким, как сигнал о причастности к брутальному духу, что ли, свободы, который на моих берегах будто бы готов пробудиться в каждом из нас — к радости и гордости великого города.
Замечательно, что как раз в эти годы в Питере пить стали меньше, значительно меньше, чем когда-либо. Я не помню такого, как сейчас, отсутствия пьяных на наших улицах.
Возможно, состояние временное. Но пока это так.
Хотя это не важно, пить или не пить, «В Питере — пить» — это просто «в Питере — круто». И пить — тоже.
Круче всего достается гаишнику. Сначала какие-то отморозки сбивают его на набережной, а когда он, слегка очухавшись, поднимается на ноги, выходят из машины, подхватывают расслабленного под руки, быстро подводят к ограде и, перевернув, сбрасывают как мешок (а он мешковат, грузен) туда, за чугунные перила, — вверх ногами. Трусливый напарник в полицейской машине делает вид, что ничего не заметил. Концы в воду. Однако герою удается вынырнуть, выплыть и выбраться из воды на площадку спуска. Он тянется рукой к бутылке водки, которую пьющие здесь ему немедленно отдают. Он пьет из горлá. Он — с ними.
Новая вера, новая жизнь. Другой человек. Савл стал Павлом.
О Питер! Колокольня Николы Морского мелькнула в кадре. Здесь рядом, в Никольском храме, меня крестили, окунали в купель. Я голосил на всю церковь, и батюшка шутя сказал крестной, кем будет этот младенец. В детстве мне говорили кем. Но кем — я забыл. Помню, что говорили. Думаю, стал кем-то другим.
Управление ГИБДД провело служебную проверку: никто из сотрудников этого ведомства — ни в рабочее время, ни в свободное время — в съемках клипа участия не принимал. В уставной форме дорожного инспектора нырял и выныривал профессиональный актер. Вспомнил, как однажды по молодости сам искупался в Фонтанке. Ночью, летом. Просто так — с одноклассником: «А давай искупаемся!» Утром шел на работу по набережной, смотрел с тоскою на эти мутные воды, мутило. А тот по работе — с головой — в Крюков канал! С трехсекундным погружением, за которое вскользь нам дали увидеть с воды, как видят город, наверное, чайки.
В нижеприведенном отклике, конечно, заметна нотка иронии, а если не иронии, то недоумения, скрываемого за нарочитой веселостью, но что-то мне подсказывает, что и тут зерно потенциального мифа:
в Питере всех гаишников так в воду бросают?!!!
Миф может и не развиться, может лопнуть как пузырь, но, вообще-то, какой-никакой, он уже есть, — да, бросают, в Питере круто, — и вот уже другие охотно включаются в обсуждение:
Если в Неву, то до свидос. Нева не шутит.
это не НЕВА. Это канал какойто
Не в Неву, в канал Грибоедова
он в Крюков канал «упал» не далеко от Николькского
Ну да, рядом с Фонтанкой, у Смежного моста, — там как раз пологий спуск для разгрузки дровяных барж, он им и воспользовался. Недалеко от этого места в начале восьмидесятых водолаз, помню, доставал утопленника-самоубийцу, это на Крюковом канале ближе к Торговому мосту. После того, как не помогли багор и крюк-кошка.
(Нет, у Достоевского «наша Афросиньюшка» топилась не здесь — в Екатерининском канале.)
А этот отзыв, кажется, написал робот:
ПО ЧЕТВЕРГАМ БЕСПЛАТНО РАБОТАЕТ ЭРМИТАЖ. И МНОГИЕ МУЗЕИ. ПИТЬ МОЖНО. МЫ ВСЕГДА / СВОЕ / ПРИВОЗИМ. МНЕ НЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ КЛИП. ПОТОМУ ЧТО В ПИТЕРЕ ПИТЬ… МОЖНО…… НРАВИТСЯ ПОЕЗДИТЬ ПО ПРИГОРОДАМ… И МОЖНО ПИТЬ… СПАСИБО ЗА КЛИП…
А вот отзыв с оттенком мифоборчества, замешенного как будто на ревности:
Так и есть, только в Москве пьют не меньше чем Питере!!!
Хотя нет, скорее, коррекция мифа; ведь сказано: Так и есть. (То есть — как в клипе; так и есть, все правда.)
В Харькове пить!!!!! В Киеве пить!!!!
хочууу в Питер! и пить…
По приказу царя
Скандальной славе «В Питере — пить» отчасти способствовало обращение в прокуратуру одного из депутатов Законодательного собрания Петербурга, — создатели клипа обвинялись в пропаганде алкоголизма и прочих грехах. Забавно, что всего за день до этого руководитель группы «Ленинград» снискал слова благодарности от председателя городского комитета по развитию туризма — дескать, «не забывает родной город, который действительно является центром туризма»; впрочем, через три недели чиновник уволился (а всего он был на посту каких-то два месяца). Прокуратура приступила к проверке скандального клипа, когда число просмотров перевалило далеко за 10 миллионов; на основании четырех экспертиз было установлено, что данное произведение не содержит нарушений российского законодательства и представляет собою «произведение искусства сатирического стиля, выражающее персональное мнение и творческое видение автора». Сам Шнуров, задолго до прокурорского заключения, ответил своим недоброжелателям цитатой из будто бы петровского указа, известного под названием «О достоинстве гостевом, на ассамблеях быть имеющем», — это где «пить вволю, понеже ноги держат, буде откажут — пить сидя», — текст, конечно, эффектный и часто поминаемый, но на самом деле фейк.
Между прочим, как раз на ассамблеях можно было и не пить против желания, если это только не вменялось в обязанность по части штрафа за нарушение правил. Пьянства и без ассамблей в том же Петербурге было достаточно, так что сегодняшнее бытование фейкового указа лишь свидетельствует опять же о мифогенности этого города. Но мы о другом. Дело не в том, что текст, гуляющий по интернету, — чья-то юмористическая мистификация, дело в том, что Петр Великий в отношении моральных норм авторитет для нас, мягко говоря, сомнительный. Да мало ли что он повелевал! На кол сажал за милую душу, и как теперь — это что-то должно в нас оправдывать? Что до пьянства, основатель Петербурга в иных случаях как раз демонстрировал примечательные примеры самой что ни на есть «пропаганды алкоголя» и более того — «насильственного принуждения к выпивке».
Ну вот, например. Известно, что, если кто попал на попойку к царю, уже не мог с нее улизнуть, сколь бы долго она ни длилась. Бегство из-за стола дорого бы обошлось непослушному. Иногда Петр позволял себе отлучиться на пару часов и где-нибудь покемарить, но остальные были обязаны ждать его возвращения. Полагаю, тут был простой расчет: дай им разбрестись — не соберешь. А впрочем, на выходе обычно стража стояла.
Датский посланник Юст Юль, автор знаменитых «Записок», не один раз оказывался невольным пленником на корабле у Петра. «Царь не желает пользоваться титулом величества, когда находится на судне, и требует, чтобы в это время его называли просто шаутбенахтом», — в таких словах объясняет Юст Юль суть проблемы. Естественно, датский посланник, равно как и другие иностранные гости, «привыкшие постоянно величать царя надлежащим титулом», допускает оговорки, а за это — штраф. «Большой стакан крепкого вина». И это «сверх многих круговых чаш» (то есть заздравных, что ходили по кругу в обычном застолье) и сверх того, что подливали между заздравными. Юсту Юлю удается вырваться на воздух, на палубу. Датский посланник (читаем в «Записках») «взбежал на фокванты, где и уселся на месте скрепления их с путсельвантами». А дальше — кино. Где Феллини, способный показать это? «Его величество…» (вот ведь — опять оговорка!) — «Его величество полез за мною сам на фокванты, держа в зубах тот стакан, от которого я только что спасся, уселся рядом со мной, и там, где я рассчитывал найти полную безопасность, мне пришлось выпить не только стакан, принесенный самим царем, но еще и четыре других стакана. После этого я так захмелел, что мог спуститься вниз лишь с великой опасностью».
(Тут надо заметить, что Юст Юль сам был моряк, причем отважный, много раз бывавший в бою, морской волк, одним словом, — так что он здесь вовсе не щеголял морскими терминами. Да и погиб в бою от шведского ядра в августе 1715 года, предпочтя, к слову сказать, морскую службу дипломатической, — попросил короля за год до своей гибели всемилостивейше избавить его от повторной поездки в Россию.)
Другой раз люди царя пытались применить силу, чтобы возвратить датского посланника к общему застолью в тот момент, когда он блевал за борт. Юст Юль обнажил шпагу. Откуда ни возьмись появившийся царь шпагу отобрал и пообещал пожаловаться королю. Одним словом, инцидент. Международный. Утром оба просили друг у друга прощения.
О праздновании дня рождения Меншикова: «Кутеж, попойка и пьянство длились до 4 часов утра. Всюду, где мы проходили или проезжали, на льду реки и по улицам лежали пьяные, вывалившиеся из саней, они отсыпались в снегу, и вся окрестность напоминала поле сражения, сплошь усеянное телами убитых».
Ганноверский резидент Ф.-Х. Вебер, вспоминая свое пребывание при дворе русского царя, чаще сосредоточивался на событиях, отвечающих названию всего сочинения — «Преображенная Россия»; в отличие от датского посланника Юста Юля, для которого алкогольная интоксикация была экзистенциальной проблемой, он избегал фиксаций на алкогольной теме, но, похоже, это давалось ему нелегко. Вот один эпизод, относящийся к 1715 году. Вебер в числе других гостей приглашен в Петергоф, в «увеселительный дворец царя». Первое же впечатление, которым он делится с читателем, — это обед, «с таким изобилием токайского вина, что, встав из-за стола, мы едва могли держаться на ногах». Конец застолья не означает конца выпивки. Теперь уже сама царица поднесла каждому по стакану водки, «каковую принуждены мы были также испить и после сего, лишившись употребления рассудка, предались сну прямо на земле, кто в саду, кто в ближнем лесу». Однако сон был недолгим — в четыре подъем. «Царь раздал всем по топору и велел следовать за ним в молодой лесок». В советские времена это назвали бы субботником. Требовалось прорубить вдоль моря в сто шагов аллею. Царь показал пример, и гости, ему подражая, рубили деревья «с таким усердием, что к семи часам завершили все дело». Последовало «обычное угощение с напитками, каковые», по выражению Вебера, «без дальнейших церемоний отправили всех в царство Морфея». График встречи, исключительно плотный, не предполагал сна более часа, — разбуженных гостей препроводили к «князю Черкасскому, который лежал на постели вместе со своей супругой». Ничего удивительного — уже ночь. Гостям «пришлось оставаться возле них до четырех часов утра, распивая вино и водку». В восемь позвали «к завтраку во дворце, где вместо кофе или чая… опять потчевали большими стаканами водки». Странно, что после этого гости еще могли держаться в седле, — им подали лошадей (может быть, в седле проще?), — Вебер, впрочем, не уточняет, была ли «часовая прогулка по лесу» конной. «Освежившись очередными стаканами водки, мы совершили еще и четвертый дебош за обедом». А по-моему, он сбился со счета. Остается добавить, что эта попойка, которую можно смело назвать круглосуточной, завершилась отплытием гостей, царицы и царя в Кроншлот. «Противный ветер» усилился, разразилась буря. Царь стоял у руля, гости, «промокшие до нитки», прощались с жизнью, а царица, поставленная на скамейку в залитой водой каюте, выказывала «немалую твердость». Надо полагать, многие отрезвели.
Рациональный европейский ум, заходя в похмелье за разум, силился объяснить непостижимое — необходимость лично своего отравления в этих масштабных попойках. Вероятно, царь московитов, обязывая высоких гостей пить сверх желания, получал возможность выведывать у них секреты — так полагали сами высокие гости, и в частности датский посланец Юст Юль, предупрежденный кем-то из более опытных иностранцев. Не думаю, что поутру Петр хорошо помнил детали минувшего пира. Куда вероятнее, что сверхмерное угощение гостей просто отвечало своеобразному стилю общения Петра, его гипертрофированному хлебосольству, а может быть, и представлениям о высшем благе и справедливости, идеалы которых познавались лишь по мере преодоления новых пределов расширяющегося сознания. Юст Юль, во всяком случае, был всегда начеку. Он разгадал хитрость царя. Отказ напиваться сверх меры — это, видите ли, признак желания скрыть что-то предосудительное и опасное, так, по мнению датского посланника, должен рассуждать Петр. «На одном собрании царь подошел ко мне и поднес большой стакан вина, очень прося его выпить. Я был уже сильно пьян и, ссылаясь на это обстоятельство, стал отмаливаться. Но царь сказал, что это чаша моего короля, и прибавил, что я не верный слуга ему, если ее не выпью». Прекрасно. Три столетия прошло, а ситуация знакома любому русскому. Тактика уговаривания не менялась веками. Юль собрался и выпил. Наверное, он думал, совершая глоток за глотком, что это ловушка. Он думал о том, что думает Петр. Во всяком случае, описывая этот эпизод, датский посланник пытается оценить свое поведение по логике царя, как она представляется дипломату: «Когда провозглашается здоровье моего короля или когда мне самому хочется пить, то я пить могу, когда же он, царь, меня об этом просит, я отказываюсь». Торжеством конспирологии выглядит вывод: «С тех пор он так и остался при убеждении, что на самом деле я выносливее, чем хочу это показать». А нам, грешным, в этом эпизоде видится нечто другое — это та типичная ситуация, суть которой в исторической перспективе будет определяться непереводимой на другие языки без потери важных оттенков смысла классической фразой:
— Ты меня уважаешь?
«Мы знаем столько песен о свободе…»
Из детских, ранних запретов запомнился больше других остерегаться пьяных; угроза конкретно от выпивших, по мнению взрослых, исходила несравненно сильнее, чем, допустим, от абстрактных незнакомцев, готовых предложить конфетку, — да что говорить, даже в словаре Зализняка на 100 тысяч слов (уже изданном в 1980-м!) отсутствует слово «педофил». А пьяных на улицах было немало. В семье пили умеренно, — выпивал, собственно, только отец — «как все»: гости, стол, разговоры; в гости ходили часто и меня обычно брали с собой, мой удел тех часов — познавательные развлечения, игры со сверстниками, если таковые бывали; взрослое застолье оставляет в детской памяти одно впечатление — скуку.
А на улице пьяненький дядька какой-нибудь, особенно когда его шатает сильно, когда он падает и встает, — не от мира сего. Из-за этой неотмирности, наверное, и запомнилось предостережение таких опасаться. Но что тут страшного? Пьяный не обижает детей, во всяком случае не своих. Сейчас я, пожалуй, смог бы выразить словами, что тогда бессловесно чувствовал, не отводя глаз от этого падающего и встающего тела, имеющего цель перейти улицу, — пугающее разъединение, расползание миров, метафизический обрыв между нами, невозможную реальность чужого. Просто где-то здесь был предел моей эмпатии, детскому навыку мысленного перевоплощения.
Как-то с отцом забрели на задворки Сенного рынка, тогда — Октябрьского колхозного; мне лет семь было. Отец хотел купить лак для дерева, там продавали какую-то химию в дощатом сарайчике напротив обшарпанного туалета. Грязный асфальт, темные лужи. Никакой рыночной толчеи — место почти безлюдное. Лишь стояли жуткие, чем-то озабоченные человеки — сразу двое с провалившимися носами, и еще один сидел на корточках, с аналогичными особенностями на лице. Я смотрел в сторону, но чувствовал их взгляды. Отец сказал потом: политурщики. В лавку мы не пошли. Мне тогда показалось, не было страшнее места в городе.
Мне кажется, раньше (когда я в школе учился — и далее до конца прошлого века) пьяных на улицах города было больше. Бомжей в Ленинграде вообще не было, да и такого не знали слова «бомж», но не дошедших до квартиры, где законно прописан, и доверивших бренное тело свое улице, скверу, дворовому закутку в тяжелый час глубокого опьянения было достаточно. Прислоненный к стене или просто на асфальте у стены лежащий — картина довольно обычная. Не надо думать, что пьяные повсюду, как бревна, валялись, но все же, когда случалась такая картинка, она глаза не резала сильно (но почему же «как бревна»? — бревен как раз не помню на улицах). В медвытрезвитель обычно забирали тех, кто шел на своих двоих, а с отрубившимися милиция связывалась неохотно.
К концу семидесятых относится горькая зарисовка Ирины Моисеевой, одной из тех, кому глаза это действительно резало:
Это было время, когда пили на детских площадках и в подворотнях; с первым общественность активно боролась, со вторым неохотно мирилась, однако не настолько неохотно, чтобы звонок в дверь с просьбой о стакане казался диким. Обычная житейская ситуация.
Такое бывает, но редко — когда кажется, что пьян сам город. Конечно, из-за людей, это их коллективная нетрезвость превысила какой-то неведомый предел, и теперь видно, что пьян город. Даже голуби, даже водосточные трубы, даже обтрепанные дворовые коты. Все подыгрывает демону несуразности. Город неопрятен, неряшлив, он попахивает мочой, он что-то тужится изобразить, что-то сказать, он сам не знает, чего он хочет. Его язык заплетается. Он порождает образы, похожие на картины бреда. Его лихорадит.
Я помню город таким осенью 1991-го. Недавний Ленинград, еще неуверенный, что он Петербург, бред раздвоения. Наперсточники. Менялы на перекрестках. «Пьяные углы». У Гостиного Двора ежедневно орет что-то нечеловеческое сумасшедший карлик и бьет рукой по струнам гитары без всяких аккордов. Пенсионерка продает с лотка прямо на Невском порнографические журналы. Вечером ветер несет по Садовой клочья бумаги. Очереди за спиртным по талонам и водка в магазинах по коммерческой цене.
Потом шоковая терапия 1992-го, иначе ее называют электросудорожной, — полная потеря ориентации, тугодумие, неадекват. Начало девяностых, символ времени — спирт «Рояль» продается в киосках, 96 %, производство — Голландия (или Польша?.. или это у нас уже научились подделывать даже то, что в принципе не предназначено для питья…).
Начало рыночных отношений. Спиртное в киосках, в частности спиртосодержащая жидкость, но преимущественно — «паленая» водка.
А вот! Для «атмосферы».
Из непригодившейся заявки на сценарий фильма о конце девяностых (непридуманный эпизод из жизни моего знакомого):
Как-то раз ночью К. идет по пустынному городу. В киоске спит продавец. Недалеко скучает наряд милиции. Милиционер предлагает К. достать через окошечко несколько блоков сигарет. «Один себе, остальное нам». Безопасность гарантируется. Если продавец проснется, стражи порядка вмешаются. Отказ К. менты воспринимают как личное оскорбление. А он еще и нетрезвый как будто?.. А интересно, есть ли у него документы?.. «Ты, батя, плохо о нас подумал… Тебя, батя, надо учить…» К. побежал… Первый порыв — догнать гада. Машина трогается, но как-то лениво… Никто не гонится за ним, а он бежит и бежит. Проходными петербургскими дворами, закоулками… Лирический монолог звучит за кадром… А он бежит и бежит…
Отстой пены
«По малому кругу, это пять ларьков!» — «Восемь — по большому!» — подхватывает собеседник. Пивные ветераны обсуждают былые маршруты. Васильевский остров. Точка отсчета — Университет. Ностальгия. — Восемь, с учетом спаренных.
А старожилы Петроградской стороны вспоминают свои точки. Насчитано более двадцати. Некоторые имели названия. «Пинк Флойд», например. «Байконур». «Малая Земля», — этот ларек одушевлял собою пустырь между домами на месте гостиницы «Северная корона», которую сносят прямо сейчас (2019, март), так и не достроенную за тридцать лет (ловлю за хвост нашу историю: снимаю зачем-то процесс разрушения), — вспомнят ли спустя годы этот никому не нужный недоотель, еще большой вопрос, а «Малую Землю» помнят.
Старожилы Петроградской помнят провалившийся под землю ларек. Грешат на пену, которую годами сдували на землю, громче скажем: на асфальт. Активная пена пивная будто бы разъела почву. Вообще-то, место исторически болотистое, рядом — Мокруши. Провалившийся ларек — жертва духу изначальных болот. Так и не восстановили.
Пивные ларьки — приметы ленинградского быта. Всегда в пивной ларек очередь. Продавщица, прежде чем поставить вверх дном использованную кружку на струйный споласкиватель, быстрым движением руки стряхивает «сливки» (недопитые полглотка) в секретное ведро на полу, — покупатели этой емкости не видят. Не пропадет — сбережется. Другая статья дохода разливальщицы — недолив. Табличка с классическим текстом призывает к бдительности: «Требуйте долива после отстоя пены».
Вообще говоря, призыв потребителя к требованию чего-либо имеет давнюю традицию: в советскую эпоху — со времен НЭПа. Вот образцы рекламы тридцатых годов — типичное: «Крекеры — столовый, слоеный, с тмином, с анисом… Ленинградской конфетной фабрики им. К. Самойловой. ТРЕБУЙТЕ ВСЮДУ». «Ликеры в художественных фарфоровых кувшинчиках — шартрез, мараскин, кюрасо. ТРЕБУЙТЕ в магазинах „Гастроном“, „Бакалея“ и др.». «Пейте натуральные фруктово-ягодные воды и десертные напитки Ленинградского пивоваренного завода „Красная Бавария“. ТРЕБУЙТЕ во всех буфетах кинотеатров, ресторанов и кафе». Подразумевалось, что некий невидимый враг и вредитель не сумеет нанести урон благополучию советского человека, если тот проявит требовательность и решительность. В брежневскую эпоху тотального дефицита требование требовать могло сойти за призыв к беспорядкам. К тому же сама тональность эпохи стала другой: в семидесятые «требовали» диссиденты. Элемент с требованиями чего-либо из тела рекламы исчез. Призыв требовать оставался разве что на пивных ларьках, да и то не на всех, звучал он комическим анахронизмом. Известна и более нежная форма: «Просьба требовать…» Еще комичнее. А также предлагали «ждать», и это еще сильнее отвечало духу времени, которое назовут «застоем» (и «поздним застоем»): «Ждите отстоя пены…» Вот именно.
Была еще такая табличка — «Место отстоя пены». Не означала она ровным счетом ничего. Просто намекала на возможность существования высшего смысла. Его не то чтобы невозможно понять — его обнаружить нельзя. Но он, вероятно, есть.
«Требовали» не многие, действительно готовые «ждать». Кружки «требующих» отставлялись в сторону — на отстой, а это отнимало время. К тому же число кружек ограниченно, а очередь велика, может и зароптать на требовательного. Уже не говоря о том, что кружку с отстойным пивом нетрудно подменить на заранее приготовленную со «сливками».
Другое дело — «с подогревом». Подогрев пива практиковался в холодное время года; зимой, в мороз подогрев был уместен — от него редко отказывались.
Место продавщицы пива было «теплое», в смысле, доходное — сюда попадали по блату.
А кто же в очереди стоял? Работяги, студенты, представители творческой интеллигенции. И прочие советские граждане. Некоторые с бидонами стояли, чтобы унести домой, или с трехлитровыми банками в авоськах, но большинство здесь пило, не отходя от ларька.
Стоявшие в очереди обычно молчали, напряженно ожидая момента покупки. Но получившие кружки с пивом легко и охотно находили друг с другом язык.
Очень часто кто-нибудь ложился покемарить рядом с пивным ларьком. На такого не обращали внимания.
Практика вытрезвления
Честь назваться родиной первого вытрезвителя готовы отстаивать несколько городов — Саратов, Ярославль, Тула. Как бы ни величались те первозданные палаты — «приютами для опьяневших» или иначе как-нибудь, — учреждение институтов этого типа относится к началу XX века. Не к лицу Петербургу ввязываться в спор о приоритетах: Петербург обладает — да, горестной и непростой, но исключительно богатой историей принудительного вытрезвления.
«Дом сумасшедших был окончательно закрыт только в 1873 г., — читаем в работе, изданной к давнему юбилею Обуховской больницы. — Но по настоянию полиции на его месте было открыто „беспокойное отделение“. Собственно, на больницу были возложены функции, по современной терминологии, „вытрезвителя“ — сюда доставлялись алкоголики, поднятые на улицах города».
Работа «Сто шестьдесят лет Обуховской больницы (исторический очерк)» опубликована в 1940 году. Ключевое слово здесь употреблено в кавычках, с уточнением — «по современной терминологии»; несомненно, современникам историка Бориса Рейна слово «вытрезвитель» было хорошо знакомо. Именно в год публикации его очерка советские вытрезвители, ранее числившиеся по ведомству здравоохранения, переподчинили иному хозяину — НКВД, о чем, кстати, напоминают медали и знаки «70 лет медицинским вытрезвителям МВД России», которыми награждались ветераны и заслуженные работники этого профиля в 2010 году — в самый канун внезапного упразднения их достославной силовой структуры.
Согласно справочнику «Весь Ленинград, 1940», перед историческим переподчинением медицинских вытрезвителей таковых было в городе три: № 1, 3, 4 — все «в ведении Горздравотдела». Что до № 2, он несколько раньше преобразовался в наркоприемник (Лиговский пр., д. 128). Особый интерес представляет медвытрезвитель № 1, — он действительно был первым, и не только в городе, но и в стране, если не касаться старорежимных пунктов принудительного вытрезвления, о которых мы еще поговорим. Вытрезвитель № 1 открыли в 1931 году, через неделю после празднования трудящимися очередной годовщины Великого Октября. Учреждение размещалось в двухэтажном здании XVIII века, что построил для себя купец Хлебников, — ул. Марата, д. 79. Здание, несмотря на свои небольшие размеры, провоцирующие заинтересованных инвесторов к мечтам о легком сносе или в лучшем случае о перестройке, до сих пор на месте еще, — сколько помню себя, перед ним всегда стояли милицейские машины; впрочем, к медицинскому вытрезвлению это отношения не имеет, просто здесь уже несколько десятилетий размещается районный отдел милиции, в смысле, ныне, конечно, полиции — был милиции, стал полиции, — в общем, «надзора за внешним порядком в общежитии», если по Далю.
Историческое значение дома купца Хлебникова сегодня признано официально; есть надежда, что и чудом сохранившийся сквер перед ним тоже не изведут: от угрозы уплотнительной застройки его с некоторых пор (2018) уберегает памятник — бюст на гранитном постаменте. Кому ж тут уместным оказалось памятник открыть? Подойдем-ка, посмотрим. Вот, значит, кому: Антону Мануиловичу Девиеру, «первому генерал-полицмейстеру Санкт-Петербурга». Как же, знаем. «К 300-летию российской полиции». Понимаем. Нет, почему же. Петра сподвижник, человек невероятной судьбы, с такими амплитудами взлетов-падений, что мама не горюй, — он выносил скорые приговоры и сам испытал дыбу и кнут и перенес круче не придумать какую ссылку — не просто в Сибирь, но на самый север Сибири. Это в Охотске ему памятник должны поставить — там он достраивал порт после двенадцати лет, проведенных в низовьях Лены, в 800 верстах от Якутска. Но чтобы от нашей темы не отвлекаться: имеет ли он отношение к проблеме принудительного вытрезвления? Вообще-то, особой проблемы тогда в том не было, но, если с общих позиций смотреть, скажем прямо: его методы установления порядка в городе наводили на жителей оторопь. Когда Девиер, «создатель отечественной полиции», в бытность своего полицмейстерства совершал ежедневные объезды Петербурга, самые благонамеренные и те не хотели ему на глаза попадаться.
Бюст его напротив исторически первого советского вытрезвителя нас наводит на мысль о небезопасности даже легкого опьянения. И это нам тоже урок. Потому что Антон Мануилович Девиер сам пострадал от того самого. И не было бы никакого «дела Девиера», и кнута, и разжалования, и лишения имущества, и ссылки в Жиганское зимовье, не появись первый наш генерал-полицмейстер там, не стоило бы где — и когда — появляться — в состоянии легкой веселости. Во дворце томились ожиданием: Екатерина I отдавала Господу душу. Меншиков, имевший к умирающей доступ, ей подсовывал бумаги на подпись. Девиер был ему заклятым врагом и к тому же вдобавок — зятем. Возбужденность и некоторая веселость Девиера, явившегося, по обычаю, вечером во дворец, скоро зафиксировались на бумаге и технично скрепились ослабленной рукой умирающей императрицы. Получалось, что Екатерина, будучи в горячке, письменно выражала недовольство тем, как себя вел Девиер в сей скорбный час где-то в других комнатах. Уже утром, на дыбе подвешенный, он отвечал на такое, например, обвинение: «В тот час государыня цесаревна Анна Петровна в безмерной быв печали и стоя в той палате у стола плакала и в такой печальной случай ты, не встав против ея высочества и не отдав должного рабского респекта, но из злой своей предерзости, говорил ея высочеству, сидя на той кравате: „о чем печалисся, выпей рюмку вина“».
Ну вот: «выпей рюмку вина»![32]
А до этого, на дыбе, Девиер уже отвечал на трудный вопрос относительно племянницы императрицы: «Плачующуюся Софью Карлусовну вертел ты вместо танцов и говорил ей — „не надобно плакать“ — для чего?»
А первым такой был вопрос: «Сего апреля 16 числа во время по воли Божьей Ея Императорскому величеству жестокой болезни параксизмус все доброжелательные Ея Императорскому величеству подданные были в великой печали, а ты, в то время будучи в доме Ея Императорского величества, не токмо был в печали, но и веселился чему?»
После 25 ударов кнутом Девиер выдал «сообщников». Тут всех и арестовали. Всех, кто хотел помешать браку наследника и дочери Меншикова.
Но не будем углубляться в историю, к тому же хорошо известную. Это как раз тот случай, когда нас интересует внешняя сторона событий. Ведь, по сути, и дыба, и кнут, и годы ссылки — это было, как посмотреть, вытрезвление.
(А если вернуться к теме «В Питере — пить», так, заметим в скобках, это как раз генерал-полицмейстер Девиер объявил в ноябре 1718 года «О порядке собраний в частных домах и о лицах, которые в них участвовать могут» — правила проведения ассамблей. Ничего из ряда вон выходящего — кроме, пожалуй, правила о нарушениях правил: виновник наказывался «штрафом великого орла» (первое упоминание кубка). Стало быть, фейковый конкурент названного документа, измышленный «указ» «О достоинстве гостевом, на ассамблеях быть имеющем» можно — в силу его популярности в интернете — рассматривать как современный миф (что, кстати, и делает Синдаловский). Миф для носителя мифологического сознания, как известно, — это та же реальность, — положение, которое Сергей Шнуров, а вслед за ним издания, обозревавшие скандал с клипом, подтвердили своей доверчивостью и самоуверенностью. Да и не я ли сам в этой книге цитировал Ген. Григорьева: «…а будет так, как сердцем этого хотим»? Десятый пункт мифического «указа» гласит: «Упитых складывать бережно, дабы не повредить, и не мешали бы танцам. Складывать отдельно, пол соблюдая, иначе при пробуждении конфуза не оберешься». Красивая стилизация. Был бы «указ» этот правдой, и мы бы отсюда повели богатую событиями историю вытрезвителей.)
Но мы забыли о 1873-м. Вот точка отсчета.
Беспокойное отделение Обуховской больницы, более поздний (и более очевидный) прообраз будущих вытрезвителей, вызывало нарекания у гигиенистов: жуткая перенаселенность, плохая освещенность, запущенность, духота, отсутствие форточек. Решетки на окнах и вовсе наводили на мысль о тюрьме. А чем не тюрьма? Еще и похуже: чуть что — смирительная рубашка или пристегнут ремнями к железной койке. Странно, что этого печального места не заметила художественная литература. Смирительное отделение, предшественник беспокойного, занимавшее тот же первый этаж, оставило по себе куда более глубокую память. Пушкинский Германн тут бредил тремя картами. А лесковский Левша, здесь посаженный на полу в коридоре, просил государю секрет передать, «что у англичан ружья кирпичом не чистят», — привезли его, к слову, сюда мертвецки пьяного, обобранного и покалеченного. Вообще говоря, название «желтый дом» — по цвету стен именно этого здания — пристало ко всем сумасшедшим домам, в каких бы точках России они ни появлялись.
Появились в Петербурге и другие прообразы будущих медвытрезвителей. Речь идет о так называемых камерах для вытрезвления. Оборудовались они при каждой полицейской части. Собственно, оборудования никакого и не было, кроме отверстия в каменном полу, куда стекали моча и рвотная масса. Эти, по сути, карцеры набивали телами невменяемых горожан, подобранных на улицах. Лежали они там вповалку. Пошевеливаясь и приходя в себя. Доктор медицины В. Я. Канель в своем труде «Алкоголизм и борьба с ним», изданном в Москве перед Первой мировой, приводит сведения доктора Мендельсона касательно «борьбы с алкоголизмом» в Санкт-Петербурге. Так мы узнаём, что в камеру для отрезвления при Спасской части, рассчитанную всего на 9 человек, в иные дни набивали до 70. Про другую камеру — Литейной части — сообщалось, что на каждого ее обитателя «приходится по 3 куб. арш. воздуха, т. е. несколько больше объема гроба».
К методам отрезвления — а на иной взгляд, первой медицинской помощи — относились такие, как энергичное растирание ушей («ухи рвут, чтобы в память пришел», если вспомнить Лескова; этим обычно злоупотребляли по дороге в больницу), холодные компрессы на голову и обливания головы опять же холодной, желательно ледяной водой, а также раздражающие (с добавлением капель водки или уксуса) клизмы. Физическое воздействие в случае буйства относилось к неформальным полицейским методам не только обуздания, но и воспитания, тогда как алкогольная (современным языком) кома имела следствием отправку пациента в беспокойное отделение Обуховской больницы — без особых надежд на оживление.
Доктор Канель называл эту институцию карательного лечения «ужасным уголком, о существовании которого совершенно не подозревают столичные обыватели». Между тем только в 1904 году через петербургские камеры для вытрезвления прошел 77 901 человек. В 1908 году — 64 199. И это при населении города в полтора миллиона!
Не знаю, велась ли в советские времена столь же подробная статистика. Подозреваю, что нет. Число отрезвленных имело значение, когда коллективы вытрезвителей брали на себя социалистические обязательства в рамках социалистического соревнования, но надо понимать, тогда практиковались приписки.
Лично у меня интерес к этой теме возник после одного эпизода, — ниже ему будет посвящена отдельная главка, следующая за этой. Происшествие в личной жизни побудило меня задуматься о чужом опыте, и я тогда размышлял о составлении коллективного сборника, но дело было в конце девяностых, трудных для книгоиздания. Сборник должен был бы называться «Воспоминания петербургских писателей о вытрезвителе».
Я спрашивал многих петербургских писателей, доводилось ли им бывать в вытрезвителях, и все они охотно, легко и даже, не поверите, с радостью высказывались на эту деликатную тему. И вот что удивительно. Мало того что самые известные (не все, конечно) побывали там, но с каждым побывавшим приключилось что-то оригинальное.
Известный прозаик К., например, был доставлен туда в домашних тапочках. В тот вечер у него были гости. Не хватило. Вышел. В смысле, вышел купить. А гастроном размещался в том же доме, рядом с парадной. Купил — и был взят на выходе из гастронома в домашних тапочках. Отправлен — туда. Представляю долгое изматывающее ожидание его гостей, их беспокойство, наконец — поиск.
К другому прозаику, тоже на букву К., — в силу его активного отрицания собственной неадекватности — применили метод физического стеснения: пристегнули (практически приковали) к специально для того созданному металлическому креслу, которое по итогам «стеснения» оказалось вывороченным из бетона.
Не повезло поэту И. Во дворе, где он жил, располагался медвытрезвитель. Однажды взяли. Вступил в конфликт. Надерзил. После этого жизнь его стала мукой. Поэта ежедневно отслеживали на этапе вхождения во двор — бери не хочу. И брали. Измученный непрерывной охотой на свою персону, поэт И. призывал коллег начать общероссийскую кампанию против вытрезвителей как институции, противоречащей конституции государства. Он угрожал разразиться серией разоблачительных статей на эту тему. Не разразился. Да и чего можно было ожидать от человека, не явившегося на собственное пятидесятилетие?
Известна героическая попытка бегства из вытрезвителя — увы, неудачная. Писателю Р., мастеру спорта по прыжкам в высоту, помешала внезапно появившаяся на пути яма — меняли какие-то подземные трубы. Место финального эпизода — внутренние лабиринты Апраксина Двора, Степановский проезд на задворках Большого драматического театра им. (тогда еще) А. М. Горького. Зная, что медвытрезвитель № 1 Центрального района располагался в Торговом переулке, можно оценить дерзость и физическую форму отважного беглеца.
Писатель Т. пришел самолично в логово с ходатайством за своего товарища, забранного по всем признакам по недоразумению, — забрали и его, тут же.
Не помню случая, когда бы петербургский писатель стыдился своего попадания в медвытрезвитель. Полагаю, специалисты по вытрезвлению не любили писателей, и особенно тех не любили, небуйных, кто к себе относил великий призыв «храните гордое терпенье», потому что за этой сдержанностью прочитывалась преданность завету и слишком откровенное предвкушение радости грядущего дня, когда «свобода нас примет радостно у входа», тогда как тюремщики останутся при своей служебной рутине. Эта категория вытрезвляемых не боялась того, что тревожило других, — справок из вытрезвителя, отправляемых на работу. Писателя не могли уволить по месту службы, которого он не имел, не могли лишить премии, которой он не получал. Поэтому писатели не откупались. Лишь прятали деньги в носки. Многие из них имели склонность бунтовать при всей очевидной бессмысленности таких выступлений. И мелко мстить, даря отрицательным персонажам фамилии своих обидчиков.
Рассказ отрезвленного. 1998
Вот сижу изучаю протокол № 050140. Слепой экземпляр, через дрянную копирку — не разобрать ничего.
«Дежурный инспектор… (неразборчиво)…принял на вытрезвление… (неразборчиво, хотя известно кого: меня)…доставленного… (ничего не понять)…одетого…» и т. п.
«Место работы…» Разобрал: «…нигде не работает».
В корень глядят. А то: «Над чем вы работаете?» Щеки надуешь: «Над романом… Над пьесой…»
Когда-то я написал сочинение с характерным названием «Закрытие темы. Рассказ протрезвевшего». Действие происходит на Сенной, в самом что ни на есть инфернальном уголке Петербурга. Вспоминая «вчерашний день», герой прощается с иллюзиями и обретает некое новое знание. Ну и ладно — обрел. Короче, мой «Рассказ протрезвевшего» попал в сборник петербургских рассказов. И была этого сборника презентация.
«Презентация» — мы так назвали, гости-авторы, а на самом деле беседа-ужин была за столом у преклонных лет хлебосольной хозяйки, вся долгая жизнь которой связана с петербургской литературой. О встречах с Зощенко слушали и Ахматовой.
Ангел ли я? Ни в коем случае. Бывает всякое. Но на этот раз если и было от чего захмелеть, только от количества впечатлений.
Итак, иду по той самой Сенной, размышляя о Зощенко, никому не мешаю, никого не трогаю, ем шаверму, а у них рейд — на тех, кто шаверму ест, — останавливают, требуют показать документы. Настроение благодушное, отшучиваться стал. А паспорт дома. (И дом рядом.) Ну не ношу я паспорт, потерять боюсь. Посадили в «воронок», повезли. Вот оно, значит, как. Почему бы и нет — новые впечатления. Еду, с милиционером беседую. «Куда везете-то?» — «На Галерную». — «А! Знаю, во дворе». — «Что, бывали уже?» — «Нет, там диспансер туберкулезный, у меня жена на учете стояла». Мимо института родного еду, раньше ЛИАП назывался. «Здесь, — вспоминаю, — дружинниками когда-то ходили. А теперь вот сам доставляемый». Милиционер, вижу, мне сочувствует. Ну что ж. Разговор о превратностях судьбы.
Я просто уверен был, что отпустят.
Стол. Все в форме, одна в белом халате. Опять документы требуют. Вспомнил, что у меня книга в сумке — моя, там же фотография на задней обложке. Достаю — вот, мол, мой документ: «Похож?» — Фельдшерица в белом халате «похож» отвечает — вполне миролюбиво, приветливо даже. И читает, чтó рядом с фотографией обо мне напечатано: «Сочинитель, бегущий абсурда, а куда убежишь, когда действительность всюду?»
Убегать от действительности у меня и мысли не было. Лишь спросил: «Так мне можно идти?» Или нет: подарю-ка с автографом… Куда там! Требуют раздеться до трусов.
Потом жена, святой человек, спрашивала: «А зачем разделся?»
Вот и я удивился: «А зачем?»
Мне так ловко объяснили «зачем», что одежда сама пала. Стою в трусах, в животе еще боль от точечного удара не прошла, а от меня уже часы отбирают.
Ведут по коридорчику в комнату с топчанами. Но пока туда пропускали другого бедолагу, я воспользовался заминкой и раз — обратно — к фельдшерице: как же так? я же трезвый! вы что, не видите?..
Мне казалась, поймет, разберется.
Смешно. Вот и Владимир Рекшан, автор бестселлеров и анонимный алкоголик, сам когда-то прославившийся неудачным, но дерзким побегом из медвытрезвителя [да, да, это он], мне теперь говорит: «Если писатель, так сразу и книгу совать? Ну и что, что писатель? А если столяр, тогда что — рубанок достал бы?»
Он прав.
«Но я же трезвый, вы посмотрите…» — Тих, смирен, удручен непониманием.
А она:
«Да сделайте с ним что-нибудь!»
И делают со мной следующее. Хватают сзади меня — за горло — и со словами «не с такими справлялись» начинают ни много ни мало душить.
Да так, что кажется, сейчас шея сломается.
Слышу только: «Осторожно, убьешь!» — и теряю сознание.
Это меня и спасло, как теперь знатоки объясняют. Такой фронт работы был впереди… если представить.
В общем, подвел я их. Ручки вниз, и кувырк мертвяком. Дескать, теперь ваши проблемы.
Первый раз в жизни сознание потерял.
Есть, знаете ли, такая сонная артерия. На которую если нажать посильнее…
Ну вот. На какое-то мгновение очнулся, когда за ноги по коридору волокли, и только слово «укол» услышал. Потом мне уже сосед по койке сказал: «Тебе укол сделали». — «Какой?» — «Откуда ж я знаю какой…» Значит, боялись, что коньки откинул.
Сколько без сознания был, знать не знаю, и как к жизни вернулся, не помню — то есть как на ноги встал. Застаю себя уже стоящим перед решетчатой дверью и слышащим за спиной: «Брось, бесполезно, только хуже сделаешь», — оглянулся, а на койке лежит весь татуированный (и трезвый, кстати), в трусах, как и я, человек и глядит на меня с нескрываемым состраданием. И я понимаю, что прервал только что яростный свой монолог — в тот коридор обращенный. И что жив. И унижен. И как заводной.
Лег. Встал. Лег. Встал. Пересчитал койки зачем-то: 20. Занято 8. Может быть, недобор? Слово «план» пришло на ум, а голова светлая-светлая.
Ясность мысли необыкновенная. Только притупился инстинкт самосохранения, бывает же такое.
«Наши» смотрят на меня как на самоубийцу, когда кто-нибудь из сильных места сего нет-нет и появится в коридорчике (там, кажется, дверь в туалет?), а я ему тут же о прерогативах своих!.. о произволе полиции!.. Но похоже, дважды не казнят. И потом, самоубийца — это ведь тот, кто туда, а я — я оттуда, с нездешним огнем в глазах и ощущением послевкусия небытия в воспаленной гортани: не запугаете, я уже там побывал!
Сейчас смешно вспоминать — этакая смесь Пьера Безухова с Хлестаковым. Помните, Пьер во французском плену: «Поймали меня, заперли меня… Кого меня?.. Меня — мою бессмертную душу! Ха-ха-ха!» (только я не смеялся). — А с другой стороны: «Я два года изучал юриспруденцию!» (блеф, конечно) или «Мои пьесы по всей России идут!» (преувеличение) — это уже от Гоголя. И от бессилия.
У фельдшерицы «экспертизы» потребовал. «У нас нет экспертизы. Зачем экспертиза? И не надо возмущаться, вы же интеллигентный человек». Вот оно как: интеллигентный человек — это они ко мне в сумку залезли, пропуск на радио нашли, просроченный, о котором забыл давно, визитки нашли… А может, книжку читают… «Рассказ протрезвевшего»…
А если б не пропуск и не визитки?.. Если б рубанок?!
Прошу домой позвонить, успокоить.
Да они бы меня и выпустили от греха подальше, так ведь надо же форму соблюсти… или ждут, что сам успокоюсь?
Полежал еще немного на койке. Встал. «Ну хватит ломать комедию, выпускайте!» — «Сейчас выпустим. Жена пришла». — Как — жена? Откуда жена?
Жену пригласили?!!
Ведут в какую-то каморку, где вещи мои лежат. «Одевайтесь». (И все — на «вы».) Зачем-то дверь снаружи заперли. Я оделся, а когда брюки на себе почувствовал, решимость моя утроилась: в дверь кулаком барабаню. Открывают — тут уж я ворвался, одетый, туда, где вся их «комиссия» сидит, и давай обличать: за что взяли? чем не понравился?.. — опять приступ ярости (жена мне потом в укор поставила, что не поцеловал ее, мол, здравствуй). «Это ты, ты меня душил!» — кричу, пальцем тыча. И про то, что сознание потерял, и про укол… «Какой укол? Мы не делали никакого укола…» А фельдшерицы-то и нет — спряталась. Я кричу на них, обвиняю, тут и этот (или другой?) стал тоже кричать — на меня, с угрозами. Вдруг жена моя как топнет ногой: «Молчаааать! Всем молчать!» Тут мы замолчали. «Сядь на диван!» Сел, молчу. «Вон он ведь вас как боится…» (а сам-то, сам? — не присмирел, что ли?). Вижу, разглядывают меня с любопытством, старлей протокол нехотя составляет. Часы возвращают. «Пили сегодня?» Хороший вопрос. Три часа продержать в вытрезвителе, чтобы спросить, пил или нет!.. Протокол подписать отказался. Жена подписала. Забрали меня в 21:40, выпустили в час ночи.
Все теперь говорят: повезло, еще как повезло. Мог бы там и остаться. Спрашивают: чем душили — рукой или дубинкой? Чем, чем! Какая разница чем!.. А если бы я за руки душителя схватил, будь половчее, что бы тогда? Сопротивление при исполнении?.. нет?
Спрашивают, почему не откупился, когда меня брали на Сенной, раз деньги были. Не знаю почему. Просто в голову не пришло. А что, разве надо платить, когда требуют документы? — «Ну ты прямо как маленький. А деньги вернули?» — Вернули.
Вот и деньги вернули, 200 рублей. Грех жаловаться. И синяков нет снаружи. Только в горле как будто синяк — больно глотать, и больно есть, и что хуже всего — больно смеяться.
Судьба ворот

О некоторых перемещениях
Бывает так. Живешь, блуждаешь по улицам, иногда смотришь вверх, голову задираешь, и никогда не приходит в эту голову вообразить себя на взглядом замеченной недосягаемой верхотуре, как не приходит в голову многое из вообще невозможного, уж слишком невозможного действительно много, — невозможного ведь больше, чем возможного, не так ли? А если бы спросили, возможно ли тебе лично, человеку, которому никаких спецобязанностей не вменяли, хоть как-нибудь туда физически попасть, одну бы, наверное, допустил возможность — чье-нибудь шаловливое волшебство.
Но вдруг что-то случается в жизни, раз — и ты там. Со мной такое дважды было.
Первое. Летом 2002-го мне довелось очутиться на Александровской колонне, у ангела. Я не шучу и не мистифицирую. Я там физически был — что понимать надо буквально; причем один: один на один с ангелом. Понимаю, в это трудно поверить, но обстоятельства так сложились, что я там даже умудрился ненадолго уснуть — у ног его, наверху, перед ним. Клянусь. Но случиться такое могло лишь в 2002-м, чему есть объяснение. Подробности, кому интересно, в четвертой части «Построения квадрата на шестом уроке». Сейчас о другом. Просто похвастался, не удержался.
Второе (и это уже по теме). Я один из тех, кому довелось побывать на Московских триумфальных воротах. В отличие, осторожно скажу, от проникновения к ангелу, этот эпизод не был сомнительным с точки зрения права, он просто оказался побочным следствием моего участия в одном проекте. Что не умаляет яркости персональных воспоминаний. Меня спрашивали тогда, глядя на соответствующую фотографию: как это возможно технически? Лесов нет. Двенадцать чугунных колонн… Не с вертолета же спустили?
Нет, конечно. Все проще.
Во второй колонне южного ряда, если приглядеться, есть дверца. Замок, понятно, закрыт. Примерно раз в двадцать лет, в силу каких-то причин, возникает потребность его отпереть. Ну так вот, внутри колонны узкая винтовая лестница, покрытая густым, не сказать жирным слоем пыли…
Короче. Из наших современников на Московских триумфальных воротах немного кто побывал; вот и я тоже — пускай даже из любопытства. Засим, мне кажется, имею моральное право позволить себе четыре-пять тысяч слов по теме объекта, судьба которого, как ни посмотри, все равно удивительна.
Начнем, как обычно, издалека.
Перенесемся к Троицкому собору.
Бюст архитектора
…Со стороны казалось, это бюст человека близкой эпохи, почти нашего современника — красного командира, пролетарского поэта, космонавта, просто героя. Очень удивился, когда, подойдя поближе, прочитал, что это архитектор Стасов (1769–1848). Судя по возрасту и датам жизни, век для него еще, похоже, восемнадцатый, до девятнадцатого надо дожить. Он не создал еще ни Московских триумфальных ворот, ни Измайловского (Троицкого) собора, который на самом деле тут и стоит за его затылком. Памятник потому и установлен здесь, что это памятник создателю собора. А мне казалось, что лучший памятник архитектору — его творение. Лучший памятник Стасову — Троицкий собор, действующий, живой. Но второй по величине в городе (и первый в стране на день освящения), собор как раз казался побитым, униженным. Без крестов, с обшарпанными колоннами гигантский склад неизвестно чего. Удивительно, что не взорвали, не перестроили в крематорий. Памятник его творцу выглядел на этом месте почти насмешкой. Над самим творцом.
Но пришли другие времена. Собор открыли, отремонтировали, он стал действующим. И бюст однажды пропал.
Все просто: он занимал чужое место — когда-то здесь возвышалась колонна Славы, памятник победе в Балканской войне. Место верное: Измайловский полк отправлялся на фронт после молебна в этом соборе. Земная жизнь русского архитектора закончилась раньше, много раньше, в другую эпоху, но победители именно в этой войне проходили у Московской заставы между колоннами триумфальных ворот, построенных прежде Стасовым и посвященных прошлым победам. В судьбах обоих воинских памятников есть сходство: и составленная из трофейных пушек колонна Славы, и Московские триумфальные ворота в свои годы (1930, 1936) подверглись демонтажу, — потом, как это иногда бывает, их решили вновь воссоздать, причем на своем месте. Московские ворота хотя и с трудом, но восстановили — ввиду сохранности отдельных частей; от колонны же Славы ничего не осталось. Где взять трофейные турецкие пушки? В итоге получился макет — прежней колонны в натуральную величину. Историческая реконструкция, так скажем. Но есть что есть — подарок городу к юбилею. И памятник Стасову заблаговременно освободил ему место. Никто и не заметил, как он исчез.
Бывают сверхскромные памятники — словно они стесняются сами себя. Когда в 2006 году огонь спалил большой купол собора, предположений было достаточно, порой самых фантастических. Но ни одному петербургскому мистику не пришло в голову связать пожар в соборе с исчезновением памятника его строителю.
Нет-нет, мы за мистику не переживаем. У нас и так все переплетено.
Словно видел впервые
Это вошло в привычку — выйдя из дому и свернув с набережной на проспект, обязательно смотреть в южную даль, где сквозь дымку проявлялись Московские ворота — для нас, туземцев левобережья Фонтанки, это был индикатор загрязненности ленинградского, потом петербургского воздуха. Безветрие, особенно затянувшееся, отзывалось досадой, хотелось выругаться: Московские ворота едва различались вдали. Резкость изображения, впрочем, появлялась при западном ветре, продувавшем город с залива. Ошибаюсь ли я, или в Петербурге Московский проспект действительно стал в глубину гораздо прозрачнее, чем в Ленинграде? Может быть, потому, что транспорт другой? Вспоминаю выхлопные тучи, испускаемые длинным двусоставным «полтинником», отъезжающим от автобусной остановки. На № 50 я каждый день ездил в институт и обратно. Московские ворота делили путь пополам. Наверное, это единственное, что мог бы вспомнить об их наличии обладатель замыленного взгляда. Это правда, взгляд по ним скользил, ни за что не цепляясь, как по приевшимся образцам наглядной агитации вроде портретов Брежнева или по обычным нашим кариатидам, поддерживающим бесчисленные балконы. Ну, помню, как, огибая историческое сооружение, длинный желтый автобус кривился в месте гармошечного соединения двух частей салона, — в остальном на протяжении всего пути, от площади Мира (уже и еще — не Сенной) и до поворота на Типанова, автобус шел прямо, и только прямо. Самое яркое впечатление скучающего пассажира: однажды на газоне, пешеходам недоступном, который был разбит вокруг Московских ворот, некая дама — в рабочей одежде — собирала грибы, шампиньоны, — и то трудно понять, почему это запомнилось: потому ли, что грибы росли возле Московских ворот, или потому, что, глядя в окно автобуса, я с грустью думал о свинце и чужом легкомыслии.
Получилось так, что однажды осенним днем девятьсот девяносто какого-то года что-то меня заставило оказаться на Митрофаньевском шоссе, совершенно тогда раздолбанном и пустынном. Тогда еще не было здесь никакой магистрали. Завернул сюда с Обводного: шел и дивился размерам промзоны, состоящей из мелких предприятий и складских помещений. Это была территория бывшего Митрофаньевского кладбища. Тут же сохранился кусок заброшенного старообрядческого, напротив него ютился завод мясокостной муки. Я повернул на Ташкентскую, по которой бегали стаи собак. За кустами и деревьями, приземистыми постройками и торцом кирпичной стены начиналась полоса отчуждения — здесь лежали железнодорожные пути, заставленные вагонами с разбитыми стеклами. Над ними возвышался мост с высокими фермами — путепровод, он был, что называется, в аварийном состоянии, путь на него преграждали бетонные плиты, и это как-то объясняло заброшенность и пустынность этих мест. Сейчас там другой путепровод, он ниже того, и по нему большое движение. На другой стороне железнодорожного полотна возвышаются бизнес-центры и прочие современные здания. А тогда беспорядочно громоздились какие-то строения, похожие на фабричные корпуса. Никого не было — ни одного человека. С моста открывался удивительный вид на город. На небывалый город, совсем не похожий на привычный наш Петербург. Скажу только, что поразило больше всего. Крыши старых промышленных корпусов были на уровне глаз, и вот над плоской крышей невзрачного здания — на уровне, стало быть, глаз — возвышалось нечто совсем уже странное и нездешнее: несколько ощетинившихся бутонов из рыцарских доспехов и знамен. Я не сразу сообразил, что это. А сообразив, не сразу поверил. Думал, что ошибаюсь. Там действительно был Московский проспект. А это действительно — верхняя часть Московских триумфальных ворот, почти целиком заслоненных зданием. Это — трофеи. Это то, что не имеешь привычки замечать снизу. Поразило, насколько они велики — даже на расстоянии. И насколько величественны. Поражал контраст фабричной утилитарной архитектуры и всплеска над ней неожиданного ампира. И что это все, в общем-то, достаточно близко. Трудно было поверить, что рядом одна из главных магистралей города. И что город по радиусу Московских ворот так не похож сам на себя. Надо было забрести, куда никто специально не ходит, и оказаться с ними на уровне глаз, чтобы вот так увидеть их величественную красоту. Ощущение было, будто не я на это смотрю, а мне это показывают.
Я прошел дальше и через пять-шесть минут оказался на шумном Московском проспекте, заполненном людьми и транспортом. Я стоял и смотрел на Московские триумфальные ворота, которые объезжал автобус. Я смотрел на них, словно видел впервые.
Сквозь них и в объезд
Московские ворота для приезжающего в Петербург означали границу, где пригородное Московское шоссе, не изменяя своей прямоте, превращалось в городской Царскосельский проспект, — названия будут меняться, но суть останется той же: необходимо было проехать сквозь них — между их колонн, через реальные ворота — действительно ворота, а не памятник до известной степени самому себе, объезжаемый городским транспортом в соответствии с указанием светофоров. Ворота, как и подобает воротам, — пропускали. Между центральными колоннами могли спокойно разъехаться экипажи, обозам и всадникам предоставлялись соседние междуколонные проезды, ну а если вы просто пешеход, милости просим в боковые пролеты у крайних колонн, здесь к вашим услугам еще и чугунные скамьи с фонарями: пешеход, не спеши, побудь, ощути себя в пограничье.
Со стороны Москвы путник заранее оповещался о приближении к столице империи. Вот верстовой столб-обелиск. Вот гранитная поилка для лошадей в виде фонтана. Вот справа, чуть в стороне от дороги, Чесменский, путевой для Екатерины дворец. Липы, посаженные вдоль дороги. Но всего выразительнее Петербург удостоверял себя вырастающими по мере приближения к ним величественными, слишком величественными для обычной заставы воротами, грозно возвышающимися над почти случайными строениями предместья. Фигуры гениев с гербами губернских городов, многосложные бутоны трофеев, надпись, извещающая о победах, которую было невозможно не прочитать (коль ты не чужд грамоте), — все это медленно наплывало на приезжего и уходило от взгляда, обращенного уже внутрь, в обещанную перспективу. Каждый въезжающий волен был ощутить себя триумфатором. Это был по-настоящему въезд. Что-то вроде инициации — человек попадал в пространство особого города, где по бокам стояли похожие на сторожевые замки кордегардии с башенками, а вдали, прямо по взгляду, сиял избыточно высокий шпиль Петропавловского собора, на который и была нацелена першпектива. Сразу перед собой приезжий видел первый мост через первый же из множества петербургских каналов — Лиговский канал, пусть невзрачный, не одетый в гранит, но сотворенный ради фонтанов.
Полагаю, проезд через эти ворота будил в человеке сильные чувства.
Попервоначалу уж точно.
Мне кажется, что даже трудящиеся Страны Советов, пассажиры трамваев, должны были ощущать что-то такое не совсем будничное, когда проезжали между колонн, — ведь трамваи ходили сквозь это невероятное сооружение вплоть до его стремительного демонтажа…
Нам уже не испытать ничего подобного, мы обречены Московские ворота объезжать.
Ну разве что сесть на остановке «Ул. Заставская», ближайшей с юга к триумфальным воротам, непременно в первый вагон трамвая № 29, подойти к кабине водителя и смотреть, куда смотрит он, — вперед. Вперед — к приближающимся! Обладатель богатого воображения может мысленно устремиться между вырастающими колоннами дальше, как бы продлив последний момент, перед которым за пятьдесят метров до ворот трамвай подаст вправо, предпринимая объезд. Скажем себе, что его не было. Ничего не помешает нашему просветленному целеустремленному сознанию вновь сочетаться с бренным телом в точке пересечения их траекторий, где-нибудь уже за воротами, на остановке «Детская музыкальная школа», что напротив псевдоконструктивистского новодела, изображающего из себя бывший ДК им. Капранова, — до того, как трамвай повернет резко налево, в парк № 1 — в парк, в смысле, трамвайный.
В текущем масштабе времени
Московские ворота строились триумфальными как бы задним числом — это был памятник прежним триумфам. Те победы уже отпраздновали, теперь осталось отмечать юбилейные даты. Триумфы не празднуют авансом, соответственно, не воздвигают триумфальные арки будущим, еще только предполагаемым победам. И все же с Московскими воротами получилось так, что они оправдали свое название — триумфальные — в текущем масштабе времени.
Через сорок лет после открытия они встречали победителей в только что завершенной Турецкой войне.
Разумеется, в древнеримском понимании это триумфом не было, — чествовали гвардейские полки, возвращающиеся в казармы из похода. Это торжество называлась «встреча», «привет», и было оно «приветом» в смысле «приветствием» — с проработанной программой, лентами и знаменами, шатром и трибунами, но и с непредсказуемым проявлением чувств, подобным тому эксцессу, когда в другую эпоху через кордоны милиции прорвался человек с букетом цветов к проезжающему по Москве Гагарину.
«Путь был устлан цветами, и вместо напора диких врагов ликующий восторженный люд густыми волнами обхватывал со всех сторон ряды солдат и в каком-то упоении двигался по пути следования…» — рассказывает историк Преображенского полка, очевидец события. «Венки и гирлянды на головах и штыках людей — все это вместе походило на движущийся живой цветник».
А еще был осенний день не по-петербургски солнечным, ясным.
Обычная непогода ждать себя не заставила.
Ленты и хоругви сняли с ворот. Начались рутинные будни. День за днем. Год за годом…
…Зарывали вонючий Лиговский канал. Открывали кабаки в изобилии. Накрывали притоны.
По гудку шли на работу.
Трупы павших животных везли с ветеринарной станции мимо Московских ворот — по Старообрядческой улице — утилизировать за железной дорогой.
Голова Гарибальди
Луначарский заканчивает речь. Он отважно стоит на канцелярском столе. Под весом наркомпроса, одетого в тяжелую шубу, ножки стола врезались в наст. Митинг подступил вплотную к оратору, только для фотографа оставлен просвет — сделать для истории снимки.
За спиной Луначарского на высокую чугунную решетку залезли дети. Это ничего, что они увидят Гарибальди только с затылка (сейчас он накрыт полотном), зато отсюда, с высоты ограды, видно все и дальше других — больше и дальше, чем даже самому Луначарскому, который стоит на столе.
Перед Московскими воротами тысячи демонстрантов. Плакаты приветствуют Третий интернационал. Революционные хоругви со словами «Да здравствует социализм!» возвышаются над головами. Отряды красноармейцев пришли со своими оркестрами. Много женщин-работниц. Вчера тоже был праздник — Международный женский день, — но женщины не стали прятать плакаты.
Уже полгода Забалканский проспект называется Международным.
Гарибальди сказал: «Интернационал — солнце будущего».
Луначарский сам сейчас похож на памятник.
Полотно сброшено. Голова Гарибальди предстает перед всеми. Гордое, решительное лицо итальянского революционера. А с высоты решетки — полоса длинных волос, целиком закрывающих шею. Плечи Гарибальди шире постамента. Все сняли шапки. Все поют «Интернационал».
Дети на высокой ограде тоже сняли шапки. Им холодно. Холодно всем. Особенно иностранным гостям, делегатам конгресса, которые приехали из Москвы. Они поют на своих языках.
Луначарский подзывает скульптора. Карл Залите тоже вскарабкивается на стол. Обоих окружают члены заводских комитетов и культурно-просветительских организаций. Вспышка магния. У детей на решетке прямые спины.
Скульптор Карл Залите вернется в Ригу, у нас он будет забыт. Памятник Свободе принесет Карлису Зале в Латвии славу. Там выпустят монету с его профилем.
Депутаты конгрессов Коминтерна не все переживут тридцать седьмой.
Дети с высокой решетки уйдут в сорок первом на фронт.
Гипсовый Гарибальди продержится неполных три года — и треснет.
Про ларек
— В чем дело? — спросил техник разливного оборудования Степан Песков. — Зачем фотографируете ларек?
— «Пищевой гигант», корреспондент Владимир Никитин. У меня редакционное задание. Хочу поговорить с продавщицей.
Да, вот он какой, большой новый ларек, похожий на театральную кассу. Продажа прохладительных напитков у Московских ворот — дело ответственное и непростое. Ни для кого не секрет, как много рядом пивных. Здесь у ограды еще недавно собирались любители горькой, далеко разносилась их нецензурная брань. Все изменилось, когда появился ларек прохладительных напитков. Любители крепкого куда-то исчезли. Другим покупателям рада тов. Самойлович, лучший работник столовой № 48, брошенная на этот участок.
На вопрос о недельном обороте тов. Самойлович ответила: «Уже сейчас 300 рублей, а летом в жару будут все 400».
В очереди к окошечку за газированной водой стояли работницы фабрики «Скороход» и вагоностроительного завода им. Егорова. Они приветствовали появление ларька. Они попросили корреспондента Никитина написать в газету, чтобы закрыли на Международном проспекте все пивные или хотя бы запретили в трактирах продавать водку, когда на предприятиях обеденный перерыв.
Заметка на эту тему появится в многотиражной газете.
Пьянству объявят решительный бой. Любителей выпить будут еще сильнее продергивать.
Продавщица Самойлович проработает на прохладительных напитках три с половиной месяца и вернется в столовую № 48, когда ларек прохладительных напитков у Московских ворот вынужденно ликвидируют вместе с Московскими триумфальными воротами.
Кома
Когда низвергнутый с пьедестала памятник заколочен в ящике, отправлен на склад или задвинут в дальний угол хозяйственного двора до лучших времен, не обещающих сроков, с чем человеческим можно сравнить его нечеловеческое бытие? По-моему, с комой. В лучшем случае — с летаргическим сном. Так Александр III, оторванный вместе с конем-тяжеловесом от гигантского постамента, десятки лет тупо смотрел в стену хозяйственного двора музея, в прошлом носившего его имя. Или первый наш памятник, еще не ставший памятником, но сразу не угодивший Екатерине, — образцово отлитая в бронзе конная статуя Петра пылилась годами на складе Канцелярии от строений, дожидаясь эпохи Павла Первого — когда еще снимет он с несчастной статуи полувековую опалу?.. когда еще установит монумент перед Инженерным замком?.. А мертвый сон под землей типовых бюстов Сталина, на всякий случай зарытых в октябре 1961-го осторожными секретарями парткомов периферийных Домов культуры и прочих советских учреждений? Спустя полвека одного за другим земля почему-то стала возвращать эти пугающие нездешним выражением лица памятники… И вообще — мертвый сон всех спрятанных от посторонних глаз в запасниках музеев, в подвалах и на чердаках разорившихся предприятий, всех задвинутых, всех зарытых, всех опущенных на дно водоемов?.. Что это, как не кома? Именно кома.
Вот и у храмов, переживших закрытие и перепрофилирование, пора запустения сравнима с летаргическим сном.
Если продолжать медицинские метафоры, можно назвать пример клинической смерти. Это случай Московских ворот.
Полный демонтаж. Утрата фрагментов. Растаскивание составных частей по местам хранения — однако все же не утилизация. Во всяком случае, не последовательная утилизация. Назовем ее условно фатальной.
Если любой из трех задействованных музеев и даже кладбищенский склад-сарай еще как-то можно назвать местом хранения, то вряд ли на способность сохранять что-либо могли претендовать задворки Лиговки и ее пустыри, куда привезли самые крупные обломки гигантского памятника. А то, что во время войны чугунные блоки использовали для противотанковых укреплений и баррикад, говорит лишь о том, что они перестали быть чем были.
Убивание Московских триумфальных ворот началось через год после капитальной реставрации, то есть к моменту насильственного умерщвления они были вполне «здоровые» и вполне готовые превозмогать ход времени. Тем с большим рвением приступили к демонтажу. Ворота исчезали на глазах ленинградцев. И все же оставалась призрачная надежда на неоднозначность итога, — а вдруг — когда-нибудь — их воскресят в другом месте. Во всяком случае, не отправили на переработку. Допустили возможность обмера. Не подвергли моральному остракизму.
Так за что же их так, за что? Самый простой ответ — за то, что мешали движению. Но как скоро выяснилось, не очень-то и мешали. Объезд был; переустройство его не требовало радикальных мер. Проще разобраться с объездом, чем разбирать на кусочки гигантское сооружение. О реконструкции площади были только мечты… Идеология? Да нет вроде бы. Про «усмирение Польши» можно было, конечно, убрать вместе с остальными буквами, это легко; предложение: «Да здравствует дружба народов!» — худо-бедно искупило бы все. В любом случае памятник победам — что может быть лучше? Никто не отрицал ни художественную ценность объекта, ни уникальность технических решений, ни историческое значение даже. Стасов был уважаем, не враг труда. И все-таки — раз-два — и не стало триумфальных ворот.
Да ведь и восстанавливать их надумали, пускай и теоретически, в проектах только, но сразу же после демонтажа. Причем — как вариант — тут же, где и стояли!
Что же такое исчезновение, как не смерть?
Но смерть — клиническая. Как бы еще не совсем смерть. Без констатации смерти. Иначе как объяснить, что статус культурного объекта общесоюзного значения они получили, когда их физически не было, не существовало?
«…Сохраняющиеся в разобранном виде…»
Умирание их оказалось процессом, в принципе, обратимым.
Воссоздание — воскрешением.
Есть тут у нас одно подозрение
В одном отношении Московские ворота были функциональным сооружением.
Они почти идеально подходили для оформления праздничной наглядной агитации. Высокие, широкие, на видном месте.
На колоннах вывешивались содержательные плакаты. Между колонн устанавливались крупногабаритные конструкции, выражающие революционные и антиклерикальные идеи. Наверху вдоль фриза вытягивались лозунги, сколько хватало на них кумача. А на самой верхотуре громоздились плоские агитационные фигуры, столь огромные, что они подавляли масштабностью скульптуры трофеев и гениев славы с гербами губерний, пославших своих воинов на поля сражений.
Можно ли иначе продемонстрировать на такой высоте гигантского фанерного красноармейца, как не с помощью Московских ворот? Как вознести его, если нет ничего другого поблизости столь же высокого?
И все же для агитационных целей они подходили не совсем идеально, а только почти. С какой бы яркой наглядностью ни утверждался благодаря их конструктивным особенностям грандиозный триумф пролетарской революции, все же почему-то не хотело исчезнуть в их униженном облике какое-то неуместное и несвоевременное старорежимное величие.
Есть тут одно у нас подозрение, в чем основная трагедия Московских ворот.
Слишком они были величественным памятником тому, чему, по новым представлениям, памяти не требовалось. А тому, что, по новым представлениям, памяти было достойно, еще только предстояло воздвигнуть свои монументы.
Обустройство Международного проспекта — это только предлог. Можно было обустроить и с учетом уже существующего памятника.
Причина неприязни к Московским воротам — по крайней мере, одна из основных — лежит в психологии: она простая и выражается одним словом. Ревность.
Пределы разумности
Среди отчаянных идей спасти хоть каким-нибудь способом приговоренные к демонтажу Московские ворота была и такая. Развернуть — установить не поперек, а вдоль проспекта, — дабы не затрудняли движение (ведь вся проблема в транспорте, да?..). Триумфальные ворота, повернутые вдоль магистрали… — почему ж не представить? Абсурд, конечно, но абсурд поневоле — как рациональная попытка сопротивления чему-то предельно иррациональному. Разве не более абсурдны те радикальные манипуляции, которым на самом деле подвергли этот грандиозный памятник, — и тем более с учетом затрат как на бессмысленный демонтаж, так и на осмысленное восстановление? На том же месте в конечном итоге! И при той же, по сути, верховной власти!.. Московским воротам не нашлось места (1938) на Международном проспекте, но ими решили (1952) украсить проспект имени Сталина. Замечательно. Но неужели идея развернуть Московские триумфальные ворота на 90 градусов (чтобы, добавим от себя, потом повернуть в обратную сторону) может показаться менее разумной? Вся неразумность ее — всего лишь в наивности, в доверчивости к аргументам рассудка, в надежде исправить то, что исправить нельзя.
Другая спасительная идея не столь экзотична и даже, можно сказать, лежит на поверхности. Предлагалось буквенное посвящение, выдержанное в старорежимном стиле, заменить идеологически безупречным лозунгом (ведь вся проблема в больших золоченых бронзовых буквах?..). Еще одна попытка укротить духов иррационального. В данном случае с помощью заклинания, перепосвящения объекта. Вместо намеков на подавление русским оружием национально-освободительного движения в Персии и Польше предъявить трудящимся на том же аттике «Да здравствует дружба народов!». А что? В этом была своя логика. Ворота остались бы триумфальными, но означали бы уже Триумф пролетарского интернационализма. И пусть. Лишь бы стояли.
Предложение, кстати, в стиле традиции. Город уже знал случай, когда перепосвящение памятника в значительной степени повлияло на его судьбу. На постаменте знаменитого монумента, украшавшего площадь Восстания, решением Петросовета вместо «ДЕРЖАВНОМУ ОСНОВАТЕЛЮ ВЕЛИКОГО СИБИРСКОГО ПУТИ» были высечены глумливые стихи Демьяна Бедного: «Мой сын и мой отец при жизни казнены…» ну и так далее; сочинено это как бы от лица непосредственно увековеченного, что и удостоверяла подпись: «Предпоследний самодержец российский Александр III». Памятник императору воспринимался теперь как монументальная карикатура на этого императора: он превратился в свою противоположность — в памятник «посмертному бесславью». Парадокс в том, что это спасло монумент. В таком качестве он сумел «переждать» самые тяжелые для памятников годы и, несмотря на свои поздние злоключения, в конечном итоге сохранился.
От осколков снарядов
Московские триумфальные ворота, фактически уже не существующие как единое целое, все же каким-то невероятным образом участвовали в обороне города. Не в образе призрака-стража, не силой духоподъемной идеи, не яркостью символа, а вполне натурально, в буквальном смысле — физически.
Хотя в этом физическом самопредъявлении, самоучастии уже, по сути, убитого памятника есть, конечно, своя символика.
Тут дело такое: части колонн пошли на сооружение баррикад.
Ближайший на южных подступах к центру города дот был построен у бывшей Чесменской богадельни, рядом с Международным проспектом. В случае уличных боев в радиусе Московской заставы немцев ждали баррикады с противотанковыми заграждениями. Фустовые блоки, или, иначе сказать, фрагменты колонн, тоже пошли в дело.
Ошибочно думать, что эти укрепления никому не понадобились.
На Цветочной улице, недалеко от исторического места Московских ворот, была обувная фабрика «Пролетарский рабочий» (кроме солдатских сапог, на обувных предприятиях блокадного города производили, к примеру, еще и пулеметные ленты). Работниц отправляли на ночное патрулирование ближайших улиц. Одна из них вспоминала: когда начинался обстрел, сразу бежали к чугунным блокам колонн — в них укрывались от осколков снарядов.
Если посмотреть на довоенные фотографии этих массивных колец, превышающих в диаметре рост человека, покажется, что цилиндры, лежащие на боку, слишком просторны, слишком открыты, чтобы надежно защищать от артиллерийского обстрела. Но ведь не убежища от осколков снарядов проектировал Стасов. Он и помыслить не мог ни о чем подобном.
Превратности топонимики
Сегодня ворота и проспект, ими делимый практически пополам, — в некотором смысле тезки. Московские ворота при всех манипуляциях над ними никогда не переименовались. Так же, как и Москва, — в отличие от Петербурга. А вот Московский проспект сменил немало имен. Он был Царскосельским, когда Московские ворота появились в его торце. А когда сквозь них в сентябре 1878 года, встречаемые ликующим народом, возвращались с победой гвардейские полки, он уже стал Забалканским, и так его все называли, хотя именной указ «о наименовании» не был подписан еще, но все равно — с двухмесячным опозданием — «в память достославного перехода в прошлом году, в суровое зимнее время, через Балканский хребет» высочайше удовлетворено Городской Думы ходатайство: наречен проспект Забалканским. После революции Забалканский проспект стал Международным проспектом и, будучи таковым, утратил Московские ворота. После войны, а точнее — после «ленинградского дела», он стал проспектом имени Сталина и, будучи таковым, вслед за обретением памятника Сталину на Средней Рогатке готовился вновь обрести на прежнем месте Московские ворота, чья судьба, кажется, решалась властными постановлениями в самом благоприятном для них ключе. Но физически Московские ворота вернулись на проспект, когда он уже стал Московским проспектом. Во второй половине шестидесятых площадь, на которой они стояли, стала тоже Московской. Три года Московские ворота стояли не только на Московском проспекте, но и на Московской площади, а потом площадь получила название Московские Ворота, став абсолютной тезкой Московских ворот. Так что теперь в Петербурге Московские ворота — это и ворота, и площадь. И даже станция метро (но только в кавычках: «Московские ворота»).
(И даже конфеты «Московские ворота»… Но вкус их забыт…)
Вот думаю, не превратностями ли топонимики обусловлена драма Московских ворот? Реконструкция проспекта и забота о беспрепятственном проезде — это к демонтажу только поводы. Допускаю, что причина крылась в коллективном подсознании высокоответственных представителей партийно-хозяйственной номенклатуры, безотчетно встревоженных следующим несоответствием: видите ли, дорогие товарищи, названию Международный проспект противоречит тоже ведь «международный» пафос триумфальных ворот, отнюдь не интернациональный. Подумаешь — «…усмирение Польши» — с этим где-нибудь на другом проспекте можно было бы смириться, окажись они не на Международном — да хоть на Невском, к примеру, проспекте. Впрочем, Невский был тогда — 25 Октября. Ну, не знаю — на Лесном где-нибудь. Нет? А кто знает?
И это хорошо
Многолетнее существование Московских ворот после их исторического восстановления хочется назвать благополучным. Угроз им, кажется, не было, но и не было ярких событий, связанных с ними.
При советской власти рядом с воротами формировали на праздники колонны трудящихся, и бабушки продавали демонстрантам раскидайчики. Потом и это прошло.
Из неприятностей отметим автомобильные происшествия.
Так, мартовской ночью 1978 года грузовик врезался в ворота с юго-восточной стороны. В 1995-м — также при въезде в город — налетел на ворота легковой автомобиль. Когда сотрудники Музея городской скульптуры обследовали состояние памятника, они обнаружили рядом с колонной аккумулятор, — прямо скажем, находка нетипичная для подобных мест.
Вероятно, были и другие наезды, но мы о них не осведомлены.
Не каждый памятник может похвастаться тем, что в него врезаются машины. А тут сразу (как минимум) две!
Две — это уже вряд ли случайность.
И ведь нельзя сказать, что место опасное. Чтобы добраться до колонн, надо пересечь трамвайные пути и проехать еще по газону.
Причина аварий одна — водители не справились с управлением. И оба не могли объяснить вразумительно, как это вышло. Почему не объехали, как все объезжают.
Да уж не наваждение ли было какое? Не показались ли Московские ворота, в самом деле, воротами, как в прежние времена, и не привлекли ли неудержимо к себе — проехать сквозь них?
Сюжет для любителей мистики.
Обошлось, кажется, без жертв. И это тоже хорошо. Ущерб, нанесенный памятнику, в обоих случаях не был критическим.
Иными словами, все хорошо, что хорошо кончается.
Петербургские совпадения

1
И то верно, Ленин — фамилия не самая распространенная. Есть у нас талантливый актер Александр Ленин; однажды в театре «Комедианты», что на Лиговском проспекте, он играл в спектакле по моей короткой пьесе.
Среди друзей моей дочери есть Ленин, причем в данном случае Ленин не фамилия, а имя. Приехал он в СПб из Колумбии. Конечно, выбор имени для своего сына выдает в его родителях приверженцев левых идей, так что Ленин знал, куда ехал, — в город Ленина, как-никак в колыбель трех революций. Санкт-Петербург понравился Ленину, здесь он прижился, обзавелся семьей и так проникся духом города, что сумел организовать туристическое агентство, ориентированное на испаноговорящих странников.
До своего отъезда в Россию Ленин был убежден, что именно Ленин, а не Александр и Николай самое распространенное в России имя. Каково же было его изумление, когда он оказался единственным Лениным в Петербурге.
С Лениным общепризнанным, с В. И., связано одно из самых, на мой взгляд, удивительных петербургских совпадений.
В общем виде его отметил первым А. М. Шарымов в «Предыстории Санкт-Петербурга». Перечитывая новгородские окладные Писцовые книги — самые ранние из дошедших до нас, он обратил внимание на одну персону, выделяющуюся фамилией из короткого списка непашенных крестьян, обитавших на Васильевском острове за два века до основания города: «Гаврило Логинов, Юхно Онфимов, Гришка Феофилактов, Куземка Ленин…»
Да, действительно, мимо трудно пройти.
Небольшое поселение в окладной книге обозначено так: «Рыбные тони Александровские и Олферовские», и находилось оно, согласно допетровским шведским картам, аккурат у Тучкова моста, если придерживаться нынешних ориентиров.
«Таким образом, — отмечает Шарымов, — уже в 1500 г. на территории будущего Санкт-Петербурга жил человек с фамилией, которой город станет именоваться четыре с четвертью века спустя — и будет носить ее в течение почти семи десятилетий».
Прекрасно. На этом можно было бы поставить точку.
Только совпадение, отмеченное Шарымовым, окажется еще выразительнее, когда мы учтем первый известный адрес Ленина в городе на Неве.
Так вот, двадцатилетний Владимир Ульянов, будущий Ленин, весной 1891 года посетил будущий Ленинград с определенной целью — сдать экзамены в Петербургском университете, а жить ему, много это или мало, сорок два дня случилось — внимание! — на Тучкова набережной, дом № 12 (или по-современному — на набережной Макарова, дом № 20), аккурат рядом с Тучковым мостом!
Если посмотреть на шведскую карту 1640 года, трудно отделаться от ощущения, что один из дворов, изображенных на ней, того допетровского поселения тютелька в тютельку совпадает с этим петербургским адресом, — уж не точно ли на этом месте и в самом деле жил далекий предшественник нашего Ильича — Кузьма Ленин?
Почему Владимир Ульянов остановился именно здесь? Почему его потянуло на места эти, на давно (и всеми) забытые «Рыбные тони»? В принципе, это понятно: университет сравнительно недалеко и Академия наук с ее прекрасной библиотекой. Но возможно (раз говорим о совпадениях), притягивал его неизъяснимым образом еще и другой адрес — в ста всего шагах отсюда (Тучков переулок, 20), на квартире товарища, был четыре года назад арестован брат Александр, а дальше дело известное — следствие, суд, казнь. Это та самая квартира, где еще раньше на тайной сходке обсудили детали убийства царя и Александр Ульянов показал себя идеологом предприятия. Знал об этом месте Владимир Ульянов или нет, но он каждый день проходил мимо этого дома.
До «Ленина» еще далеко, а присмотришься — места уже сплошь «ленинские». Вот и до общежития Высших женских курсов всего десять минут ходьбы, а там живет младшая сестра Ольга, бестужевка.
И хотя сдал молодой Владимир Ильич все экзамены с высшим баллом («весьма удовлетворительно»), что-то было роковое в том «здесь и сейчас» для семьи Ульяновых. Ольга к нему приходила, он — к ней; была жива-здорова, и вдруг бац! — отвез на Фонтанку, в Александровскую больницу: брюшной тиф. Точно так же четыре года назад увезли отсюда, с Васильевского, старшего брата в казенной карете — безвозвратно и также на смерть. И еще одно жутковатое совпадение: умерла она 8 мая — в четвертую годовщину казни брата, день в день.
На другой день — 9 мая — Владимир Ульянов съехал отсюда.
Так что вот. Кузьма Ленин, «Рыбные тони»… Чем он занимался здесь, во владениях новгородских бояр, еще не уступленных шведам?.. Судя по всему, рыболовством… Допустим, допустим.
Владимир Ульянов, у которого все еще впереди, будущий Ленин («всегда молодой»), озаботился тут при свете лампы «формами зависимости холопов в княжествах Древней Руси», римским правом и прочим и прочим…
Разница есть, — и все же: два Ленина в одном месте, пускай и разделенные четырьмя веками, не слишком ли много?
2
Вот еще одно сугубо петербургское совпадение, и тоже с Лениным, и тоже — он даже не заметил его.
В 1895 году двадцатипятилетний Владимир Ульянов уже профессиональный революционер — конспиратор, пропагандист, автор известной в узких кругах работы, направленной против народников. С мая по сентябрь он обретался вне империи: встречался за границей с Плехановым, Аксельродом, Карлом Либкнехтом. По возвращении в Петербург остановился в Таировом переулке (ныне переулок Бринько). Это угол Садовой, рядом — Сенная.
Здесь, в угловой комнате на четвертом этаже, он обитал с 30 сентября по 22 ноября — немалый срок для конспиратора, постоянно меняющего места проживания.
Однако странно: никогда на этом доме не висело мемориальной доски.
На Петроградской есть дом, где он «дважды (!) встречался с Л. Б. Красиным», о чем и сообщает непременная доска, а тут — почти два месяца проживания, и никакой мемории!
Сведений об этом ленинском пристанище немного. Если бы не донесение Петербургского охранного отделения в Департамент полиции о прибытии поднадзорного по данному адресу да протокол допроса (арестуют в декабре), еще неизвестно, знали бы мы хоть что-нибудь об этом ленинском местожительстве. Оба документа напечатает «Красный архив» в 1934-м, — к тому времени «канва», как тогда выражались, жизни Ленина будет в общих чертах уже проработана и не всякие новые сведения станут вписываться в готовое житие.
Да и место, прямо скажем, не очень. Таиров переулок — известный рассадник притонов.
Лично меня всегда здесь восхищал разветвленный проходной двор (жил я поблизости): когда хотел показать москвичам, какие дворы в Петербурге, вел сюда. Несомненно, Ленин ценил проходные дворы, об этом можно говорить долго. Посмотреть на этот двор его-то глазами — ведь это не двор, а мечта конспиратора!
Проходной двор все же, надо полагать, не главное. Трактиры, трактиры, трактиры — вот что влекло тогдашних революционеров. Посещение трактиров — это стиль и метод молодых социал-демократов: ближе к народу, ближе к рабочим… Разговаривать, интересоваться, выяснять, увлекать… «С фабрикой Лаферм связей не было. Тогда пошли в трактир, чтобы выяснить причины волнений и собрать сведения о ходе забастовки» — это, впрочем, о трактире на Васильевском острове, рядом с табачной фабрикой, охваченной стихийными волнениями работниц, — просто Ленин был не один, и тот, второй оставил воспоминания — единственное достоверное свидетельство о посещении Лениным конкретного петербургского трактира — именно трактира Никитина. О конспиративных визитах в трактиры окрестностей Сенной площади вспоминать было некому. А как богаты трактирами были эти окрестности!..
Забастовали рабочие фабрики Торнтона (через неделю после возвращения Ульянова из-за границы), и где лучше всего узнать о настроениях пролетариата, как не в третьеразрядном трактире? Где, например, узнать, как не в трактире, о расценках на ткацкие работы и добавляют ли к ним в табель, подписанную инспектором, «указания о качестве шерсти, количестве в ней поллеса и кнопа»? Так он долго и обстоятельно пишет листовку, очень большую — от лица рабочего; завершает, когда уже закончилась забастовка. «Самым зорким образом должны мы следить за маневрами наших хозяев по части понижения расценок и сопротивляться всеми силами этому гибельному для нас стремлению…»
Что до Таирова переулка и его притонов, публичные дома здесь были в каждом доме — и во времена Достоевского («Преступление и наказание»), и при знаменитом сыщике Путилине, оставившем потомкам свои записки, и по верности памяти места — даже в те времена, когда Ленин уже лежал в Мавзолее. Особую славу снискал так называемый дом Дероберти, вписавший свою страницу в историю петербургской проституции. У него номер четыре. А дом, в котором пока еще квартирует наш герой, — номер шесть. Соседи.
И вот здесь наша история должна совершить изгиб — обернуться другой стороной, как если бы мы захотели склеить ленту Мёбиуса.
А что было на месте того соседнего дома?
Временная холерная больница.
Мы переносимся на 64 года в прошлое — в 1831 год.
Знаменитый холерный бунт на Сенной.
На самом деле — по всему городу.
Но эпицентр — здесь.
22 июня разбушевавшаяся толпа громит холерную больницу — ломает мебель, медицинское оборудование, «освобождает» больных, а врачей (по общему убеждению — отравителей) убивает на месте. А на другой день сам государь Николай Павлович прибывает на Сенную из Петергофа, чтобы самолично усмирить бунтарей, и как-то у него хорошо получается: повелел всем пасть на колени и молиться на Спас, тут все сразу и раскаялись.
Как-то так. Или как-то похоже. Есть на пьедестале знаменитого памятника Николаю I (это где конь на двух ногах) тематический горельеф — там все рассказано.
Когда-то мне даже это, в общем-то, простое совпадение пространственных координат — дикого смертоубийства и мирного проживания нашего главного революционера — казалось невероятным зигзагом случая. Конечно, это вам не Французская революция — холерный бунт на Сенной мало интересовал Ленина, а до расположения той гиблой больницы ему вообще не было дела, — такими реалиями озадачатся смыслокопатели иных эпох, — и все же представим молодого Ленина в минуту задумчивости: вот он, допустим, глядя в окно с высоты четвертого своего этажа — поверх низких здешних крыш на, допустим, купол Исаакия, — мыслит и грезит о чем? — о восстании масс, разумеется, о чем же еще? И не знает при этом, что как раз тут — прямо на этом месте — вспыхнул когда-то тот самый — «бессмысленный и беспощадный».
И сны — какие сны ему снились? Не слышались ли голоса?
На самом деле все оказалось еще круче.
Но это уже когда в девяностые годы XX века пошли публикации о происхождении Ленина.
Оба деда по материнской линии — родной и внучатый, соответственно Александр Дмитриевич Бланк и Дмитрий Дмитриевич Бланк — были у него врачами. Оба окончили Медико-хирургическую академию. Оба отличились в борьбе с холерой, когда пришла эпидемия. Пишут, что как раз Дмитрий Бланк и выявил два первых случая холеры в Петербурге, случилось это 14 июня 1831 года. А через десять дней доктор сам скончался от холеры, но это если следовать официальной версии. Биографы Ленина, точнее, новейшие исследователи его родословной утверждают, что двоюродный дедушка Владимира Ильича стал жертвой холерного бунта на Сенной площади, — штаб-лекаря Д. Д. Бланка выкинули с третьего этажа больницы в Таировом переулке; дату притом называют чаще всего — 26 июня.
Выходит, раскаялись не все, если через три дня после «усмирения» в той же больнице (уже восстановленной?) убили дежурившего там Дмитрия Бланка. По правде сказать, что-то здесь не сходится. Ну да ладно. Как бы то ни было, эти события Дмитрий Дмитриевич не пережил.
Александру Дмитриевичу тоже в те дни досталось, но родной дед Ленина хотя бы уцелел физически. (Тут мы усилием воли запретим себе фантазировать на тему рока: что было бы с Россией, если бы меньше повезло не тому, а другому брату…)
Самое удивительное, что Ленин ничего этого не знал. Володе Ульянову и трех месяцев не было, когда умер дед Александр Дмитриевич, так и не увидевший внука. Похоже, молодых Ульяновых не сильно занимала их родословная. Только после смерти Ленина его сестры заинтересовались корнями семьи, благо Мариэтта Шагинян с ее исследовательским энтузиазмом способствовала разысканиям. Тут и засекретили, вопреки желанию Анны Ильиничны, обнаруженные особенности ленинской родословной, включая еврейское происхождение деда с его братом, а также загадку отчества Дмитриевич. Сегодня об этом написано много, даже слишком много. Удивился бы Ильич, прочти он статью Михаила Штейна «Род вождя. Генеалогия рода Ульяновых», напечатанную в газете «Литератор» в перестроечном 1990 году (№ 38)? Думаю, вряд ли. Принял бы к сведению, и все.
Но чему он удивился бы, мне кажется, это если бы узнал, где прожил 52 дня в девяносто пятом году — на каком убийственном месте, имевшем отношение к его пращурам.
3
Бронзовый классик сидит нога на ногу, скрестив пальцы в замок на колене. Место историческое — у Владимирской площади, в торце Большой Московской, напротив храма, прихожанином которого был живой Достоевский, непоседливый, вспыльчивый, грешный мирянин, еще не ставший памятником. Он и жил рядом.
Бронзовый склонил голову и смотрит вниз наискось. То ли отвернулся от чего-то, то ли просто глядит в пустоту. Но пустой эта площадка как раз не бывает — всегда тут кто-нибудь есть. Очень удобное место для назначения свиданий — всегда кто-нибудь кого-нибудь ждет. А на скамье рядом могут расположиться выпивохи, бомжи, притягивает их сюда какая-то сила (хотел же когда-то Ф. М. написать роман «Пьяненькие»), тут у них клуб. Или музыканты играют на экзотических инструментах. И всегда народ снует — из метро и в метро.
Перед этим памятником однажды на моих глазах произошла совершенно фантастическая сцена. Случай невероятный и абсолютно «петербургский», — мне кажется, в ином месте такое совпадение произойти не могло. В свое время я рассказал о нем в эссе, посвященном этому монументу, оно вошло во вторую книгу о «тайной жизни петербургских памятников». Не буду пересказывать сызнова, просто приведу финал.
…Представьте себе, летний день две тысячи какого-то года — двое встречаются в условленное время и на условленном месте — здесь, «у Достоевского». Двое — это Павел Крусанов и я: вообще-то, мы ждем третьего, уже не помню кого, да это и не важно, он все равно опоздает. Писатель Крусанов пришел раньше меня, и я увидел его издалека, еще не перейдя площадь. А подходя к памятнику, отметил боковым взглядом тот самый клуб здешних сидельцев, разместившийся на каменной скамье, — совершенно обычный для данного места. Необычным был только один из них (из-за него эта компания и обратила на себя внимание) — он резко выделялся каким-то уж совершенно запредельным видом, — просто не заметить такого и пройти мимо невозможно было, ну я и царапнул по нему взглядом.
Подхожу к постаменту, жму руку Крусанову, он достает из сумки две бутылки пива, одну мне дает, открываем, делаем по глотку. Сейчас бы мы не стали вот так пить пиво, и не потому, что на улице теперь запрещено, а потому, что оба и как-то синхронно давно уже разлюбили этот напиток. А тогда это было, в общем-то, в порядке вещей, особенно если ждешь и стоишь на месте. Вот мы стоим у гранитной тумбы, ждем опаздывающего товарища, говорим о чем-то — да о литературе, наверное, — и тут я замечаю, что тот субъект жуткого вида отделяется от скамейки и направляется к нам. Понятно, что сейчас последует просьба о вспомоществовании, и я внутренне готовлюсь к этому. Вид у него… как бы это сказать… появись такой на экране, никто бы не поверил в реальность образа. Это когда хочется отвернуться: «О господи!» (Ну вот, снова вспомнил Сокурова — про лица людей, на которые надо смотреть, чтобы их полюбить…) Лицо неравномерно опухшее, глаз заплыл так, что века не видно, но тут лучше остановиться в описательной части… И по одежде видно, что где-то лежал, где лежать не принято. Поддат, но в движениях верен, и подходит он к нам достаточно целеустремленно — с видом человека, понимающего, какой вызывает эффект. Подходит и, подобострастно извинившись, осипшим голосом страдающего алконавта просит добавить на пиво — войти в положение.
Я и пошевельнуться не успел, а Крусанов раз! — и отдает ему свою бутылку, практически полную. Субъект немного ошалевает от такого дара и что-то начинает бормотать благодарственное. А Крусанов запускает руку в карман, достает, сколько достается, и не глядя отдает ему. Субъект еще те деньги не спрятал, а Крусанов уже из другого кармана снова достает и ему протягивает и еще. Я и сам несколько изумлен отзывчивостью Павла Васильевича, я и сам — не столько из сострадания, сколько по-конформистски — ужасное слово: подаю… а этот просто ошеломлен. «Мужики, да вы кто?.. Художники?» Меня часто принимают за художника, обычно «типа того» отвечаю. А ему, по-видимому, хочется отблагодарить нас фигурой общительности, и он о себе начинает говорить — гонит пургу, а иначе что это? «Вы не поверите, а я тоже писатель». («Тоже» — это кивок в сторону Достоевского.) «Вы не поверите, у меня столько книг написано!.. Меня вся страна читала!.. Вы не поверите, у меня миллионные тиражи были!..» Крусанов, к моему удивлению, произносит что-то вроде «да нет, почему же… мы верим… мы знаем…» — только тот не слышит Павла Васильевича, а гонит и гонит свое про тиражи да гонорары, но уж очень неразборчиво как-то. Наконец выдыхает: «Ну, пойду!» — и уходит за угол — там, двенадцать ступенек вниз, винный магазин в подвале.
«Что это значит?» — спрашиваю. «Он меня не узнал», — произносит в пустоту Павел Васильевич. «Кто это? — спрашиваю, слегка обалдев. — Вы что, знакомы?» Крусанов называет фамилию, ровным счетом мне ничего не говорящую, — простую такую фамилию, которую я, впрочем, скоро забуду (восстановить сейчас несложно, только зачем?). «Так он что, в самом деле писатель?» И слышу: «Ну да».
Оказывается, дело вот в чем. В начале девяностых Крусанов работал редактором в одном очень крупном издательстве. Был пик книжного бума. Издательство делало ставку на жанровую литературу, спрос на нее был очень велик — фэнтези, детектив… А тут подвернулась рукопись, которая идеально проходила по жанру «бандитский роман» — прислали ее из мест заключения, и отличалась она от ей подобных незаурядным знанием предмета и живостью языка. «Мне даже править почти ничего не пришлось». Ухнули большим тиражом, и сразу книга была раскуплена. Скоро и сам дебютант вышел на свободу. Крусанов перешел потом в новое издательство, а это занялось новичком вплотную, зарядило его на «бандитские» романы, которые он и стал печь один за другим, благо ему еще подрядили помощников. Гонорары были огромные. Да и время в известной мере было «бандитское». Конечно, это не та литература, которую замечает критика, но успех есть успех. Одной его книги тираж превышал суммарный всех наших с Крусановым книг, вместе взятых, написанных уже в другую эпоху. А потом? Крусанов не знает, что было потом.
Потом — суп с котом.
Встреча автора и редактора у памятника Достоевскому — вот что потом.
Я был потрясен. Я сказал, что такая сцена только здесь и могла произойти — только на этом месте.
Мы стояли по левую сторону от памятника, у гранитной тумбы, и Федор Михайлович, склонивший голову, глядел прямо на нас. Ощущение нереальности было столь велико, что я был готов поверить, что это все сон, причем его — смотрящего на нас Достоевского, это мы приснились ему.
Пиво, кстати, дрянь было. По-моему, не допил.
4
В рейтинге немыслимых совпадений этому я смело даю первое место. Случай совершенно невероятный. Время действия: весна 1985 года. Место действия: Петербург, вернее, тогда еще Ленинград. Действующие лица: Евгений Борисович (двадцать восемь лет) и Надежда Константиновна (за шестьдесят).
Тут надо начать издалека, иначе рассказать эту историю невозможно.
Поскольку все в ней крайне нетипичное, начинаю издалека с легким сердцем, благо сам к этому казусу имею хоть и косвенное, но отношение.
Евгений Борисович Шиховцев — мой товарищ по Литературному институту. Костромич. Мы в один год (1983) поступили на заочное отделение — он на прозу, я на поэзию. В Литературном все литераторствовали, на то он и Литературный, и только Шиховцев, самый целеустремленный из нас, поступивший в институт с более чем оригинальными рассказами, менее всего мечтал о собственной литературной будущности, — свое предназначение он видел в другом: открыть для России Набокова. Он был одержим Набоковым. И это притом, что в СССР Набокова не печатали, а интерес к его творчеству (где-то ж надо доставать тексты) был сопряжен с риском и определенными неприятностями — можно было нарваться.
Он рассказывал, как еще до поступления в институт ездил в Ригу, где эмигрантская газета «Руль», вопреки горлитовским циркулярам, была в открытом библиотечном доступе, — там печатался молодой Набоков, и въедливый Шиховцев пытался атрибутировать мелкие тексты, газетные головоломки, шахматные задачи. Он показывал мне свои тетради, разложив их на кровати в общежитии Литинститута (помню, как был потрясен): он пытался составить (тогда!) биохронику Набокова, взяв за образец биохронику Ленина в восьми томах!.. Обычной почтой отправил письмо сестре Набокова, и она ему ответила; они переписывались.
По первому образованию он был химиком. В Костроме преподавал химию в Высшем военном командном училище. Вряд ли начальство было осведомлено, кто такой Набоков (не специалист ли по химзащите?), но ходатайство на официальном бланке военного учреждения допустить преподавателя химии в закрытые фонды для работы по теме «Творчество В. В. Набокова по материалам эмигрантской печати» (как-нибудь так) ему подписали. Он приехал в Москву на сессию и с этой бумагой пошел в Ленинку. Его пустили в спецхран! К текстам!.. Позже он, с аналогичной бумагой, проник в спецхран нашей Публички… И чем он там занимался? В частности, этим: он переписывал от руки романы Набокова — буква за буквой, страница за страницей. А потом, уже в домашних условиях, перепечатывал под копирку на пишущей машинке. Выпускал тиражом, отвечающим одной машинописной закладке, — в пять экземпляров! И раздавал их — только читайте!
У меня до сих пор хранится тогдашний подарок Шиховцева — роман Набокова «Подвиг» в самодельном блоке, экземпляр № 5 (печать — почти слепая), с комментариями и обширным послесловием моего невероятного сокурсника.
Вот как раз для работы над «Подвигом» Шиховцев и приехал тогда в Ленинград.
А я только недавно женился.
И жили мы с женой у нас на Фонтанке. Между тем на проспекте Римского-Корсакова — в соответствии с пропиской моей жены — осталась пустовать ее комната в небольшой, всего-то двухкомнатной коммунальной квартире. Ну вот мы и дали Шиховцеву два ключа — от квартиры и той комнаты, а соседку предупредили, что поживет несколько дней хороший человек, тихий, спокойный.
Теперь переходим ко второму герою нашего повествования — к Надежде Константиновне. Я уже говорил, что в этой истории все нетипичное. Вот и соседка. Есть петербургский стереотип: скажите «соседка по коммунальной квартире», и сразу представится вредная мымра, способная подбросить вам в суп мочалку. Соседка моей жены была ангелом.
Вряд ли я вправе судить об этом, у меня просто язык не поворачивается произносить подобные слова, но если все же представить безупречно добродетельный взгляд из иных, заоблачных сфер, Надежда Константиновна с тех сторонних позиций должна была бы видеться человеком без нравственных недостатков. Вот и я не смог бы сказать о ней ни одного нехорошего слова. Нельзя же упрекать человека за прекраснодушие. Когда я оставался у своей подруги, Надежда Константиновна, слава ей небесная, норовила нас чем-нибудь накормить, — еще бы, к ее молодой соседке пришел гость, а где у студентки время найдется, чтобы стоять у плиты? Ее смущала продолжительность наших первых свиданий, она серьезно думала, что все дело в разведенных мостах, и переживала, не зная, как нам помочь, ведь в комнате только одна тахта и я, наверное, сплю на полу. Иногда к нам заваливались друзья, мы вели себя шумно, — в этой квартире можно было шуметь, потому что Надежда Константиновна, я не сказал, была глухая и чаще всего отключала слуховой аппарат, когда, уединяясь у себя, писала свою работу по микробиологии. «Надежда Константиновна, как ваши труды?» — уже утром (на кухне), когда включен аппарат. «Спасибо, спасибо, следую плану…» Вот же, сказал «глухая» — а это полбеды. У нее был горб — следствие младенческой травмы, и, будучи низкого роста, была она такой с этим горбом, словно ее кто-то нарисовал, не умеющий рисовать, да еще в дурном настроении. Ее звали сняться в кино, в каком-то специфическом эпизоде, но она отказалась. А что ей могли там предложить? Уж явно не роль доброй феи. Она же обладала добротой ирреальной, хочется сказать, сказочной, — она и была похожа на героиню немыслимой сказки. А с женой моей будущей, своей соседкой, она жила душа в душу.
В общем, плохо разбиралась Надежда Константиновна в некоторых вещах, о таких говорят обычно «не знает жизни», но она другое знала: что-то такое — чего другие точно не знают.
Ту же микробиологию взять. Среди специалистов, насколько мне известно, она слыла авторитетом, причем имелась такая область знаний, достаточно узкая, в которой лично ее знания считались исключительными. Почему-то мне сейчас кажется, это касалось культуры дрожжей. Хотя кто ее знает.
Она была на пенсии, но продолжала работать по теме, ходила по каким-то дням в свой научно-исследовательский институт, не знаю какой.
Может быть, у нее отключился слуховой аппарат, когда моя жена (уже официальная жена — это когда Шиховцев приехал переписывать «Подвиг») рассказывала ей о нашем друге из Костромы, какой он хороший и все такое. Кажется, она кивала. И ничего не имела против того, что нашему другу из Костромы моя жена уступает на несколько дней свою комнату.
О том, какой был стресс для Надежды Константиновны — соседство с незнакомым мужчиной, мы узнали потом. Да, действительно, мог ведь слуховой аппарат не работать, когда моя жена хотела ее подготовить?
Но надо два слова сказать и о внешности Евгения Борисовича. Он похож на аскета, и было бы странно, если было бы это не так, — в отношении пищи Евгений Борисович минималист. Бородат. Борода не скажу что окладиста, но, вопреки своей неухоженности, дисциплинированно держит форму. Глаза как у цыгана. Взгляд обличает тайную мысль, и более даже — одержимость идеей; смотрит Шиховцев так, словно предметы прозрачны; посторонний мог бы сказать, что не знает, что у него на уме, — да и правда, кому же известно, что мысли его о Набокове?
Надежда Константиновна, увидев Евгения Борисовича, испугалась до оторопи (она сама потом об этом рассказывала). Она сразу же, стоило ему войти в квартиру и снять плащ, распознала в нем что-то, повторюсь, нетипичное — нетипичного Раскольникова, с бородой. Охнула и ретировалась к себе.
Конечно, они бы нашли общий язык (так и произошло после), если бы она позволила себе пойти на контакт, но она так испугалась Шиховцева, что боялась выйти из комнаты и закрылась на ключ, когда слуховой аппарат донес до нее, что в дверь стучат: бородатый мужчина собирался представиться. Но не сумел.
Этот день и этот вечер Надежда Константиновна провела в жутчайшей тревоге. Глухота лишь усиливала ее страх: ей постоянно казалось, что гость из Костромы притаился за дверью… или, может быть, прячется на кухне в закутке, где хранятся швабры, дожидаясь ее, чтобы… что?.. чтобы взять и напасть… Лишь при крайней необходимости покидала она убежище, но любое передвижение по коридору — надо заметить, весьма короткому — превращалось для нее в сущую муку. Бородатый мог быть где угодно.
Всю ночь не спала. Утром, усталая и измученная, даже не позавтракав, поторопилась покинуть дом. На прошлой переаттестации (исключительно для проформы) ей придумали замечание (чтобы не было все идеальным): «недостаточно много работает с иностранной литературой», — но это было не так. Она спешила в Публичную библиотеку, в свою Аркадию, к своей отдушине — там ждала ее литература по микробиологии, иностранная, заказанная вчера. Это были не простые издания, их не мог получить обыкновенный смертный, даже если он был доктором наук и постоянным читателем Публичной библиотеки. На этих изданиях — книгах, журналах — был особый гриф. Почему-то их тогда засекретили. Выдавали только в спецхране. Куда Надежда Константиновна имела допуск. Потому что пользовалась невероятным доверием. И была у нее тема.
Рассказчик раскрыл карты. Козыри на виду. Любой читающий понимает, что произойдет дальше. Так и произойдет, это вам не Набоков, ничьи ожидания не будут обмануты.
Но подумайте сами, разве это не грандиозное совпадение? Ладно бы они случайно встретились у Медного всадника… Или где угодно на улице… в любой точке пятимиллионного города… В парикмахерской, в ателье «Смерть мужьям», в чебуречной… На камбузе «Авроры»… На чердаке планетария… Можно вообразить любую сколь угодно абсурдную ситуацию, и она сохранит хотя бы чуточку правдоподобия… Но в спецхране!.. Куда никого не пускают!..
А что представляет собой этот спецхран? Я там не был, но мне рассказывали. Маленькая комнатка, в ней два-три стола, дверь на замке, одно окошко… И находится эта каморка в каком-то не поймешь куда проходе — вдалеке от общих читальных залов.
Знаете, я много всяких книг заказывал в обычных залах Публичной библиотеки и хорошо помню это неуютное ощущение — смесь досады, злости и обиды, когда тебе указывают, что можно, а что нельзя: получаешь обратно бланк заказа на книгу, а на обороте прямоугольная печать: «Выдается по специальному разрешению» — и какой-то номер, недоступный твоему пониманию…
Я даже сохранил на память бланк с этой прямоугольной печатью, где-то лежит, надо бы поискать…
Вижу-вижу. Она сидит за столом. Одна-одинешенька. Других читателей нет. Тишина. Она вся в засекреченном тексте. Текст, допустим, про культуру дрожжей. Открывается дверь. Она оглянулась.
Ужас ее неописуем. Входит — он. Состояние, близкое к разрыву сердца.
Но и он — изумился.
А кто бы из нас сохранил спокойствие?
Слава богу, у этой истории счастливый финал. Обошлось. Они наконец познакомились и подружились. Два вечера провели за разговорами о химии (он, конечно, и о Набокове ей рассказал — он ведь нес по советской земле благую весть о Набокове).
Но каково совпадение, а?
Пишу и чувствую, как эта история, мучаясь жанровой неопределенностью, так и силится обернуться полноценным рассказом. Нет, рассказа тут быть не может. Для рассказа необходим художественный вымысел. Поворот. Для рассказа надо соврать. А тут что ни слово — исключительно правда. Это — быль.
Можно придать глубокомыслия тексту, приукрасив его моралью. Мораль придумать не трудно.
Но я воздержусь.
Мистерия имени. Продолжение

Апология Питера
Некоторые петербуржцы не переносят наименование Питер. Так, мол, коренной петербуржец никогда не назовет свой прекрасный город. Есть такие, для кого «Питер» звучит более чем вульгарно, хуже унизительной клички — как личное оскорбление. Иные воспринимают «Питер» индифферентно. Третьи охотно говорят «Питер», иногда нарываясь на гнев первых.
Не всякий наш город может похвастаться устойчивым, широко признанным (в общероссийском масштабе) неофициальным именем. Образовано, заметим, оно без уменьшительного суффикса и морфологически лишено оттенка пренебрежения. Ни иронии, ни насмешки не слышится в нем.
Питер встречаем у Крылова, Гоголя, Майкова, Некрасова…
Название Питер вошло в быт еще в XVIII веке. Вот из стихотворений для детей А. С. Шишкова — 1785 год; «Николашина похвала зимним утехам». Известный ревнитель чистоты русского языка, увлеченный в данном случае поиском разговорной интонации, предлагает игру — равно «в лошадки», как и словесную:
Таким и будет Питер в русской поэзии — преимущественно местом притягательным: если кто из поэтов скажет «Питер», значит в мыслях у него путь-дорога.
Батюшкову в 1810 году грезится «Питер» убежищем от губительных страстей, — отказывая «жертвеннику» некой московской «грации» в «горстке фимиама» и не уподобляясь ее многочисленным воздыхателям, поэт сообщает о решительном замысле (стихотворение «Отъезд»):
Разве это не красиво, не удало — в Питер лететь, да еще и на тройке?
Пушкин в 1824 году писал из Тригорского своему дяде-поэту: «Шумит ли Питер?» — а Василий Львович, дядя А. С., за двенадцать лет до того извещал своего друга (стихотворным обращением «К П. Н. Приклонскому») о том, что гостем нагрянет, и по дороге куда же? — в Питер, конечно!
Примеров подобных множество.
XX век. Пастернак, поэма «Спекторский»; герой получает тревожную телеграмму и действует рефлекторно, автоматически, что и отражено характерно сбивчивой повествовательной интонацией поэта:
Есенин (поэма «Анна Снегина»):
Самый, пожалуй, «петербургский» писатель, печальный «гробовщик» прежнего Петербурга (роман «Козлиная песнь») Константин Вагинов — в стихотворении с характерным названием «Ленинград», почти предсмертным (январь 1934-го, за три месяца до кончины поэта) — о любви к этому городу:
Вспомним и Анну Ахматову («Здравствуй, Питер», 1922):
Здесь, впрочем, неприязнь к месту выражена отчетливо, но ведь не к названию Питер как таковому, — сквозь досаду на Питер различимо и сочувствие к этому «старому», с кем можно на «ты».
Интересная закономерность. В большинстве случаев поэты говорят «Питер», когда намериваются посетить сие место или уже непосредственно сюда прибыли. С одной стороны, это словоупотребление обусловлено стихотворным размером, особенно помогает стихотворцам предлог «в», предопределяющий направление физического перемещения лирического (или просто) героя (понятно, что «Петербург» ямбу противопоказан). Но с другой стороны, все несколько сложнее и, если угодно, тоньше. Питер — не только поэтическая палочка-выручалочка; безотносительно стихотворного слога и расстояний в пространстве это нечто всегда близкое, свое, домашнее, менее всего связанное с официальным статусом места.
Мне вот мнилось, что сам я произносить неполное имя Питер избегаю. Но стал наблюдать за собой, и оказалось, это не так. Допустим, оказались мы с женой за границей, и владелец ливанской кофейни, у которого сидим за столиком, задает нам вопрос: «From?» — ответ ему, разумеется: «Petersburg» (и с его стороны — радость, понимание, кивки головой), — но вот на обратном пути, к примеру, запыхавшаяся соотечественница, почему-то не заметив табло, спрашивает нас, последних в очереди на регистрацию багажа: «Это куда?» — ей, не задумываясь, говорим: «В Питер».
«Петербург» — это место на карте. «В Питер» — это «домой», это «к себе».
Покойный Ю. М. Пирютко, историк, краевед, удостоенный Анциферовской премии, истинный знаток города, составивший среди прочего научный трехтомный каталог надгробий Александро-Невской лавры, нашел верным назвать свою последнюю книгу, по сути энциклопедию Петербурга, так:
«Питерский лексикон».
Это что касается авторитетов.
И уж совсем авторитет из авторитетов — Андрей Белый; убедительнее не придумать: роман «Петербург» начинается с бронебойных определений; на первой же странице:
«Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (чтó — то же) подлинно принадлежит Российской империи. А Царьград, Константиноград (или, как говорят, Константинополь), принадлежит по праву наследия. И о нем распространяться не будем.
Распространимся более о Петербурге: есть — Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (чтó — то же)».
Вот, вот:
Что — то же!
Конечно, можно и тут возразить: Андрей Белый, дескать, москвич.
Это да. Москвич.
А «Петербург» написал.
Список с колыбелью
Вопрос в другом.
Действительно ли есть нечто такое, что часто побуждает пишущих об этом городе заменять его имя всевозможными эвфемизмами? И не странно ли, что устойчивых эвфемизмов так много?
Действительно, редкий город способен похвастаться столь богатым списком устойчивых заменителей своего имени.
Град Петра. Парадиз Петра Великого. Северная Пальмира. Северная Венеция. Колыбель революции. Колыбель трех революций. Город Ленина. Город на Неве. Город белых ночей. Северная столица. Вторая столица. Криминальная столица. Культурная столица. Петрополь.
Число употреблений любой из вышеприведенных формул — несметно. Но мы бы не спешили называть эти обороты штампами. Выше возьмем: это штампы, это клише, которые сами в себе превозмогли банальность. Это эмблемы.
Эмблемы тоже способны надоедать, приедаться. И даже трудно сказать, какие быстрее — те ли, что отражают время, или те, что «на все времена».
Из разряда первых, например…
«Колыбель трех революций»
Нет, все заменители обозревать не будем, но мимо «колыбели» трудно пройти.
Этот один из самых в своем роде устойчивых эвфемизмов на протяжении десятилетий мелькал в газетных статьях, путеводителях для туристов и, просто сказать, был на слуху. Я с первого класса знал, что родился в колыбели трех революций — не буквально, конечно, потому что если буквально, то родился и жил в Ленинграде, но нас учили мыслить образно, и это правильно, хотя с числом революций был перебор: с одной революцией детский рассудок еще справлялся, представляя ее некой абстракцией, но сразу три абстракции, да еще в одной колыбели… нет, это не для детского ума. Потом начались уроки иностранного, — благодаря Великому Октябрю мы узнали, как по-английски «колыбель», раньше многих других куда более распространенных слов, и это знание имело источником фразу «Leningrad is the cradle of the October revolution», которую нам внушили по теме «My town».
Широкое распространение выражения спровоцировало шаблонное производство ему подобных. Например, Юсуповский сад, в то время Детский парк Октябрьского района (опять же: Октябрьского!), в путеводителе за 1987 год назван «колыбелью фигурного катания в России». В поэме Геннадия Григорьева «Доска» (2000), отражающей быт и нравы Сенной площади, есть строка, «подмигивающая» филологическим изыскам этого сорта: «Сенная — колыбель фантасмагорий!» Мне случилось писать обширные комментарии к «Доске», и что касается этой строки — да простится комментатору автоцитирование (тем более сокращенное), но оно точно по теме — вот:
«Подобные определения, включая григорьевское, безусловно, восходят к широко распространенному выражению „колыбель революции“, которое Н. А. Синдаловский уверенно обозначает как „революционный фольклор первых лет советской власти“ (Синдаловский Н. Петербургский фольклор. СПб., 1994. С. 322). Говоря по правде, мы со школьной скамьи считали, что метафора „колыбель революции“, относящаяся к Ленинграду в целом, принадлежит О. Ф. Берггольц, во всяком случае, эти два слова высечены отдельной строкой на гранитной стене Пискаревского мемориала в составе ею написанного посвящения (памятник открыт 9 мая 1960 г.). На рубеже тысячелетий выражение „колыбель революции“ снова оказалось востребованным журналистами — главным образом Санкт-Петербурга, неожиданно обретшего новое состояние — „колыбель президента“. При этом понятие „колыбель“ не столько переосмысляется, сколько абсурдируется; оборот „колыбель революции“ сам становится колыбелью фантасмагорических словесных конструкций. Не только Пушкин, Достоевский и Блок, но даже Ольга Федоровна Берггольц уже бы не смогла понять смысл заголовка статьи „Колыбель президента и революции дорожает“ („КоммерсантЪ в СПб.“, 20 апреля 2001). На свежий, незамыленный взгляд, эта сюрреалистическая „колыбель“ предметна, тяжеловесна и обладает рыночной стоимостью. Верхом же изощренности следует признать фразу: „Урбанисты слетелись в колыбель градостроительного абсолютизма, трех революций и и. о. президента, чтобы бить в набат“ (Горелова А. Архитекторам в XXI веке много не нужно. „КоммерсантЪ в СПб.“, 25 апреля 2000). На фоне подобных высказываний григорьевский образ „колыбель фантасмагорий“ выглядит истинным перлом».
Остается привести стихотворные строки Ольги Берггольц, повторим, не просто напечатанные на бумаге, но высеченные на гранитных плитах Пискаревского кладбища: «Всею жизнью своею / Они защищали тебя, Ленинград, / Колыбель революции». Если мы способны безотносительно нашего отношения к революционным событиям отрешиться от поздней замусоленности образа, должны будем признать, что здесь метафора и строга, и точна, и уместна. Строгая метафора легко дискредитируется. Ей тоже свойственно умирать, и чаще всего оглупленной. Никто не знает, однако, не мнима ли эта смерть и какими смыслами может что обернуться.
«Столица», но почему «криминальная»?
А это наряду с «культурной столицей» заменитель новейший — да, «криминальная столица», такие дела.
Выражение из широкого употребления, кажется, вышло (возможно, временно), а когда-то претендовало на активное замещение имени города. Так на федеральных телеканалах и в московской (по большей части — в московской) печати именовали Петербург во вторую половину губернаторства Владимира Яковлева (конец девяностых — начало нулевых). Благодаря истинно столичным пиарщикам, работавшим против Яковлева, выражение «криминальная столица» превратилось в устойчивый оборот и в качестве раскрученного бренда было предъявлено несанкционированному губернатору как черная метка: не ходи на второй срок, не будь выскочкой. Помню билборд соперника Яковлева с обещанием что-то исправить в «криминальной столице» — образец пиара двойного назначения.
Сейчас известно, что криминальная обстановка в Петербурге была тогда не хуже, чем в других российских городах. Это, например, утверждает знаток вопроса Андрей Константинов, автор книги «Бандитский Петербург», гендиректор Агентства журналистских расследований. Происхождение бренда «криминальная столица» он напрямую связывает с той антигубернаторской кампанией.
Хотя райским местом Петербург девяностых я бы не стал называть. В парадизе Петра Великого не очень было спокойно — как и везде, впрочем.
Мне и моим родным повезло. Не покалечили, на тот свет не отправили. Ну, ограбили квартиру однажды — унесли заработок жены за лето (кстати, гидом работала — по Санкт-Петербургу). И тому подобное по мелочам.
Вспоминаю случай. Иду по набережной Фонтанки, средь бела дня. На другой стороне вровень со мной машина останавливается, двое выскакивают и в мою сторону что-то кричат. У меня даже мысли нет, что это ко мне, — дальше иду. Потом оглянулся — они уже Горсткин мост перебегают, деревянный; остановился, смотрю. Они на эту сторону перебежали, повернули и сюда бегут — ко мне, вижу. И вдруг останавливаются шагах в двадцати от меня — поняли, что обознались. К счастью, я не сразу увидел, чтó у одного в руке было, а то бы дернуться мог, и тогда бы для меня получилось нехорошо. Стою и на них гляжу. Наверное, это первое, что их смутило: стоит и не убегает. В общем, резко повернулись и обратно быстрым шагом от греха подальше. А я дальше — по набережной, к дому, — медленно так, постигая, что могли меня грохнуть сейчас по ошибке.
Ну да, слово «бандит» было тогда популярным.
Яковлев сумел выиграть выборы и на второй срок пошел, но слава криминальной столицы омрачала губернаторство вплоть до вынужденной отставки. Его забрали, что называется, в Москву. На новую должность — «в почетную ссылку». Замечательно, что с появлением нового губернатора, Москвой санкционированного, Петербург как по волшебству перестал быть «криминальной столицей» и скачкообразно сделался «культурной столицей», каковой остается до наших дней, но память о прежнем бренде не увядает.
А что же «Окно в Европу»?
Да, почему нет в нашем перечне? Забыли?
Ничуть. «Окно в Европу» — едва ли не самый известный идентификатор этого города и (наш поклон Пушкину), несомненно, самый образный. И все-таки он не отсюда, не из ряда, где «город белых ночей», «Северная столица», «Северная Венеция» и т. п.
Потому что, на наш взгляд, это не столько альтернативное наименование города, сколько обозначение его предназначения.
Важно не то, что в окне, а то, что за окном; окно — это как посмотреть, не предмет даже, а, наоборот, отсутствие предмета — отверстие в стене, и, с точки зрения того, кто смотрит в окно или, может быть, в него влезает, это брешь, пустота, что, может быть, и неплохо, но отсюда и грамматико-семантические несуразности. Возможности замены в распространенном предложении имени города этим самым «окном» сильно ограничены. «Окно» помнит, что оно «прорублено», и упорно мыслит себя в винительном падеже (ну да: «Петр Первый прорубил окно в Европу»), реже в именительном падеже (потому что не претендует в предложении на роль подлежащего) и совсем не терпит склонения. Нельзя сказать «Зинаида Львовна пишет вам из окна в Европу», но можно сказать «пишет вам из Северной Пальмиры», «из града Петрова» и даже так: «Зинаида Львовна пишет вам из колыбели трех революций», — звучит комично, но язык почему-то прощает. Можно родиться в колыбели трех революций, хотя бы ради иронии или самоиронии, но невозможно даже в шутку родиться в окне в Европу. В окне вообще ничего сделать нельзя, можно на подоконнике. Но никаких подоконников в нашей истории нет.
Иное дело — «город Ленина»
Ну, с этим вроде бы просто. Понятно, что «город Ленина» — тавтологический парафраз официального имени Ленинград, аналогичный «граду Петрову», только чуть проще: «град Петров» — это однозначно город своего основателя, тогда как в названии «Санкт-Петербург», не исключающем двоякого толкования, все же изначально заключено имя небесного покровителя города, — а что Ленин? — он един, двух Лениных не было, «Ленин всегда с тобой» — и в «городе Ленина», и в «Ленинграде». Никакой двойственности.
На самом деле человек, известный как Ленин, здесь в общей сложности жил недолго — пять лет с хвостиком. Лев Данилкин в книге о Ленине, касаясь конспиративных увлечений своего героя, между прочим замечает: «Ленин, по-видимому, не был особо привязан к этому городу — но кажется очень „питерским“ типом». Пожалуй что да. Метафизикой Петербурга он точно не интересовался. Петроград представлял для него интерес практический — как место приложения собственной теории о революционной ситуации и прочих концепций.
Последний раз Ленин покинул город, звавшийся Санкт-Петербургом, в 1906-м; в апреле 1917-го вернулся уже в Петроград. Город был второй день Ленинградом, когда 27 января 1924 года Ленина хоронили в Москве.
Точное число памятников Ленину, установленных в «граде Петровом», никому не известно, по округленным оценкам, всего было более восьмидесяти, сейчас осталось около сорока, включая ведомственные. Мемориальных досок, посвященных Ленину, на контрольный 1999 год, когда был издан авторитетный справочник «Мемориальные доски Санкт-Петербурга», сохранилось 119, включая доску памяти спуска на воду первого атомного ледокола «Ленин». В справочнике «Ленин в Петербурге—Петрограде», изданном в 1980 году, указано 275 ленинских адресов. Утверждение «Здесь каждый камень Ленина знает», вообще-то, не так далеко от истины — во всяком случае, гораздо ближе к ней, чем всем известное «не каждая птица долетит до середины Днепра».
Игра «в Ленина»
Революция. Голод. Гражданская война. Массовый исход из города. Массовая эмиграция. С 1917-го по 1920-й население Петрограда сократилось втрое (!), было достигнуто «дно». Далее начинается медленный рост населения. К моменту смерти Ленина рост компенсировал убыль где-то на четверть — за счет приезжих, лояльных к советской власти, и победителей, вернувшихся с Гражданской войны.
Кто советскую власть не принял, те в основном уехали.
Потеря населения Петрограда за семь лет на день смерти Ленина в Горках составляла около миллиона человек. Не знаю, каким этот отбор надо назвать — естественным или искусственным, но город преимущественно был населен теми, кто смерть Ленина переживал как личную трагедию. Нам даже трудно представить массовую экзальтацию, вызванную смертью Ленина, — всю глубину коллективного горя.
«А знаешь, тетя, вчера дядя Петя пришел с собрания, упал головой на стол и плакал, плакал все об дяде Ленине». — «Мой папа плакал, а он ему чужой». — «Моя мама плачет по Ленину. Плохо теперь будет».
Это все из брошюры «Дети дошкольники о Ленине», выпущенной в 1924 году (в наше время ее переиздал Михаил Сапега в своем издательстве «Красный матрос»). В течение пяти дней по смерти Ленина взрослые фиксировали подлинные, «в неприкосновенности», разговоры и игры детей в шестнадцати дошкольных учреждениях Москвы. Удивительный документ. В эти дни «интересы детей» были «отданы исключительно Ленину», отмечают составители сборника. Дети были предоставлены самим себе, — и чем они занимались? Они играли в смерть и похороны вождя, или, как сказано, «в Ленина». Например, изобретали такое: «Ящик — гроб носят по комнате и поют: „Мы жертвою пали“ и Интернационал». Или вот: «Ящик ставят на рояль. Коля встает у рояля, на руке полоска из черной бумаги, в руке ружье. Остальные становятся друг за другом и, подходя к гробу, низко кланяются». Диалог: «Ты Вася — Калинин, Миша — Каменев, а я — Троцкий, у меня повязка на руке. — А девчонки зачем? — замечает Валя. — Пускай. Это — жена и сестра Ленина». Игра на воздухе: «Около сарая — Дом Союзов, туда и направляется процессия. Затем становятся друг за другом и молча проходят мимо салазок, на которых лежит Коля». Или вот: «Все аплодируют. Гроб ставят под рояль, который изображает склеп. У стены становятся красноармейцы. — А теперь пойдем в клуб, там я буду говорить про Ленина, — говорит Толя». «Володя ложится на стулья. — Это Ленин умер, — говорит Валек, — а мы будем часовые». Другая игра: «…положили мальчика на стол, накрыли простыней и пели: „Вперед, заре навстречу“».
Игры несколько однообразны, но все равно хочется цитировать и цитировать. Вот еще одна цитата, последняя:
«15 человек детей стояли в большой комнате, изображая рабочих. В другой комнате дети положили Витю 4-х лет на два маленьких столика, накрыли его черным платком, а около головы поставили портрет Ленина. Дверь открылась, и везут гроб с пением: „Вы жертвою пали“. Некоторые мальчики изображали музыкантов. Взяли скамейки и в такт ударяли по ним кубиками. „Рабочие делегатки“ пошли за гробом, опустив головы. Нюша и Маня, опустив головы, идут за гробом. „Как жалко“, — сказала Нюша. — „И мне тоже. Как мы теперь будем жить без него?“ Так они ходили минут пять, а потом поставили гроб у старшей группы. Витя говорит: „Я не хочу больше лежать, я лучше буду рабочим“. Другой мальчик ложится вместо него. Наконец Валя вошел к ним и говорит: „Прошу порядок. А кто посмотрел, не мешайтесь и выходите“. Дети подходили к гробу парами. Когда все дети прошли, игра закончилась».
Это Москва. Там Дом Союзов. Круглосуточные прощания с телом — бесконечные очереди на морозе. Число петроградцев, делегированных на похороны в Москву, измерялось, по-видимому, пятизначным числом. «Красный Петроград», так и не обретший тела вождя, скорбел по-своему. А 26 января он перестал быть Петроградом.
Даже если допустить, что инициатива переименования принадлежала одному лишь Зиновьеву, председателю Петросовета, не стоит сомневаться, что город это массово поддержал.
Петр/Ленин
Петра многие — в первую очередь старообрядцы — считали Антихристом.
Тема «Ленин — Антихрист», безусловно, тоже находила своих ревнителей, но если и была она популярна не столь широко, как в случае с Петром, то лишь по причине ослабления религиозного напряжения в целом.
Интереснее другое. Ленин в атеистических представлениях «советского человека» как-то исподволь занял место, предустановленное вроде бы для Другого, не для него, — благо «советский человек» не склонен к рефлексии, а потому нам сейчас не важны декорации эпохи — будь то НЭП или «поздний застой». Не так даже важно, насколько этот «советский человек» реален, — представим, что он идеальное воплощение формулы «советский человек»… Ну так что ему Ленин?
Как это «что ему Ленин»?.. А то!
Ленин указал Путь. Ленин не допускал ошибок. Ленин дал Завет («заветам Ленина верны»). Ленин стал синонимом Истины. Ленин знал все, — по крайней мере, ни одна диссертация по «общественным наукам» не обходилась без ссылок на Ленина (вообще говоря, «на труды классиков марксизма-ленинизма»). «И Ленин отвечает. На все вопросы отвечает Ленин», — провозглашал Андрей Вознесенский в самые либеральные годы советской власти. Ленин, «самый человечный человек», ехал по направлению к Смольному на простом трамвае, чтобы преобразить мир, так же как Христос въезжал на осляти в Иерусалим. У Ленина была своя Голгофа — он был казнен слепой силой зла. Он умер, но он «вечно живой». Была Голгофа, но не было Гефсиманского сада — в отличие от Христа, Ленин никогда не испытывал сомнений. Вместе с Марксом — как бы Отцом, будучи как бы Сыном, и вместе с «непобедимым марксистско-ленинским учением», замещавшим Святой Дух, он образовывал аналог Троицы, единосущной и нераздельной. Содержание изменилось, но матрица осталась та же.
С Петром I иначе: кесарю — кесарево. При всем его величии («Его Величестве») он оставался только «персоной» — всегда. Даже во времена своего неограниченного владычества. Достаточно и того, что на небесах у него был свой покровитель.
Петр был равен себе. Ленин был больше себя.
Выше Петра был другой Петр. Выше Ленина был Ленин сам.
Название Петербург отдавало двусмыслицей, название Ленинград — нет. Если бы ленинградцы хотели рассуждать в этих категориях, они могли бы Ленина назвать покровителем города.
Но это был бы не тот Ленин, который Ленин, не тот, который о двух ногах и без перьев, а тот Ленин, который выше Ленина, больше Ленина, помимо Ленина: Ленин — которого нет.
Гений и злодейство
Советские граждане, включая интеллигенцию (и, в частности, творческую интеллигенцию), надо признать, в подавляющем большинстве относились к Ленину с почтением — кто с бóльшим, кто с меньшим. Интеллигенции времен застоя и первых лет перестройки такое отношение к Ленину отчасти передалось от шестидесятников. Борьба с культом Сталина велась, по Хрущеву, под лозунгом «восстановления ленинских норм».
Ленин как миф — порождение прежде всего интеллигентского сознания, а также коллективного бессознательного русской интеллигенции (советской и антисоветской). То, что реальный Владимир Ильич однажды обозвал интеллигенцию говном, не должно вводить в заблуждение. Ленин и есть интеллигенция, — и сама интеллигенция это если не понимала (отказывалась понимать), то интуитивно чувствовала. Неужели никто еще не написал «Владимир Ленин как зеркало русской интеллигенции»? (Погуглил: о я наивный! — нет, есть, конечно же. Ну так оно на поверхности.) Ладно.
Ленина хватало на всех. Для детей был свой Ленин — мальчик Володя, изображенный на октябрятской звездочке, честный и справедливый, заступник слабых, или взрослый Ленин-революционер, смелый и умный, даже в тюрьме одурачивающий глупых надзирателей, или дедушка Ленин, мудрый и добрый, друг детства, организатор елки. У рабочих был свой Ленин, — понимающий классовый интерес тех, кто стоит у станка, враг бюрократии и всех идиотств, которые воплощало в себе не только непосредственное начальство, но и высшее руководство страны во главе с престарелым генсеком, навесившим на себя «погремушки». У военных был свой Ленин — создатель Красной армии (так представлялось), символ побед. У диссидентов был свой Ленин — у одних тоже хороший Ленин, чью «старую гвардию» расстрелял Сталин; у других — фигура противоречивая, — кашу заварил, нарубил дров; у третьих Ленин плохой или очень плохой, во всех отношениях и смыслах, но многие ли в стране тогда читали Солженицына? Солженицын сам был как Ленин — только наоборот.
Советская интеллигенция в массе своей Ленина уважала. Ленин был на ее стороне.
В московском Театре на Таганке в самом смелом спектакле «Антимиры» вызывали овацию звучащие со сцены стихи Вознесенского: «Уберите Ленина с денег. Он для сердца и для знамен». Евтушенко в год столетия Ленина на свой прогрессистский манер прославлял юбиляра в поэме «Казанский университет». Прогрессивный драматург Михаил Шатров вообще специализировался на ленинской теме, его пьесы шли по стране, и публика ценила их за «смелость» и «честность». В первые годы горбачевской перестройки жесткая критика сталинизма велась как бы с ленинских позиций: плохой Сталин извратил идеи хорошего Ленина. Пьеса того же Шатрова «Дальше… Дальше… Дальше…», посвященная судьбам ленинских идей, — один из главнейших перестроечных текстов, — его популярность (именно текста — в журнальной публикации) была немыслимой, при всей своей краткосрочности.
Критика Ленина совпала с критикой собственно партии с ее руководящей ролью в Советском государстве.
Оказалось, что злодей не только Сталин, но и Ленин тоже злодей.
Стало быть, проиграл Владимир Ильич Ленин. Общество-то наше захотело в капитализм.
Много было Ленина, много.
Утомил.
Ленинградское
Ленинград был любимцем СССР. К ленинградцам относились хорошо везде — не только в России (РСФСР), но и в союзных республиках. Помню эту радость незнакомых людей, узнававших, что я ленинградец. Одни и те же сцены повторялись везде — в Красноярске, Нижневартовске, Салехарде, Ереване, Кишиневе, в Крыму. Вам обязательно говорили, как любят Ленинград и какие замечательные ленинградцы (отмечалась вежливость и культура). Тут же в разговоре обнаруживалась персональная связь вашего собеседника с Ленинградом. Кто-то учился в Ленинграде, у кого-то там жили родственники, а кто-то просто мечтал когда-нибудь посетить Ленинград. При этом почти всегда сравнивали Ленинград с Москвой, конечно не в пользу последней.
Москву недолюбливали, и доля недолюбства Москвы с противоположным знаком доставалась Ленинграду — сверх безотносительной к нему любви.
Вторым всесоюзным любимцем была Одесса.
Мне кажется, одесситам и ленинградцам путешествовать по стране было проще.
«Ленинградское» звучало естественно. «Ленинградский диксиленд», «Ленинградская симфония», «Ленинградский зоопарк», «ленинградская школа балета»… — не было там никакого Ленина. И «Ленфильм» — не про Ленина (хотя про Ленина там тоже снимали), и был на заставке ленфильмовских фильмов Петр на коне, а не Ленин.
В пользу имени Ленинград говорила память о Ленинградской блокаде.
Блокада спаяла Ленинград с его именем — она навсегда останется ленинградской.
Парадокс переизбытка
Знаю таких, у кого идиосинкразия на «Ленинград», и прежде всего потому, что их трясет от имени Ленин.
Знаю тех, кому в имени Ленинград никакой Ленин не слышится вовсе.
Сам я название Ленинград воспринимал (да и сейчас тоже) просто как название Ленинград — не более того.
Точно так же, как без мысли об артиллеристском орудии воспринимаю фамилию Пушкин. А фамилию Гоголь — без мысли о гоголе-моголе или водоплавающей птице из семейства утиных.
Для кого-то, конечно, исключительно важно было, что Ленинград — в честь Ленина, но на моей памяти такие пребывали, кажется, в меньшинстве. Ленина было так много, что он уже переставал быть Лениным. Официальное название организации: Ленинградский ордена Ленина метрополитен им. В. И. Ленина, — над этим посмеивались. Хотя «Ленинградский метрополитен» уже не резало слух. А вот «Петербургский метрополитен» жителю семидесятых сильно бы резануло: все знали, что в Петербурге метрополитена не было (хотя на самом деле первый проект подземки разрабатывался для города еще в XIX веке).
Между прочим, вышеназванное полное название метрополитена тех советских лет, вопреки убеждению некоторых коллекционеров коммунистических курьезов, вовсе не рекордсмен по концентрации «лениных». Внимание! Трижды ордена Ленина Ленинградское оптико-механическое объединение имени В. И. Ленина (АО «ЛОМÓ»). Таково полное официальное название компании. Трижды! То есть в одном названии, с учетом трех орденов, целых пять «лениных», — три явных и два скрытых. И это название — настоящее, современное, употребляемое в официальных документах сегодня (2018), — компания пожелала остаться «ленинградской» и не стала отказываться от «лениных», доставшихся ей от советских времен, правда об этом мало кто знает, для всех в городе ЛОМО — просто ЛОМО. Возможно, и о полном названии Ленинградского метрополитена никто бы (почти бы никто) не узнал, если бы текст указа о присвоении Ленинградскому метрополитену ордена Ленина не был большими буквами предъявлен на двух (если не на трех) станциях — и с тем расчетом, чтобы он бросался пассажирам в глаза. Некоторым действительно бросалось в глаза — именно переизбыток «лениных», хотя большинство горожан привыкли не читать то, что писали на стенах.
Вероятно, потому и переставали замечать Ленина, что было «лениных» много.
Как листьев в лесу.
Ленин не Ленин
Однажды, еще в те времена, мне попалось на глаза название организации — прочитал и вздрогнул: «Ленлжепроект». Есть чего испугаться: «Лен-лже-проект». Что еще за чертовщина? Перечитал в третий раз и увидел как надо: конечно, «Ленжилпроект» называлось учреждение. Название как название, ничего особенного. Но благодаря ошибке, благодаря тому, что померещился некий «лжепроект», безличный обрубок лен мгновенно напомнил о Ленине, с которым, получалось, этот «лжепроект» был будто бы связан. После чего уже иными глазами читалось правильное название проектного института: Ленин больше не хотел в нем прятаться за сокращением, он активно себя обнаруживал, и в названии «Ленжилпроект» теперь явно слышалось «Ленин жил…» («…Ленин жив, Ленин будет жить…» — и все это как бы в проекте).
Это забавное наваждение заставило меня задуматься, почему мы не замечаем присутствия Ленина там, где он прямо обозначается. Ну, например, во всех этих громоздких ленинградских наименованиях.
Ленпроммонтаж, Ленпромарматура, Ленкомиссионторг, Ленгорвторсырье, Ленгорбытопрокат, Ленснабпечать, Ленгортоп и т. п. — все эти лингвистические чудища забавляли тяжеловесностью, невероятными последовательностями согласных, причудливым ритмом и прочими особенностями, только Ленина в этих названиях не слышал никто; Ленин был уже тут до бесцветного лен низведен — до уровня жил, снаб, пром, торг и прочих обрезков.
Не только Ленин в части лен персонально тускнел, но и другие составляющие подобных словесных образований, похоже, переставали претендовать на смысловую вменяемость. Попробуй-ка догадайся, чем занимается «Ленгорзеленснабсбыт»? Услышав такое, меньше всего думаешь о Ленине, — все мысли о сбыте и, конечно, о зелени: она здесь для чего? Может быть, торговля овощами? Нет, к овощам «Ленгорзеленснабсбыт» отношения не имел, а имел — к «управлению садово-паркового хозяйства и зеленого строительства Ленгорисполкома».
Кстати, об овощах.
Лишь некоторые циники вроде вашего покорного слуги находили парадоксальным название «Леновощ». Ну скажите на милость, как можно, в принципе, Ленина сближать с овощем? Никаких не возникает посторонних ассоциаций? Уверяю, большинству ленинградцев такой вопрос не понравился бы; ответ был бы закономерный и тоже вопросом: «Ленин при чем?» Нормальному горожанину и в голову прийти не могло связать личность Ленина с тем, что было «специализированным торгом по торговле картофелем, овощами и дикорастущими плодами и ягодами» (разве что в «красных уголках» головной конторы этого торга, несомненно, висели вымпелы с профилем Ленина и раз в год работники торга выходили, как все, на ленинский субботник).
Но действительно, не «Лениновощ» же, а «Леновощ» — есть разница? Отброшен один всего слог, и уже никаких ассоциаций с Лениным. «Леновощ», понятное дело, — это сокращенный «Ленинградский овощ», который к Владимиру Ильичу имеет отношение сильно опосредованное. Еще не сблизившись с овощем, Ленин уже успел потускнеть в эпитете ленинградский — потеряться, исчезнуть.
Да что тут говорить, все покупали морковь и капусту в магазинах торга «Леновощ», которых в Ленинграде было более восьмидесяти, и никто при этом не думал о Ленине.
И те, кто изобрел в свое время это название «Леновощ», даже мысли не допускали о святотатском сближении.
Пример того, как обезопашивается (есть такое слово, есть…) в обыденном сознании рискованное соединение понятий Ленин и овощ, мне кажется особенно показательным. Можно в этом направлении еще дальше пойти.
Не касаясь замысловатой истории соответствующих организаций, объединений и управлений, лишь прислушаемся (и присмотримся!) к удивительным наименованиям, в которых три пятых Ленина[33] и целокупное понятие овощ то сближаются, то разносятся по сторонам: Ленгорплодоовощ, Ленплодоовощторг, Лензаготплодоовощторг, Главленплодоовощпром.
Но самое, на мой взгляд, потрясающее в этом отношении название — «Ленбродтрест». Вроде бы и не сложное (по сравнению с вышеприведенными), а не каждый догадается, что здесь брод означает. Да, тянет на головоломку. Эта управленческая структура существовала, впрочем, давно — до войны, еще в 30-е годы, но если вы думаете, что в те времена за нехваткой, допустим, мостов она действительно ведала бродом на реках, вы глубоко ошибаетесь. Ленбродтрест — вот кто исторически предвосхитил Ленрыбу и Леновощ. Ленбродтрест — это Ленинградский областной трест бродильной промышленности. Дрожжи, солод, и никаких речных переправ. Бродильный — это значит «вызывающий брожение». Всего-то делов. Но как легко, как, можно сказать, естественно вызов брожения в названии треста сблизился с именем Ленин!
Ситуация, обратная той, которой боялся Маяковский: «…не залили б приторным елеем / ленинскую простоту». Простота, многократно усиленная, просто опростилась до исчезновения чего-либо ленинского в грубой бытовой непритязательности ленинградских названий.
Такова судьба имени Ленина в городе Ленина.
О роке
В бытность Ленинграда мы могли бравировать названием Петербург — такая мы были фронда.
Одна из первых отечественных рок-групп появилась в конце шестидесятых в Ленинграде и называлась «Санкт-Петербург».
Занятно, что самая популярная рок-группа нулевых — это «Ленинград». И возникла она, разумеется, в Санкт-Петербурге.
Единица коллекции
Так вот, возвращаясь к тому документу.
«ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для голосования 12 июля 1991 года» не обладал степенями защиты вроде водяных знаков или голограмм. Оно и понятно — сам по себе опрос не имел юридической силы (по крайней мере, это декларировалось; в реальности название городу заменили, ссылаясь на результаты опроса).
Напомню формулировку проблемы:
«Желаете ли Вы возвращения нашему городу его первоначального названия
— Санкт-Петербург —»
Вопросительный знак отсутствует.
Весь текст напечатан черной типографской краской, кроме представленного отдельной строкой названия города.
«Санкт-Петербург» выделялся красным.
Денис Клинушков, главный специалист по части баллотики (коллекционирование избирательных бюллетеней), считает этот лист одним из самых редких российских бюллетеней. «Попадался мне на глаза, — сообщает он, — только в виде ксерокопии, приклеенной на стене в АЖУРе» (Агентство журналистских расследований).
И эта редкость есть у меня!
Не опустил в урну. Сохранил на память.
Но вот что надо сказать. С этой редкостью происходит странное дело.
Название «Санкт-Петербург», напечатанное красным, медленно исчезает.
Притом что документ у меня хранится в коробке и солнечные лучи туда не попадают.
Пройдет какое-то время, и первоначальное название города исчезнет совсем с этого редкого исторического документа.
Имя Санкт-Петербург с каждым годом тускнеет на этом историческом бланке.
Вот и я говорю. Не символично ли это?
А вдруг?
Иногда возникает у меня ощущение, что истинное имя этого города нам неизвестно.
Потому мы и путаемся в именах и пользуемся заменителями названий. Что-то заставляет пишущих о граде Петра употреблять эвфемизмы.
Исторические названия города на Неве — лишь приближения к истинному имени, никому не известному.
Но оно есть. И оно — тайное. И никто не знает его, никто.
Проходной

1. У подворотни
Вот наша подворотня уставилась на Фонтанку. А здесь на углах — стояли они.
Звучное слово «каретоотбойники», пожалуй, слишком выразительно для столь обыденных объектов. Появились эти тумбы в эпоху булыжных мостовых, предназначение их было утилитарное — не допускать взаимодействия кованых колес экипажей с углами зданий. Современники вряд ли осязали повсеместное присутствие этих тумб — кроме разве что извозчиков, чья забота была вписаться в поворот, и сильно выпивших студентов, если верить припеву из их песни «Там, где Крюков-канал и Фонтанка-река…» — то есть там, где они, спотыкаясь, перемещаются по Петербургу — «через тумбу-тумбу — раз, через тумбу-тумбу — два…». Я еще в детстве слышал эту старинную студенческую в исполнении старших товарищей, но не знал, что это за тумбы такие. Некоторые и сейчас полагают, что тут поется о тротуарных тумбах, обозначавших в конце позапрошлого века край мостовой, но, во-первых, тротуарные тумбы просуществовали недолго, а во-вторых, поставим себя на место изрядно выпившего индивида: где мы идем? — конечно, вдоль стены, чтобы придерживаться за что-то устойчивое (если угодно, «обтираем стену»), а тут на пути — эти… как их… помимо труб водосточных… — «через тумбу-тумбу — два, через тумбу-тумбу — три…» — и нет им счета!.. Каретоотбойники, каменные или чугунные, стояли как солдатики перед каждой подворотней.
Потом они стали пропадать по всему городу.
Сейчас их немного.
А здесь, у нас на Фонтанке, было два гранитных каретоотбойника.
Две гранитные тумбы.
Не хочу преувеличивать впечатления раннего детства, но что-то в моем сознании — в самые начальные мои времена — с этими тумбами было связано определенно. Говорю о возрасте, когда буквально ходил под стол, точнее, уже под стол буквально не ходил, потому что был чуть выше стола, но в том-то и дело, мне кажется, в том-то и дело: я с этими тумбами, торчавшими из-под асфальта, был одного роста. Мы подходили к дому; перед тем как повернуть под арку, меня обязательно брали за руку — оттуда мог выскочить автомобиль, старый «москвич», обитающий в нашем дворе. Взрослые, естественно, не обращали на тумбы никакого внимания — когда я вырасту, тоже перестану их замечать, — но тогда, маленький, я был одного роста с ними и, поворачивая под арку, обходил, ведомый за руку, в зависимости от того, с какой стороны мы шли, правую тумбу или левую тумбу и провожал эту тумбу глазами. Я чувствовал, как она отвечает на мой замедленный взгляд. Без рук, без ног, но в рост со мной, они, каменные крепыши, словно обо мне что-то знали, а может быть, это я угадывал что-то в них, непонятно каких — данных в окаменелости? Не буду присочинять нюансы, помню точно, что эти гранитные тумбы, вкопанные у ворот нашего дома, принадлежали моему миру, тогда как целые множества других окружавших меня предметов моему миру не принадлежали, — да и существовали ли они? — я их всех позабыл.
Потом я рос, а эти гранитные возвышения, наоборот, уменьшались в размере. Последнее — из-за нарастания культурного слоя, за счет очередной укладки асфальта. Мы стали чужими и забыли друг друга.
Однажды, после дежурных работ по ремонту теплосетей (здесь под землей тянутся трубы), эти гранитные тумбы отрыли. Что стало с одной, уже не скажу, а другую каким-то образом затащили во двор (куда мы пока не вошли), и она еще долго лежала, прислоненная к глухой стене соседнего дома, — несколько лет, пока не исчезла. А когда — никто не заметил. И каким образом — одни догадки.
Шутка ли сказать, вспомнил о них в Гималаях. Мне довелось однажды пройти горной тропой к истоку Ганга. Каменные лингамы вырастали из священного грунта. То, что вспомнились там петербургские тумбы — наши, гранитные, каретоотбойные, — можно объяснить гипоксией, горняшкой (4 км высоты), но сходство, пускай и формальное, все-таки было. И было — наглядным.
Кстати, гранитный объект, лежавший тогда во дворе у стены, себя обнаружил огромным. По сути, не тумба, а столб. А мы все считали его низкорослым. Ребенок бы не узнал в нем крепыша у ворот. А взрослый тогда, взглянув, удивился: да ведь он был выше человеческого роста, этот лежащий объект. Не выше теперь, а длиннее.
Таким его откопали.
2. Подворотня
Чтобы пройти во двор, надо преодолеть расстояние примерно в тридцать шагов.
Сказать о воротах? Они были. Потом исчезли. Когда были, сколько помню себя, были всегда открыты. А до меня — в пятидесятые еще — их на ночь закрывал дворник. Такой порядок, рассказывают, был в Ленинграде. Полуночникам дворник ворота открывал нехотя (во многих домах это был ночной дворник). Наградой ему был в лучшем случае рубль («по-старому»), или («по-новому») 10 копеек. Впрочем, я это не застал.
Дверь в дворницкую — прямо в подворотне, направо. Две ступеньки наверх.
А слева на стене внутри подворотни, именно слева — потому что, думаю, слева удобнее, чем справа писать правой рукой: можно сразу, как только повернешь с улицы под арку, — слева на стене, говорю, в октябре 2003 года появилась размашистая надпись-призыв — вернуть свободу известному олигарху. Тогда олигарх утратил свободу на многие годы, и все эти годы (ну, может, не все, а несколько лет — до косметического ремонта дома) надпись-призыв отчаянно обращалась к прохожим и, надо думать, к властям. Непохоже, что ее наличие кого-нибудь трогало. Может быть, потому, что в фамилии олигарха была допущена ошибка?
Странно другое, в нашем доме (вход со двора) появилось многопрофильное медицинское учреждение, — связано ли с этим или нет, но в подворотне на асфальте регулярно образовывался квадрат с трафаретной надписью: «Аборт — убийство». Так вот, это подподошвенное граффити кем-то закрашивалось в тот же день.
Что касается двери справа. Здесь, на месте бывшей дворницкой, во времена горбачевской перестройки появилось частное фотоателье. Мне приходилось тут фотографироваться на документы. Ничего от этого предприятия в памяти не сохранилось. Уже в девяностые мой друг и соавтор по детским радиопередачам поэт Геннадий Григорьев рассказал, что он знал это место. Фотографом, по словам Григорьева, был отец вундеркинда, очень скоро ставшего знаменитым шахматистом, и не просто знаменитым, а мирового уровня (и на момент рассказа — героем новостей). Мой покойный товарищ слыл человеком, предпочитавшим реальности выдумку, и я был готов делить на десять все, что Григорьев рассказывает. Будто бы он однажды зашел в эту дверь в нашей подворотне, чтобы сфотографироваться на документы в Союз писателей СССР, куда его принимали по книге «Алиби», а там рядом с папой сидел в глубокой задумчивости мальчик лет десяти, один за шахматной доской, подперев рукой подбородок. Фотограф снял Григорьева и пошел проявлять, а наш поэт возьми и скажи мальчику: «Давай сыграем», — мальчик вяло согласился и за несколько ходов поставил черными дяде мат, чем очень удивил проигравшего. Меня-то как раз это в рассказе Григорьева не сильно удивило, мы с ним играли примерно одинаково (и любили друг с другом резаться), но склонный к фантазерству мой друг всегда охотнее рассказывал о своих победах, — получается, с этим признанием его история притязала на правду. Совсем недавно узнал, что действительно юный гроссмейстер жил с отцом в те годы в нашем доме, в коммунальной квартире; кажется, отсюда они и удалились в Америку. А Григорьева уже нет на свете давно, и мне не с кем «резаться» в шахматы; называть же иные имена меня никто не уполномочивал.
3. Первый двор
Первый двор имеет форму прямоугольного треугольника.
Мы во дворе — за спиной подворотня.
По левую руку — глухая стена соседнего дома. (В ее основании, следуя геометрии, катет.)
В прежние времена, захватившие первую половину моей жизни, — это было до того, как во флигеле напротив (в основании стены — гипотенуза) разместилось то самое многопрофильное медицинское заведение, — так вот, в прежние времена здесь, у этой глухой стены, всегда стояли помойные баки — их было два. Железные. Круглые. С откидной крышкой. Похожие на гигантские консервные банки, над которыми уже поработали консервным ножом.
На фоне глухой кирпичной стены, отвергающей всегда штукатурку, эти помойные баки выглядели органично.
Судя по старым фотографиям, фасон мусорных баков не менялся с довоенных времен.
Удивительно, однако, что фотографий ленинградских дворов с этими круглыми, большими, самыми распространенными в те времена баками сравнительно немного. Полно фотографий с контейнерами более поздних времен, когда техника снимка уже значительно упростилась и стало безразлично, что щелкать. А тогда, создается впечатление, сами снимающие, даже если претендовали на «документализм» и думали запечатлеть «историю», все равно избегали попадания в объектив «разрушающих атмосферу кадра» помоечных баков, чересчур утилитарных объектов. С другой стороны, в поздний застой, предшествовавший перестройке, я впервые услышал термин «помоечный реализм». Мусорные баки становились элементами определенной эстетики, противопоставляющей себя эстетике официоза; кажется, тогда и появилось это слово — «чернуха». Помню, как одна художница, хорошо известная в узких кругах и настроенная крайне античернушно, наставляла меня, молодого, на путь истинный, понося «помоечный реализм», и уже тогда — за банальность. Да я и так не находил в том ничего пленительного — просто было неинтересно. А вот сейчас, отмечая длину настоящего абзаца, чувствую, как тема помойки догоняет меня в форме (сказал бы Секацкий) «отложенного соблазна». Зáмер у этой кирпичной стены, едва во дворе оказался, и ладно бы эти несчастные баки были на месте, так ведь фантомы одни, а стоишь и стоишь — все прошло, а ты вспоминаешь…
Были они с двумя ободками, делящими их по высоте на три равные части. Допускаю, ободки придавали всему предмету необходимую жесткость, но там еще фокус был с погрузкой: приезжала грузовая машина вроде нынешнего эвакуатора, привозила пустые баки, которые с грохотом потом скатывались на асфальт, а баки, полные мусора, посредством скобообразного приспособления, подогнанного к ободкам, загружались в машину. Один такой грузовик мог везти одновременно шесть баков — по три штуки на одну сторону кузова. Между прочим, это чисто ленинградский способ уборки мусора. В других городах справлялись иначе.
Или взять крышку — я сказал «откидную»; на самом деле на откидной круглой крышке была еще одна, меньшего радиуса и с тем же центром: обычно ее-то и оставляли открытой, и этого было вполне достаточно, чтобы опрокинуть туда ведерко без пищевых отходов.
Почему без пищевых?
А вот почему (но сразу оговорюсь: эта интрига относится примерно к семидесятым годам прошлого века).
Партия и правительство решили тогда укрепить кормовую базу животноводства. Помочь ему в этом деле должно было сознательное население, в частности — городское. Придумали собирать у населения пищевые отходы — для откорма свиней. На каждой лестничной площадке поставили ведро емкостью до десяти литров и с обязательной надписью «КОРМ». Появятся ли у вас картофельные очистки, или кот откажется есть продукт, или покроется плесенью помидор, вы это выносите на лестничную площадку, поднимаете на ведре крышку и бух в КОРМ — вот и вся ваша помощь свиноводству. За дальнейшую судьбу ваших пищевых отходов отвечает дворник — ему за это полагаются премиальные. Собранные со всего дома (а это у нас, кажется, семь лестниц) пищевые отходы увозятся спецтранспортом в свинооткормочное хозяйство; там их подвергают термической обработке под высоким давлением, а что дальше, я, честно сказать, не знаю.
Знаю, что для организации всего этого непростого процесса создавались какие-то специальные конторы по заготовки неплановых кормов. И что с одного ленинградца при планировании результатов ожидался ежедневный взнос в сто граммов пищевых отходов. Мне кажется, я с этой нормой справлялся.
Лично меня ситуация с пищевыми отходами вполне устраивала. И проще, и удобнее вынести арбузные корки за входную дверь на лестничную площадку, чем нести вниз по лестнице и далее через весь двор, вот сюда, к этой кирпичной стене, где условно сейчас нахожусь… Но имелись и другие, признаю́, мнения. Не всем нравилось. Недостатки у предприятия, несомненно, были свои. Мы никогда не сдвинемся с места, если будем обсуждать детали. Возвратимся к помойным бакам.
В начале 1992 года, то есть когда к власти пришли самые что ни на есть реформаторы, а прежний режим как пал, так и рассыпался, прошел, значит, слух у нас во дворе, что помойные баки вообще ликвидируют. И будем мы выносить помойные ведра на набережную Фонтанки строго по расписанию мусоровоза, который возьмет как бы шефство над нами. Беспокойство охватило жильцов, никому такая реформа не нравилась.
К счастью, все обошлось. Но только для четных номеров домов по Фонтанке. Во дворах четных номеров, на нашей стороне набережной, баки оставили. А вот на нечетной стороне, на том берегу Фонтанки (нет дыма без огня), действительно решили провести эксперимент — посмотреть, что получится, если помойные баки вообще убрать и заставить людей выходить с ведрами по расписанию.
Бывало, выйдешь вечером из дому, идешь по Фонтанке в сторону Гороховой, а на том берегу люди в группы сбиваются, образуют, похоже, очередь; ведра помойные на поребрик поставили, а сами ждут: приедет ли?.. а вдруг не приедет?
Написал я тогда свою первую пьесу — «Дон Педро», про двух пенсионеров, Антона Антоновича и Григория Васильевича. В первом же эпизоде они у меня встречаются вот в такой очереди. У Григория Васильевича при этом, оказывается, украли недавно ведро с очистками, и он пришел без ведра — вдруг свое обнаружит… Пьеса, вообще-то, о другом, но примерно с этого начинается.
По радио передавали, в театрах шла.
Я к тому это говорю, что прочитал в социальных сетях где-то, как один сравнительно молодой человек рассказывает о прошлом. Будто бы при советской власти нельзя было ведро с картофельными очистками нигде оставить — сразу же украли бы.
На это хочу возразить. Во-первых, Софья Власьевна в данном случае ни при чем. Во-вторых, я знаю, откуда ноги растут. Отсюда растут. Но: надо учитывать жанр — моя трагикомедия, конечно, про правду жизни, и все-таки, господа, пьеса эта — все-таки с элементами драмы абсурда.
4. Паз-проход
Всякого зашедшего в этот двор-треугольник непременно повлечет направо — в ход-проезд, или паз-проход, при остром дворообразующем угле, с поворотом налево — за угол пятиэтажного флигеля.
Объясняю толковей.
Дом, в котором прошла бóльшая часть моей жизни, обладает особенностью, которая в детские годы мне казалась фокусом. С внешней, парадной стороны он четырехэтажный, а с внутренней, выходящей во двор — у него пять этажей.
Одно из двух окон, выходящих не на парадную сторону, принадлежит «темной комнате» (другое — кухне). «Темная» эта комната — потому, что прямо смотрит на голую стену пятиэтажного флигеля и расстояние между зданиями невелико.
Тут и есть паз-проход, соединяющий первый двор со вторым. Если бы не было этого громоздкого флигеля, не было бы двух дворов, как и самого прохода.
Итак, междворовая перемычка. Надо обязательно посмотреть на небо. Оно будет явлено тонкой прямой полоской, образованной карнизами крыш. Словно небо закачали в резервуары и соединили каналом. В солнечные дни, которых в Питере не так много, хорошо наблюдать за движением облаков — полное ощущение, что небо перетекает со второго двора в первый (согласно местной розе ветров). Во второй двор мы пока не торопимся, а стоим задрав голову.
Современные фотографы полюбили снимать куски петербургского неба, заключенные в контуры дворов-колодцев. Квадраты, прямоугольники, трапеции, неправильные фигуры самых причудливых форм… На Петроградской в одном из дворов (Малый проспект, 1б) небо представлено восьмиугольником, как раз правильным. А бывает — словно небо добывали кривыми ножницами. На самом деле в те времена, когда петербургские небо и свет еще не стали фирменными достопримечательностями, здесь повсюду правил расчет. Нынешние созерцатели, блуждающие по старым дворам, своей эстетической радостью обязаны меркантильности прежних землевладельцев, застроивших участки с максимальной плотностью ради максимальной выгоды.
Что это там за мостик — с крыши на крышу? Кто бы знал, самому интересно. На моей памяти он был всегда. «Мостик» сказано громко — так, несколько дощечек поверх металлических направляющих. Ни разу не видел, чтобы кто-нибудь рискнул пройти по нему. На крышу флигеля есть ход с чердака, так зачем же перебираться туда с крыши соседнего дома? Как-то это нетипично для петербургских дворов. Нигде не видел ничего подобного.
А какое мне дело до этой конструкции? Нет никакого. Замечал ее только потому, что прямо под ней — наша парадная. Некоторые, выходя, бросали взгляд наверх: как там оно, не грохнется? Возможно, отсюда у некоторых интерес к облакам на небесной дорожке…
Да, парадная. Третья по счету. Когда мы вызывали врача или аварийную службу, добавляли к адресу довеском: вход со двора, третья парадная. Иначе не найти: номера квартир в ленинградских дворах часто идут вразнобой (следствие исторических уплотнений и перепланировок).
Хотя, по идее, это черная лестница, потому что негоже парадной смотреть в междворовую перемычку. Но насколько это закон? Черные лестницы обычно попроще, а эта — просторна. Ступени ее широки. На каждой ступени с каждого краю по шарику с дырочкой — туда, нам известно, вставлялись медные прутья, которыми прижимался к ступеням ковер.
Этого мы не застали.
На втором этаже до революции была большая аптека — ее торговая зала выходила окнами на Забалканский (ныне Московский) проспект; у других помещений — окна были во двор. И после революции здесь тоже несколько лет была аптека, и называлась она аптекой имени Софьи Перовской, а окнами она выходила на Международный (ныне Московский) проспект. Потом аптеки не стало, оставленное после нее пространство обернулось тремя отдельными квартирами, в одну из них въехал дед мой с семьей в 1932 году — задолго до того, как ныне именуемый Московский проспект успел побывать проспектом имени Сталина.
Мне говорили, тут был переход между домами (эти переходы, кажется, называют «воздушными»): прямо от-над парадной, где теперь окно с подоконником, — и сюда — в этот флигель, где переход переходил в пространство коридорной системы. Кто-то помнил о нем, кто-то не помнил. Зримое свидетельство о переходе, причем единственное, я нашел в интернете — на немецкой аэрофотосъемке 1942 года.
В бывшей аптеке — как раз в «темной» комнате (там была круглая печь и лучше держалось тепло) — мои, жегши мебель, переживали первую блокадную зиму.
И я там родился, в бывшей аптеке, и дети мои там родились, — я-то прожил там более полувека. Мы туда не пойдем. Тут кодовый.
А первый кодовый, вспомнил, замок здесь установили в 2003-м, и надо было набрать, чтобы дверь открылась, всего лишь номер текущего года. Уже три года прошло «после миллениума», а некоторые все не могли привыкнуть к тому, что время бежит, и не попадали домой, набирая по старой трезвой привычке вместо двух единицу.
«Какое тысячелетье на дворе?»
Смотря на каком.
5. Второй двор
«Играть» можно было пойти «в сад» или «во двор». Под «садом» подразумевалось несколько садов по набережной Фонтанки — первым был, через дорогу и перед окнами, сад с молодыми дубами, неожиданно отчужденный от артиллерийского училища (помню, как ломали кирпичную стену), вторым — Измайловский, потом — Польский (но это уже Гибралтаровы столбы — туда одних не пускали). «Во дворе» означало «в нашем дворе», это второй двор в нашей дворовой системе, — в части, не заслоняемой углом флигеля, он просматривался из окна кухни.
Игры были простые — в прятки, в штандер, в войну; в последнем случае надо было поделиться на «русских» и «немцев», — оказаться «немцем» никто не хотел, обычно «немцев» назначали с позиции силы. Я обладал тремя пистолетами — один заряжался ленточными пистонами, он громко щелкал, другой — водяной (такие заправлялись водой в дворовой прачечной, там был кран), и еще один стрелял пинг-понговыми шариками, но этот почему-то считался «ненастоящим». Девочки — так те бесконечно играли в классики, — этими классиками они разрисовывали весь двор.
Двор стал катастрофически маленьким, когда родители купили мне велосипед «Школьник». В скверике на Фонтанке перед Военно-медицинской академией, придерживая седло, отец учил меня вождению двухколесного велосипеда.
Соседняя парадная, четвертая во дворе, была проходной. Там сразу под лестницей была дверь в подвал, закрытая на замок. Но я еще застал времена, когда подвал активно посещался, — там хранились дрова для нашего дома. В квартире у нас были две печки плюс колонка в ванной с дровяной топкой. Я еще не пошел в школу, когда в доме провели паровое отопление и надобность в дровах отпала, хотя колонкой продолжали пользовались аж до начала восьмидесятых, но растапливали ее уже чем придется — торфяными брикетами (были в продаже) или вот, например, на дворовых свалках всегда было вдосталь всяких дощечек. Спустя годы, посетив Музей-квартиру Елизаровых, я неожиданно для себя издал приветственное восклицание, когда, как старую знакомую, увидел такую же колонку — ею пользовались Ленин и Крупская. В начале нулевых в подвале нашего дома жили гастарбайтеры из Средней Азии, занятые косметическим ремонтом фасада; кажется, им было велено скрывать от посторонних свое местожительство, — я узнал об этом совершенно случайно. Сам я побывал в этом подвале один раз в жизни — сколько мне было, неполные пять? Бабушка взяла меня с собой, когда пошла за дровами. Подвальный холод, полумрак, дровяной запах — воспоминание одно из ранних, но не такое уж и смутное. Весь подвал был разбит на секции, заставленные дровами до самых сводов, — перед каждой висела табличка с номером квартиры.
С юга над нашим двором возвышается глухая стена — настоящий петербургский брандмауэр. И по ширине, и по высоте он велик. А из-за того что к нему примыкает низенький, одноэтажный флигель, он кажется еще огромней. Верхний контур брандмауэра, повторяющий профили печных труб, напоминает зубчатый контур крепостного сооружения. На крыше низкого флигеля тоже несколько кирпичных труб, и все они примыкают к брандмауэру, — из каждого выходит жестяная труба и тянется, словно к свету побег, вдоль стены, высоко вверх, за край брандмауэра. Родственницы водосточных труб — разница лишь в применении, а материал один — оцинкованная листовая сталь, иначе — кровельное железо. (Вспомнил, как на уроке труда, классе в шестом, делали из него совки для уборки мусора; я за свой получил четыре.)
В снежные зимы — с крыш свисают сосульки; с крыши одноэтажного флигеля, бывает, доходят до самой земли. Вообще говоря, образование сосулек на петербургских крышах — явление благоприобретенное, это плата за цивилизацию — в частности, за паровое отопление. Чердаки изначально были холодными и на таянье снега на крышах никак не влияли. Но вот на чердаках потеплело, снег на кровле стал таять охотнее, и у нас появилась возможность лицезреть изрядных размеров сосульки. Знатоки вопроса утверждают, что вся проблема в недостаточной теплоизоляции чердачных коммуникаций. Но похоже, ее проще решать с помощью лома и ему подобных орудий. Из обломков сосулек, сбитых с крыш, во дворах иногда образуются целые горы и даже горные цепи. Кордильеры дворовых сугробов и сбитых сосулек покрываются гарью к весне и могут держаться почти до мая.
На память приходит простая картина (примерно семидесятые годы): стоит дворник и поливает из шланга горячей водой сугробы. Долго и методично топит снег во дворе. А что? Паровое отопление. Горячая вода была дешевая. Холодная вообще ничего не стоила[34].
К сезонным особенностям двора надо отнести ночные вопли котов. Сейчас дворовых котов стало значительно меньше; полагаю, это результат кампаний дератизации в конце девяностых — начале нулевых: вместе с крысами потравили бездомных кошек. Между прочим, эти коты — потомки тех, которых завезли в Ленинград после блокады. С крысами они тогда справились превосходно. И ленинградцы простили им истошные ночные вопли.
Кроме ночных кошачьих выступлений (обычно соло), жители нашего двора слышали коллективный лай собак. Доносился он со стороны заднего двора, из-за кирпичной стены, за которой таились постройки Военно-медицинской академии. Этот лай, приглушенный убедительными строительными препятствиями, все же был слышен в нашей кухне даже с закрытыми окнами. Лаяли почему-то утром, потом затихали. Жена моя верила, что в это время собак просто кормят и что эти собаки просто служебные: ведь Военно-медицинская академия — военная часть, и наверняка она должна держать, как и любая военная часть, какое-то число собак на довольствии; так думала моя жена. Я думал иначе. Я помнил, что академия — учреждение еще и учебное, со своими научно-исследовательскими подразделениями, в которых чтут, несомненно, традиции академика Павлова и ценят его подход к экспериментам. Однажды, где-то в девяностые, лай прекратился. Успехи ли зоозащитников тому причина, или же сокращение ассигнований, как везде тогда, на науку, или просто военная часть отказалась от ненужных собак, бог весть. Коллективный лай перестал волновать наше воображение.
Летом 2008-го произошло чудо. В нашем дворе, из трещины на асфальте, вырос подсолнух.
6. Задний двор
На задний двор — самый мрачный из всех наших дворов и даже незаасфальтированный (земля под ногами) — можно попасть извне с трех сторон. С нашего, второго двора туда ведет глубокая подворотня.
Прямо из подворотни был вход в прачечную. Место нехорошее, неприятное — полуподвал, скамьи какие-то, чаны; сыро, холодно, темно. Заправишь из крана водяной пистолет — и вон отсюда. Не помню, чтобы прачечная работала как прачечная. Время ее прошло до меня. Дверь, однако, была часто открыта: дворники тоже набирали здесь воду.
А вот мама моя успела в этой прачечной постирать. Когда она вышла замуж за моего отца (1955) и переехала на Фонтанку, к ней пришла соседка снизу, тетя Нюра, и сказала: пойдем покажу тебе нашу прачечную; вот они и пошли с двумя тазами белья сюда в подворотню. Стирали. Мылом хозяйственным. Воду там нагревал дворник с утра. Очередность была на стирку. Спрашиваю, на что была прачечная похожа, когда была она по-настоящему прачечной. Отвечает: на картину Архипова «Прачки» — один к одному.
Знаю эту картину. Она мне с детства не нравилась.
Так вот, двор с трех сторон ограничен глухими стенами. В юго-восточном углу есть на самом деле проход, но это для тех, кто знает. Другой — сразу налево, в замысловатое безымянное пространство, которое для простоты назовем двориком. Здесь можно увидеть руины довоенного бетонного туалета, самой примитивной очковой постройки. Впрочем, время не настолько изуродовало сооружение, чтобы случайный прохожий не смог догадаться, что это. Говорят, бетонная уборная существовала уже в начале тридцатых. Уходящая натура, чей уход затянулся на десятилетия. Каким я видел в детстве эти руины, такими они и остались. Старожилы рассказывали, что о наличии дворового туалета извещала надпись со стороны Фонтанки. Я серьезно считаю этот объект, причем именно в таком виде, полноценным памятником петербургского быта, достойным если не охраны, так хотя бы внимания и уважения. Вряд ли в городе уцелело что-либо подобное, — но что делать, и это уйдет.
Задний двор использовался для хозяйственных нужд. В моем детстве здесь были сараи, потом стали появляться гаражи, потом все снесли, кроме бетонного короба, примыкающего к дому слева, и сооружения в глубине двора — то ли бывшего ледника, то ли бывшего бомбоубежища, то ли бывшего ледника, побывавшего бомбоубежищем. Что до короба, то это были остатки помойки, довоенной опять же, — она закрывалась тяжелой чугунной крышкой, которую при необходимости приподнимали с помощью блока, каната и гири. Потом и это снесли.
Задний двор имел репутацию криминального места.
Мой отец в середине тридцатых был подростком до известной степени трудновоспитуемым; дружил с такими же. В одном из соседних домов кто-то держал голубятню. Туда требовалось зачем-то сено. За глухой стеной, выходящей на задний двор, со стороны Обуховской больницы (в то время — Обуховской больницы имени профессора А. А. Нечаева памяти 9 января) размещалась конюшня, и на ее чердаке чего-чего, а уж сена было навалом. Всей честной компанией туда и залезали — с крыш сараев и по стене. Конюх пытался устроить засаду. Ловил, но не поймал.
По рассказам отца, с извозчиками и конюхами у него вообще были в детстве отношения напряженные. В свои 80 лет он вспоминал Сенную начала тридцатых — ее гигантские павильоны из железа и стекла, подлежащие скорому сносу. Рядом (мост перейти), на пересечении Международного проспекта и набережной Фонтанки, располагался конный рынок, продолжение знаменитого Сенного рынка. Тогда у дворового пацанья была забава — воровать кнуты у извозчиков. Мой отец тоже испытал себя на этом поприще. Извозчик следил краем глаза, как подкрадывается к нему шпингалет-злоумышленник, а потом взял и стеганул кнутом с оттяжкой — едва не перебил надвое. Для моего отца это просто случай из жизни, своего рода урок. С одной стороны, вроде бы «за дело» («больше не брал чужого»), с другой — ужасно обидно и больно. А по мне, урок еще и в том состоит, что мой отец разделил участь музы Некрасова. «Вчерашний день, часу в шестом, / Зашел я на Сенную; / Там били женщину кнутом, / Крестьянку молодую…» А ведь Некрасов, как теперь известно, все это вообразил, не мог он видеть, как били кнутом на Сенной, потому что «торговая казнь» к тому времени уже не практиковалась. А вот мальчишка, которому предстояло учить наизусть некрасовские видения о кнуте («И Музе я сказал: „Гляди! / Сестра твоя родная!“»), получил на Сенном рынке свое по-настоящему — как бы в оправдание гуманистического пафоса всей русской литературы.
Когда я поделился с отцом этим соображением, он степенно погладил седую бороду и уклончиво произнес: «Мы об этом не думали».
7. Двор дома № 108
Покинем на время задний двор и отлучимся налево. Минуем пространство, которое мы назвали двориком, и, оглянувшись на руины старинной уборной, войдем еще в одну подворотню.
Мы во дворе соседнего дома (если по набережной Фонтанки).
Такие дворы в Петербурге иногда называют дворами-колодцами. А иногда отказываются так называть, оставляя эксклюзивное право «дворами-колодцами» величаться чему-то еще более тесному. Как бы то ни было, принцип образования таких дворов один — к главному зданию пристраиваются флигели, формируя четырехугольник двора.
Конечно, сюда можно было бы войти сразу — через подворотню с Фонтанки, но тогда бы мы не оценили всей замысловатости нашей дворовой системы. Сознаюсь: иногда мне хотелось удивить гостей, раньше у нас не бывавших, и я ради шутки вел их домой не с Московского через проходную парадную и не с Фонтанки через свой двор, а через двор этот, соседнего дома, — то есть путь мы преодолевали обратный нашему. Гости всегда изумлялись числу подворотен и поворотов. А потом не знали, как выйти. Но я, добрый человек, выводил их теперь кратчайшим путем.
Шутки, однако, в сторону — сейчас о серьезном.
Летом 1999 года был здесь пожар. Говорят, один из самых сильных в жилом фонде за всю послевоенную историю города. Огонь охватил три этажа в левом крыле дома, прорвался на крышу. Трагедию усугубили два взрыва — то ли газовые баллоны рвануло, то ли кто-то хранил в квартире взрывчатку. Люди выпрыгивали из окон. Всего погибло пять человек, двоих пожарных покалечило взрывом. Случилось это на сто двадцатом году существования дома, так и нетронутого капитальным ремонтом. Пожар в старых петербургских домах — страшная вещь. По деревянным перекрытиям огонь распространяется мгновенно.
Кстати, о пользе брандмауэров. Кто знает, не было бы здесь стены из огнеупорного кирпича, высотой превосходящей крышу, и огонь мог бы перекинуться на соседнее здание — главный корпус клиники ВМА.
Сгоревший флигель расселили. Каменная коробка дома смотрела во двор пустыми окнами; у черной от гари стены лежали на асфальте балки перекрытий, частично или целиком обугленные, их никто не увозил. Наступила зима, снег скрыл черноту головней — дрова как дрова. В эту зиму с паровым отоплением были в нашем доме проблемы, батареи почти не грели, не хватало тепла. Мы позвали трубочиста, едва ли не единственного на весь район, трубочист похвалил печку, которую не топили многие годы, залез на крышу, испытал дымоход и сказал, что тяга хорошая. Взяли мы однажды с моим одиннадцатилетним сыном саночки и двуручную пилу и пошли во двор дома сто восемь. Балки были толстые; уцелевших концов метра по полтора длиной мы смогли отпилить штук восемь-десять. Все свезли на санках известным путем. Потом я уже на стандартные чурбаны по мере необходимости распиливал их самостоятельно, обычной ножовкой, и рубил колуном во дворе — на зиму нам хватило. А цельными чурбаками, поставленными на попа, ростом мне по плечо, они, еще не распиленные, в прихожей и на кухне стояли, как отряд деревянных дозорных.
8. Дворы дома № 18
Вернемся, однако, на задний двор и посмотрим, как наша дворовая система развивается в другую сторону. Я сказал, что в юго-восточном углу (в правом дальнем) есть проход, но не каждый знает об этом. Действительно, постороннему человеку, для чего-то забредшему сюда, может издалека показаться, что две глухие стены, сходящиеся под углом шестьдесят градусов, капитально сочетаются, образуя угол в обычном, житейском понимании слова, — но это ошибка. Проход есть. Несправедливо было бы его назвать щелью, теоретически тут может проехать легковая машина (хотя непонятно для чего). Было время — и на моей памяти, — когда проход этот преграждала стенка в один кирпич, как бы исправляющая ситуацию невстречи тех двух главных глухих стен; воздвигли ее после того, как убрали со двора гаражи и сараи, — будто бы таким образом криминальным элементам усложнялся путь к отступлению, в случае если бы их преследовали по нашим дворам силы правопорядка. Ныне препятствий нет никаких — и милости просим.
Повернув за угол, переступив границу прежнего домовладения и продолжая мысль в том же роде, невольно вспоминаем Леньку Пантелеева, знаменитого петроградского бандита, — вот кто знал проходные дворы. Но не только поэтому. Слева все та же кирпичная стена, — там за ней, в морге Обуховской больницы, совсем рядом, в феврале 1923 года, благо был мороз, выставлялся труп налетчика. Те, кто не верил в смерть «неуловимого», могли посмотреть на синее лицо, искаженное гримасой, и оценить дырку от пули, выпущенной Иваном Бусько.
Да вот и Ленин Владимир Ильич знал толк в проходных дворах и, конечно, ценил междворовые переходы — особенно когда снимал жилье нелегально. При чем тут Ленин? Минутку, минутку…
Ну а в самом деле, кто сюда еще зайдет, кроме нас и клиентов прачечной (вполне современной: «стирка постельного белья, рубашек, блузок, одеял, пледов»), что разместилась на первом этаже двухэтажного флигеля, — и как они только дорогу находят сюда? Хотя — почему ж не найти. В девяностые здесь, напротив прачечной, пекарня была на первом этаже дома, что по правую руку, и я, вспоминаю, торт покупал из окна к семилетию дочки…
Иными словами, задворки у нас уже и не задворки, а получается — двор; стоило лишь спиной повернуться к Обуховской больнице. Притом двор большой и даже светлый как будто; под ногами плитка, и все ухожено. Мало того: очередная подворотня в очередной двор приглашает…
Где-то здесь во дворах, в какой-то из квартир, в какой-то из комнат — с мая по август 1906 года — проживали некто Чхеидзе (имя его нам неизвестно) и некто Прасковья Онегина. В общем, сразу скажу, это были Ульянов и Крупская. В Петербург они приехали нелегально после Стокгольмского съезда и поселились тут с фальшивыми паспортами. Чхеидзе иногда становился Карповым: когда он выступал перед демократически настроенной аудиторией. А публикации этих дней шли у него или без подписи, или с подписью: Н. Ленин.
Съехали они отсюда, когда начались аресты однопартийцев, и прямо в Финляндию, в Чукоккалу (вспомним автора «Бармалея») — «в малую эмиграцию», как говорила Крупская.
Любопытно вот что. Ленин, будучи нелегалом, за эти три месяца посещал различные адреса, иногда с ночевкой, и многие из них известны точно: улица, дом, квартира, — потому как вспоминали потом товарищи о своих встречах с Владимиром Ильичом. Но похоже, у себя Ленин и Крупская никого не принимали — по соображениям конспирации. Неизвестна не только квартира, но и точный номер дома — не то 18, не то 20 по тогдашнему Забалканскому проспекту. Как ни крути — в этих дворах, принадлежащих нашей дворовой системе.
Вот и Крупская спустя годы первое, что вспомнила, — это двор: «Двор был проходной, жить там было удобно». Слова настоящего конспиратора, знающего цену проходным дворам. Жить было бы еще удобнее, «если бы не сосед, какой-то военный, который смертным боем бил жену и таскал ее за косу по коридору, да не любезность хозяйки, которая усердно расспрашивала Ильича о его родных и уверяла, что знала его, когда он был четырехлетним мальчуганом, только тогда он был черненьким…»
Даже для въедливых биографов Ленина, даже тех из них, кто проявлял сверхусилия к столетнему юбилею, этой информации оказалось мало, чтобы уточнить номер дома и определить номер квартиры.
9. Большой двор дома № 18
Через прямоугольную подворотню (был капремонт) проходим в большой двор — больше предыдущего. Какой — уже сбились со счета.
Сколько мы ни бродили по нашим асфальтированным дворам, до сих пор не заметили ни одного дерева. А в этом дворе, мало того что есть детская площадка, растут сразу два тополя. Один из них я нахожу объектом достопримечательным — по крайней мере, для себя лично; есть причины. Честно сказать, ничем меня больше этот двор не привлекает. Да, большой. Да, многовыступный. Да, не последний. Там, помимо подворотни, выводящей на Московский проспект, будет еще подворотня в другой двор, из которого, в свою очередь, можно попасть сразу в два других двора через соответствующие подворотни…
Аччелерандо дворов.
Но это не моя музыка. Туда не пойдем.
Там не то чтобы неинтересно, и здесь тоже — не то чтобы пора нам и честь знать с нашим дворовым повествованием, а просто начинаются пространства чужих, не моих вмещений, мною не обихоженные… Вот и в этом дворе: что мое? — разве что тополь.
Видите ли, — о тополе: несмотря на то что по пешеходному извилистому маршруту нас когда-то разделяли дворы с подворотнями, а по прямой линии — двор и громада дома, тополь этот был виден из нашего окна на кухне, пока его здесь не укоротили, не обрезали. Я был юн и безус, когда в окне за брандмауэром поперечного флигеля заметил что-то зеленое. Сначала показалось, что-то на крыше проросло — такое бывает в этом городе часто. На другой год стало понятно, что это не на крыше дома напротив, а за ним — что это из-за дома появляются ветви, там у них во дворе (где сейчас мы) тополь. Годы шли, крона тополя поднималась, расширялась, росла — и уже господствовала над крышей и печными трубами. Это было как медленные часы, отмеряющие большое время. Потом рост прекратился — часы остановились. Не совсем. По-прежнему показывали сезонное время. В ноябре тополь торчал из-за стены, как потрепанный веник, а в мае — празднично распускался. Дети выросли. И все такое. Как-то раз посмотрел в окно и не понял, почему так неуютно. Потом дошло: тополя нет. Спилили.
Ну, как видно, спилили, но не весь. Обпилили со всех сторон и укоротили вдвое.
Новые жильцы в бывшей нашей квартире вряд ли увидят зеленую крону над крышей.
Я подарил этот тополь своему персонажу. Он был у меня безумцем. Он хотел застрелить Ельцина.
Однажды мне предложили написать рассказ для одного коллективного сборника. Единственное условие — действие должно быть привязано к реальному месту в городе.
Я поселил персонажа вон в том доме, с окнами на Московский проспект, заставил его переживать по поводу этого тополя и оделил страстью, которую он не умел контролировать, — ненавистью к первому президенту РФ (ну а пистолет он купил на Сенной, это рядом, там была барахолка).
Московский проспект — правительственная трасса. Его всегда расчищали от транспорта, когда кто-нибудь приезжал. Мне было пятнадцать, когда в Ленинград приезжал Никсон. Перекрыли не только Московский, но и ближайшие улицы, даже тротуар освободили от пешеходов. Отец открыл окно посмотреть, что там. Милиционер потребовал незамедлительно закрыть. Отец попытался возразить, но тот, а с ним еще двое сделали шаг в сторону нашей парадной (той самой — проходной; войдя в наш двор, они бы повернули налево). Отец поторопился закрыть окно. Порядок был восстановлен.
Наши дома соседние — наш и моего персонажа. Рассказ назывался «Шестое июня».
6 июня 1997 года Ельцин приехал в Санкт-Петербург. На Московском проспекте, напротив окон моего героя, на дорогу выбежала средних лет женщина и остановила кортеж. В новостях ее называли Галиной Александровной. Ельцин вышел из машины узнать, в чем дело. Сопровождавшие его высокие лица (включая губернатора и Чубайса) тоже вышли из своих авто. Галина Александровна сообщила Ельцину о зарплатах учителей и врачей в поликлиниках, а также пожаловалась на свои жилищные условия. Ельцин сказал: «Надо разобраться», дал поручения и уехал. Это истинный случай. Действие моего рассказа происходило в тот исторический день.
Подумал, что мой вымышленный герой, чей точный адрес в рассказе не указан, мог жить в той же квартире, где жили Чхеидзе и Прасковья Онегина, тоже персонажи до известной степени вымышленные (в той же, наверно, степени, в какой «умышлен» и весь город). Впрочем, реально Ленин и Крупская проживали, скорее всего, во дворе, в каком-нибудь флигеле. (Возвратимся во двор — зачем нам Московский?)
У моего героя в рассказе нарушились планы. Он застрелил сожительницу. Он хотел обмануть историю — не получилось. Ельцин тоже хотел обмануть историю — не получилось, потому что получилось не так. Чхеидзе обманул полицию и хозяйку, но и у Ленина получилось не так. Историю никто не обманет. Есть и у меня пунктик — повторять ни к селу ни к городу:
— История обманет всех.
Вот уж не думал, что этими словами завершу блуждание по проходным дворам.
Ретроинкарнация как личный вклад в мировую историю

Чтобы ответить по совести на «с кем бы я был в семнадцатом году» и «кем бы я тогда хотел быть», необходимо сказать кое-что о себе.
Никогда не хотел быть начальником.
При всей моей амбициозности, возможно другим незаметной, я ленив и рассеян. Целеустремленность моя проблематична: цель близка — впадаю в апатию. Во мне дремлет Обломов. В студенческие годы с неожиданным для себя любопытством прослушал курс истории КПСС, но политэкономию социализма пропустил полностью. Я органически беспартийный. Я все теряю.
Ну и кем бы я хотел быть в семнадцатом году?
Разумеется, Лениным.
Помню, в детстве, задолго до школы, был я бабушкой свожен в Зоологический музей, что на Биржевой площади. И самое сильное впечатление из всех тамошних экспонатов, в числе которых были и мамонт, и скелет кита, произвел на меня выставленный там до кучи скелет человека. Мысль о том, что и я превращусь однажды в такой же скелет, была мне ужасна. Но я знал про Мавзолей и Ленина, который в Мавзолее лежит, и что Ленин в Мавзолее совсем не скелет, а, наоборот, в полной сохранности. И я тогда подумал, что хорошо было бы мне стать Лениным, чтобы никогда не превратиться в скелет. Буду Лениным, думал я. Лениным, а не скелетом.
С возрастом эти мысли прошли.
Но в начальной школе что-то такое еще теплилось в голове. Ленин был нам пример (маленький Володя Ульянов), хотя он и съел яблочные очистки в нарушение родительского запрета. И торжественное обещание (почти клятву), принимаемые в пионеры, мы в третьем классе давали в музее имени самого Ленина, то есть во дворце, принадлежавшем когда-то двоюродному брату того, кого родной брат Ленина собирался грохнуть, за что и был казнен. Ну а что до «восстановления ленинских норм» и «уберите Ленина с денег», это было актуально для поколения наших родителей, чему мы, повзрослев, тоже не могли не сочувствовать, хотя тут уже — кто в какой мере.
Но отнюдь не ради того, чтобы я был Лениным, хотел бы я быть Лениным в октябре семнадцатого. Наоборот, хотел бы я быть Лениным в октябре семнадцатого для того только, чтобы Ленин был мною.
Влияние Ленина на нашу историю в семнадцатом году слишком велико. Чересчур велико. Не должен так один человек влиять на историю. Не должен один человек создавать необратимые ситуации.
То, что случилось в (девятьсот) семнадцатом, во многом обязано тому, что Ленин был Лениным.
Быть бы ему не совсем Лениным.
Быть бы хотя бы мною чуть-чуть.
Пусть бы остались за ним его неуемная энергия, его темперамент, его убеждения и понимание всего того, что он по-ленински понимал (или думал, что понимал), но все-таки чтобы еще и от меня в нем что-нибудь было — для нашего общего блага.
Я не о своих добродетелях — я о своих недостатках.
Человек рассеянный, я бы мог перепутать адрес и не дошел бы 10 октября до дома на Карповке, где на квартире меньшевика Суханова, в отсутствие последнего и попечениями его жены, собрался на конспиративное заседание весь ЦК партии большевиков — Троцкий, Сталин, Дзержинский, Коллонтай и другие товарищи. Когда отправлялись на Карповку в закуток напротив монастыря с гробницей Иоанна Кронштадтского, никто из них и представить не мог, за что придется голосовать на этой тайной сходке, — но Ленин, явившийся из подпольного инобытия, ошеломил всех своим революционным замыслом. Сначала его поддержал только Троцкий. Но Ленин не просто убедил — он буквально заставил собрание принять резолюцию, которую сам, своею рукой и записал на бумаге в клеточку, — резолюцию о вооруженном восстании. Только Зиновьев и Каменев проголосовали против.
Вот тогда-то все и началось. Если бы не 10 октября, не было бы 25-го.
Не было бы Ленина на том заседании — никто бы не стал готовить переворот и уж тем более приурочивать его ко Второму съезду Советов.
Так вот, если бы Лениным был я (при прочих ленинских качествах), только из-за рассеянности моей и безалаберности мог бы Ленин перепутать адрес.
Без бороды я бы чувствовал себя неуверенно, особенно — в парике. А он был как рыба в воде — в парике и без бороды, но только не будучи мной.
Неизвестно, как он добирался до Карповки от Сердобольской улицы, где жил на конспиративной квартире, о которой даже члены ЦК ничего не знали. Взял извозчика? Шел пешком? По какой стороне — четной, нечетной? Что предписывают правила конспирации в этом случае? Боюсь, я бы поступил на его месте неправильно. Меня бы и в другой день могли повязать в любую мою (его) отлучку с конспиративной квартиры (а он отлучался много раз — и ничего, не попался).
А был бы мною, хотя бы чуть-чуть, и попался бы обязательно. Уж я себя знаю. На меня и в метро иногда люди косятся. Притом что парик не ношу.
И не было бы тогда социалистической революции.
После 10 октября то, что случилось, уже не могло не случиться. И решения расширенного заседания ЦК 16 октября на Болотной улице были уже предопределены тем, что решилось на Карповке. И все предопределено было — весь тектонический сдвиг мировой истории. Там уже и Троцкий справлялся с технической стороной восстания. И другие заговорщики были на высоте революционного момента. Покидая конспиративную квартиру на Сердобольской в исторический вечер 24 октября, Ленин мог и не торопиться в Смольный. Центральный телеграф был взят еще до того, как он перевязал себе щеку платком и отправился в штаб революции на левый берег Невы. И без него бы вошла в Неву «Аврора», и без него бы овладели Зимним.
А вот на заседание 10 октября он не мог не явиться.
Надо было убедить сомневающихся и переубедить тех, кто против.
Тут еще есть и личное — в моем интересе к этому месту. С некоторых пор я здесь живу. Рядом с домом, где 10 октября все они собрались, — прямо тут проживаю — в малолюдном тупичке напротив Иоанновского монастыря, где Карповка, теряя гранитную набережную, втекает в промзону и на земляных берегах реки растут кусты и деревья. Лев Данилкин в своей книге о Ленине назвал это место «карманом истории». И вот в этом кармане мой дом.
Если бы я жил здесь в семнадцатом и был бы не Лениным, а исключительно собой, я мог бы из окна своей квартиры, случись тогда облава на карбонариев, наблюдать картину бегства Ленина и Зиновьева. Не уверен, что и остальные последовали бы их примеру, все-таки все они — Троцкий, Сталин, Дзержинский и прочие — были на положении вполне легальном, а вот Ленин и Зиновьев, улизнув через черный ход, убегали бы как раз под моими окнами. Очередной раз ставлю себя на место Ленина — с исторической резолюцией под париком куда бы я побежал? Через улицу Милосердия к дому, где потом будет жить Валерий Чкалов, или на задворки недостроенной монастырской гостиницы, чтобы по землям, еще не принадлежащим научному объединению, добежать до ныне не существующего участка улицы Бармалеева, давшей имя знаменитому Бармалею?
Но никто не нагрянул, и рано утром они разошлись.
Случилось то, что случилось.
Ну так вот.
Я бы Лениным согласился стать, хотя бы частично, не потому, что так уж сильно не хотел бы октябрьского переворота и не потому, что близка мне, скажем, идея Учредительного собрания (вовсе нет), а потому — что своим человекоразмерным несовершенством (мне мнится) мог бы существенно скорректировать этот немыслимый детерминант, субъективный фактор по имени «Ленин», и, быть может, спас бы историю от ее чудовищной гипертрофии.
А убеждения тут ни при чем — ни мои, ни Ленина.
Что бы ни было у меня… у него… у нас в голове, я бы просто того Ленина нейтрализовал немного, чтобы все в мире шло своим чередом — без потусторонних вмешательств. Без нас с Лениным.
Современник первых аэропланов

О том, как выглядит современный Петербург, мы, понятное дело, осведомлены достаточно. Интересно, конечно, сравнивать (всегда интересно) — что есть, а что было; причем давно было — более ста лет назад. Сопоставляя фотографии одних и тех же мест, мы готовы к привычным переживаниям: почему бы не испытать ностальгию или не предаться размышлениям, допустим, о скоротечности времени? Репертуар впечатлений в данном случае невелик, — он предопределен нашим знанием, отчасти, так сказать, историческим опытом; все же прошлое — оно всегда наше, и мы о нем худо-бедно тоже осведомлены. Хотя бы достаточно для того, чтобы не испытывать потрясений.
Иное дело, если поменять направление взгляда. Не туда взглянуть, а оттуда.
Эти дамы в длинных платьях, эти господа в цилиндрах и полуцилиндрах, эти фуражки, картузы, котелки, матроски (типажи нам известны, в общем-то, по картинкам и синематографу), эти обитатели прошлого города — как бы они себя повели, покажи им фотографию того, что будет — здесь, на этом месте, очеловеченным их сиюминутным присутствием? Узнали бы они эти места? Признали бы на снимках своих «потомков»?
Что отразилось бы на их лице — удивление? недоверчивость? может быть, страх?
В самом деле, даже безотносительно архитектурных метаморфоз, посмотри мы глазами тех людей на реалии нашей повседневности — ну вот хотя бы на транспорт и моду, — впечатление будет ведь сильное… С транспортом, впрочем, тут как раз было бы проще, наверное. Все-таки в начале прошлого века видел Петербург и первые автомобили на своих улицах, и даже первые самолеты в своем небе (авиатор Руднев нарезал в 1910-м круги над куполом Исаакия, а через несколько дней весь город, запрудив Невский, хоронил авиатора Мациевича, первую жертву российского неба); так что при общей вере в технический прогресс замещение в столетней перспективе лошадей загадочными машинами встретили бы, думаю, с любопытством, но сдержанно. А вот что касается моды… Особенно одежды для дам. Возможно ль такое, чтобы дамы в будущем надели мужскую одежду?.. Брюки!.. И чтобы юные барышни выходили в том, чему и слова (пока еще) нет, но означать оно будет «укороченные штаны, открывающие целиком бедра»?
Или вот, например, обязательно взгляд оттуда отметил бы, что мы, здешние и теперешние, практически не замечаем: небо-то у нас все в проводах!.. А мы и в самом деле не видим их, когда ходим по улицам, — взгляд наш замылен. Троллейбусные, трамвайные, телевизионные, интернет-провода… Последних особенно много сейчас. Именно сейчас. В данный — зафиксированный — момент петербургской истории паутина из проводов действительно одна из особенностей этого города, почти достопримечательность, но только для того, кто знает о ней и умеет разглядывать ее причудливость. Судя по всему, достопримечательность — временная. Загонят же когда-нибудь хотя бы коммуникационные линии под асфальт, как это сделано в других городах. И никто не вспомнит о них, как о прошлогоднем снеге. Разве что фотографии будут кого-нибудь потом (так же, как если бы попали в руки петербуржцев прошлого века) смущать необъяснимостью перечеркиваний вкривь и вкось петербургских небес.
Но это все несущественно. Так же как по большому счету асфальт вместо брусчатки.
Есть модальности поважнее.
Вообще-то, сопоставление старых и нынешних снимков оставляет двоякое ощущение. С одной стороны, кажется, город вроде бы сохранил лицо, не успел сильно состариться, умудрился не подчинить свою внешность увлекающимся костоломам и безумствующим косметологам. С другой стороны, все печальнее, чем могло бы быть, и сколько угодно примеров бессмысленных утрат и сомнительных обретений. Но с этим как раз все понятно, была греческая церковь — стал БКЗ. Не все просто как раз там, где госпожа Необратимость как будто обошла территорию. Как будто ничего и не было. А как же не было, когда было много чего?..
Виды на Троицкий собор, запечатленные с вековым промежутком. На старом снимке, приглядеться, человек переходит улицу — 1-ю Роту (так называлась), на новом — приглядеться, кто-то ловит такси — на той же улице, только теперь на 1-й Красноармейской. Кроме названия улицы и некоторых деталей, существенных изменений, кажется, нет. Памятник на месте — колонна Славы, и собор как стоял, так и стоит. На самом деле это не та колонна Славы, та, мимо которой прошел человек с 1-й Роты, была собрана из настоящих турецких трофейных пушек — более ста орудий, а эта, рядом с которой кто-то ловит такси, — копия, новодел, и пушки там сымитированы горельефом чугунным. Человек с 1-й Роты, взглянув на фотографию из будущего, не поверил бы: как — не та? А та куда деться могла? — Ту в 1930-м отправили на переплавку. — Зачем? — Затем. Долго объяснять. Длинная история.
Отправили в 1930-м на переплавку колонну из настоящих пушек, чтобы через 75 лет установить макет в натуральную величину?
Да, именно так.
Получается, это не столько памятник победе в Русско-турецкой войне, сколько памятник тому памятнику.
Да и с Троицким собором не все просто. Это он сейчас похож на прежний. А ведь стоял десятки лет без крестов. Был склад, а не собор. А во время войны (Какой войны? — Ну, была война. Длинная история — объяснять долго…), во время войны в подвалах его размещался штаб пулеметного полка ПВО (тоже сразу не объяснишь…). А еще купол сгорел, уже на нашей памяти… потом реставрировали. А по снимкам судить — как будто ничего не случилось.
Или вот Знаменская площадь. Здесь, наоборот, все изменилось до неузнаваемости. Хотя много зависит, конечно, от выбора ракурса.
Современник первых аэропланов, можно представить, терялся бы в догадках, что это значит: на снимке из будущего, XXI века вместо памятника царю-миротворцу стоит высокий гранитный обелиск со звездой на вершине, а на месте Знаменской церкви — какое-то странное сооружение, отдаленно напоминающее храм непонятного вероисповедания. Относительно второго сообщаем: это станция метро «Площадь Восстания». Да, объяснить трудно. Как бы храм, но наоборот. У храма купола возносятся к небу, а тут движение вниз — под землю…
А вот другой ракурс, та же площадь, но без радикальных перемен. Современник первых аэропланов немедленно различит гостиницу «Большую Северную» — она вполне узнаваема. Правда, это она сейчас узнаваема, а еще не так давно выглядела по-другому, потому что ее переделали, изменили фасад, а сейчас она внешне опять похожа на себя прежнюю, потому что ее переделали еще раз — в обратную сторону. И вообще это другая гостиница, не «Большая Северная», а «Октябрьская». Современник первых аэропланов удивился б, конечно: почему «Октябрьская»?.. а не «Январская»?.. не «Июльская»?.. Неужели работает лишь в октябре?.. Нет, не поэтому. Объяснять долго.
Но что означают эти слова — большими литерами над крышей гостиницы (между прочим, без буквы «еръ»): «ЛЕНИНГРАД — ГОРОД-ГЕРОЙ»? О чем это? «Город-герой» — как это понять современнику первых аэропланов? И что такое есть Ленинград? (Или Ленинградъ, согласно орфографии Грота?) Современник первых аэропланов может еще поверить в «Петроградъ» (допустим, 1914-й пока не наступил…), но «Ленинград» — что за странное имя? Откуда это?
А вот оттуда. Оттуда же, что и «Площадь Восстания».
Очень вероятно, что площади Восстания возвратят прежнее имя, и это может случиться в любой момент. И будет так, будто ничего и не было. Будто всегда была площадь Знаменская.
Вот Невский проспект, он и тогда был Невский проспект, и сейчас — Невский проспект. И сколько бы ни смотрел современник первых аэропланов на теперешнюю фотографию Аничкова моста, ничто ему не подскажет, что Невский проспект 25 лет был проспектом 25 Октября.
А вот Садовая улица, которая и сегодня Садовая улица, была, между прочим, двадцать один год улицей 3 Июля.
И т. д. и т. п.
Санкт-Петербург, который и теперь Санкт-Петербург, побыв Петроградом, жил еще действительно как Ленинград — срок, практически равный среднему возрасту человеческой жизни, 67 лет.
Для нас где «Ленинград», там и «блокада». Но что бы узнал о судьбе этого города современник первых аэропланов, сравнивая фотографии своего и нашего времени? Ну, положим, отвлекшись от снимков, некие ангелы поведали бы ему о том, что и в промежутке случилось, — хотя бы о первой блокадной зиме и нормах суррогатного хлеба. Да он просто бы не поверил в возможность того, что мы называем «блокадой», — в миллион голодных смертей в пределах одного города.
А если нам?.. Допустим, нам покажут далекое будущее, — мы удивимся, вздохнем, соотнесем увиденное с родной современностью и, наконец приняв неизбежное, представим дорогу к точке той фантастической презентации. И здесь ошибемся. Потому как там, на пути, в будущем не столь далеком, такие разверзнутся бездны, о каких мы и помыслить не можем, как бы далеко ни смотрели.
Действительно, показали бы нам фотографии (скажем, в пророческом сне), какими будут эти края лет через сто. Может быть, здесь вместо тополей вырастут пальмы. Люди голыми будут ходить. И будут они не совсем люди в силу их телесных модификаций. И не ходить, а перемещаться нам непонятными способами. Как мы в эпоху мобильной связи прижимаем к уху нам известные штуки (современник первых аэропланов этот жест объяснить не сумел бы), так и те… ну, скажем, будут слегка… нет, не хватает фантазии.
Хорошо, пусть не так радикально.
Внешне пусть ничего не изменится. Невский пусть останется Невским. Садовая тоже — Садовой. Даже нет, больше того: пусть возвратится утраченное — из эпохи первых аэропланов. Вместо коробки Большого концертного зала (опять же) «Октябрьский» пусть нам будет показана греческая церковь Святого великомученика Димитрия Солунского. А на Сенной мы увидим Спас на Сенной. Пусть дамы наденут хоть самые длинные платья, с корсетом, а кавалеры возьмут в руку трость и положат часы в карман жилетки (мода иногда возвращается), — какая, в принципе, разница, что нам предъявит наш вещий сон?
Там может быть все, что угодно. Но что бы мы ни узрели в условных точках показа, мы не узнаем по этим картинкам, что было раньше — до них, между нашим «здесь» и тамошним «там».
На тех промежутках времени, заданных ямами, куда норовит опрокинуться вся наша История.
Спасибо
«Книга о Петербурге» не была бы написана, если бы Наталья Соколовская не внушила автору мысль о необходимости написать эту книгу. Спасибо ей за это, спасибо Александру Жикаренцеву за то, что он эту мысль энергично поддержал. Спасибо Александру Етоеву за то, что прочитал книгу в рукописи и высказал замечания, но в первую голову — за вдохновляющие советы и напоминания о пользе литературного труда. Спасибо тем, кто, быть может, не догадывается даже, как побуждал автора к работе, — Татьяне Москвиной, Павлу Крусанову, Александру Секацкому, Илье Бояшову, Леониду Юзефовичу, Дмитрию Григорьеву, Николаю Федорову, Сергею Коровину, Наталии Курчатовой, Михаилу Сапеге и многим другим, с кем мне доводилось говорить о судьбе города. Не забыть бесед и прогулок с Борисом Валентиновичем Авериным; так получается, что его день рождения — сегодня, когда пишу этот текст, и это второй день рождения без него. Геннадию Григорьеву спасибо за присутствие в этой книге, иногда он мне снится. Спасибо моей маме за воспоминания о блокаде и вообще за то, что я есть. Спасибо за то же отцу, — сейчас я вижу, как невнимательно слушал его, и жалею об этом. Жене моей спасибо за то, что прочитала всю книгу по кусочкам в режиме реального времени: судьба у нее такая — быть «грибным человеком».
Городу спасибо. Без него бы книги не было. Честно вам говорю.
11.03.2020
Фотографии

Закат на Елагином острове

22 января солнце наконец заглянуло в окно

«Шемякинский Петр чувствует что-то — Петра корежит. Памятники не переносят, когда на них глядят другие памятники, и, хотя заяц на скамейке никакой не памятник, объект он все-таки антропоморфный».

Заяц, который троллит всех, но прежде всего Петра, на которого смотрит

Весна 2010. Туман над Невой, +7. Светящийся прямоугольник — табло на стадионе Петровском. «Динамо СПб — Краснодар», ничья по нулям

Город, где ценят тепло

Вот какие улицы есть в Петербурге

Низвержение Симона-волхва апостолом Петром. «Не мог этот Симон-Карл видеть все в перевернутом виде».

Петровские ворота, как они есть

Троицкая площадь. Вид с Иоанновского моста

Перед входом в музей пыток. Единственная надпись, которая не дублируется на английском (Петропавловская крепость)

Заливные острова дельты Шелони мог напоминать Заячий остров новгородцам, первостроителям Петербурга

Финский залив

Мы жили в этом доме. Одно из последних наводнений

Большая вода в Петербурге

Петроградская. Козье болото. Здесь раскопали массовое погребение первостроителей Петербурга (останки более 250 человек)

«… Этой весной проходил мимо, увидел небольшие пирамидки на пустыре — из камней и битого кирпича. Подумал, уж не культовые ли сооружения каких-нибудь сектантов? Подошел. Нет. Просто мусор сложили кучками. Следы субботника».

С кронштадтского берега: ночь, дамба

Форт Александр I, он же Чумный

Васильевский остров

Затор льда, иначе зажор. 2020

Шипов лес под Воронежем. «Идеальный дуб» за год до своей гибели. Вот такие корабельные дубы ценил Петр

Утки на льду Черной речки

Ворона на орле, причем на двуглавом

До восьми голубей, бывает, садятся на памятник

Торжество симметрии

На закате. К вопросу об истоках супрематизма

Просто брандмауэр

Говорящий брандмауэр

Пришел в Эрмитаж — от ворот поворот

В сторону Малевича

Фонтанка. Горсткин мост, деревянный. Быки торчат из воды. Купальщик готов к прыжку

Кришнаиты на Фонтанке. Ладно кришнаиты — там на льду рыбак! А гаишник штрафует

«Лавры старейшего из ныне существующих каналов должны принадлежать Кронверкскому…»

Канал Грибоедова. Ремонт набережной

Новая Голландия из-за спины Лесгафта

Не просто брандмауэр… Памятник женщинам-воинам Ленинградского фронта, бойцам МПВО

Введенский канал еще не засыпан. Снимок отца. 1966

Улица Введенский канал

Молодые читатели приветствуют Раскольникова

Восковые Раскольников, Алена Ивановна и Распутин на галерее Гостиного Двора. Альтернативный сюжет

Между Сенной и Гороховой

Задворки Сенной. 2015

Вид с крыши нашей школы

В нашей школе родился Дмитрий Шостакович

Комарово. «Будка» Ахматовой. Она смотрела в это окно

Печка в «будке» Ахматовой. У нее и сейчас хорошая тяга

Левый уклонизм

Что-то в этом есть

Да, такой был каток. 2007

Обновление кариатид

Московские Ворота отсюда на себя не похожи…

…А здесь похожи на себя

Вот она. Маленькая дверца в колонне

Снежная зима 2010. Марсово поле

Сосульки в декабре 2010

Дед Мороз. Николай. Исакий

Иногда кажется, что город сходит с ума

Карповка. «Карман истории»

Геннадий Григорьев (справа), стихи которого цитируются в этой книге (тем, кто слева). Середина 1990-х

А это если просто посмотреть наверх

А это если посмотреть из окна налево

Тот тополь. Спилили его

«Летом 2008-го произошло чудо. В нашем дворе из трещины на асфальте вырос подсолнух».

На рубеже тысячелетий. В квартире, на заготовке дров



Иногда Петербург напоминает мне загадочный Океан из «Соляриса» — ну вы знаете, Станислава Лема. Или из фильма Тарковского. Самодостаточная структура, живущая своей непостижимой жизнью, способная, однако, коль скоро мы обозначаем свое присутствие, воздействовать на нас, на наше подсознание, вступая с нами в контакт, даже когда мы такового не ищем.

Примечания
1
Померанец К. С. Несчастья невских берегов. Из истории петербургских наводнений. М., 2009. С. 17.
(обратно)
2
Евгений Голубев. Квартал — университетский // Санкт-Петербургский университет. № 3 (3845). 7 марта 2012.
(обратно)
3
ЛИИЖТ — Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, ныне ПГУПС — Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I.
(обратно)
4
Широбоков И. Г., Учанева Е. Н. Первые строители Петербурга: некоторые результаты изучения скелетных останков из коллективных захоронений в районе ул. Сытнинской // Бюллетень Института истории материальной культуры Российской академии наук: (охранная археология). № 5. СПб., 2015. С. 239–247.
(обратно)
5
Розанов В. В. Возрождающийся Египет. М.: Республика, 2002. С. 302.
(обратно)
6
Кил — особый крымский минерал, состоящий из наимельчайших частиц, глина. Широко использовался в быту — в частности, как заменитель мыла («мыльный камень»). В 1940 году не надо было объяснять читателям, что это, — кил добывался в промышленных масштабах и был хорошо известен. После выработки месторождений о нем почти забыли. Впрочем, с недавних пор кил рекламируется как косметическое средство.
(обратно)
7
Blichert-Toft J., Moynier F., Lee C.-T. A. et. al. The early formation of the IVA iron meteorite parent body // Earth and Planetary Science Letters. 2010. Vol. 296 (3–4). P. 469–480.
(обратно)
8
Блинова Е. Б. Космическая контрабанда // Независимая газета. 12.09.2005.
(обратно)
9
Сидоров Д. А. Шведская Ладожская флотилия 1701–1703 гг. // Меншиковские чтения — 2016. СПб., 2016. Вып. 7 (17). С. 207.
(обратно)
10
Напомним, что простым числом называется натуральное число, которое делится только на 1 и на самого себя (например, 7, 41, 353, 1039, 8051).
(обратно)
11
Есть у Апостолоса Доксиадиса роман «Дядюшка Петрос и проблема Гольдбаха», но там не о том.
(обратно)
12
Перечень изданных томов Полного собрания сочинений Леонарда Эйлера («Leonhardi Euleri opera omnia»). Составители: М. Маттмюллер, Л. И. Брылевская // Леонард Эйлер: К 300-летию со дня рождения: Сб. ст. СПб., 2008. С. 292–300.
(обратно)
13
Петров А. Н. Памятные эйлеровские места в Ленинграде // Леонард Эйлер: Сборник статей в честь 250-летия со дня рождения, представленных Академии наук СССР. М., 1958. С. 599, 600.
(обратно)
14
30 апреля 1909 г.
(обратно)
15
Своим неподражаемым голосом и с изумительным умением вовремя поставить точку, робот Алиса, конечно, цитирует Википедию. Но не только из рукоятки состоит прибор, — дальше надо продолжить: «…трубчатого буравчика и полуцилиндрического экстрактора для выбуренной колонки древесины, называемой керном».
(обратно)
16
У Рейна — «Памяти Витебского канала в Ленинграде». Не помню, чтобы кто-то называл канал Витебским.
(обратно)
17
Как промежуточное топонимическое звено — Введенская гимназия, в которой учился Александр Блок. Стояла на месте отеля.
(обратно)
18
Перевод Л. Сумм.
(обратно)
19
Более того, аналитический отдел агентства Regnum сообщил 18 декабря, что по числу запросов в поисковой системе «Яндекс» это преступление вошло в топ-3 главных петербургских событий 2019 года — после открытия новых станций метро и выборов губернатора.
(обратно)
20
Реконструкция.
(обратно)
21
Строго говоря, сравнительно небольшое «Заключение» имеет статус главы, так как этому заглавию предпослано римское XII в соответствии с нумерацией глав четвертой части романа. Получается, что формально «Заключение» относится только к четвертой части романа, а не ко всему тексту. Здесь будем считать «Заключение» «Заключением», а последней главой «Идиота» — одиннадцатую в четвертой части, где князь Мышкин мечется по Петербургу, а потом проводит ночь у трупа Настасьи Филипповны вместе с Рогожиным. К этой главе XI — наше внимание.
(обратно)
22
Хентова С. Д. Шостакович. Жизнь и творчество; Монография: В 2 кн. Кн. I. Л.: Сов. композитор, 1985. С. 62.
(обратно)
23
Хентова С. С. 63.
(обратно)
24
Экспонируются, однако, всего лишь 30.
(обратно)
25
Название настолько говорящее, что не удержался — подарил его герою своего раннего сюжета «Тяжелые вещи».
(обратно)
26
Рихман Г. В. Труды по физике // Акад. наук СССР. Ин-т истории естествознания и техники. 1956. С. 321.
(обратно)
27
Там же. С. 548 (примечания).
(обратно)
28
Там же. С. 550.
(обратно)
29
http://fragments.spb.ru/chr1989-1996.html.
(обратно)
30
«1. В Санкт-Петербурге сохраняются и поддерживаются исторические и культурные традиции.
1.1. Петербургской традицией является полуденный выстрел сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости». — Сайт правительства Санкт-Петербурга.
(обратно)
31
История не выдуманная. Хорошо помню, что лет десять назад читал это в блоге у моего знакомого. Но честно сказать, не помню, у кого именно. Случай запомнил, а с кем приключилось — не вспомнить. Поисковики не помогают. Грешил на Германа Садулаева, но при встрече он сказал, что, хотя и помнит что-то подобное, но это не он (и я заменил его на К.). Нелепая ситуация, — помню, что было, а с кем?
(обратно)
32
В этом эпизоде запредельное коварство Меншикова снимает в принципе вопрос об адекватности его жертвы; стоит, однако, отметить мнение автора, чрезвычайно внимательного ко всему, где можно заподозрить «бациллу пьянства», — Николай Голь уверенно распознает состояние Девиера: «На этот раз находился он в изрядном подпитии, что заметно улучшило настроение и притупило осторожность» (из его книги «Первоначальствующие лица. История одного города». СПб., 2014).
(обратно)
33
Лен/Ленин = 3/5; Лен = (3/5) × Ленин.
(обратно)
34
Заканчивая эту книгу в марте 2020-го, хочу сообщить, что эта зима была совершенно бесснежной, а 27 февраля, сам видел, летал во дворе мотылек.
(обратно)
