| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Люди и кирпичи. 10 архитектурных сооружений, которые изменили мир (fb2)
 - Люди и кирпичи. 10 архитектурных сооружений, которые изменили мир (пер. Мария Николаевна Десятова) 9695K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Том Уилкинсон
- Люди и кирпичи. 10 архитектурных сооружений, которые изменили мир (пер. Мария Николаевна Десятова) 9695K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Люди и кирпичи. 10 архитектурных сооружений, которые изменили мир
Переводчик Мария Десятова
Редактор Наталья Нарциссова
Руководитель проекта И. Серёгина
Корректоры Е. Аксёнова, М. Миловидова
Компьютерная верстка А. Фоминов
Дизайн обложки Ю. Буга
© Tom Wilkinson, 2014
The moral right of the author has been asserted
© Фотография на обложке. Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – August Sander Archiv, Cologne; RAO, Moskwa, 2015
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2015
Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).
Моим родителям посвящается
Предисловие
Рай в шалаше
Истоки архитектуры
То, что обнаруживается в историческом начале вещей, – это не идентичность, еще сохранившаяся от их происхождения, это распря других вещей, это несоответствие.
Мишель Фуко. Ницше, генеалогия, история{1}
В избушке было что-то отвратительное.
Стелла Гиббонс. Неуютная ферма

Домик композитора, Тоблах
На усыпанном цветами альпийском склоне стоит разборный домик с двускатной крышей (наверное, с этого и начиналось зодчество – с простых деревянных построек в глуши). Не живописная лачуга, но и не роскошное шале. Вокруг сосновый частокол, поверху которого пущена колючая проволока, а позади дом окружают, будто крадущиеся разбойники, раскидистые деревья. Шелестит листва, галдят крестьянские ребятишки (на дворе 1909 год, крестьяне в этих местах еще встречаются), а из дома доносятся звуки фортепиано. Мелодия, ясно слышная в неподвижном прозрачном воздухе, то спотыкается и прерывается, то льется свободно. Вдруг в дом врезается какой-то взъерошенный клубок, раздается звон разбитого стекла. Фортепиано умолкает, и обитатель дома – Густав Малер – вскрикивает от неожиданности. Влетевшая в окно галка, спасавшаяся от сокола, отбивается от своего преследователя прямо над головой жильца.
Тысячелетиями люди представляли, что именно так и зародилась архитектура: лесной пейзаж, деревянная хижина и порыв вдохновения положили начало целой области человеческой деятельности (хотя, пожалуй, галки и композиторы в этих картинах фигурируют нечасто). К истокам зодчества обращаются не только историки: многие представители искусства, как и Малер, предпочитали творить в слиянии с природой, да и популярность пляжных шалашей, хижин на деревьях и садовых домиков говорит сама за себя. «Рай в шалаше» привлекает и художников, и отдыхающих, и историков – первозданной чистотой и возможностью начать с нуля. Однако возвращение к истокам не только дает ответы, но и порождает новые вопросы. Сколько было таких истоков – один или много? И следует ли рассматривать неудачные, тупиковые попытки или стоит ограничиться историей, написанной победителями? Откуда черпать сведения о доисторических постройках? И где проходит водораздел между примитивными первобытными сооружениями и Архитектурой с большой буквы?
Боюсь, последний вопрос останется риторическим – я на него ответить не берусь. Историк архитектуры Николаус Певзнер начинает свои «Очерки о европейской архитектуре» (Outline of European Architecture) с того, что высокомерно называет велосипедный сарай чем-то, не заслуживающим внимания и не имеющим отношения к зодчеству, а вот я собираюсь изрядно покопаться в «сараях» истории. Что же касается истоков – тут я несколько лукавлю, поскольку начал не с доисторических времен (Малер при всех его недостатках неандертальцем не был). Я просто выбрал подходящую отправную точку и с равным успехом мог бы взять любой пример возвращения человека к примитивной постройке. Я воспользовался тайным ходом, срезал путь, отклонившись от линии времени и выбрав, может быть, менее изящный, но зато более удобный способ изложить достаточно запутанную тему. И хотя десять тематических глав моей книги выстроены в хронологическом порядке, мы и дальше будем кое-где пользоваться тайными ходами и перемещаться во времени и пространстве, рассматривая самые разные темы – секс, власть, нравственность и т. д. – в контексте их связи с архитектурой. Давайте же перенесемся вслед за Малером в доисторические кущи: его скромный выбор места для работы как нельзя лучше перекликается с первой моей темой – истоки архитектуры.
Малер удалялся в горы от соблазнов современного города и создавал основные свои произведения поочередно в трех альпийских «шалашах» – в перерывах между дирижированием оркестрами в Вене и Нью-Йорке. В третьей из этих построек (как раз той, что описана выше), находившейся на территории фермы в тирольской коммуне Тоблах, Малер провел три последних лета своей жизни. В начале XX века Тоблах, располагавшийся вдали от шумной жаркой Вены, сохранял доиндустриальный сельский уклад. Но «тихая» деревенская жизнь действовала Малеру на нервы. Он жаловался жене на шумных хозяев фермы. «Как замечательно было бы жить в сельской глуши, если бы крестьяне рождались исключительно глухонемыми!»{2} – говорилось в одном его письме домой, а в другом: «Мир был бы чудесен, если бы можно было огородить забором участок земли и сидеть посередине в одиночестве»{3}. Однако Малеру никак не удавалось изолировать себя от окружающего мира и его назойливых обитателей. Крестьяне лезли через полутораметровый забор клянчить деньги, поэтому пришлось пустить поверху колючую проволоку. Но и после этого покой и уединение Малеру только снились. «Как отучить петуха кукарекать?» – поинтересовался у хозяина фермы измученный композитор. «Проще простого, – ответил тот. – Сверните ему шею»{4}.
К досадным неприятностям сельской жизни добавлялись и серьезные несчастья: в 1907 году умерла от воспаления легких маленькая дочь Малера, а в 1910-м он получил в Тоблахе нервный срыв, узнав, что жена изменяет ему с архитектором Вальтером Гропиусом (будущим учредителем Баухауза и создателем еще одной «примитивной» постройки – деревянного дома Зоммерфельда в пригороде Берлина). Измученный переживаниями и болезнью сердца, следующей весной Малер умер: спастись от мира оказалось невозможно даже в четырех стенах за высоким забором.
Малер был не единственным, кто искал уединения в «шалаше». Немало художников и писателей работали в схожих примитивных постройках. Многим для вдохновения требуется одиночество и возврат к истокам, к самому элементарному, как своеобразный способ начать с чистого листа. Марк Твен, Вирджиния Вульф, Дилан Томас, Роальд Даль и Бернард Шоу творили в деревенских домиках (который у Шоу поворачивался вокруг своей оси вслед за солнцем). Хайдеггер и Витгенштейн философствовали в лачугах, Гоген умер в хижине на Таити в окружении несовершеннолетних островитянок – он называл эту хижину maison du jouir (дом оргазма). Гоген отправился в Полинезию по гранту французского правительства, которому потребовалось запечатлеть местных жителей и их обычаи для истории и, возможно, в качестве рекламы, чтобы привлечь других колонистов. Бежавший от буржуазного мещанства художник увековечивал нетронутую, девственную культуру, заодно заражая ее представительниц сифилисом.
Первым среди творческих людей уединение в «шалаше» выбрал американский писатель Генри Торо. В 1845 году он построил на земле своего друга Эмерсона небольшой домик, чтобы слиться с природой, не отрезая себя, однако, полностью от цивилизации. Свое отшельничество Торо описал в книге «Уолден, или Жизнь в лесу». В главе о звуках, которые слышны в его избушке, перечислены, помимо пасторальных – птичьего пения, отдаленного колокольного звона и «безутешного коровьего мычания», гудки проходящих поездов. «Свисток паровоза слышен в моем лесу летом и зимой; он похож на крик ястреба». В отличие от Малера Торо никакие звуки – ни естественного, ни искусственного происхождения – не раздражают, он радуется им как весточкам из внешнего мира. У Торо и человек, и созданные им машины существуют в гармонии с природой, а не противостоят ей. Железнодорожное полотно, вдоль которого он шагает к ближайшей деревне, связывает его «с человеческим обществом»{5}.
Небольшой бревенчатый дом без водопровода и электричества в шварцвальдском Тодтнауберге стал убежищем для писателя, чья тяга к ретроградству была куда менее безобидна. Именно в этом доме немецкий философ Мартин Хайдеггер создал немалую часть своих трудов. И именно там в 1933 году устроил праздник для студентов и преподавателей Фрайбургского университета, ректором которого являлся в ту пору. В темном лесу под треск жаркого пламени костра они обсуждали нацификацию немецких университетов, и именно там Хайдеггер признался в лояльности новым властям. Я вовсе не хочу сказать, что все обитатели «шалашей» – негодяи. Несмотря на сомнительные политические убеждения Хайдеггера, некоторые его идеи, касающиеся зодчества, по-прежнему актуальны. Так, его утверждение, что конечный облик здания зависит от обитателей в той же степени, что и от строителей, и его приверженность самобытным местным формам опускают с небес на землю тех, для кого в архитектуре нет места самоучкам и непрофессионалам. И все же в хайдеггеровской концепции возврата к архитектурным истокам есть нечто настораживающее. В философии Хайдеггера все многообразие архитектурных функций сводится лишь к одной – жилищной. Ради того, чтобы «жить исконной жизнью», Хайдеггер предлагает отказаться от технологий, поскольку они разрывают метафизическую связь с вещами и местами. Его взгляды сильно отличаются от представлений Торо о гармонии технологического прогресса и природы, однако и мир со времен Торо успел заметно измениться. Спустя столетие после «Уолдена» немцы смотрели на технологический прогресс иначе. Особенно немцы правого толка (хайдеггеровская одержимость корнями напрямую соотносится с нацистской теорией «крови и почвы», которая прослеживала сомнительную взаимосвязь между нациями и местами их обитания и породила пристрастие арийцев к «фольклорным» домикам, а также геноцид). Как ни странно, несмотря на то что хайдеггеровская концепция жилища должна приземлять чрезмерно рациональный взгляд на архитектуру, она, наоборот, возвышает его до абстракции. Точно так же и история у Хайдеггера превращается из последовательности определенных социальных обстоятельств в некую абстрактную «историчность». Причина и следствие в его метафизике летят кувырком, равно как и этика. За сочувствие нацистам Хайдеггер так и не принес извинений. Его избушка, отрезанная от общества, прогресса и – своим возвратом к истокам – от самой истории, как нельзя лучше располагала к тому, чтобы расслабиться и сложить с себя всякую ответственность.
Кроме богемного круга композиторов и витающих в эмпиреях философов, находится немало других желающих пожить в «шалаше». Дощатые загородные дачи русских, совершенные в своей хрупкости японские чайные домики, пятизвездочные пляжные бунгало на островных курортах, немецкие летние дома на садовых участках, тянущихся вдоль железных дорог и населенных гипсовыми гномами, и, наконец, британские пляжные сарайчики наглядно свидетельствуют о желании слиться с природой, хотя, разумеется, мало кто из многочисленной братии отдыхающих использует в качестве туалета ведро или ближайшие кусты: nostalgie de la boue (буквально: «тоска по грязи») так далеко не простирается. Своей тягой к первобытной простоте мы и многие из упомянутых выше творческих личностей обязаны Руссо и его последователям: по логике романтизма, переселяясь в хижину бесхитростного дикаря, мы смываем с себя порочный налет цивилизации.
Что до любителей работать в «шалаше», для них это – место без истории, возможность начать с чистого листа, хотя на самом деле их игра в дикарей не обходится без доли лукавства. В действительности история у «шалашей» как раз есть – как правило, это история лишения привилегий. А еще у них имеются протекающие крыши, проблемы с канализацией, полчища грызунов и сквозняки из всех щелей. Именно «шалаши» в первую очередь страдают от оползней, землетрясений, лесных пожаров и цунами.
Поиски английского аналога «шалаша» доромантической эпохи приведут нас в лачугу, служившую пристанищем не благородному дикарю, а зависимому от феодала крестьянину. Попав в такую лачугу, изгнанный из замка король Лир потерял рассудок от резкого контраста между привычным ему и увиденным. Лишь после европейских буржуазных и промышленных революций, когда ужасы феодального быта начали постепенно выветриваться из народной памяти, страх перед лачугами пропал и идеализировать «хижины» стало проще. Однако некоторые прелести феодализма дожили и до наших дней. Пятизвездочные пляжные бунгало на Бали – современный аналог стилизованного крестьянского домика Марии Антуанетты в Версале, где королева изображала молочницу, разодевшись в шелковые «лохмотья». Богачи и сильные мира сего играют в бедность на глазах местного населения, в этой бедности живущего.
Историки, заглядывающие в прошлое, сталкиваются с теми же трудностями, что и художники, философы и туристы, желающие обратить вспять развитие архитектуры. Римский военный инженер I века нашей эры Витрувий написал трактат «Об архитектуре» – самый ранний из дошедших до нас трудов на эту тему, где изложил начала зодчества. Его работа, забытая в Средние века и открытая заново учеными Возрождения, стала настоящей библией для грядущих поколений архитекторов.
На заре веков, пишет Витрувий, люди обитали в пещерах и лесах, питаясь, как животные, подножным кормом. В один прекрасный день они потянулись к зажженному молнией лесному костру. Затем, объединенные источником тепла и света, начали общаться и, селясь вместе, строить примитивные жилища: одни делали шалаши из веток и листьев, другие зарывались в норы, третьи по примеру ласточек обмазывали плетеную основу шалаша глиной. Со временем постройки совершенствовались, люди стремились улучшить свой дом – в мирном соревновании с другими. «То, что зодчество зародилось именно таким образом, подтверждается и тем, что до наших дней у иноземных племен здания строятся из такого же материала»{6} (пережитки прошлого всегда сохраняются лишь у чужеземцев). Витрувий был военным инженером, и ему доводилось строить крепости на захваченных Римом территориях, где он и сталкивался с племенами, чьи постройки приводил в пример как примитивные, глядя на них через призму агрессии, высокомерия и настороженности. В этом контексте довольно смешно утверждать, что двигателем архитектурного развития служило «мирное соревнование».
Витрувий полагал, что греко-римская архитектура начиналась с такого же примитива, как и у покоряемых народов, доказывая, что даже величайшие храмы копировали своих деревянных предшественников. По его теории, вырезанные в мраморе декоративные мотивы изначально были функциональными элементами деревянных конструкций. Однако, утверждает Витрувий, именно греческий гений подарил этим воссозданным в камне деревянным строениям золотые пропорции человеческого тела. Ордера классической архитектуры – традиционное деление на типы в зависимости от пропорций колонн и вариантов орнамента – были впервые описаны именно в трактате Витрувия. Каждый из этих ордеров, говорит он, брал за образец человеческую фигуру: в основе дорического – простого и крепкого – лежат мужские пропорции; стройный и богато украшенный ионический списан с женской фигуры, а еще более изящный коринфский – с девичьей.
Но при всем своем очаровании и затейливости витрувианская теория происхождения «высокой» архитектуры имеет неприятный подтекст: именно итальянские пропорции самые совершенные и именно римлянам и их зодчеству суждено покорить мир. Таким же архитектурным расизмом отличались и нацисты, видевшие в немецких сельских домах улыбающиеся лица арийских крестьян, а в модернистских постройках – «невыразительные», «одутловатые» лица «прочих народов»{7}.
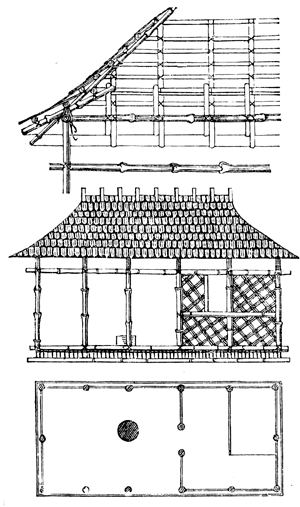
Карибская хижина, увиденная Земпером
Оставим ненадолго Витрувия и перенесемся на полтора тысячелетия вперед, к другой попытке отыскать истоки архитектуры. На дворе 1851 год. Бежавший из страны немецкий революционер и бывший придворный архитектор саксонского короля Готфрид Земпер рассматривает на Всемирной выставке в Лондоне заморские трофеи крупнейшей в мире империи. В пестрой мешанине экспонатов, представленных в Хрустальном дворце, его внимание привлекает скромное жилище с Вест-Индских островов (карибская хижина, как он его назвал), сделанное из бамбуковых реек. Именно тогда, в годы лондонского изгнания, Земпер задумал свой фундаментальный, неудобочитаемый, однако крайне влиятельный труд «Стиль в технических и тектонических искусствах», где доказывал, что архитектура берет начало в простых постройках вроде увиденной им в Хрустальном дворце. Может показаться, что вдохновившее Земпера знакомство с первобытным жилищем в точности повторяет историю столкновения Витрувия с варварским зодчеством, однако, в отличие от Витрувия, который во главу угла ставил пропорции человеческого тела, Земпер сосредоточился на четырех базовых технологиях – плетении, гончарном производстве, плотницком деле и каменной кладке – и на создаваемых ими ограниченных пространствах. Карибской хижине Земпер придавал особое значение, поскольку «она демонстрирует все составляющие древнего зодчества в чистой, исконной форме: очаг в центре, земляной фундамент в виде окруженной подпорками террасы, крыша на опорах и плетеная загородка в качестве пространственного ограничителя, или стены»{8}. Это концепция оказала огромное влияние на развитие современной архитектуры с ее тенденцией играть пространствами и объемами. Вы можете подумать, что отход от пережитков витрувианской доктрины с ее расистским подтекстом стал шагом вперед, однако земперовская теория тоже возникла в силу определенных обстоятельств, обусловивших встречу ее автора с хижиной карибских аборигенов в сердце самого крупного промышленного города в 1851 году. Не начни Британская империя обогащаться за счет рабского труда населения Карибов, хижина не попала бы в Лондон. «Абстрактное огороженное пространство» на самом деле представляло собой бывшее жилище выселенного аборигена (сопротивлявшиеся порабощению местные жители были в два счета изгнаны с исконных земель). Как и воображаемая первая постройка у Витрувия, первая хижина по версии ученого XIX века тоже была жилищем представителя завоеванного народа, которое теоретик смог увидеть лишь благодаря территориальным завоеваниям метрополии. И сохранилось оно лишь на страницах его труда, а в действительности, скорее всего, было сожжено, растоптано, уничтожено.

Бельгийская станция на реке Конго (1889)
Заря архитектурной истории в представлении древнего римлянина или жителя викторианского Лондона зачастую означала закат чьей-то другой архитектуры. Эта жестокая диалектика присутствует и в «Сердце тьмы» (1899) Джозефа Конрада, где рассказчик поднимается по реке Конго в поисках одиозного бельгийского торгового агента по фамилии Курц. При этом он словно движется вспять во времени. Встреченные им по пути европейцы на все лады хвалят Курца за красноречие и одаренность. Но, когда мы наконец добираемся до станции Курца, нас ждет глубочайшее разочарование. Что-то неладное случилось с европейцем, о котором мы уже столько наслышаны, и первой о его возврате к варварству свидетельствует именно архитектура. Рассказчик видит в бинокль полуразвалившееся здание на вершине холма и, отметив зияющие в крыше дыры, сообщает:
«Я не заметил никакой изгороди, но, очевидно, раньше она здесь была, так как перед домом вытянулись в ряд шесть тонких столбов, грубо обструганных и украшенных круглыми шарами. ‹…› Потом стал наводить бинокль на все столбы по очереди и окончательно убедился в своей ошибке. Эти круглые шары были не украшением, но символом, выразительным, загадочным и волнующим, пищей для размышления, а также – для коршунов, если бы таковые парили в небе»{9}.
Шары на столбах оказались высохшими оскаленными человеческими головами – «выразительным и загадочным» символом первобытной жестокости, той самой, на которой зиждутся пространственные абстракции Земпера и аркадианский миф Витрувия. Если и в самом деле воспринимать путешествие вверх по Конго как путешествие во времени, то эти головы на столбах ставят под сомнение теорию Витрувия о том, что зодчество развивалось благодаря сотрудничеству между людьми. А утверждению, будто греческий гений исходил при постройке храмов из пропорций человеческого тела, это крайнее проявление антропоморфизма придает совсем уж макабрическую окраску. Созданная на пороге XX века повесть Конрада отражает кульминацию европейской экспансии, и хотя под пятой Запада к тому времени оказался уже почти весь мир, кое-кто – в том числе и Конрад – начинал осознавать, что ни к чему хорошему это не приведет. Однако, несмотря на попытки Конрада разоблачить жестокость колониальной политики, его слог проникнут тем же презрением к африканцам, которое и породило ужас Бельгийского Конго, где погибло 10 млн человек (особенно врезается в память сравнение технически подкованного африканца с собакой в штанах){10}. В конце концов бесчеловечность колонизаторов нашла выход внутри Европы, и с 1914 по 1945 год ее народы применяли друг против друга приемы ведения войны и методы порабощения, отработанные на других континентах. Среди этих методов был и особый вид жилья, придуманный британцами во время Бурской войны, – концлагерные бараки.
* * *
Потрясения двух мировых войн заставили Европу изменить отношение к собственному прошлому и истории, что отразилось и во взглядах на архитектурный примитивизм. Это видно из рассказа Сэмюэла Беккета «Первая любовь», написанного в 1946 году, вскоре после войны, во время которой автор участвовал во французском Сопротивлении.
«…ведь воздух уже начинал пощипывать холодом, и по другим причинам, о которых я не стану распространяться таким подонкам, как вы, окопался в заброшенном коровнике, примеченном мною во время одного из набегов. Он находился на краю поля, на котором крапивы было больше, чем травы, а грязи больше, чем крапивы, но почва которого была, видимо, исключительных свойств. И в этом вот коровнике, заваленном засохшими и усохшими коровьими лепешками, со вздохом оседавшими под нажимом моего пальца, мне пришлось в первый – я был бы рад сказать в последний, если б у меня имелся цианистый калий – раз в жизни бороться с чувством, которое, к моему ужасу, постепенно приобретало отвратительное имя любви»{11}.
Герой Беккета приглашает нас в свое доморощенное убежище – заброшенный коровник. Это отсылает нас к еще одной разновидности примитивизма, ведь предвестницей романтического идеала первозданных истоков была пастушья хижина, которая воспевалась еще античными поэтами, в частности Вергилием. Традиционное место пасторальных утех, несмотря на подмеченные героем Беккета коровьи лепешки на полу, по-прежнему служит колыбелью любви – и зарождения жизни, а также литературного творчества, поскольку именно там рассказчик «выцарапывал буквы, составляющие слово “Лулу”, на старой коровьей лепешке». Безжалостному разоблачению любви и искусства (колосса, в буквальном смысле стоящего на глиняных ногах) предшествует лирическое отступление на исторические темы и выпад в адрес ирландцев: «Все очарование наших краев, ежели, конечно, отвлечься от скудости населения, и это при том, что у нас отсутствуют простейшие противозачаточные средства, состоит в том, что все у нас ужасно ветхое, за единственным вычетом всякого древнего исторического дерьма. Оно пользуется бешеной популярностью, из него делают чучела и выстраиваются к ним в очередь. Где бы тошнотворное время ни наложило отличных увесистых какашек, там можно узреть наших патриотов, вынюхивающих на четвереньках с горящими рожами»{12}.
«Не вижу никакой связи между этими замечаниями», – утверждает герой с невинным видом, однако именно в тот период любовь, история и творчество дружно увязли в экскрементах. Тем не менее тогда же архитектурные авгиевы конюшни европейских городов были в значительной степени расчищены – об этом позаботилось люфтваффе и британская Королевская авиация. Можно было начинать с чистого листа.

Дворик и павильон (1956)
Начал возрождаться из пепла чуть более оптимистичный послевоенный примитивизм. Проведение в Лондоне в 1956 году выставки «Это завтрашний день» (This is Tomorrow) часто называют моментом рождения поп-арта, когда высокая культура в упоении начала вбирать в себя ширпотребовские образы. Однако один из экспонатов выставки явно выбивался из общего ряда: заходя за высокий деревянный забор (снова напоминает о себе малеровская альпийская деревня?), посетители оказывались на песчаном пустыре, усеянном обломками. Посередине возвышался хлипкий щелястый сарай с прозрачной шиферной крышей. Внутри взору посетителей представал огромный коллаж в виде головы – древней, уродливой, с содранной кожей, сожженной, окостеневшей… При ближайшем рассмотрении выяснялось, что она составлена из увеличенных микроснимков обугленного дерева и ржавчины, а также изображения старого башмака. Авторами этой инсталляции под названием «Дворик и павильон» были Питер и Элисон Смитсоны (основоположники брутализма и создатели спорного проекта муниципальной застройки – жилого комплекса «Сады Робин Гуда»), художник Эдуардо Паолоцци и фотограф Найджел Хендерсон. Вчетвером они придумали этот образ – сарай после ядерного апокалипсиса, страшный призрак которого витал над 1950-ми. Плоды западного потребительства, прославляемые в других инсталляциях, представали здесь покореженными и перекрученными археологическими находками, останками погибшей цивилизации, причудливо перекомпонованными и послужившими строительным материалом для нового человеческого жилища. Инсталляция не давала забыть, что новое строится на обломках старого. Вспоминая впоследствии о выставке, Смитсоны отмечали, что в тот период им был близок Сэмюэл Беккет – и действительно в их собранном из чего попало сарае чувствуется беккетовская упорная живучесть: «Не в силах продолжать. Я продолжаю». В этих словах сосредоточена вся пугающая сложность истории архитектуры. На фоне ужасов прошедшего столетия возможность прогресса – в том числе и архитектурного – зачастую выглядела абсолютно мифической. Это ставит под сомнение и возможность написания истории, которое слишком часто тоже превращается в мифотворчество, однако отказ от него представляется еще более опасным. Как знать, может, из обломков еще можно сколотить что-то пригодное для обитания.
В этой книге я рассматриваю десять зданий, удаленных друг от друга во времени и пространстве: из древнего Вавилона мы будем перемещаться в Пекин рубежа XVIII–XIX веков, а затем в современный Рио. Но, вместо того чтобы пытаться соединить эти точки, я буду обращать внимание на различия, на особенности времени и места. И хотя каждая глава посвящена определенной теме – истокам архитектуры (в предисловии), сексу, труду, я постараюсь не выносить историю за скобки, как делали Земпер и Хайдеггер, в угоду абстрактным понятиям объема, жилища и прочих пустых терминов, которыми любят щеголять архитектурные критики. Как (я надеюсь) показал этот разговор об истоках, избранные мною темы многогранны, с трудом поддаются анализу и не спешат расставаться со своими секретами. Как и сами здания, они меняются со временем, по мере того как люди переосмысливают, перерабатывают, искажают, расширяют и уничтожают их. Они требуют целого арсенала уловок и особых подходов, подобно кэрролловскому Снарку, которого приходится ловить с помощью пакетов акций, вилок и надежды (а в итоге Снарк оказывается Буджумом). Объединяет их мой интерес к тому, как архитектура формирует человеческое мировоззрение, и наоборот. Архитектура – самый необходимый из всех видов искусств: можно прожить без живописи и камерной музыки, можно в крайнем случае обойтись без фильмов и фотографий, но даже у кочевников-бедуинов есть шатры. Люди повсюду живут в окружении архитектуры, а она, в свою очередь, глубоко проникла в нас – как часть нашего общества, наших жизней, наших представлений.
1. Вавилонская башня, Вавилон
(около 650 года до нашей эры)
Архитектура и власть
И Вавилон будет грудою развалин, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием, без жителей.
Иеремия 51:37

Нефтяной фонтан месторождения Баба-Гургур в Ираке на территории бывшего Вавилона (ок. 1932). На переднем плане через пустыню течет нефтяная река
Когда в марте 1917 года британские войска вошли в Багдад, закрепляя за империей владение стратегическими нефтяными месторождениями бывшей Османской империи, немецкому археологу Роберту Колдевею пришлось оставить одно из самых потрясающих открытий XX века – древний Вавилон. С 1898 года Колдевей вел раскопки в Месопотамии (на территории современного Ирака), в плодородном Междуречье, где когда-то находился Вавилон и где, как утверждают археологи, зародились письменность, архитектура и города{13}. Он уже успел переправить в Берлин величественные ворота Иштар и теперь откапывал Висячие сады (здесь он ошибся: как выяснилось впоследствии, это были руины другой постройки).
Одной из самых загадочных находок – при этом совершенно неприметной, в отличие от сияющих бирюзой ворот Иштар, – оказалась прямоугольная яма, заполненная застоявшейся водой. Именно в ней скрывался фундамент здания, которое тысячелетиями существовало только в легендах, – Вавилонской башни. Этеменанки – Дом основания неба и земли, как называли ее вавилонские строители, – представляла собой огромный зиккурат, ступенчатую пирамиду, которая венчалась храмом, посвященным богу Мардуку, грозному создателю человечества и небесному покровителю Вавилона. Несмотря на то что Вавилон вместе со своими богами был стерт с лица земли за столетия до Рождества Христова, Вавилонская башня осталась жить в веках в живописи и легендах, пройдя сквозь войны и революции. Две с лишним тысячи лет этот могущественный образ олицетворял одновременно и власть архитектуры над людьми, и власть людей над архитектурой. В зависимости от того, как воспринимать легенду о Вавилоне, башня либо подчиняла своих подневольных строителей, либо освобождала, объединяя в общем стремлении к власти.
Башни-близнецы – темный и светлый образ одного и того же здания – отражаются друг в друге, словно поставленные лицом друг к другу зеркала, рождая бесконечную вереницу исчезающих вдали башен. Вавилонская башня, Бастилия, Центр международной торговли… Монументальные сооружения вроде Вавилонской башни возводились испокон веков. Как и тюрьмы, дворцы, парламенты и школы, они наглядно демонстрировали могущество, воплощенное в архитектуре, однако даже постройки самых обычных людей – дома и садовые сарайчики – отражают и закрепляют соотношение сил в повседневной жизни. Эта тема встречается снова и снова в истории зданий и судеб, однако наша глава посвящена грандиозным сооружениям и борьбе с ними – будь то в Париже, Нью-Йорке или Багдаде, где одно из крупнейших в мире нефтяных месторождений хранит руины Вавилонской башни. Сегодня на земном шаре нет власти более могущественной, чем власть нефти, и ее история тесно переплетается с историей архитектуры. В рассказе о ней нас ждет немало крутых поворотов. Брехт писал, что «нефть противится пяти актам пьесы, сегодняшние катастрофы протекают не прямолинейно, а в виде циклических кризисов, “герои” меняются с каждой новой фазой»{14}. В истории Вавилонской башни героев хватает с избытком – это и завоеватели, и археологи-шпионы, и иконоборцы, и цари. Так давайте же пробуримся сквозь все эти исторические слои – через ввод войск в Ирак, через 11 сентября, обнаружение Вавилонской башни в ходе раскопок, поиски нефти на Ближнем Востоке – еще глубже, к началу библейских времен.
Самое известное упоминание о Вавилонской башне содержится в Библии. Согласно Книге Бытия, человечество (на заре истории еще единое) решило построить «башню высотою до небес» и сделать «себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли»{15}. Но Бог, увидев, что замыслили его создания, как водится, разгневался. «И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать»{16}. Желая положить конец этим выходкам, он разделил языки и рассеял народы по четырем сторонам света: «Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли и оттуда рассеял их Господь по всей земле»{17}.
В этом красочном библейском повествовании отражены одновременно и утопические мечты строителей, и предел архитектурных возможностей. Как правило, в нем видят предостережение против гордыни – как видел, например, Иосиф Флавий, иудей, живший в I веке нашей эры. Он ошибочно считал правителем Вавилона правнука Ноя – тирана Нимрода, внушавшего народу, что Бог людям не нужен, поскольку они прекрасно могут достичь благополучия собственными силами. «Он хвастливо заявлял, что защитит их от Господа Бога, если бы Тот вновь захотел наслать на землю потоп. Он советовал им построить башню более высокую, чем насколько могла бы подняться вода, и тем отомстить за гибель предков»{18}. Такое прочтение приписывает строителям вполне определенный умысел, однако в библейском тексте нигде прямо не сказано, что прегрешение состояло именно в гордыне. Простота библейской истории обманчива, и ее смысл неоднозначен: на благо человечества могут действовать как строители, так и разгневанное божество – в зависимости от точки зрения. В первом случае башня предстает олицетворением единства и сплоченности, а Господь останавливает строительство из ревности, не в силах вынести покушения на свою власть. Во втором можно считать, что Господь освобождает человечество от тирании вавилонского правителя, согнавшего народ на строительство грандиозного, но бесполезного символа тщеславия. Эта двойственность проходит через всю историю архитектуры: грандиозное строительство как нельзя лучше сплачивает людей, но при этом может и поработить их. Иногда одна и та же стройка таит в себе обе возможности.
Вавилонская башня – это не просто гигантская аллегория, в легенде имеется доля исторической истины. На самом деле иудеи знали о Вавилоне куда больше, чем им хотелось бы. Многие из них провели там 50 лет во времена Вавилонского пленения, последовавшего за неудачным восстанием против царя Навуходоносора II. Правитель раздираемой бунтами империи потратил годы на то, чтобы вернуть столице былой блеск, используя для этого многочисленную армию рабов. Строительство позволяло держать в узде разобщенных подданных, поэтому столицу империи Навуходоносора, как и пирамиды, Великую китайскую стену (при возведении которой погибло около миллиона человек) и Беломоро-Балтийский канал, строили пленники и заключенные, для которых, как предстояло узнать евреям в Египте, жизнь делалась «горькой от тяжкой работы над глиною и кирпичами»{19}.
Посреди великолепной новой столицы Навуходоносора стоял восстановленный огромный зиккурат, посвященный богу Мардуку. Он был разрушен при вторжении ассирийцев в 689 году до нашей эры. Вавилонянам понадобился целый век, чтобы отстроить башню заново, и наконец при Навуходоносоре она увенчалась храмом, облицованным голубыми изразцами. Пропорции прямоугольного основания башни, по всей вероятности, взяты у созвездия, которое греки нарекли Пегасом. «Достигающей звезд» именуют Вавилонскую башню древние глиняные таблички, и храм на ее вершине мог служить отличной обсерваторией жрецам-астрологам. Ориентация по звездам приобщает башню (как и пирамиды, и Стоунхендж) к космосу. Таким образом, архитектура и культура в целом вместе с системой верований, законодательной и исполнительной властью становятся неизменной, бесспорной частью самой природы. Второй природой. А следовательно, власть Навуходоносора предстает такой же незыблемой, как монументальный зиккурат, и такой же вечной, как небесный путь созвездий. Подобная архитектура воздействует на общество определенным образом, создавая впечатление непреложности существующих институтов. Недаром наши банки, правительственные учреждения и университеты в большинстве своем напоминают древние храмы.

Питер Брейгель. Вавилонская башня (около 1563 г.)
Однако Навуходоносор был не только строителем, но и разрушителем архитектурных объектов. В 587–588 годах до нашей эры, подавляя восстание иудеев, он сровнял с землей их святыню – иерусалимский храм, а после этого угнал взятых в плен к себе в столицу, чтобы удобнее было держать непокорный народ в узде. Тем самым он положил начало еврейской диаспоре и великому исходу из Земли обетованной. Неудивительно, что евреи невзлюбили архитектуру своих владык-колонизаторов и мысленно насылали самые страшные небесные кары на столицу Навуходоносора. Пророк Иеремия, возможно, попавший в число вавилонских пленников, предрекал славному городу разрушение: «Трясется земля и трепещет, ибо исполняются над Вавилоном намерения Господа сделать землю Вавилонскую пустынею, без жителей»{20}. Пророчество Иеремии повторяется в самом конце Нового Завета, когда Вавилон – всего раз, но как зрелищно! – возникает в тексте в образе женщины верхом на семиглавом звере. Под воображаемым Вавилоном Иоанна Богослова скрывается же современный евангелисту Рим, угнетатель христиан. Критиковать Рим в открытую было бы слишком рискованно, однако аллюзия достаточно прозрачна: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы»{21}. К этому времени Вавилон уже стал олицетворением греха и на многие тысячелетия превратился в жупел, символизируя подлинный или умозрительный столичный упадок: так, в 1847 году Дизраэли называл «современным Вавилоном» Лондон. А в растафарианстве и вдохновленной им музыке рэгги Вавилон стал собирательным образом западной цивилизации в целом, заковывающей свободного человека в кандалы бюрократизма.
Не один век попадающие в Междуречье христиане размышляли над библейскими сказаниями, убеждаясь в полном исчезновении с лица земли вавилонской империи. В отличие от поражающих воображение свидетельств существования Древнего Египта, здесь впечатляло как раз полное их отсутствие. В голой пустыне путешественники видели подтверждение библейских строк и (говоря словами немецкого путешественника XVI века Леонарда Раувольфа) «самый устрашающий пример для всех нечестивых зазнавшихся тиранов»{22}. Зерно истины в этом было, поскольку Вавилонскую башню в конечном итоге действительно уничтожила гордыня, пусть и без божественного вмешательства. Александр Македонский – самопровозглашенный небожитель, воплощение гордыни – прочил Вавилон в столицы своей бескрайней империи. Библейский город, несомненно, тешил самолюбие императора ослепительным блеском и исполинскими размерами, а все еще мощные стены (протяженностью 8,4 км и толщиной 17–22 м) не могли не произвести впечатление на страдавшего паранойей завоевателя. Но когда в 331 году до нашей эры Александр наконец взял город, то обнаружил лишь следы былого величия и разрушающуюся Вавилонскую башню. Как и Навуходоносор, Александр собрался восстановить ее, однако – не привыкнув размениваться на мелочи – решил отстроить с нуля. По его приказу десятитысячная армия принялась расчищать площадку и два месяца развозила на тачках внушительную гору глиняных кирпичей. Еще через месяц Александр, не дожив до 33 лет, умер, и башня так и не была восстановлена.
В Библии мало говорится о том, как она выглядела, но некоторое представление можно получить из других источников. Греческий историк Геродот утверждал, что она состояла из восьми ярусов и увенчивалась храмом. Это описание в общих чертах подтверждает клинописная табличка 229 года до нашей эры, хотя маловероятно, что Геродот бывал в Вавилоне лично: его хроники, призванные оправдать греко-персидскую войну, представляют собой пеструю мешанину слухов, среди которых, в частности, есть эротический рассказ о божестве, совокуплявшемся со своей жрицей на вершине башни. Поскольку такие вольные описания оставляют довольно широкий простор для фантазии, художники Возрождения в конце концов создали образ округлой многоэтажной башни, спиралью ввинчивающейся в облака. Самым знаменитым из этих изображений стало созданное в 1563 году полотно Питера Брейгеля, на котором монструозная махина грозно высится над пейзажем, напоминающим скорее голландский, чем ближневосточный. На картине Брейгеля башня словно вырастает из скалы (предельное слияние архитектуры с природой), а на переднем плане строители, оторвавшись от вырезания огромных каменных блоков, преклоняют колени перед царем.
Как и положено воображаемому городу, Вавилон приобретал черты современных оплотов угнетателей и поработителей. Так повелось с тех самых пор, как Иоанн Богослов написал «Откровение», в котором давно исчезнувший с лица земли Вавилон, поработитель иудеев, олицетворял имперский Рим, угнетавший христиан. В 1520 году традицию продолжил Мартин Лютер, изрекший: «Папство, воистину, станет не чем иным, как Вавилонским царством и доподлинным антихристом» – и с тех пор протестанты не устают сравнивать католическую церковь с Вавилоном. Точно так же и у Брейгеля – подданного испанской короны, под властью которой в то время находились Нидерланды, – Вавилон похож на Рим: круглая башня с арками напоминает развалины Колизея, которые художник посетил за 12 лет до написания картины. Дело в том, что Рим был цитаделью католической веры, исповедуемой испанскими правителями Нидерландов, Габсбургами, а Нидерланды переживали подъем протестантизма, и насаждение испанцами единой католической веры воспринималось в штыки. Подобно строителям Вавилонской башни католики вели службу на едином языке – латыни, тогда как протестанты были полиглотами. Для нидерландских протестантов насильственное внедрение единообразия и религиозная нетерпимость испанцев были непосильным бременем. Однако башня не достроена – и, по сути, не может быть достроена, поскольку, пока достраивается вершина, основание уже рушится, и ни один из бесчисленных ярусов не доведен до конца. Для Брейгеля испанцы – возгордившиеся вавилоняне, которых постигнет та же незавидная участь.
Не прошло и трех лет с тех пор, как Брейгель создал свою осыпающуюся недостроенную башню, и по Нидерландам прокатилась разрушительная волна иконоборчества, вошедшая в историю как Beeldenstorm – «штурм статуй». В восстании приняло участие немало кальвинистов, возмущенных тем, что испанцы объявили их веру еретической. Вот как описывает события изгнанный из страны католик-англичанин Николас Сандер, ставший свидетелем осквернения церкви Богородицы в Антверпене:
«Последователи нового учения свергали с пьедесталов скульптуры и портили художественные изображения не только Богородицы, но и остальных святых. Рвали занавеси, громили каменную и медную резьбу и украшения, крушили алтари, трепали покровы и платы, гнули ковку, уносили или портили потиры и облачения, сдирали мемориальные таблички с надгробий, не щадя ни стекла, ни сидений вокруг колонн ‹…›. А святая святых, алтарь… они входили туда и (страшно сказать!) изливали свою смердящую мочу»{23}.
Выражавшийся подобным образом протест охватил все Нидерланды. Как сдержанно описывает историк Питер Арнейд, «некая Изабелла Бланштест в Лимбурге помочилась в потир; иконоборцы в Хертогенбосе точно так же обошлись с церковными ларями, еще один бунтовщик в Хюлсте близ Антверпена бросил сорванное со стены распятие в свой свинарник, а граф Кулемборгский скормил просфору ручному попугаю»{24}. Помимо вандализма в ход шли и оскорбительные карнавальные оргии: один из бунтовщиков в упоении макнул статую святого головой в купель, восклицая «Крещу тебя!», а в Антверпене толпа с воплями «Последний твой выход, крошка Мария!» забросала камнями знаменитую статую Богородицы, которую таскали по улицам.
Убирая из церквей и общественных мест испанские и католические статуи, иконоборцы надеялись тем самым освободить свою архитектуру – и страну – от тирании. Однако империя нанесла им ответный удар, создав местное учреждение инквизиции, которое подвергло пыткам и казнило около тысячи человек. Бунтовщик по имени Бертран ле Блас, который во время мессы вырвал у священника просфору и растоптал ее, был замучен до смерти на главной площади Эно. Сначала его жгли раскаленными щипцами, потом вырвали язык, а затем привязали к столбу и медленно поджарили на костре. Однако протестанты не сдавались, и в ходе последующей Восьмидесятилетней войны Нидерланды раскололись на две области: северная, протестантская Голландская республика отвоевала независимость, и сегодня именно ее мы называем Нидерландами, тогда как преимущественно католический юг, оставшийся испанским, образовал нынешнюю Бельгию. Вопреки библейскому сюжету «штурм статуй» был не божьей карой, а делом рук людей, боровшихся с тиранией в ее архитектурном проявлении. Двести лет спустя французы пойдут еще дальше и сокрушат само здание монархии.
* * *
«Дым, как в аду, суета, как у Вавилонской башни, шум, как при светопреставлении!»{25} Так Томас Карлейль описывал в своей нашумевшей «Истории французской революции» падение Бастилии. И здесь снова возникает Вавилон – но уже не как символ тирании, а как синоним упомянутого в Библии «смешения». Карлейль, агиограф Фридриха Великого, не был сторонником демократии – как сути вавилонского смешения языков – и не особенно жаловал революционеров, воспринимая их в худшем случае как обезумевшую толпу, а в лучшем – как предмет насмешек. Сумасшедший «парикмахер с двумя зажженными факелами» поджег бы «селитру в арсенале», если бы не женщина, с визгом выскочившая оттуда, и не один патриот, несколько знакомый с натурфилософией, который быстро вышиб из него дух (прикладом ружья){26}, – так залихватски Карлейль описывает сцены взятия Бастилии. Однако стремление выставить революционеров отребьем и чернью больше говорит о его собственных страхах и предубеждениях, чем о французской революции. Он сам – настоящий вавилонянин, полагающий, что творец, зодчий должен быть лишь один – Бог или монарх – и смешавшийся народ не должен ему докучать.
Так или иначе, Бастилию сокрушило не вавилонское смешение, а народный протест против архитектуры угнетателей. Если какое-то из зданий и заслуживало того, чтобы называться современной Вавилонской башней (модель вторая, тиранический режим), так это она – суровая крепость с восемью башнями, «лабиринт мрачных помещений, первое из которых было построено 420, а последнее – 20 лет назад»{27}. В глазах французов она, бесспорно, выступала символом деспотизма, а потом, после взятия, символом свободы. Образ Бастилии, как и Вавилонской башни, был неоднозначным, и революция сумела выдвинуть на первый план его светлые черты. Однако во многом они оказались выдумкой.
Несмотря на слухи о камерах, забитых невинными, прикованными к гниющим скелетам, при штурме в Бастилии обнаружилось лишь семь заключенных: четверо фальшивомонетчиков, один сумасшедший и двое аристократов, сидящих за сексуальные домогательства. Никто из них не подходил на роль узника режима. Штурм был в значительной мере вдохновлен сочинениями заключенных прошлого – в частности, Вольтера, Дидро и нескольких авторов сенсационных скорбных мемуаров, – а после оправдан изобретением таких колоритных персонажей, как Железная Маска (прототипом для которого послужил настоящий заключенный) и вымышленный граф де Лорж. Этот граф был своего рода массовой галлюцинацией, вызванной отчаянным желанием народа подвести базу под свои революционные убеждения. Очевидцы клялись, что своими глазами видели, как он, с длинной белой бородой, сгорбленный после 40 лет заключения, спотыкаясь и подслеповато, словно крот, щурясь на солнце, вышел из дымящихся развалин. К 1790 году этот вымышленный узник стал такой знаменитостью, что от его имени успели написать несколько повестей о несправедливом заточении, а его восковая фигура выставлялась в знаменитом собрании Филиппа Кюртюса.
Самой башне была уготована долгая посмертная жизнь в качестве двойного символа – тирании и свободы. И хотя практичный землевладелец Пьер-Франсуа Паллуа почти сразу же сровнял ее с землей, камни Бастилии разошлись на сувениры в память об избавлении от тирании. Осколки камней носили в кольцах и серьгах, из переплавленных ржавых цепей чеканили медали, а Паллуа, из нувориша превратившийся в преданного сына революции, финансировал из своего внушительного состояния огромные модели Бастилии, высеченные из ее каменных блоков. Эти камни, которые он называл «реликвиями свободы», были разосланы под охраной «апостолов свободы» по всем 43 департаментам Франции, где их встретили (в большинстве случаев) с большими почестями. «Франция – это новый мир, – провозгласил Паллуа в своей речи в 1792 году, – и чтобы его сберечь, необходимо рассеять как можно шире осколки нашего былого рабства»{28}. Верный своему слову, он продолжил начатое: разоряясь на этом грандиозном предприятии, разослал каменные плиты разрушенной Бастилии с выбитой на них Декларацией прав человека по всем 544 округам Франции. Однако и на этом путешествие Бастилии не закончилось. Словно подхваченные ветром вирусы заразной болезни, невидимые фрагменты разрушенной башни распространились еще шире, далеко за пределы страны и XVIII столетия, на якобы не подверженный изменениям Восток – на пустоши Междуречья, где когда-то возвышалась Вавилонская башня.
«Там, где так тесно сплетаются прошлое и настоящее, незаметно перестаешь различать привычные отрезки времени». Так с клише о неизменности восточного уклада начала в 1911 году свои путевые заметки о Месопотамии «От Мурата до Мурата» Гертруда Белл – исследовательница, археолог, политическая советница и шпионка.
«Однако возникало и новое. Впервые за все пережитые этими заброшенными землями бурные столетия прозвучало могущественное слово, и уловившие его прислушивались в изумлении, переспрашивая друг друга, что оно значит. Свобода – что такое свобода? ‹…› Срываясь, пусть и нехотя, с губ бедуина, оно предзнаменовало перемены. Тревожный ветер перемен веял над Османской империей»{29}.
Отголоски падения Бастилии докатились до другого берега Босфора, где под натиском реформаторов и зарождающегося национального самосознания своих подданных трещала и шаталась Османская империя. После переворота 1908 года жезл власти перехватили младотурки, и вскоре идея свободы проникла и в пустыни, находившиеся под властью Константинополя – довольно, впрочем, призрачной. Именно поэтому Гертруде Белл – первой выпускнице Оксфорда, получивший диплом историка с отличием, одной из самых опытных европейских альпинисток и специалистке по Ближнему Востоку – британская военная разведка поручила во время путешествий по Месопотамии наблюдать за разрозненными бедуинскими племенами. Возможное восстание арабов сыграло бы на руку заинтересованным в этих землях британцам. Для большинства британских чиновников Месопотамия была ценна только близостью к Индии, однако немногочисленная, но влиятельная группа, сложившаяся вокруг военно-морского министерства – Адмиралтейства (Первым лордом которого стал в 1911 году вошедший в эту группу Уинстон Черчилль), – присмотрела в пустыне другой лакомый кусок – нефть. Единственная загвоздка заключалась в том, что они были не единственными, кто на нее зарился.
С конца XIX века гегемония Британской империи оказалась под угрозой: устойчивый экономический подъем вынуждал промышленников, банкиров и власти германского рейха искать новые рынки сырья и сбыта. Среди колониальных владений выбирать было почти что не из чего, поскольку большинство стран там давно прибрали к рукам британцы, поэтому немцы заключили союз с примостившейся у порога Европы Османской империей, которая увязала в долгах. Подписав в 1889 году исторический договор, немцы получили концессию на строительство железной дороги через Анталию. Десять лет спустя – по расширенной концессии – они уже тянули ветку от самого Берлина до Багдада, в ходе этого грандиозного дорогостоящего предприятия связывая друг с другом недоступные прежде земли Османской империи и обеспечивая себе прямой выход к Персидскому заливу. Эта перспектива пугала британцев, которые и без того нервничали из-за стремительного развития немецкого военно-морского флота. В качестве ответных мер в 1901 году они захватили власть над Кувейтом, отрезав немцам доступ к побережью и создав шаткую патовую ситуацию. Она продлилась недолго: в 1903 году эксцентричный англо-австралийский миллионер Уильям Нокс Д’Арси нашел нефть в соседней Персии (современный Иран), и все изменилось.
По инициативе Первого морского лорда Адмиралтейства Джеки Фишера Д’Арси не один год занимался поисками нефти на Ближнем Востоке, потратив на это миллионы. Фишер был убежден, что будущее Королевского военно-морского флота (а значит, и всей империи) зависит от перехода на нефть. Более легкое, обеспечивающее повышенную скорость, но при этом требующее меньших физических затрат по сравнению с углем топливо дало бы британскому флоту стратегическое преимущество перед германским. Однако разведка и добыча требовали огромных вложений, которые не могло обеспечить даже баснословное богатство Д’Арси. Затем начали иссякать финансы у учрежденной для управления месторождениями Англо-Персидской нефтяной компании (ныне известной как British Petroleum). К 1912 году компания оказалась на мели и начала искать надежного спонсора. В 1914 году после долгих внутренних разногласий с подачи Уинстона Черчилля, который продолжал дело Фишера по переводу военно-морского флота на нефтяное топливо, контрольный пакет акций был втайне выкуплен правительством Ее Величества. Это случилось как раз вовремя, поскольку 11 дней спустя после одобрения парламентом черчиллевского законопроекта в Сараево был застрелен эрцгерцог Фердинанд.
Обнаружение нефти в регионе заставило британцев с еще большим подозрением относиться к строительству Берлинско-Багдадской железной дороги, которая теперь слишком близко подбиралась к персидским месторождениям. Кроме того, имелись основания предполагать, что нефть (возможно, целое море) залегает и под Месопотамией. В 1912 году немцы предусмотрительно получили права на разведку полезных ископаемых в 40-километровом коридоре вдоль будущего железнодорожного полотна, в то время как соперничающие между собой банкиры, правительства и инвесторы пытались выхлопотать у своенравной и ветреной Высокой Порты (османского правительства) права на разведку в остальных месопотамских землях.
Разведку в Месопотамии в этот период вели и другие – и не только нефтяную. Германия с Британией конкурировали и за будущее региона, воплощенное в ископаемых богатствах, и за его прошлое. Оба эти направления неразрывно сплелись в судьбах таких знаменитых личностей, как Томас Эдвард Лоуренс (Аравийский) и Гертруда Белл, совмещавших занятия археологией со шпионажем (Лоуренса прислали под прикрытием археологических раскопок наблюдать за строительством Берлинско-Багдадской дороги). Предприимчивые европейцы вели раскопки в этом регионе не первое столетие, однако после распада Османской империи они принялись действовать смелее и вывозить больше. Вдохновленные древними историками вроде Геродота, движимые желанием доказать историческую достоверность библейских сюжетов и политической целесообразностью разведать характер местности и населения, первые исследователи – как правило, дипломаты – выкапывали странные на вид артефакты. Как выразился Магнус Бернардсон, эти археологи-любители «развеивали исторические мифы, поскольку набор источников больше не ограничивался Библией и трудами летописцев классической эпохи. Источники обрели материальность, и история стала достоянием»{30} – прежде всего европейцев и американцев. Однако из-за глубоко въевшихся в сознание предубеждений о «восточных» цивилизациях среди ученых возобладало мнение, что найденные артефакты и в подметки не годятся сокровищам Древней Греции, после чего началась информационная борьба за финансовую и правительственную поддержку археологических раскопок на Ближнем Востоке.
Одним из адептов новой научной дисциплины стал англичанин Остин Генри Лэйард, занимавшийся раскопками в Месопотамии с 1845 года. После неудачной попытки получить грант от Британского музея (один из попечителей назвал его находки «кучей мусора», самое место которой «на дне морском») Лэйард создал акционерное общество, рекламируя его среди британских и американских религиозных фанатиков с помощью книги о своих находках – «Ниневия и ее останки» (Nineveh and its Remains). Один из приятелей посоветовал Лэйарду: «Состряпай варево пожирнее… сыпь любые байки и предания без разбора, лишь бы читатель поверил, что ты и в самом деле нашел подтверждение библейским сюжетам, тогда дело в шляпе»{31}. The Times назвала книгу «самым выдающимся трудом нынешней эпохи», ею зачитывались по обе стороны Атлантики, и Британский музей наконец открыл галерею, посвященную Ближнему Востоку, где до сих пор представлены найденные Лэйардом барельефы под охраной двух огромных крылатых львов.
Теперь к раскопкам присоединились и немцы, однако они, как выяснила Гертруда Белл, придерживались иного подхода. Им не было нужды ссылаться на Библию в поисках общественной поддержки, поскольку правительство (состоявшее в куда более теплых отношениях с турками, чем британцы) и без того не отказывало в финансировании экспедиций. Соответственно, и методы немцев отличались от британских.

Мардук (справа) преследует Анзуда. Из книги Лэйарда «Памятники Ниневии» (1853)
Белл доводилось встречаться в своих путешествиях по пустыне с археологами из разных стран, и строгий научный подход немцев поразил ее, о чем она из дружеских побуждений сообщила Лоуренсу, назвав его собственные методы «доисторическими». Многие из немецких археологов – в частности, Роберт Колдевей, раскопавший Вавилон, – учились профессии еще на родине, в отличие от британцев, которые в большинстве своем были выпускниками классических факультетов Оксфорда и Кембриджа. Профессионально подготовленные немцы старались сохранить остатки раскапываемых зданий, а не рушить все, что нельзя было вывезти. Поэтому раскоп Колдевея представлял собой огромную яму, открывающую основание Вавилонской башни. В слоях этой ямы, по теории археолога, таилась многовековая история разрушений и восстановлений. Колдевей, по отзывам современников, был человеком трудным и нелюдимым. Даже друзья утверждали, что с ним невозможно общаться: один из самых близких его товарищей называл Колдевея «чудаком до мозга костей». Тем поразительнее читать, что Белл он показался весьма приятным в общении. Однако Белл и сама была личностью незаурядной.
Аристократка-аутсайдер, замуж она так и не вышла, однако имела два бурных (пусть и эпистолярных) романа с женатыми мужчинами. На вкус большинства европейцев, ее как женщину портили излишний ум и прямолинейность. Член парламента баронет Марк Сайкс, оказавший впоследствии огромное влияние на ближневосточную геополитику, повстречавшись с Белл в пустыне, крупно с ней повздорил. Сайкс счел ее «глупой трещоткой, заносчивой балаболкой, плоскогрудой мужеподобной пустозвонкой»{32}. Кроме того, он назвал ее лгуньей и, страшно сказать, стервой, однако сумел распознать в ней конкурентку-арабистку, свободную к тому же от расистских предрассудков (сам Сайкс в другом своем не менее очаровательном опусе называл бедуинов животными).
Запись в дневнике Белл за март 1914 года рассказывает о куда более цивилизованной встрече в пустыне – разговоре с Колдевеем, проникнутом взаимной симпатией и полном роковых предзнаменований:
«Сфотографировала Колдевея, снова дошла с ним до Виа-Сакра и дальше вдоль Тигра к Вавилону. Там умер Александр… “Ему было тридцать два, – сказал Колдевей. – Я в тридцать два только-только закончил учиться, а он завоевал мир”. Потом он погиб, к сожалению, и империя распалась… “В Вавилоне он уже был безумцем – постоянно пил, потом эта страшная история с убийством друга. Пил не просыхая”. Я сказала: “Только безумец и будет стремиться завоевать мир”»{33}.
Больше они не встречались. Летом разразилась война, и хотя Колдевей остался в Месопотамии (которая как часть Османской империи в 1917 году после взятия Багдада британцами стала союзницей Германии), ему пришлось скрепя сердце отбыть на родину. Однако Белл не забыла своего странного знакомого и в 1918 году писала:
«На обратном пути домой вчера остановилась в Вавилоне… Tempi passati [прошлое] здесь ощущается очень остро, хотя я размышляла не о Навуходоносоре и не об Александре, а об оказанном мне теплом приеме и удовольствии от общения с дорогим Колдевеем. Не могу думать о нем как о враге, сердце сжалось при виде пустой и пыльной комнатушки, где… мы с немцами так оживленно беседовали над планами Вавилона… Как страшен созданный нами мир, где рушится дружба…»{34}
Начало военных действий затормозило археологические изыскания, однако найденные трофеи не были забыты: увидев упакованные артефакты, оставленные бежавшими немцами, Белл отбросила сентиментальность и посоветовала переслать их в Британский музей. Про нефть не забыли тоже: чем еще объяснить присутствие почти полуторамиллионной британской армии на таком удаленном театре военных действий? А после заключения мира один миллион военных остался защищать границы и нефтяные месторождения Британской Месопотамии, то есть нынешнего Ирака.
Зодчими нового государства стали Гертруда Белл и ее прежний враг Марк Сайкс. Под конец войны Сайкс вместе со своим французским оппонентом Франсуа Жорж-Пико втайне поделили Ближний Восток между своими странами. По условиям соглашения Сайкса – Пико, после войны Франции отходила Сирия, а Британии – Ирак и Палестина. Этот раздел шел вразрез с обещаниями самоопределения, с помощью которых арабов побуждали восстать против османских властей, и именно из-за него разразилась немалая часть трагических событий на Ближнем Востоке. Белл и Лоуренс, во время войны активно выступавшие связными между арабами и британским правительством, прекрасно сознавали лживость своей миссии, однако не отказывались от нее. Тем самым они проявили себя подлинными британцами: при всей любви к пустыне и ее народу и неприязни к условностям и ограничениям, принятым на родине, их преданность империи оставалась незыблемой, и они собственноручно насаждали те самые ненавистные условности и ограничения в других странах.

Джон Мартин. Разрушение Вавилона (1831)
Нельзя сказать, чтобы Гертруду Белл не смущала эта роль. Несмотря на периодические попытки потешить имперское эго («Воистину мы удивительный народ. Мы спасаем от уничтожения остатки угнетенных наций»), сомнения ее одолевали: «Вправе ли мы, не сумевшие толком наладить собственную жизнь, учить других?»{35} Тем не менее она осталась в Ираке после заключения мира, помогая возвести на престол короля Фейсала, после чего сокрушалась: «Никогда больше не стану никого короновать, это слишком утомительное занятие»{36}. Кроме того, именно она разработала государственную стратегию приобретения древностей и основала знаменитый Багдадский музей. Однако по мере становления иракской независимости влияние Гертруды Белл ослабевало, и в 1926 году она скончалась от передозировки снотворного. Возможно, это было самоубийство: будущего в Ираке Белл не видела, однако и домой вернуться уже не могла.
Сейчас останки Вавилонской башни выглядят примерно такими же, какими их оставил в 1917 году Колдевей: неглубокая яма в демилитаризованной зоне. Ее, в отличие от других памятников региона, так и не восстановил Саддам Хусейн, пообещавший после прихода к власти воссоздать Вавилон (гордыня по-прежнему неистребима). Он занялся Воротами Иштар, дворцом Навуходоносора и зиккуратом в Уре, возродив древнюю традицию клеймения кирпичей. На его клейме значилось: «При победоносном Саддаме Хусейне, президенте Республики, да хранит его Аллах, страже великого Ирака, возрождающем страну, и строителе великой цивилизации, в 1987 году был восстановлен великий город Вавилон». В других клеймах Саддам назывался «сыном Навуходоносора». И это не просто мания величия, хотя и без нее не обошлось. После британцев Саддаму досталась не страна, а настоящая пороховая бочка, раздираемая религиозно-этническими распрями, поэтому, чтобы создать национальный миф, объединяющий все эти враждующие группировки, ему пришлось обратиться к доисторическим временам, когда на эти земли еще не ступала нога суннита, курда, шиита и бедуина.
Судя по тому, как грабили после войны воздвигнутые Саддамом по всей стране государственные музеи, его усилия не встретили особого одобрения и большого успеха не имели, однако кое-кого его попытки восстановить Вавилон все же заинтересовали. У американских евангелистов вроде Чарльза Дайера, который в своей книге «Воскрешение Вавилона» описывал восстановительные проекты Саддама как предвестие конца света, выработалось нездоровое преклонение перед иракским правителем. В том же ключе была написана и чрезвычайно популярная серия романов «Оставленные» (Left Behind) – о приключениях группы «возрожденных» христиан во время апокалиптического конфликта на Ближнем Востоке, – отвечающая на один из самых злободневных вопросов нашего времени: «Пока внимание всего мира приковано к хаосу, охватившему Новый Вавилон, и возможным причинам его падения, что творится с Иерусалимом?» Эта профанация разошлась тиражом 65 млн экземпляров, обеспечив войне в Ираке поддержку влиятельных фундаменталистских кругов США.
Как и нефтяная промышленность, религиозные фанатики не могли ждать до скончания времен, и самопровозглашенные мессии Тони Блэр и Джордж Буш с готовностью пошли у них на поводу. Накануне вторжения Буш сообщил Жаку Шираку: «Это противостояние уготовано Господом, который с помощью конфликта хочет стереть с лица земли врагов своего народа перед началом Новой эры»{37}. В 2003 году Багдад был повергнут в шок и трепет рукотворным апокалипсисом, в котором воплотились наяву образы конца света на Ближнем Востоке, словно сошедшие с картин и гравюр художника середины XIX века Джона Мартина. А еще эта война вернула Британии и Америке второе по величине в мире нефтяное месторождение.

Американские военные взбираются на восстановленный при Саддаме Хусейне зиккурат в Уре
К разочарованию некоторых, вторжение в Ирак все же не привело к концу света, но нанесло непоправимый ущерб останкам Вавилона. Багдадский музей, основанный Гертрудой Белл в 1922 году для размещения еще не вывезенных из страны вавилонских находок, был разграблен почти сразу же после вторжения, а потом коалиционные войска превратили Вавилон в военную базу, прорыв там траншеи и повредив оставшиеся стены. Американские пехотинцы разрисовали граффити зиккурат в Уре, где был построен огромный аэродром – с «Пиццей Хат» и двумя «Бургер Кингами». Впрочем, в мирное время Вавилон тоже не щадили: в марте 2012 года, после возобновления прибыльной для страны добычи нефти, Министерство нефтяной промышленности Ирака, невзирая на протесты ЮНЕСКО и иракских археологов, проложило там нефтепровод.
Посреди послевоенной разрухи, в окружении иностранных войск и нефтедобывающих предприятий, фундамент Вавилонской башни теперь тихо гниет в залитой водой яме. Башня словно дразнит своим отсутствием создателей многочисленных империй – вавилонян, Александра, персов, османцев, британцев, баасистов и американцев, – которые пытались, но так и не смогли объединить эти земли под одной властью. С этой точки зрения история Вавилонской башни выглядит не карой Господней, а освобождением, выходом из-под гнета, как на картине Брейгеля, где она олицетворяет ненавистную и обреченную Испанскую империю. Именно так воспринимали нападение еще на одну башню – точнее, две башни – другие сокрушители архитектуры.
Центр международной торговли был выбран горсткой религиозных фанатиков в качестве мишени как символ экономического и культурного владычества Америки. Поставить на колени единственную оставшуюся в мире сверхдержаву – даже ценой огромной трагедии и многих и многих жертв – маленькая группировка не надеялась. Поэтому прибегла к войне символов, намереваясь этим тактическим ходом вызвать яростный отклик, и тот не замедлил себя ждать, вылившись во вторжения в Ирак и Афганистан. Таким образом, смертниками выступили не только непосредственные участники теракта, но и вся организация в целом, поскольку выдержать ответный удар и уцелеть она заведомо не могла. Целью теракта было противопоставить Запад и мусульманский мир, вызвать «столкновение цивилизаций», которого так жаждали христианские и исламские фундаменталисты. В этом отношении акция удалась, о чем свидетельствуют руины Вавилона.
Мухаммед Атта, главарь гамбургской группировки, лично управлявший первым самолетом, врезавшимся в башни-близнецы, хорошо разбирался в символических значениях архитектурных сооружений. Он изучал архитектуру в Каире и Гамбурге, писал диплом об одном из последствий соглашения Сайкса – Пико – вестернизации древнего сирийского города Алеппо. Атта ненавидел небоскребы, вырастающие в ближневосточных городах, болезненно переживал уничтожение французскими градостроителями средневековой путаницы улиц Алеппо. В этих зданиях и городских планах ему виделась чужеземная, идеологически чуждая воля, которую он рад был бы сокрушить, поэтому и выступал, в частности, за снос башен в новом Алеппо, с которых открывался вид на частные дворики – традиционное прибежище женской половины населения. Однако строить на месте символов угнетения утопическую башню свободы горе-архитектор не собирался – он просто хотел сменить одни архитектурные оковы на другие, ратуя за «восстановление традиционного уклада во всех сферах», чтобы противостоять «всяческому вольнодумству»{38}.
2. Золотой дом, Рим
(64–68 годы нашей эры)
Архитектура и нравственность
Что-то жуткое рвется в наш мир, и это здание, видимо, является порталом.
«Охотники за привидениями» (1984), режиссер Айван Райтман

Восьмиугольный зал Золотого дома
История его обнаружения полна мифологических аллюзий: где-то около 1480 года, как гласит предание, один мальчик провалился сквозь расселину на римском холме в мрачное подземное царство Плутона. Там он обнаружил целый лабиринт из пещер, куда никто не наведывался со времен Римской империи, а когда глаза привыкли к свету, мальчик разглядел на стенах загадочные рисунки с искаженными пропорциями. Современники приняли подземные чертоги за древний грот – на самом же деле это были останки знаменитого дворца императора Нерона, построенного в I веке нашей эры.
Domus Aurea – Золотой дом, прозванный так из-за обилия драгоценных материалов, пошедших на отделку, был погребен под общественными банями новой императорской династии, которая заклеймила покойного Нерона позором, и постепенно забыт. Настенные росписи, в которых вместо колонн прорастали непонятные вьюны, а человеческим фигурам придавались черты животных или мифических существ, стали сенсацией для Италии эпохи Возрождения. Это были первые обнаруженные за 1000 лет образцы древней живописи, и они противоречили всем представлениям о классическом искусстве, от которого ожидали рациональности и достоверности, а не сюрреализма и нелепиц. Подражания этому жанру – названному гротеском в честь гротов, в которых он был обнаружен, – столетиями вызывали неоднозначную реакцию. Вплоть до XIX века в нем работали многие художники, начиная с Рафаэля, и он заметно раздвинул границы архитектуры, однако и противников у него нашлось немало.
Римский теоретик архитектуры Витрувий ополчился на гротеск за целое столетие до появления росписей Золотого дома.
«Наши современные художники расписывают стены преимущественно уродствами, а не понятными изображениями подлинных вещей: на месте колонн рисуют стебли с кудрявыми листьями и завитками, на месте фронтонов – арабески, то же самое и с подсвечниками и оконными рамами, на которых от основания поднимаются стебли со множеством нежных цветков с завитками и без всякого толка сидящими в них фигурками и еще стебельки с раздвоенными фигурками, у которых одна голова человеческая, а другая звериная. Ничего подобного никогда не было, нет и не будет. Как же, в самом деле, может тростник поддерживать крышу?..»{39}
Гротеск вызывал неприятие и в XIX веке, когда великий моралист от архитектуры (и большой пустомеля) Джон Рескин назвал гротесковые изображения «чудовищными уродцами». Подобная бурная реакция на росписи Золотого дома и им подобные произведения не просто дело вкуса, здесь затрагивается куда более провокационный вопрос – о моральном аспекте архитектуры. Углубиться в него имеет смысл, поскольку в архитектуре он выражен куда ярче, чем в других видах искусства: в отличие от живописи и других безделушек, услаждающих взор богачей, архитектура утилитарна. В зданиях живут, их постройка обеспечивает массу рабочих мест, она стоит больших денег – нередко народных.
Столетиями люди обвиняли архитекторов и их заказчиков во всех возможных грехах. Это и низменные цели строительства – расточительство в случае Нерона с его Золотым домом, жадность застройщиков, жестокость создателей тюрем сверхстрогого режима (и, кстати, Витрувия, который, как уже упоминалось, был военным инженером). Это и работа на сомнительные власти: первым на ум приходит Альберт Шпеер, трудившийся на Гитлера, однако в зависимости от политических убеждений список можно пополнить и Лаченсом, спроектировавшим Нью-Дели, и архитекторами сталинской эпохи, и Ремом Колхасом с его зданием Центрального телевидения Китая, и архитектурным бюро SOM, построившим башню Бурдж-Халифа в Дубае. Еще чаще архитекторов обвиняют в непрофессионализме, заявляя, что их проекты «нарушают законы архитектуры» (знать бы еще, в чем они состоят). При этом мерилом оценки всегда служил, казалось бы, не имеющий никакого отношения к морали знаменитый витрувианский триумвират архитектурных достоинств – utilitas, venustas и firmitas (польза, красота, прочность). К нему прибегали даже при оценке архитектурных изображений, как в случае с тем же гротеском: «Как же, в самом деле, может тростник поддерживать крышу?»
Обвиняя гротеск в противоестественности, Витрувий формулирует первое правило древнего искусства: оно должно повторять природу. И хотя архитектура представляется наименее подражательным из всех видов пластического искусства, это не помешало требовать и от нее следования законам, почерпнутым в природе или продиктованным ею. Нарушение этих законов воспринималось не просто как неудачный образец архитектурного творчества, но как попрание законов морали. При всей сомнительности этой логики с третьим критерием Витрувия – прочностью нельзя не согласиться: плохо то здание, которое рушится, погребая под собой обитателей. Тогда как критерий пользы, понимаемой как соответствие задаче, приводили в качестве аргумента против излишнего украшательства в ходе двухсотлетней полемики, породившей, в конце концов, белые модернистские коробки. И наконец, существует непреходящее убеждение, что здания могут нести зло сами по себе. На нем основан сюжет бесчисленных фильмов ужасов (лично мой фаворит – небоскреб в «Охотниках за привидениями», спроектированный умалишенным оккультистом как портал для проникновения в наш мир темных сил), однако у этого убеждения есть вполне искренние приверженцы. Они утверждают, будто здания способны влиять на своих обитателей: вспомним, например, разговоры о неблагополучном социальном жилье и его пагубном воздействии на поведение жителей.
Как видим, моральный аспект архитектуры – проблема достаточно серьезная и обширная, поэтому я рассмотрю в этой главе только одну, зато обвиняемую сразу в нескольких моральных прегрешениях (расточительность, нарушение законов искусства, принадлежность тирану) постройку – Золотой дом Нерона.
Нерон – один из самых одиозных римских императоров. В Средние века, памятуя о гонениях на первых христиан, его называли антихристом. Чудовищем его считали и многие римляне (многие, но, конечно, не все, учитывая посмертный культ в его честь). Его губительное правление уничтожило первую императорскую династию и оставило страну в состоянии гражданской войны, поэтому критика в его адрес неудивительна, особенно со стороны приверженцев республики. Согласно древним биографам, Нерон не знал удержу в бесчинствах: забил до смерти беременную жену; спал с собственной матерью, которую затем тоже убил; изнасиловал весталку; кастрировал юношу, которого впоследствии взял в «жены». Светоний завершает рассказ о нероновских зверствах следующим пассажем:
«А собственное тело он столько раз отдавал на разврат, что едва ли хоть один его член остался неоскверненным. В довершение он придумал новую потеху: в звериной шкуре он выскакивал из клетки, набрасывался на привязанных к столбам голых мужчин и женщин и, насытив дикую похоть, отдавался вольноотпущеннику Дорифору (за этого Дорифора он вышел замуж)… крича и вопя, как насилуемая девушка»{40}.
Как отмечает историк Эдвард Чамплин, этот фарс напоминает damnation ad bestias – растерзание дикими зверями (император в звериной шкуре «наказывает» фелляцией осужденных). Нерон на каждом шагу осквернял свой императорский титул – то лицедействовал на сцене, то отдавался вольноотпущеннику (именно это попрание императорского достоинства и возмущало Светония больше всего).
Еще одно частое обвинение в адрес Нерона – якобы устроенный им Великий пожар Рима летом 64 года нашей эры, длившийся девять дней. Светоний утверждает, что во время пожара император играл на лире – но, как бы то ни было, даже древние источники относились к этой истории скептически. Большая часть города – включая часть нероновского дворца – превратилась в дымящиеся развалины, однако, согласно Тациту, кое-кто не преминул воспользоваться разрухой: «Использовав постигшее родину несчастье, Нерон построил себе дворец, вызывавший всеобщее изумление не столько обилием пошедших на его отделку драгоценных камней и золота – в этом не было ничего необычного, так как роскошь ввела их в широкое употребление, – сколько лугами, прудами, разбросанными, словно в сельском уединении»{41}. Этим и был Золотой дом. Испугавшись подозрений в намеренном устройстве пожара для расчистки места под новый дворец, Нерон поспешил обвинить в поджоге христиан, устроив гонения, в ходе которых мученически погибли апостолы Петр и Павел.
«Их умерщвление сопровождалось издевательствами, – сообщает Тацит, не особенно сочувствовавший христианам, однако считавший жестокость Нерона чрезмерной, – ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения»{42}. Человеческие факелы освещали сады императора, громоздя гротеск на гротеск: он устроил в городе загородную идиллию, а человеческое тело превратил в неодушевленный предмет. Подобное противоречие природе чаще всего и вменяли Нерону в вину, и оно же вызывало восхищение у декадентов XIX века вроде Флобера, который именно за такие извращенные фантазии называл Нерона «величайшим в мире поэтом»{43}. Словно подражая своим фантастическим гибридам, он постоянно пытался выйти за рамки человеческой природы – изображая зверя, превращая юношей в девушек, а тело в факел (канделябры в виде человеческого тела – популярный, надо отметить, сюжет в гротеске).
Могло ли построенное таким правителем здание быть «хорошим»? Даже Светоний, который усматривал в преступлениях Нерона политическую опасность, сумел отделить личность императора от его творений, среди которых он находил немало достойных. Воспользовавшись разрухой после пожара, чтобы отхватить большой кусок в центре Рима под собственный дворец, Нерон в то же время подарил городу новую планировку, создав более безопасную и упорядоченную среду, и львиную долю восстановительных работ оплатил из собственного кармана. Кроме того, император строил общественные здания с использованием самых передовых технологий. Как выразился один из современников: «Есть ли кто хуже Нерона? Есть ли что лучше нероновских бань?»
Легко ли, в самом деле, отделить образ здания от образа его заказчика? Хороший пример – архитектура Третьего рейха, заказчики которой отличались запредельной жестокостью (чего стоят, например, пресловутые абажуры из человеческой кожи{44} – вполне в нероновском духе). Но можно ли считать архитектуру той эпохи порочной? Бежавший из фашистской Германии еврей Николаус Певзнер в «Очерках о европейской архитектуре» ушел от темы со словами «Чем меньше об этом распространяться, тем лучше». Ему этот стиль казался слишком нарочитым в своей попытке отвергнуть модернизм и вернуться к классике или Средневековью. Итальянские же фашисты, по его мнению, преуспели больше, поскольку «в благородных, лишенных вульгарности образах никто не сравнится с итальянцами»{45}. С тех пор на смену Донателло успела прийти Донателла, однако Певзнер до этого не дожил, так что незнание Версаче ему можно простить, а вот приверженность тем же расистским убеждениям, на которых строилась нацистская идеология, простить сложнее.
Не менее трудно простить Певзнеру стремление свести архитектуру фашизма к сказочным домикам и тяжеловесному классицизму. Стратегия понятна: тем самым он избегает признания того, что среди этих построек были и удачные, если судить по его собственным критериям. Обезличенные классические здания вроде Министерства авиации в Берлине действительно предельно банальны. В этом нагромождении каменных глыб нет ни смысла, ни четкости, которая присутствует даже в самых диких барочных тортах, – это всего лишь мрачная, отчаянно нелепая попытка задавить монументальностью. Однако ничего специфически фашистского в этом здании нет и в помине: в Лондоне и Вашингтоне таких серых уродов тоже хватает. Совсем другое дело – дороги и мосты сети автобанов: гладкие, элегантные, вписанные в ландшафт (руководителем проекта был талантливый архитектор Пауль Бонац). А поле Цеппелина под Нюрнбергом – особенно залитое светом прожекторов по ночам во время съездов? Оно как раз отвечает замыслу целиком и полностью: впечатляет, подавляет, устрашает. Однако при всех своих эстетических и функциональных достоинствах эти сооружения были выстроены с низменными целями: автобаны предназначались для быстрой переправки войск, а поле Цеппелина – площадка для массовых зрелищ и показа фильмов Лени Рифеншталь – служило для насаждения уродливой идеологии. К тому же и автобаны, и мосты строились пленными, которые гибли, украшая немецкие пейзажи этими элегантными изгибами. Так вправе ли мы говорить о достоинствах архитектуры Третьего рейха? Только отбросив все критерии, кроме эстетического и функционального, что, по моему мнению, было бы ошибкой.
Восхвалявший общественные постройки Нерона Светоний насчет Золотого дома высказывался менее однозначно:
«Его вестибюль был такой высоты, что в нем стояла колоссальная 36-метровая статуя императора; площадь его была такова, что тройной портик по сторонам был в милю длиной; внутри был пруд, подобный морю, окруженный строениями, подобными городам, а затем – поля, пестреющие пашнями, пастбищами, лесами и виноградниками, и на них – множество домашней скотины и диких зверей. В остальных покоях все было покрыто золотом, украшено драгоценными камнями и перламутром; в обеденных залах потолки были отделаны слоновой костью, с поворотными плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстиями, чтобы рассеивать ароматы; главный зал был круглый и днем и ночью безостановочно вращался вслед небосводу; в банях текли соленые и серные воды. И когда такой дворец был закончен и освящен, Нерон только и сказал ему в похвалу, что теперь наконец он будет жить по-человечески»{46}.
В этом перечислении нарушений законов внутреннего убранства чувствуется порицание нероновской расточительности. Да, императору подобает или даже необходима роскошь, подчеркивающая его статус, однако и она должна иметь предел. Аристотель определял щедрость как золотую середину между мотовством и скупостью. Витрувий же называл это свойство благообразием (décor), понимая под ним соответствие убранства постройки своему назначению или статусу владельца. Роскошь прославлял и Цицерон, считавший, что она позволяет заказчику проявить все богатство своего воображения. Однако Нерон и здесь, как и в остальном, не знал удержу. Превратив щедрость в расточительство, он продемонстрировал в итоге не богатство воображения, а буйство дикой фантазии.
На зажиточных заказчиков нередко обрушивается град упреков в мотовстве. Возможно, мы ополчились на расточительство, когда усваивали скромность как христианскую добродетель, а гордыню – как ее греховную противоположность, однако стремление к простоте владеет человеком исстари. Стоик Сенека – наставник Нерона, которому тот позже приказал вскрыть вены за участие в заговоре, – сокрушался:
«Поверь мне, счастлив был век, еще не знавший архитекторов. ‹…› И сегодня кого сочтешь ты мудрее: того ли, кто придумал, как устроить скрытые трубы, чтобы шафранная вода била из них на невиданную высоту… как соединить над пиршественным покоем поворачивающиеся плиты, чтобы они показывали то одно, то другое лицо и с каждой переменой на столе менялся вид штучного потолка, – или того, кто показывает себе и другим, что природа не требует от нас ничего тяжкого и трудного, что мы можем прожить и без мраморщика и кузнеца ‹…›. Необходимое требует простой заботы, наслажденье – многих трудов»{47}.
Правда, сам Сенека при этом жил в роскоши. Неудивительно, что Нерон его невзлюбил, тогда как в Средневековье Сенеку, напротив, превозносили, словно языческого божка. Скромность была тогда в чести, сегодня же она снова отошла на второй план, погубленная возрожденной в XV веке концепцией magnificenza – великолепия, которую продвигали карманные философы заказчиков роскошных палаццо. Гораздо убедительнее в наши дни выглядит порицание расточительства как напрасной траты. В частности, траты ресурсов, что особенно актуально в наш век сверхналогов на поставки энергии и добычу полезных ископаемых. А еще траты времени и сил строителей, которых можно было бы занять на других объектах (к этому я еще вернусь). Нельзя забывать и о расточительности финансовой, особенно если заказчик не частное лицо. Строительство Версаля, например, считается одной из причин экономического упадка Франции в XVIII веке, а громадный дворец Чаушеску в Бухаресте сильно истощил кошельки граждан социалистической Румынии.
За упреками в расточительстве обычно следуют обвинения в безвкусице. На первый взгляд, претензия куда менее серьезная, однако под ней зачастую скрывается достаточно весомое обвинение, призванное поставить на место тех, кто нарушает витрувианский принцип благообразия и поступает «не по чину». Призывы к христианскому смирению, нашедшие отражение в законах, регулирующих потребление предметов роскоши, должны были обеспечить равновесие в обществе, и именно поэтому сегодня мы громче смеемся над показной роскошью особняков, отгроханных футболистами, чем над не менее безвкусными интерьерами Букингемского дворца.
И наконец, расточительность становилась объектом критики как повод для социальных взрывов. Сократ в «Государстве» Платона предупреждал, что ненасытное стяжательство неизбежно ведет к территориальной войне, во избежание которой все граждане идеального государства должны обитать в скромных жилищах, построенных собственными руками. Взрывоопасным следствием показной роскоши считалась и зависть, ведущая к кражам или еще чему похуже. Свой знаменитый манифест «К архитектуре» Ле Корбюзье в 1923 году заканчивал предостережением: «Архитектура или революция!» На самом деле угроза представляла собой маркетинговый ход: Ле Корбюзье подразумевал, что правительству следует уравнять условия, улучшив жилищные условия граждан, иначе придется подавлять бунт.
В XVIII веке английский мыслитель Бернард Мандевиль в противопоставление этим взглядам написал «Басню о пчелах», прославляющую потребительскую доктрину «частных пороков – общественных выгод», обозначенную в подзаголовке басни. Он представил человеческое общество в виде огромного улья, объединенного утолением таких страстей, как алчность, гордыня и жажда роскоши: «Пороком улей был снедаем, но в целом он являлся раем». Что же произойдет, если общество решит начать честную жизнь?
Сегодня ту же песню – пусть и не такую складную – поют неолибералы. Своим стремлением сбросить архитектурное рубище (равенство вовсе не означает, что все должны жить в пещерах) они вызывают у меня симпатию, но, пока не настал тот благословенный день, когда все дома покроются золотом (или хотя бы золотой пылью), напрашивается резонный ответ Мандевилю: что проку от растущей славы архитектора для жителей трущоб? И неужели строителей в самом деле больше нечем занять, кроме как сооружением подземных автомобильных музеев для олигархов Челси, особенно когда вокруг полно людей без крыши над головой? В развивающихся странах этот контраст особенно резок: в частности, вопиюще пошлый дом индийского миллиардера Мукеша Амбани в Мумбаи был возведен на приобретенном сомнительными путями участке, который изначально предназначался для строительства образовательного учреждения для детей малоимущих. Этот дом оценивается в миллиард долларов – в стране, где 68,7 % населения живет меньше чем на два доллара в день{49}.
Но с точки зрения диалектики, возможно, у расточительности есть и положительная сторона – если она вызывает несогласие. Поскольку дом Амбани возможен лишь в обстановке социального неравенства, он выпячивает это неравенство сверх меры: 173-метровая башня торчит посреди города, словно бельмо в глазу. И поскольку она, несомненно, раздражает тех, кто не живет в особняках, раздражение и гнев этот, скорее, выльется на владельцев заметных особняков, чем на богатых обитателей закрытых коттеджных поселков, хранящих деньги в швейцарских банках. Правые склонны недооценивать «политику зависти» (термин, популяризированный в 1990-х американским журналистом Дугом Бандоу, которому в 2005 году пришлось уволиться из либертарианского Института Катона за получение взяток), однако что плохого в том, что трущобная шпана завидует миллиардерам Амбани? Зависть – первый шаг к действию, поэтому и заставляет богачей нервничать.
Дом Нерона с его вращающимися комнатами и системой орошения благовониями наверняка производил на современников такое же впечатление, как аляповатый дворец Чаушеску и особняк Амбани. И хотя Светония и Тацита можно заподозрить в художественном преувеличении, продиктованном политической неприязнью к Нерону, их описания отчасти подтверждаются недавними археологическими исследованиями. Дворцовая территория занимала от 40 до 120 га, захватывая значительную часть городского центра, а посреди парка имелось большое прямоугольное озеро, окруженное колоннадой и выходящими на него павильонами и виллами. Самая крупная из сохранившихся построек насчитывает около 150 комнат, включая увенчанный куполом восьмиугольный зал, который вполне может быть тем самым вращающимся обеденным залом, о котором писал Светоний. Изначально его стены были облицованы редкими породами мрамора, а своды покрыты золотыми пластинами и стеклянной мозаикой – еще одно новшество, придуманное архитектором, – но сейчас перед нами лишь кирпичная кладка и бетонное основание, и даже гротескные росписи поблекли под воздействием солнца и дыхания туристов.
Сейчас это кажется прозаичным, но сохранившееся здание – прекрасный образец «бетонной революции», периода архитектурных и инженерных прорывов, совпавшего с правлением Нерона. И хотя бетон кажется нам исключительно современным материалом, его древний аналог под названием «пуццолан» уже использовался во времена Витрувия, почти за столетие до постройки Золотого дома. Витрувий упоминает этот материал как чудо природы, однако ему явно больше по душе традиционная техника балочных перекрытий (антаблемент), которая использовалась в древних храмах вроде Парфенона. Возможно, традиционализм Витрувия объясняется тем, что он служил первому римскому императору Августу, который хотел выглядеть продолжателем традиций республики в том числе и в зодчестве. Однако в I веке нашей эры инженеры, претворявшие в жизнь амбициозные нероновские проекты, все больше полагались на бетон. В результате появлялись совершенно новые формы и новое понимание архитектурного пространства (а может, так кажется на современный взгляд, поскольку само понятие архитектурного пространства достаточно молодо). Прямоугольные очертания прежних антаблементных построек, ведущих начало от древнегреческих образцов, сменились более плавными линиями сводчатых и купольных пространств самых разных форм и объемов, воздействующих на шествующего по ним человека на интуитивном уровне, которые в конечном итоге подарили нам вершину римского бетонного зодчества – Пантеон.
Вопреки обыкновению до нас дошли имена архитекторов, строивших Золотой дом: «…было выполнено под наблюдением и по планам Севера и Целера, наделенных изобретательностью и смелостью в попытках посредством искусства добиться того, в чем отказала природа»{50}. Тацит не конкретизирует, в чем именно состоит противоречие их замысла природе. Может быть, подразумевается превращение города в загородную местность, а может быть, такое новшество, как восьмиугольные покои, которое витрувианцу тоже показалось бы противоестественным. Помещение ведет со зрителем архитектурную игру: опоры и перекрытия, обрамляющие входы, нарушают все законы антаблемента, выглядя слишком тонкими и хрупкими для массивного бетонного купола. На самом же деле купол опирается не на них, а на невидимые глазу опоры. Однако благодаря хрупкому антаблементу и купол кажется легче, чем на самом деле, – он словно парит над головой, усиливая тем самым психологическое воздействие пространства.

План Золотого дома, справа виден восьмиугольный зал
Витрувий настаивал на соблюдении архитектурных условностей, поскольку в противном случае нарушалось правило художественного подражания и возникала противоестественность. Греческие храмы, утверждал он, строились поначалу по образцу более ранних деревянных сооружений и «то, чего не может быть в подлиннике, не имеет права на существование и в воспроизведении»{51}. Именно по этой причине мутулы и гутты под триглифами – резные элементы дорического ордера, предположительно воспроизводящие выступы стропил и их деревянные подпорки – нельзя помещать там, где им неоткуда было бы взяться в деревянной постройке. Нельзя искажать действительность, возводя укрепленный потайными опорами купол на слишком тонких столбах. Нельзя даже создавать архитектурные элементы в виде цветов, как в гротесках: «Как же, в самом деле, может тростник поддерживать крышу?» Приверженность архитектурной достоверности мы в полной мере познали в XIX веке, когда, лишившись подражательной подоплеки, она превратилась в категорический моральный императив (к этому я еще вернусь в конце главы), однако художников Возрождения, открывших заново Золотой дом, эта приверженность (несмотря на полученное ими классическое образование) ни к чему не обязывала.
Обнаруженные в 1480 году гротесковые настенные росписи оказали огромное влияние на искусство Возрождения. Как и многие более поздние посетители (на стенах покоев вырезаны среди прочих имена Казановы и маркиза де Сада), художники того времени проникали в тесные пещеры самостоятельно, спускаясь по веревке. Ажиотаж вокруг посещения «гротов» отражен в стихотворении тех времен:
«В любое время года стремятся живописцы туда, где лето холодней зимы. Запасшись хлебом, ветчиной, вином и фруктами, ползем мы по полу на брюхе, еще странней обличьем, чем гротески. Чумазым, словно щетка трубочиста, нам проводник показывает жаб и лягушек, сов, цивет, мышей летучих, и спину ломит долгое стоянье на коленях»{52}.
Среди тех, кто спускался в Золотой дом, был и Рафаэль. Вместе со своим помощником Джованни Удине на основе увиденной там росписи он создал сложную систему образов для длинной галереи Ватикана, где библейские сюжеты обрамлены вьющимися гротесковыми орнаментами. Рафаэль был прекрасно знаком с трудом Витрувия и его критикой «противоестественности», однако он, словно нарочно, нарушал все постулаты. В частности, нарисованный Удине толстопузый старик с легкостью удерживается на тончайшем усике вьюна, а купидону зачем-то требуется для равновесия шест. Помещенные в определенный контекст (прямо под сюжетами из Книги Бытия) гротесковые росписи оспаривают монополию Господа на творение. Они превращают художника в демиурга, второго (пусть и подчиненного) бога, который уже не подражает рабски творениям первого, а на равных создает собственные, новые формы. То, что папский дворец украсился образами из нероновских покоев, само по себе поразительно, однако в ложах Ватикана они все же выполняют второстепенную, орнаментальную функцию, а кроме того, их подлинное происхождение тогда еще не было известно. Они были перенесены из языческого прошлого в христианское настоящее гуманистами, демонстративно пытавшимися примирить то и другое – однако здесь, в историческом подсознании, таятся иррациональные мотивы и выражаются странные желания. Для Ватикана эти изображения несут рискованно нетрадиционный смысл, но в Риме XVI века, при первом папе времен Медичи Льве X, даже собор Святого Петра мог провозглашать торжество человеческого гения.
В XIX веке придирчивые особы нашли у папы Льва X явные нероновские черты: расточительность, одержимость меценатством, презрение к условностям, а еще, по слухам, он танцевал в греческом торце бального зала. Цитируя «Историю знаменитых преступлений» Дюма: «Христианство в период его понтификата приняло языческий характер, что придало эпохе, ежели перейти от искусства к нравам, несколько странный оттенок. Злодеяния мгновенно прекратились, уступив место порокам, но порокам очаровательным, в хорошем вкусе, вроде тех, которым предавался Алкивиад и которые воспевал Катулл»{53}. Ключевая фраза здесь «перейти от искусства к нравам», поскольку в ней содержится очередной важный для нас пример смешения искусства и морали. Джон Рескин, как и следовало ожидать, тоже неодобрительно отзывался о меценатстве Льва X. Без присущей Дюма иронии он называл росписи Рафаэля «ядовитым корнем; сборной солянкой, состряпанной из нимф, купидонов и сатиров, с фрагментами голов и лап кротких диких зверей и непонятных овощей». Негодование Рескина, вне всякого сомнения, вызывало то, что великий талант художника был потрачен на противоестественную мишуру, но на этом претензии не заканчивались. Рескин разделял убеждение Дюма, что искусство воздействует на нравы: «Невозможно представить, как низко может пасть человек под влиянием подобных гротескных изображений»{54}. Невольно задаешься вопросом, на какие такие низости намекает Рескин. Уж не скрываются ли под обвинениями в художественной противоестественности обвинения в куда более отвратительных извращениях, приписываемых Льву X?
К тому времени, когда Рескин разразился этой гневной тирадой, история гротеска насчитывала уже 300 лет. Ложа Рафаэля вдохновила создателей многих интерьеров – от Рима эпохи Возрождения до Петербурга XIX века, а поднятые из забвения чудища Золотого дома оказали, кроме того, огромное влияние на архитектуру как таковую. По словам историка Манфредо Тафури, «в рафаэлевском кругу сформировалось направление, подпитываемое любовью к своеволию. Связанное с обнаружением древних гротесков, оно привело к появлению нарочито театрализованных архитектурных форм»{55}. Имеется в виду так называемый маньеризм, переживший расцвет в XVI веке, когда проводились эксперименты над «чистым» классическим языком XV столетия, а на смену спокойствию и строгости купола Брунеллески во флорентийском соборе пришли фривольные и зловещие творения таких новаторов, как Джулио Романо. С 1524 по 1534 год Романо трудился над загородной виллой Палаццо дель Те герцога Федерико Гонзага. Здесь, на окраине Мантуи, вдали от любопытных глаз и злых языков, герцог встречался с любовницей, поэтому само здание решено в достаточно вольном стиле. Невероятный Зал гигантов (Sala dei Giganti) Романо расписал повергающими в ужас сюжетами: под куполом, выполненным в технике тромплей, создающей эффект трехмерного изображения, отбивающихся гигантов погребает под собой лавина камней. Фреска ошеломляет цельностью и единством изображаемого пространства, а затем ломает привычную ясность и антропоцентричную рациональность ренессансной перспективы, словно обрушивая ее на зрителя. Как и восьмиугольные покои Золотого дома, Зал гигантов с его осыпающимися колоннами и арками попирает устои классической архитектуры. Игра эта продолжается по всему палаццо: в каких-то залах, например, обваливаются кусками нарисованные балки архитрава. Вскоре подобными архитектурными «прегрешениями» запестрели все загородные виллы и укромные садовые уголки вроде гротов – места отдыха и наслаждения, где законы классической архитектуры (равно как и законы общества) можно было слегка нарушить.
Однако означает ли это, что к нарушению законов подстрекала сама архитектура? Рескин, например, считал всю классическую архитектуру порочной и сеющей порок: «Она низменна, неестественна, непродуктивна, неприятна и богопротивна. Языческая в корне, заносчивая и безбожная во времена своего возрождения, разбитая старческим параличом… эта архитектура, кажется, изначально призвана превращать своих зодчих в плагиаторов, своих строителей в рабов, а своих обитателей в сибаритов»{56}.

Только в Британии: изящная балюстрада защищает Уайтхолл от терактов с использованием взрывных устройств в автомобилях
Гневная тирада Рескина была в большей степени продиктована его позицией в современной ему британской полемике, чем историческими фактами. Убежденный поклонник готики, он отвергал классицизм архитекторов предыдущей эпохи за вторичность, скуку, аморальность и фальшь (ведь все эти великолепные террасы Нэша сделаны не из мрамора, а из облицованного кирпича, к тому же не слишком крепкого). Рескина беспокоили общественные перемены, вызванные индустриализацией: нельзя, считал он, имитировать шедевры прошлого дешевыми продуктами массового производства. Выступал он и против методов современного ему строительства, воплощенных в низкопробной массовой застройке эпохи Регентства. Рескин считал, что в таком случае строители полностью лишаются отдачи от своего труда. Этот аргумент он обращал и к прошлому, утверждая, что, в отличие от средневековых каменщиков, которые могли дать волю воображению, каменотесы, вырезавшие классические карнизы, вынуждены были воспроизводить одни и те же раз и навсегда вырубленные в камне образцы. С исторической точки зрения аргументация не выдерживает никакой критики (если бы средневековым каменщикам и впрямь давали волю, ни один великий собор до наших дней, вероятно, не дожил бы), однако заострение внимания на чувствах трудящегося действительно открывало новую грань в спорах об архитектуре с точки зрения морали. Не забудем и утверждение, что здания превращают своих обитателей в сибаритов: неужели архитектура и вправду способна влиять на наше поведение?
Рескин высказывался с характерной для него резкостью, однако любой повар, которому доводилось готовить на открытой кухне, согласится, что планировка способна определять поведение (когда посетители наблюдают за тобой из-за стойки, в суп уже не плюнешь). Любое здание диктует нам те или иные действия своей планировкой: располагая входные двери в стоящих бок о бок домах попарно, архитекторы содействуют общению соседей, а следовательно, и большей сплоченности жителей района. В Израиле, наоборот, воздвигают стену, чтобы отгородиться от террористов-смертников и всех палестинцев разом. (Британское правительство поступило хитрее, с той же целью установив в 2010 году вдоль Уайтхолла изящную балюстраду в таком же неоклассическом стиле, в котором выдержан весь ансамбль улицы.) Широко известно, что с помощью интерьерного дизайна можно повышать успеваемость и дисциплину школьников, оптимизируя общие пространства и создавая тихие зоны для самостоятельных занятий{57}. И в том же направлении ищет пути повышения продаж такая прибыльная отрасль, как розничная торговля: ведущая консалтинговая компания Envirosell, созданная учеником знаменитого градостроителя Уильяма Уайта, помогает магазинам «привлекать покупателей, завоевывать рынок, повышать продажи и денежный оборот» посредством изменения планировки.

Жилой «Мондриан»: фасад Треллик-тауэр представляет собой абстрактную модернистскую композицию
Итак, архитектура влияет на поведение, и потому, несмотря ни на какие другие факторы, зачастую именно ее винят во многих фундаментальных проблемах. Треллик-тауэр, огромный жилой дом в западной части Лондона, был спроектирован венгерским иммигрантом Эрно Голдфингером (это в его честь Ян Флеминг, который, по слухам, терпеть не мог его постройки, назвал одного из злодеев бондианы). Здание представляет собой продукт еще одной бетонной революции – брутализма, зародившегося во Франции и Британии в 1950-х, завоевавшего мир в 1960-х и задавленного резким неприятием в 1970-е. Треллик-тауэр выглядит агрессивным образцом модернистской эстетики: высоченный параллелепипед из голого бетона с отдельной узкой башней для лифтов и технических служб. Чтобы нивелировать нечеловеческие размеры и ускорить движение лифтов, Голдфингер поместил коридоры-перемычки между зданием и башней не на каждом этаже, а через один. Вдоль коридора расположены спаренные двери, ведущие в двухэтажные квартиры, в каждой из которых имеются внутренние лестницы. Такая планировка, кроме того, что способствует общению жителей, побуждая стекаться в коридоры, позволяет распределить жилое пространство на всю площадь здания, создавая один из образцов самого просторного в Лондоне муниципального жилья с великолепными видами из окон в качестве дополнительного преимущества. Однако, несмотря на все благие намерения Голдфингера, вскоре его детище превратилось в многоэтажный кошмар.
Впервые модернисты начали пропагандировать многоэтажные здания в 1920-х годах как замену приземистым мрачным трущобам викторианского города. Башни освобождают пространство на земле – под зеленые лужайки для детских игр, – и в квартиры попадает больше солнечного света. Многие из первых переселенцев в высотные дома не верили своему счастью: уборная в помещении, современные кухни, надежное, не чадящее отопление. Однако к 1972 году, когда был построен Треллик-тауэр, утопическая идиллия осталась в прошлом. Причин тому немало. Во многих случаях проекты архитекторов-новаторов воплощались в жизнь малыми средствами, руками корыстных застройщиков для коррумпированных городских чиновников. В результате постройки получались некачественными и даже опасными (началом конца стало обрушение в 1968 году здания Ронан-Пойнт в восточной части Лондона после взрыва бытового газа), нарушая своим существованием витрувианский моральный принцип прочности. Тем не менее даже выстроенные с соблюдением всех норм многоэтажки вскоре стали ассоциироваться с социальным упадком. Когда сложившееся сообщество переселяют, срывая с насиженного места, определенная дефрагментация неизбежна, но многоэтажки, по замыслу, должны были, напротив, упрочивать социальные связи, собирать людей воедино, а не рассеивать по одноэтажным пригородам. Однако «жизнь на высоте», как несложно было предугадать, для многих оказалась тяжела. Лишившись возможности постоянно приобщаться к бурлению жизни на улицах города и легкого доступа к пресловутым зеленым просторам, образовавшимся после сноса трущоб, пожилые люди и молодые матери с детьми оказались под угрозой изоляции. Правда, многие впоследствии тепло вспоминали свои жилища под облаками. Рассказ жестянщика Эндрю Болдерстоуна, проживавшего в 20-этажной башне в Лите с 1964 по 1984 год, лучше цитировать без купюр. В нем отражены все превратности взаимодействия с подобной архитектурой.
«Дело было не в самом доме, изменились контингент жильцов и их поведение… Первые пять – десять лет все было замечательно: здание вылизывали до блеска, мы гордились своим прекрасным новым жильем. Конечно, мелкие бытовые проблемы возникали – например, из-за того, что детям приходилось играть снаружи, – но мы же понимаем, совершенства в жизни не бывает, а в общем мы все обожали свой дом! Настоящие проблемы начались как раз лет через пять – десять, когда стали появляться другие жильцы. Сперва одна парочка – явные маргиналы из каких-то замшелых трущоб. Поначалу он ее лупил, и все, а потом она приноровилась и начала давать отпор, да еще какой! Они жили на четыре этажа выше нас, но все равно было слышно: они вваливались уже подогретые, далеко за полночь, сразу врубали музыку, а потом начинался ор, ругань, удары, а ты лежишь в кровати и пытаешься заснуть; звон – это тарелки летят на пол; потом грохот – это его пластинки вышвыриваются из окна. И после этого все постепенно покатилось под откос: таких семей стало уже четыре-пять, в разных частях дома. Гениальная идея жилищного управления. Управление, тоже мне, одно название! Им казалось, что, перемешав “отпетых” с приличными жильцами, они заставят первых подняться до уровня вторых, а на деле произошло наоборот: плохие потянули за собой нормальных. Разрослись, словно раковая опухоль. Сперва ты еще пытаешься соблюдать какие-то нормы, но вскоре понимаешь, что это бесполезно… С площадки для сушки белья начали пропадать вещи, поэтому вскоре ею перестали пользоваться; потом то же самое произошло с прачечной и с сушильными шкафами. Лифты до тех пор всегда работали исправно, а теперь начали постоянно ломаться, и с каждым разом мастера приходилось ждать все дольше. Потом в какой-то год случилась забастовка мусорщиков, и эти новые жильцы, вместо того чтобы выносить мусор в уличные контейнеры, сперва забили мусоропровод, а потом принялись попросту вываливать мусор из окна рядом с мусоропроводом – прямо мне на балкон. Представляете? Гора вонючих мусорных мешков мне по пояс! Сперва я подумал: мол, ладно, скандалить ни к чему – и попытался убрать все сам, но за следующие два дня они навалили еще. И в конце концов я просто рассвирепел. Сгреб все эти мешки – несколько десятков – оттащил наверх и выпотрошил неряхам под дверь: все эти консервные банки, помидоры, рыбные головы, все! “Заберите свой мусор, вы, помоечные крысы!” – крикнул я и со всех ног припустил к себе. Наверху долго орали и ругались, но мусор мне на балкон сваливать перестали. Однако самое ужасное уже произошло – мы опустились до их уровня. А дальше смотритель здания понял, что не справляется, и уволился; все больше и больше соседей съезжали, не в силах выносить этот дурдом – а жилищный департамент только и мог что заселять освобождающиеся квартиры родителями-одиночками. Поэтому обстановка стремительно ухудшалась. Когда дошло до того, что в дом стали селить наркош – где-то в конце 1970-х, вот тогда начался настоящий разгул вандализма. Ночные гулянки, идиоты, швыряющие бутылки в мусоропровод в три часа ночи… И из окон стали швырять что ни попадя. Как-то раз верхние соседи сбросили двери, одна из них спланировала прямо на мою машину. Еще был знак автобусной остановки с цементной лепешкой у основания, который швырнули сверху, словно копье. Он пробил припаркованный у дома грузовик и воткнулся в асфальт. Было дело, швыряли живых кошек. Апофеозом стал скинутый с 18-го этажа – видимо, в ходе ссоры – мопед. Не представляю, как его просунули в окно! Отбросы общества во всей красе. Приличный рабочий класс, который заселял дом поначалу, на такое не способен. Потом у нас случилось первое самоубийство: кто-то из наркош выкинулся с 19-го этажа прямо на парковку. Потом было и убийство – где-то в 1980 году парню проломили череп. Потом некоторые из новичков начали агитировать, чтобы здание снесли, утверждая, что это многоэтажный ад и прочее в том же духе. Конечно, к тому времени так оно и стало, их же с муниципалитетом стараниями! А я тогда хотел одного – съехать. Наконец мне удалось выхлопотать переселение, и после этого из первых жильцов там уже вообще никого не осталось. Все коту под хвост, а ведь был бы вполне приличный дом, если бы муниципалитет заботился о нем как следует, а не сливал туда всякие отбросы!»{58}
В Треллик-тауэр тоже сложилась криминогенная обстановка. По изрисованным граффити коридорам шлялись бродяги, проститутки и наркоманы, пол был усеян бутылками и шприцами, лифты – когда работали – воняли мочой. Вскоре жильцы стали отчаянно добиваться переселения, очередь выросла на два года, а когда все наконец выехали, муниципалитет заселил дом «неблагополучными», по современной официальной классификации, «семьями». Проблемы только усугубились, и желтая пресса прозвала детище Голдфингера Башней ужаса.
Тем не менее сегодня в Треллик-тауэр тоже существует очередь в милю длиной – только уже на въезд. Внешне здание выглядит прежним: все тот же голый бетон, расстраивающий другой английский контингент, уверенный, что все должны жить в коттеджах, но не задумывающийся, как достичь этого без ущерба для еще одного английского символа – зеленых просторов. Так что же изменилось? В середине 1980-х была сформирована ассоциация жильцов, и под ее нажимом жилищное управление установило домофон и обеспечило круглосуточную консьержную службу – как ни поразительно, до тех пор в доме не было ни того, ни другого. Кроме того, муниципалитет изменил политику заселения, давая потенциальным жильцам право выбора, а не вселяя насильно, и, как ни странно, люди потянулись в Треллик-тауэр добровольно. Однако, возможно, никакой загадки тут нет. Большинство квартир в доме по-прежнему находится в муниципальной собственности, для которых характерны и большая площадь, и простор, особенно по сравнению с тесным «элитным» жильем, предлагаемым нынешними алчными застройщиками. Качество отделки и внимание к деталям в интерьерах тоже стоят отдельного упоминания. В 1998 году здание было внесено в реестр охраняемых государством. Бывший неблагополучный дом стал и по сей день остается востребованным, превратившись в один из символов Лондона и встречаясь нам в фильмах, песнях и клипах.
Однако, несмотря на благополучную реабилитацию некоторых шедевров эпохи брутализма, в целом этот стиль был отвергнут как антиобщественный. В результате многие памятники брутализма в разных странах мира продолжают сносить. Именно такая участь, как напоминает нам Джонатан Мидс в своем реквиеме по утраченным парковкам архитектора Родни Гордона, постигла немало великих викторианских зданий в 1960-е, когда викторианская архитектура точно так же вышла из моды{59}. Против брутализма работает и само название: в нем читается жесткость и бесчеловечность, хотя на самом деле его популяризатор и пропагандист Райнер Бэнем пытался отослать нас к продвигаемому Ле Корбюзье в послевоенные годы béton brut – необработанному бетону, то есть не отшлифованному, несущему отпечаток деревянной опалубки. (Впрочем, надо признать, доля провокативности в пропагандируемом Бэнемом термине имеется.) Да, голый бетон плохо приживается в северном климате, однако кирпич и мрамор в наших загрязненных городах тоже требуют регулярной чистки. Не последнюю роль сыграло и то, что памятниками брутализма отказывается заниматься неолиберальное правительство, отвергающее их как символ чуждой власти.
С другой стороны, посмотрите на эстетическое превосходство лучших образцов этого течения, на их кубистскую монолитность, скульптурную мощь и сочную светотень. Эпоха брутализма была одним из немногих периодов, когда Британия находилась на переднем крае авангарда, причем немалая часть проектов, как ни удивительно для такого смелого стиля, финансировалась из бюджета. Государственное финансирование тоже вызывает немало нареканий, поскольку его плоды олицетворяют Британию на пике социалистического периода (надо сказать, что критики норовят ошибочно объявить бруталистскими все многоэтажки скопом, но при этом забывают, что бум многоэтажной застройки случился при консервативном правительстве Макмиллана, выделявшем щедрые субсидии на возведение высотных зданий своим друзьям в строительном бизнесе). Однако в облике подлинно бруталистских построек действительно есть что-то резкое, в этом их смысл. Они пропагандируют уверенность и самостоятельность послевоенного технократического общества благоденствия, которое уже не цеплялось за имперское прошлое костлявыми пальцами мраморных колонн и не прятало своих рабочих в грязных трущобах, а возносило их в высоких башнях под небеса, на всеобщее обозрение, открывая отличный обзор и им самим. В том, что замысел провалился и многие башни превратились в высотные трущобы, повинен в большей степени политико-экономический кризис 1970–1980-х, чем архитектура 1960-х: муниципалитеты, создававшие неблагополучное жилье, куда можно было запихать все неблагополучные семьи и благополучно о них забыть, а также намеренное лишение работы целых сообществ и такое же намеренное изведение среды их обитания.
Так и пали башни. Часть из них в любом случае должна была разрушиться в силу некачественного исполнения, однако лучшие образцы можно было сохранить минимальными усилиями – как вышло с Треллик-тауэр. При всех своих недостатках вовсе не башни привели к социальной разобщенности 1970-х. Надуманность этого ошибочного утверждения вроде бы не оставляет сомнений, однако именно им прикрывались многие критики современной архитектуры. Как доходчиво объяснили такие архитектурные критики, как Оуэн Хэзерли и Анна Минтон, споры о брутализме представляли собой не столько эстетическую полемику (если такая возможна), сколько идеологическую борьбу политических фракций, предлог, чтобы заменить социальное жилье в черте города частной застройкой, заселенной плательщиками более высокого муниципального налога{60}. Не остались в стороне и архитекторы с проектировщиками, из вполне объяснимого профессионального самолюбия склоняя чашу весов на свою сторону. Среди самых ощутимых реакций на модернистскую застройку можно назвать полемичную концепцию 1972 года под названием «Защищаемое пространство. Предотвращение преступлений при помощи городского планирования». Автор концепции, американский градостроитель Оскар Ньюман, объяснял высокий уровень преступности в нью-йоркских многоэтажных кварталах исключительно особенностями городской среды, пренебрегая такими мелочами, как социоэкономическое расслоение, безработица и наркотическая зависимость. Он полагал, что отчужденность совместно используемого пространства – лестниц, вестибюлей, помещения с мусорными баками – исключает ощущение причастности. В результате такие пространства выпадают из-под надзора жильцов, и там начинается разгул преступности. Во избежание такого исхода следует проектировать хорошо просматриваемые места общего пользования, способствующие объединению жителей дома.
Теория Ньюмана кажется вполне логичной – иначе, разумеется, домофоны и консьержи не сделали бы многоэтажки безопаснее. Однако надо уточнить, что безопасность Треллик-тауэр обеспечивает не созданное планировкой ощущение территориальной причастности, а вполне материальные замки и круглосуточная охрана – дорогостоящие методы, которые нравятся застройщикам и градостроителям куда меньше, чем теория защищаемого пространства. В Великобритании ее популяризировало авторитетное «Руководство по проектированию», выпущенное Эссекским советом графства в 1973 году, которое побуждало градостроителей вместо башен создавать заполоняющие собой все cul-de-sac – кварталы-тупики из таунхаусов. Тенденция пришлась по душе застройщикам, поскольку давала повод максимизировать плотность заселения (а значит, и прибыль) на участках со сложным рельефом, не раскошеливаясь на дорогостоящую вертикаль. Правительству понравилась перспектива решить проблему быстро, не затрагивая более сложные общественные проблемы. Однако, несмотря на то что обитателями подобных кварталов представлялись эдакие кисейные барышни, криминальная обстановка там сложилась почти такая же, как в многоэтажных башнях. Из-за отсутствия проходящего транспорта тупиковые улицы находятся под более слабым надзором, чем шоссе, и потому притягивают криминальный элемент. Эти трансформации («башен ужаса» в почти элитное жилье, а кварталов таунхаусов в клоаку) подтверждают спорный характер доктрины о порочности архитектуры. Брутализм не обязательно делает человека брутальным, а таунхаусы – слава богу – не превращают нас в блюстителей степфордских традиций.
В истории брутализма есть и другая мораль: его сторонники утверждают, что грубая поэзия бетонных стен честна и не кривит душой. С идеей архитектурной честности мы уже сталкивались у Витрувия, который требовал подражательности в оформлении зданий: например, каменные храмы должны были, по его мнению, скрупулезно воспроизводить предшествовавшие им деревянные. По той же причине – искажение первоистоков – он ополчился на гротески, ведь «тростник не может поддерживать крышу».
Сегодня мы возвращаемся к инфантильному типу подражательной архитектуры – со зданиями-символами, на которые их создателей вдохновили терки для сыра, морские раковины и прочее, однако в середине XVIII века главенствовала концепция не внешней, а структурной достоверности, соответствия природным законам. Отчасти так проявлялась реакция на излишества барочного периода, когда архитектурные шедевры не обходились без существенных искажений пропорций и пространства, чрезмерных вольностей по отношению к классическим предшественникам и украшательства, дополняющего или даже маскирующего структуру здания обилием позолоченной лепнины. (Мой фаворит – церковь Сан-Карло в Риме авторства Борромини: ее причудливая геометрия долго считалась плодом воспаленного воображения.) В качестве альтернативы такие теоретики, как немецкий историк искусства Иоганн Иоахим Винкельман, призывали рассмотреть с научной точки зрения образцы античного зодчества и на их основе выработать новый подход к архитектуре. Результатом стал неоклассицизм и скучные в своей исторической точности здания вроде парижской церкви Святой Марии Магдалины. В Британии XIX века схожими принципами руководствовались возрождавшие традиции средневековой готики Огастес Пьюджин (автор Вестминстерского дворца, где располагается парламент) и Джон Рескин. Классику они отвергали по ряду причин, главной среди которых называли ее нечестность. При этом Пьюджин, как истовый новообращенный католик, переводил полемику на религиозные рельсы.
«Строгость христианской [в данном случае готической. – Прим. авт.] архитектуры исключает любой обман. Мы не вправе приукрашивать посвященное Господу здание, искусственно улучшая его внешний вид. Эти суетные уловки годятся лишь для тех, кто живет обманом, – лицедеев, шарлатанов, плутов и иже с ними. Нет ничего более отвратительного, чем приукрашать церковь в глазах людей при помощи уловок и фальши, которые не ускользнут от всевидящего ока Господа»{61}.
Почти в то же время во Франции необходимость придерживаться в архитектурно-строительной части соответствия средневековым зданиям отстаивал Эжен Виолле-ле-Дюк. Этот приверженец готики был куда менее набожен и руководствовался совершенно иными причинами. Он считал, что «по отношению к процессу постройки достоверность означает использование материалов согласно их качествам и свойствам. Все эстетические аспекты, как то симметрия, внешний вид и прочее, вторичны по сравнению с вышеупомянутыми доминирующими принципами»{62}. Тем самым он отвергал внешнее, поверхностное копирование исторических стилей, характерное для архитектуры второй половины XIX века, предпочитая ему «бесстильный» структурализм, соответствующий духу времени. В частности, он выступал за открытое использование современных материалов, которое помогло бы архитектуре вернуться к средневековой честности, когда зодчие не предавали свою эпоху с доступными ей технологиями и не стыдились демонстрировать, как сконструированы здания, в отличие от тех, кто работает в возрожденном историческом контексте, вечно оглядываясь на древних греков и фабрикуя готическое убранство из штамповки или копируя фальшивые приемы вроде потайных опор купола Золотого дома. Теперь, заявлял Виолле-ле-Дюк, место аркбутанов должна занять литая сталь. В итоге он пропагандировал сооружения, довольно-таки похожие на старинные, но дело тут было не столько в честности, сколько в преклонении перед возвышенным и благоговейном восхищении конструктивными возможностями металла, хотя, возможно, в этом как раз было что-то неподдельно искреннее и правдивое для середины XIX века. Кроме проектирования новых зданий на основе современных конструкций Виолле-ле-Дюк подвергал проверке на своем архитектурном «детекторе лжи» и исторические сооружения. Руководя восстановлением многих церквей, среди которых был и собор Парижской Богоматери, а также города-крепости Каркассон, Виолле-ле-Дюк стремился воссоздать средневековые памятники не в том виде, в каком они были построены, а в том, в каком они были задуманы. В ходе подобного волюнтаристского вмешательства, уже в те времена вызывавшего сомнения, Виолле-ле-Дюк внес ряд дерзких изменений в облик многих из них: в частности, знаменитые химеры собора Парижской Богоматери – целиком и полностью его выдумка. Честно ли это? Более чем честно, ответил бы сам реставратор, поскольку отвечает духу эпохи, в которую здание создавалось, больше, чем голые каменные руины.
В конце концов стараниями представителей декоративно-прикладного искусства интерес к духу эпохи приобрел в Англии отчетливый политический уклон. Социалист Уильям Моррис, занимавшийся дизайном обоев, отвергал современные материалы, поскольку их производили рабочие, отчужденные друг от друга и от результатов своего труда. В качестве альтернативы он предлагал вернуться к кустарному и средневековому цеховому производству. Разумеется, силами нескольких бородатых кустарей обеспечить потребности индустриального общества было невозможно (обои ручной работы заведомо не по карману простым людям), и Моррису оставалось лишь сетовать, что он вынужден «потакать низменным прихотям толстосумов». Другие же перехватили эстафету у Виолле-ле-Дюка, всецело принимая современные материалы и даже утверждая, что обратное как раз будет бесчестной маскировкой подлинной действительности капиталистической эпохи. Иными словами, негоже облицовывать кирпичное или выстроенное на стальном каркасе здание мрамором, поскольку таким образом мы лакируем действительность и приукрашиваем политическую обстановку, ведь мрамор отсылает к эпохе имперского могущества, внушая зрителю феодальную покорность, а рабочих, тратящих силы на обтесывание мраморных плит, можно было бы задействовать на строительстве массового жилья.
На протяжении XX столетия от архитектуры все больше требовали подобной исторической честности – и это в ряду других причин побудило венского архитектора Адольфа Лооса написать в 1908 году эссе «Орнамент и преступление», в котором призывы хранить верность духу времени доходят до фанатизма.
«Папуас украшает себя татуировкой, разрисовывает свои пирогу и весло, все, что попадает ему в руки. Он не преступник. Современный человек с татуировкой или преступник, или дегенерат. Во многих тюрьмах число татуированных достигает 80 %. Люди с татуировкой, живущие на свободе, являются или потенциальными преступниками, или аристократами-дегенератами. ‹…› Потребность первобытного человека покрывать орнаментом свое лицо и все предметы своего обихода является подлинной первопричиной возникновения искусства, первым лепетом искусства живописи. ‹…› То, что естественно для папуаса или ребенка, у взрослого современного человека выглядит признаком патологии. Я сформулировал и провозгласил следующий закон: с развитием культуры орнамент на предметах обихода постепенно исчезает»{63}.
Именно этой логикой руководствовались Лоос, Ле Корбюзье и другие, возводя гладкие белые стены своих вилл. Однако 50 лет спустя бруталисты обратили аргументы первого поколения модернистов против них самих: большую часть XX века, утверждали бруталисты, ратующие за честность архитекторы кривили душой куда сильнее, чем может показаться. Первые проекты Ле Корбюзье выглядели бетонными, на самом деле таковыми не являясь, поскольку были построены из облицованного кирпича. Завод «Фагус» Вальтера Гропиуса кажется выполненным исключительно из стекла и металла, тогда как на самом деле его стены сделаны из традиционного кирпича. Теперь же, беря пример с послевоенных работ Ле Корбюзье (таких как многоэтажное здание «Жилая единица» в Марселе), бруталисты переосмысливали идею честности в архитектуре: отныне бетон будет выглядеть как бетон. Его не станут даже шлифовать, не говоря уже об облицовке. Кирпич будет кирпичом, сталь – сталью, функциональные особенности здания будут читаться во внешнем облике (вспомним отделенную от здания лифтовую башню в Треллик-тауэр).
Такие доводы приходятся по душе людям пуританского склада – мне ли не знать, ведь я и сам в душе пуританин (в том, что касается эстетики). Есть что-то возбуждающее в этом архитектурном обнажении. И когда оно достигается в полной мере – как в Ханстонской школе, построенной главными проповедниками брутализма Питером и Элисон Смитсон, или в «Центре взаимодействия» Седрика Прайса, представляющем собой смонтированные вместе строительные бытовки, – по коже бегут мурашки (да, это все еще возможно, даже после многолетнего закаливания выкрутасами авангарда). Однако есть пример еще более яркий, причем появившийся задолго до «Жилой единицы» Ле Корбюзье, – профсоюзная школа, построенная Гансом Майером, тогдашним руководителем Баухауза, в пригороде Берлина между 1928 и 1930 годами. До 1989 года она скрывалась за «железным занавесом» и считалась утраченной – возможно, именно поэтому ей не нашлось места в бруталистском пантеоне. Конструктивные элементы школы хорошо видны снаружи – никакой маскировки и облицовки. Разные ее составляющие – спортзал, лестница, спальные корпуса и столовая – тоже четко обозначены и прочитываются снаружи. Нет ни малейших поползновений приукрасить вид или масштабы определенных зон – например, входной группы или актовых залов – из неуместных соображений церемониальной иерархии. «Демократичные» материалы серийного производства – никакой бронзы и мрамора в стиле Мис ван дер Роэ, только стекло, металл, бетон и кирпич – не скрывают, пользуясь терминологией Майкла Хейза, своей «фактурной идентичности», то есть несут на себе отпечаток производственного процесса и честно отражают социальные условия производства{64}.
Этот обладающий концептуальным изяществом довод придает эстетический шарм даже самым отчаянно некрасивым зданиям, однако суть его не в том. Фальшь в структуре или материалах архитектурного сооружения создает ложное представление об устройстве общества и потому контрреволюционна. Устаревшие методы строительства не менее порочны, поэтому Майер пытался революционизировать не только эстетику, но и саму профессию, организуя классы в Баухаузе как «рабочие бригады» и давая в качестве заданий настоящие проекты: например, школу профсоюзов. Однако когда в 1933 году здание прибрали к рукам фашисты и устроили там учебный лагерь СС, своих новых владельцев оно облагородить не сумело. Равно как и монументальность брутализма не уберегла от упразднения социальные программы государства благоденствия – наоборот, теряющиеся в облаках башни первыми из элементов социальной демократии растаяли в воздухе, а их обитатели дружно пополнили ряды сторонников приватизации, подрывавшей прежние устои. Таким образом, абстрактная честность может быть этически верной, однако здание не абстракция, а воздействие архитектурной честности на общественные принципы отследить сложно (если оно вообще существует). Можно с таким же успехом прийти к противоположному выводу, что архитектурный обман (подвалы в чердачном стиле, линолеум под каменную кладку, двойные гаражи с гипсовыми колоннами, облицовка под дикий камень) улучшает условия жизни, создавая подобие роскоши тем, кому подобия достаточно.

Корпуса профсоюзной школы, построенной Гансом Майером в пригороде Берлина, в июне 1933 года. После 1933 года комплекс школьных зданий был превращен в учебный лагерь СС
Дворец Нерона больше не вызывает у нас возмущения, и мы не видим в нем ничего безнравственного. Сегодня это просто архитектурный памятник, обладающий художественной и исторической ценностью. За давностью лет даже величайшие преступления теряют остроту. Однако более молодые постройки по-прежнему способны рождать ненависть: память о злодеяниях фашизма еще жива в Европе, Америке и на Ближнем Востоке, и даже от развалин нацистских зданий все еще веет беззаконием. Еще более свежие шрамы оставила битва за брутализм; мы и сегодня ведем ее в градостроительных департаментах и кабинках для голосования по всей Европе и Северной Америке, где социальная демократия вместе со своими памятниками рассыпается в прах. Нынешний всплеск интереса к этим недолюбленным постройкам в архитектурных институтах, у таких авторов, как Оуэн Хэзерли, и в блогах вроде Fuck Yeah Brutalism можно легко списать на левацкую меланхолию, сожаление о проигранных битвах либо (в худшем случае) на извращенное лицемерие эстетов из среднего класса, которым никогда не доводилось жить в этих гробах. (Я когда-то жил в невысокой многоэтажке, и на лестницах там действительно мешались кисло-сладковатые запахи героина и рвоты, однако в остальном это было крепкое здание с видом на густые зеленые парки, и квартира там была просторнее, чем во всех новостройках, в которых я селился после, а от незваных гостей его теперь оберегает домофон.) Как бы то ни было, умение оглядываться назад совсем не мешает прогрессу. Как писал Маркс,
«традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее… вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыграть новую сцену всемирной истории. ‹…› Таким образом, в этих революциях воскрешение мертвых служило для возвеличения новой борьбы, а не для пародирования старой, служило для того, чтобы возвеличить данную задачу в воображении, а не для того, чтобы увильнуть от ее разрешения в действительности, для того, чтобы найти снова дух революции, а не для того, чтобы заставить снова бродить ее призрак»{65}.
Здания покорно наряжаются в исторические костюмы: примером тому могут служить бруталисты, оглядывающиеся на героическую модернистскую эпоху, или Пьюджин, одевающий выдержанное в классических пропорциях здание парламента в готическое кружево. Они становятся наглядными хранилищами памяти (о которой речь пойдет в следующей главе). Однако эти попытки оглянуться могут сыграть важную роль, если нужно освежить в памяти нравственную сторону прошлого. Бередя старые раны, мы заставляем прошлое работать на настоящее – иными словами, помогать нам осознавать его ошибки, учиться на них, брать из него самое необходимое и двигаться дальше. Эта задача для любого историка-критика – и для римлян постнероновской эпохи, порицавших Золотой дом за попрание императорского достоинства, и для средневековых схоластов, клеймивших Нерона за гонения на христиан, и для моралистов XIX века, осуждавших порочность его сексуальных и художественных пристрастий. Сейчас, когда в глобальном мире всеобщее неравенство становится все заметнее, а разные Амбани и олигархи из Челси оскверняют наши города своими гротескными домами, отголоски прегрешений Нерона звучат с новой силой, хотя и в другой тональности.
Дополнительная литература
Edward Champlin, Nero (Cambridge, MA, 2003).
Geoffrey Harpham, On the Grotesque: Strategies of Contradiction in Art and Literature (Princeton, NJ, 1982).
3. Джингереберская мечеть, Тимбукту
(1327)
Архитектура и память
В Зворнике никогда не было мечетей.
Бранко Груич, сербский мэр Зворника, после выдворения мусульман, составлявших 60 % населения города, и разрушения дюжины городских мечетей{66}

Построенный из саманного кирпича минарет Джингереберской мечети в Тимбукту, Мали
В 1324 году малийский король Муса совершил паломничество в Мекку. Обставленное с невероятной помпой, оно не изгладилось из людской памяти и 400 лет спустя. «Он выехал с пышной свитой, – живописал малийский историк XVII века. – Впереди него двигалась процессия из 60 000 воинов и 500 невольников. Каждый из невольников держал двухкилограммовый золотой жезл»{67}. Были там и вельможи, и паланкины, и сотни верблюдов, и сотни жен, и всего они везли почти 1000 кг золота. В Средние века королевство Мусы было одним из самых богатых, и около двух третей поступавшего в западные страны золота добывалось в его копях. По мере продвижения через Северную Африку король сорил этим золотом направо и налево, переворачивая всю средиземноморскую экономику. «До их прихода золото в Египте ценилось высоко», – свидетельствовал один каирец. Однако, после того как Муса наводнил рынок своими запасами, местная валюта резко упала в цене, и «так продолжается около 12 лет до сего дня»{68}. Богатство Мусы произвело впечатление не только по пути его следования, слухи о нем разошлись по всей Европе. На испанской карте 1375 года он изображен с сияющим золотым самородком размером с гусиное яйцо, а его столица Тимбукту стала синонимом изобилия, загадочности и недосягаемости.
На южных окраинах Сахары, где пески переходят в зеленую саванну, расположена территория под названием Сахель (по-арабски «берег») – длинная полоса засушливой земли, протянувшаяся от Атлантики до Красного моря. В западной части Сахеля, у северной излучины Нигера, и находилось сказочное королевство Мусы. Одним из крупных торговых узлов был Тимбукту, где невольников для арабских стран и золото с юга обменивали на каменную соль из пустыни, и караваны числом до 3000 верблюдов разгружали свою экзотическую поклажу после изнуряющего перехода через Сахару. Именно торговцы – а не завоеватели, как в Северной Африке, – принесли сюда в XI веке ислам, хотя подданные Мусы большей частью остались необращенными. Странствующих проповедников ислама тоже манила возможность озолотиться за счет баснословно богатых жителей Мали. Однако путь из Мекки не был односторонним: несколько прародителей Мусы уже совершали хадж, пусть и не с такой помпой.
В увиденных им центрах исламской цивилизации Мусе многое пришлось по душе: в Каире он обзавелся сводами исламских законов, из Мекки привез потомков пророка Магомета, а также андалусийского поэта-архитектора ас-Сахили. Когда год спустя процессия вернулась в Западную Африку, ас-Сахили было поручено строительство великолепной купольной палаты для аудиенций – с резным оштукатуренным потолком, украшенным изящной каллиграфией. «Поскольку страна эта не ведала зодчества, султан был потрясен», – писал великий историк и философ XIV века (а также земляк ас-Сахили) Ибн Хальдун{69}.
Сам Хальдун так и не побывал в Тимбукту, однако 200 лет спустя это сделал Лев Африканский (географ из Феса, служивший затем при дворе папы Льва X), который записал устное предание, гласившее, что ас-Сахили строил заодно и большую городскую мечеть. Имеется в виду Джингереберская пятничная мечеть, возведенная по заказу Мусы и сохранившаяся (даром что выстроена из недолговечного саманного кирпича) до наших дней. Плавные ступени ее пирамидального минарета щетинятся деревянными брусьями. Эти дикобразьи иглы вовсе не каркас, как может показаться, а своеобразные неснимаемые леса, облегчающие регулярное обновление глиняной обмазки, без чего мечеть давно рассыпалась бы и слилась с песками пустыни. Творение ас-Сахили положило начало совершенно новому стилю архитектуры – сахельскому, воспроизводившему андалусийские исламские постройки в местном глинобитном материале и инициировавшему возведение похожих мечетей в малийских городах Гао и Дженне. Знаменитая соборная мечеть в Дженне является крупнейшей в мире глинобитной постройкой.
Однако не спешите слепо верить арабским и европейским авторам, утверждающим, будто зодчество в западной части Африки появилось лишь с прибытием ас-Сахили. Это перепевы европейских и арабоцентристских мифов, не приемлющих даже мысли о том, что Африка может обладать собственной архитектурной традицией, и уж тем более не готовых удостоить эту традицию звания архитектуры. Считается, что африканцы с доисторических времен жили в неизменных хижинах, и зодчество – а следовательно, и история – началось там лишь с исламизацией или европейской колонизацией. Тем не менее с трудом верится, что кто-то способен в одиночку познакомить целую страну с архитектурой или хотя бы с какими-то из исламских стилей, особенно учитывая, что мечети в Мали существовали и до ас-Сахили, а в Мекке были и другие правители до Мусы. А если вспомнить, что похожие глинобитные сооружения с деревянными кольями имеются и в местных неисламских районах (например, у догонов центрального Мали), то маловероятно вдвойне. Однако миф неистребим.
Причина появления подобных мифов в том, что памятники (изначально воздвигаемые именно с этой целью, как Тадж-Махал, или становящиеся ими случайно, как предполагаемая хижина Ромула, веками находившаяся на Палатине) хранят историческую память стран и народов. (Если в русском языке этимология слова «памятник» прозрачна, то его немецкий аналог Denkmal несет в буквальном переводе более назидательный оттенок – «задумайся»). Таким образом, и подоплека, и материальное воплощение памятников стоят того, чтобы за них бороться. Наследие Мали вызывает разночтения и оспаривается по сей день, причем не только в научных журналах, но и непосредственно на малийской земле: в 2012 году исламисты напали на Джингереберскую мечеть, а в 2006-м начались беспорядки из-за проекта восстановления мечети в Дженне.
Архитектурные памятники кажутся вечными, однако на самом деле они так же хрупки, как и сама память: их можно уничтожить, разрушить, восстановить, наполнить новым смыслом; их значение меняется так же часто, как и формируемые ими воззрения. Мы уже наблюдали, как памятники свергаются с пьедестала хранителя воспоминаний: останки разрушенной Бастилии – канонический пример того, как действует комплексный механизм забвения (в данном случае монархического прошлого) и увековечивания (расправы с прежней властью). Таким же комплексным механизмом явилось иконоборческое «переоснащение» католических церквей в Нидерландах: фрески, олицетворявшие испанскую католическую власть, закрашивались белым, в буквальном смысле превращаясь в чистый холст, а опустевшие ниши становились символом свободы от кумиров. Куда более радикальным оказалось избавление от нероновского дворца и погребение его следующей династией под общественными банями, однако и в этом случае гигантская статуя Нерона осталась на месте. Впоследствии колосс получил нимб, был переименован в статую бога Солнца и подарил название Колизею, построенному на месте нероновских парков.
В этой главе мы рассмотрим мемориальную функцию архитектуры и попытаемся ответить на вопрос, зачем нужны памятники и кому они служат. Вальтер Беньямин, спасаясь от одержимых монументальностью властей, писал:
«Победители устраивают триумфальное шествие, топча распростертые тела побежденных. По традиции в этом парадном шествии демонстрируются и трофеи. На эти трофеи, называемые сокровищами культуры, приверженец исторического материализма смотрит настороженно, поскольку происхождение любого из предстающих перед ним культурных сокровищ заставляет содрогнуться»{70}.
Памятники воздвигаются победителями и зачастую, как утверждает Беньямин, выступают «документальным подтверждением варварства». Например, триумфальная арка Тита на Римском форуме, породившая в XIX веке бесчисленные копии по всему миру, в том числе и в Париже, увековечивала победу над Иерусалимом в 72 году нашей эры. На одной из ее панелей изображен семисвечник, вытаскиваемый в качестве трофея из разрушенного храма. Однако, несмотря на то что памятники изначально воздвигаются богатыми и могущественными людьми, впоследствии они зачастую переосмысливаются народом, обрастая – пусть временно – непредусмотренными ассоциациями, как в случае с травяным ирокезом, водруженным на бронзовую голову Черчилля во время майских протестов в Лондоне 2000 года.
В XX веке фоторепортажи обеспечили подобным посылам широкую аудиторию, а также возможность остаться в памяти и достичь собственной культовой значимости. Не случайно в этот же период критике начала подвергаться сама идея монументальности, в противовес которой пропагандировалась беззаботность кочевой жизни. В частности, сюрреалист Жорж Батай жаловался, что «великие памятники воздвигаются, словно дамбы, усмиряя беспокойные стихии логикой величия и власти. Через рупоры дворцов и соборов государство и церковь утихомиривают толпу»{71}. Признанный специалист во многих научных областях Льюис Мамфорд тоже порицал стоящие мертвым грузом памятники: «Каменная монументальность, позволяющая им выпадать из времени, в конце концов приводит к тому, что они выпадают и из жизни»{72}. После Второй мировой войны возникла «антимонументальная» тенденция, направленная на избавление от дидактического, сковывающего подтекста подобных сооружений, и зародилась она, что неудивительно, в Германии – в стране, до сих пор пытающейся примириться со своими не самыми лучшими воспоминаниями. Однако, как показывают беспорядки вокруг соборной мечети в Дженне (местные жители возмущаются вмешательством правительства и международных организаций в ее восстановление), даже величественные официальные памятники могут обретать значение и ассоциации, идущие вразрез с намерениями властей. Так нельзя ли обернуть эти «документальные подтверждения варварства» против самих варваров?
Самые архетипичные из памятников – египетские пирамиды – построены в Африке. Ступенчатая пирамида Джосера, возведенная 4600 лет назад, представляет собой одно из старейших каменных сооружений, дошедших до наших дней, а ее создатель Имхотеп – первый зодчий, чье имя нам известно. Квантовый скачок в инженерно-строительном деле, который олицетворяет эта пирамида (учитывая, сколько времени, средств и человеческих сил понадобилось, чтобы добыть, перевезти и уложить все эти каменные глыбы), свидетельствует о том, какое огромное значение в египетской культуре придавалось памяти. Греки, многое перенявшие в зодчестве у египтян, очевидно, тоже не смогли пройти мимо: еще одно чудо древности – усыпальница царя Мавсола в Галикарнасе (в настоящее время турецкий Бодрум) – была увенчана огромной ступенчатой пирамидой.
Этот памятник кровосмесительному браку был возведен женой (она же сестра) Мавсола после его смерти в 353 году до нашей эры. Здание, спроектированное двумя греческими зодчими, представляло собой нечто доселе невиданное: поставленное на высокий цоколь и окруженное колоннами, словно храм, оно не имело ни фронтонов, ни дверей, зато увенчивалось пирамидой, которая, по словам одного римского поэта, словно «висела в воздухе» над полумраком колоннады. Об усыпальнице нам известно лишь из запутанных древних источников, поскольку сама она была разрушена (возможно, землетрясениями) и ее камни пошли на постройку замка одного из участников крестовых походов. Однако память о ней живет в подражаниях и в самом слове, прижившемся благодаря усыпальнице императора Августа, названной римлянами мавзолеем.
Эти сооружения призваны были увековечить память о правителе в сознании подданных, создавая очаги посмертных культов, которые превращали усопшего владыку в бессмертное божество. Разумеется, приверженцы культа получали свою выгоду, приходя к этим наглядным символам бессмертия просить почившего фараона или императора о помощи. Впрочем, некоторые культы имели не стихийное, а искусственное происхождение, насаждаемые преемниками или династией. Соответственно, и периодическая порча или разрушение этих возвеличивающих памятников тоже может быть делом рук политической оппозиции, а не народа. Золотой дом Нерона был погребен следующей династией, а свержение статуи Саддама, хоть и проходило под одобрительные возгласы багдадцев, было тщательно срежиссировано для телекамер захватчиками: на оцепленной американской морской пехотой площади находилось максимум человек 150, включая солдат и журналистов{73}.
Как свидетельствует пример статуи Саддама, обожествление увековеченных в камне правителей свойственно не только древним. В XX веке это явление получило гигантский размах, и потуги Саддама на создание культа личности меркнут перед грандиозными мавзолеями Ленина и Мао (первый из которых представляет собой классическую ступенчатую пирамиду). Люди до сих пор готовы отстоять многочасовую очередь, чтобы посмотреть на мумифицированных обитателей этих сооружений, спящих в своих стеклянных саркофагах. Возможно, сочетание нездорового любопытства и ностальгии, влекущее современников в мавзолеи, прольет свет на то, что двигало приверженцами древних культов личности. Но, что гораздо важнее, противоречивость и антагонизм, рождаемые этими памятниками, должны напомнить нам, что ни один культ не обходится без противников. Большинство нынешних россиян считают, что тело Ленина следует предать земле, а на саркофаг за все время пребывания в мавзолее было несколько посягательств.
Наверное, самый противоречивый из современных мавзолеев – Долина павших близ Мадрида. Этот огромный комплекс, состоящий из монастыря и подземной базилики, со 150-метровым крестом, видимым за 32 км, был выстроен в память о гражданской войне в Испании по приказу Франко. В 1940 году он отметил начало работ речью следующего содержания:
«Размах нашего крестового похода, героические жертвы, которых потребовала победа, и неизмеримое значение этой эпопеи для будущего Испании не передадут простые памятники, которые обычно воздвигаются в городах и селах страны во славу выдающихся событий нашей истории и великих подвигов сынов Испании. Здешние камни не уступят величием древним мемориалам, над которыми не властно время и забвение»{74}.
Но если Франко надеялся с помощью памятников обрести бессмертие, то его усилия пропали даром: по Закону об исторической памяти, изданному социалистическим правительством 2004–2011 годов, его статуи были убраны из всех общественных мест материковой Испании. В этот же период все более пристальное внимание привлекала и Долина павших. Сторонники считали мемориал памятником гражданскому примирению, подчеркивая, что в криптах покоятся останки сражавшихся с обеих сторон. Однако уже было очевидно, что подавляющее большинство из 34 000 погребенных составляют националисты и фашисты, а тела республиканцев добавлялись позже – в качестве аргумента против критики – зачастую под покровом ночи и без согласия родных. Сомнительный примиряющий шаг, особенно если учесть, что по крайней мере 14 из этих республиканцев были каторжанами, погибшими во время строительства мемориала. Последние сомнения насчет цели и назначения этого комплекса могут развеять две могилы непосредственно за алтарем (других таких нет) – там покоится Хосе Антонио, основоположник фалангистского движения, похороненный лично Франко в 1959 году, и сам каудильо – под простой плитой, на которую ежедневно возлагают свежие цветы его приверженцы.
Предшествующее столетие с его идеологическими распрями и мировыми войнами было благодатным периодом для любителей воздвигать памятники. Ни Ницше, еще в 1874 году порицавший одержимость XIX века монументалистикой, ни венский историк искусства Алоиз Ригль, в 1903 году написавший «Современный культ памятников», не смогли предугадать грянувший через несколько десятилетий бум на мемориальные сооружения. Коммунистические, фашистские и капиталистические памятники стране, свободе, завоеваниям, вождям и рабочим, выигранным и проигранным битвам заполонили всю Европу и Азию. Многие из них менее противоречивы, чем могила Франко: в частности, братские могилы в северной части Европы, где погребены погибшие в Первую мировую войну. В архитектурном отношении самым выдающимся из таких памятников можно считать арку, построенную Лаченсом в Тьепвале, – гигантское деконструктивистское по форме сооружение, которое увековечивает, в отличие от остальных триумфальных арок, не победу, а потери. Как и подобает памятнику – утрате 72 000 человек, без вести пропавших после сражения на Сомме, – оно олицетворяет останки разрушенного собора (центральный и боковые нефы призрачного строения). Однако даже этот памятник обходит молчанием горе и потери гражданского населения: перед нами очередная националистическая, военизированная усыпальница.
Лишь Вторая мировая война породила такое глубокое отвращение к прошлому, что в Германии начали – пусть и с опозданием – возводить антипамятники, как назвал их Джеймс Янг. Один из самых примечательных среди этой волны – Памятник против фашизма, созданный художниками Йохеном и Эшером Герцами для Харбурга, мрачного гамбургского пригорода. Установленный в 1986 году монумент представлял собой 12-метровую черную свинцовую колонну квадратного сечения, поэтапно забиваемую в землю. Художники приглашали зрителей расписаться на колонне, с тем чтобы «антипамятник не просто увековечивал антифашистский порыв, но и воплощал его, сокращая иерархический разрыв между предметом искусства и зрителем»{75}. Вскоре (как и следовало ожидать) памятник покрылся беспорядочными надписями – в основном в духе «здесь была Гертруда», но имелись и политические заявления как нео-, так и антифашистского характера. Самый провокационный аспект программы заключался в том, что, как только на досягаемой части колонны уже не оставалось места для записей, она уходила в землю, и постепенно этот самоуничижительный монумент должен был исчезнуть целиком, как и надлежит антипамятнику. Кроме того, поскольку погребение очередного фрагмента антифашистского памятника каждый раз приветствовали местные власти, пресса и представители общественности, авторы видели в этом наглядное выражение радости от того, что мучительные воспоминания о войне «уходят в землю». Как сказал Ницше: «Счастье всегда обеспечивается одним и тем же: способностью забывать»{76}.
Заведомо присущее антипамятникам иконоборчество представляет собой порождение вполне конкретного пространства и времени, сформированного модернистским порицанием монументальности и политической обстановкой послевоенной Европы. Однако гораздо чаще посягательства на памятники были и остаются несанкционированной, стихийной борьбой с официальной культурой. Протестантами, крушившими в XVI веке голландские церкви, двигали не только религиозные мотивы, но и политические – стремление проучить испанские католические власти.

Разрушение собора. Храм Христа Спасителя в Москве был взорван по приказу Сталина в 1931 году
Вера по-прежнему остается мощным двигателем оппозиционного вандализма, о чем свидетельствуют разрушенные мечети Мали. На момент написания этой главы политическая обстановка в стране (когда-то в равной мере обласканной неолибералами, гуманитарными организациями и поклонниками Запада) являет собой полную неразбериху. После военного переворота 2012 года почти всю северную часть Мали захватили при помощи оружия, полученного после падения режима Каддафи в Ливии, исламистские группировки и сепаратистски настроенные кочевники-туареги. За этот период, как неоднократно сообщалось в новостях, разрушению подверглись многие суфийские усыпальницы и захоронения – по некоторым подсчетам, свыше половины по всей стране. В Мали, где большинство мусульман относится именно к суфистам, эти усыпальницы имеют огромное значение, поскольку в суфизме святые и особо набожные личности обладают более тесной связью с Аллахом, чем простые смертные, поэтому при посещении усыпальницы или мавзолея, посвященного святому, у него можно попросить заступничества. В Тимбукту, носящем неофициальное название Города 333 святых, суфийских усыпальниц хватало в избытке, однако во время беспорядков 2012 года многие из них сровняли с землей, а два мавзолея при Джингереберской мечети крушили кирками.
Беспорядки вызвали бурную реакцию иностранной прессы – как было и после взрыва талибами бамианских статуй Будды в Афганистане. Выдвигались предположения о связях повстанцев с «Аль-Каидой». На самом же деле связи между афганскими иконоборцами, террористами Бен Ладена (в основном направлявшими свои иконоборческие усилия против Запада) и малийскими повстанцами довольно призрачны. Единственное, что их точно объединяет, – нелюбовь к памятникам. Самопровозглашенный глашатай исламистской группировки Ансар-ад-Дин, занявшей Тимбукту в ходе беспорядков, заявлял: «Нет никакого мирового наследия. Его попросту не существует. Неверным нечего вмешиваться в наши дела»{77}. Культовые мишени выбираются отчасти для того, чтобы компенсировать относительную слабость атакующей группировки, а внимание, которое удается привлечь подобными действиями, подтверждает правоту организаторов акции: жизни малийцев (или афганцев) ничто по сравнению со знаменитыми камнями. Тем самым разоблачается лицемерие западных правительств, которые нисколько не заботились об исламской архитектуре, бомбя ближневосточные города, а также негуманность пропагандируемых западными либералами «общечеловеческих ценностей», которые нужны лишь для оправдания бесцеремонного вмешательства бывших колониальных правителей.
Однако иконоборчество в Мали было не столько посланием Западу, сколько политическим заявлением, с одной стороны, призывающим сторонников, а с другой – нацеленным на дискредитировавшее себя малийское правительство, от которого повстанцы намерены отречься. Взамен они собираются насаждать «очищенный» ислам, но, как замечает историк Эмили О’Делл, «разрушая могилы и уничтожая покоящиеся в них тела как идолов – лишний раз убивая уже убиенных, – Ансар-ад-Дин предает собственные убеждения, поскольку вступает в политические и религиозные отношения с теми же самыми кумирами и идолами»{78}.
В последние годы мусульманским памятникам немало доставалось и от представителей другой веры: в частности, от христиан в бывшей Югославии, где во время жестоких войн 1990-х были разрушены почти все османские мечети XVI века, а также от индусов в Индии, где в 1992 году была уничтожена 430-летняя мечеть Бабура, – вспыхнувшие в ответ беспорядки унесли жизни свыше 2000 человек. Отрекаясь от исламского прошлого собственной страны, эти иконоборцы пытались отнять у мусульман право жить в ней в настоящем. И хотя за уничтожением памятников часто стоят религиозные мотивы, в XX веке в коммунистических государствах большой размах приобрело и атеистическое иконоборчество, целью которого был переворот в массовом сознании, переход от веры к материализму. В 1931 году Сталин взорвал крупнейший в России собор – московский храм Христа Спасителя, чтобы на его месте построить Дворец Советов. Собор XIX века, выстроенный во славу царского режима, в архитектурном отношении не был особенно примечателен – никакого сравнения с пестрой мозаикой куполов Василия Блаженного, поэтому его уничтожение, в принципе, не было невосполнимой утратой, однако для Православной церкви оно оказалось сильным ударом.
Проект дворца, который должен был появиться на этом месте, выбирался на престижных международных конкурсах, к участию в которых приглашалась мировая архитектурная элита. Заявки подавали Ле Корбюзье, Вальтер Гропиус, Эрих Мендельсон и несколько советских модернистов, включая Моисея Гинзбурга и братьев Весниных. Однако в конечном итоге (к большой досаде Ле Корбюзье) выбор официальной комиссии пал на жуткое неоклассическое чудовище. Этот момент нередко называют вехой, отмечающей сокрушение модернизма сталинским китчем: дворец предполагалось выстроить в виде гигантской башни с элементами ар-деко, увенчанной огромной статуей Ленина с воздетой к небу рукой «в позе провинциального актера», как выразился в книге отзывов кто-то из русских посетителей выставки конкурсных проектов{79}.
Дворец, задуманный не менее монументальным, чем разрушенный ради него храм, так и не построили: успели заложить фундамент и начать возведение стального каркаса, однако затем балки были демонтированы на нужды фронта. Однако и в 1940-х он продолжал тешить самолюбие советских руководителей, появляясь на родине и за рубежом в виде моделей, на медалях, фресках, сувенирах и даже в документальном фильме. Затем в 1958 году – через два года после разоблачительной речи Хрущева на закрытом заседании Политбюро и через 27 лет после взрыва храма – в фундаменте устроили плавательный бассейн. Кто-то может счесть эту замену слишком популистской или несерьезной, но строительство крупнейшего в мире открытого бассейна в центре города, улицы которого на несколько месяцев в году засыпает снег, на месте предполагаемого пышного памятника культу личности кажется мне вполне идеалистичным демократическим шагом, хотя, возможно, равнодушные к плаванию со мной не согласятся. Подогреваемая круглая чаша бассейна наполняла паром морозный московский воздух каждую зиму вплоть до 1995 года, когда мэр решил восстановить разрушенный собор. Восстановленный храм Христа Спасителя, оказавшийся еще чудовищнее оригинала, наглядно демонстрирует приоритеты постсоветской власти – больше никаких народных бассейнов – и единение с ультраконсервативной Православной церковью. Как и мавзолей Ленина, стоящий на прежнем месте, несмотря на резко схлынувший наплыв публики, собор красноречиво свидетельствует, о чем Россия хотела бы помнить и о чем хотела бы забыть, выстраивая новый самоидентификационный миф.
При восстановлении прошлое неизбежно предстает перед нами таким, каким мы хотим его видеть. Иногда это происходит с полным пренебрежением к исторической достоверности, как было в случае с химерами собора Парижской Богоматери у Виолле-ле-Дюка. В то время Англия и Франция вели бурную полемику об архитектурной реставрации, подогреваемую изобретением фотографии (позволявшей точнее запечатлевать здания), а также о значении стиля и его внутренней связи с духом времени. Джон Рескин видел в архитектуре главное хранилище памяти: «Без нее можно жить и можно молиться, но помнить без нее нельзя», – и требовал сохранения памятников старины, «сильнейших борцов с забвением». При этом он решительно противился реставрации зданий, особенно по методу Виолле-ле-Дюка, предполагавшему избавление от позднейших дополнений и повреждений. Рескин считал реставрацию «самым полным уничтожением, которому только может подвергнуться здание: после такого уничтожения уже не собрать останков, оно сопровождается фальсификацией описи уничтожаемого… невозможно, как невозможно воскресить мертвеца, восстановить ни один великий и прекрасный архитектурный шедевр… тот дух, который вкладывает в постройку рука и глаз рабочего, нельзя возродить»{80}.
Рескин руководствовался идеей, что здание доподлинно выражает определенный момент истории народа, поэтому о нем следует заботиться с целью увековечить народ и его проверенные временем ценности, которые, разумеется, каждый волен выбирать сам. У Рескина это была готическая архитектура и христианский социализм, который он противопоставлял индустриальному модернизму. Однако, несмотря на то что его философия, усвоенная и Уильямом Моррисом, основавшим в 1877 году Общество охраны старинных зданий, стала манифестом архитектурной консервации, без противоречий не обходится, особенно когда права памятников старины вступают в конфликт с правами живых людей. Законсервированное и оторванное от современности здание рискует стать недоразумением и даже обузой, не давая людям благоустраивать свою жизнь и среду обитания.
Этот конфликт между забвением и памятью в архитектуре, между истинными и ложными воспоминаниями продолжается и сегодня, как мы наблюдаем на примерах восстановленного храма Христа Спасителя и планируемой реконструкции Берлинского городского дворца XVIII века, снесенного после войны властями ГДР, чтобы освободить место под Дворец Республики, который, в свою очередь, был снесен после объединения Германии. Таким же полем идеологической битвы, на котором недавно пролилась кровь, стала и Большая мечеть в Дженне.
В 2006 году Культурный фонд Ага-хана (руководителя шиитской секты низаритов) выслал своих специалистов проинспектировать крышу глинобитного здания. Песчаная постройка находится под постоянной угрозой размывания, поэтому каждый год горожане обмазывают ее заново на празднике под названием fête de la crépissage (праздник обмазывания), когда торчащие из фасада деревянные колья превращаются в ступени. Обмазывание защищает здание, однако за долгие годы многотонные слои глины сильно утяжелили крышу и стены, «раздув» изначально строгие линии мечети и угрожая ее сохранности. Увидев на крыше посланцев Ага-хана, горожане подняли волну протестов, и реставраторов вынудили убраться. После этого протестующие уничтожили проветриватели, установленные американским посольством в ходе попытки наладить отношения во время Иракской войны, и один человек погиб во время последующих столкновений с полицией.
Прежде чем утверждать, что эти события стали реакцией на посягательство иностранцев на культурное наследие, нужно добавить, что в ходе беспорядков были разгромлены также канцелярии префекта, мэра и культурной миссии правительства и уничтожены несколько машин, принадлежащих имаму мечети. Массированная атака на представителей власти говорит о недовольстве политикой сохранения наследия страны в целом – и это неудивительно, учитывая, что Дженне (и Мали в целом) уже не первое десятилетие выступает дойной коровой, от которой ничего не перепадает самим горожанам. С 1988 года мечеть и многие исторические здания города имеют статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и Джингереберская мечеть в Тимбукту, обеспечивая денежный поток от гуманитарных организаций и туристов. Но пока власти наживаются на своих дойных коровах, простой народ вынужден жить в морально и физически устаревших зданиях, поскольку нахождение под охраной ЮНЕСКО запрещает их модернизацию. Как сказал один из местных: «Кому охота жить в доме с земляным полом?»
Махамаме Бамойе Траоре, возглавляющий влиятельную городскую гильдию каменщиков, заявляет: «Если хотите помочь, помогайте так, как удобно принимающему помощь. Заставлять его жить по своей указке неправильно». Об одной крошечной каморке без окон с глиняным полом Траоре сказал: «Это не комната. Это самая настоящая могила»{81}. Его замечание, вторящее модернистской критике середины XX века, означает, что мы так и не усвоили предостережение Батая насчет архитектуры, которая «погребает общественную жизнь под каменной плитой». Как уже выяснили малийцы, погребать способна и глина, которую воспевают исключительно чужестранцы со своей nostalgie de la boue – «тоской по грязи», идеализацией якобы неиспорченного цивилизацией образа жизни.
Не испугавшись беспорядков, омрачивших предыдущий визит, в 2009 году посланцы Фонда Ага-хана вернулись продолжить реставрацию мечети. Однако что именно они собирались реставрировать и в соответствии с чьей памятью? По сути, Большая мечеть в Дженне может считаться плодом чужеземного воздействия на малийское самосознание: изначальная постройка XIII века обветшала при попустительстве правящего в XIX веке теократа-пуританина Секу Амаду. Амаду выстроил на ее месте новую мечеть, попроще и без украшений. Однако французы, завоевавшие Мали в конце XIX века, стали насаждать более удобный для них вид ислама, поэтому уничтожили развалины первой мечети, чтобы в 1907 году построить современное ее здание. Так что ее «малийская исконность» вызывает жаркие споры: сразу после постройки один из французских обозревателей, видевший развалины изначальной мечети, называл новое здание «помесью ежа и церковного органа», утверждая, что своими коническими башнями она напоминает «вычурный храм в честь бога суппозиториев»{82}. Критики и сейчас доказывают, что ее симметричная монументальность навязана европейцами (и действительно, три конические башни по фасаду, увенчанные страусиными яйцами, придают ей ощутимое сходство с готическим собором). Можно ли считать это примером синдрома ложной памяти – тоже типично французского, – который критиковал Рескин в 1849 году, выступая против волюнтаристских реставрационных методов Виолле-ле-Дюка?
Как бы то ни было, Фонд Ага-хана не стал разбирать, чье это наследие – французских колонистов или малийское, объявил исконной постройкой здание 1907 года и продолжил соскребать глиняную «шубу», которой мечеть обросла за последнюю сотню с лишним лет. Делалось это для спасения основы здания, уже проседавшей под тяжестью: после сильных ливней в том же году рухнула одна из башен. А еще перед реставраторами стояла задача открыть истинный облик здания, предположительно прячущийся под всеми этими наслоениями. Но что если эта «шуба» и есть истинный облик? Если изначальную мечеть построили французы, возможно, самое аутентичное в ней – это как раз последующее постепенное преобразование под руками горожан, оставляющих свои отпечатки на глине?
У имама (набитого саудовскими нефтедолларами) имеются насчет нынешней мечети собственные соображения: придать ей восточный колорит, облицевав зелеными изразцами, и водрузить наверх золотые минареты. Однако ЮНЕСКО, действуя заодно с правительственной культурной миссией, пока сумело пресечь эти далеко идущие планы. Считать ли эти противоречащие друг другу вмешательства Запада (ЮНЕСКО и американского посольства) и Востока (Фонда Ага-хана и саудовских спонсоров имама) свежими примерами того, как иностранцы навязывают Мали свои взгляды, не признавая право авторства за африканскими творцами? Или идея авторского права в искусстве сама по себе навязана извне? Ведь, по сути, Большая мечеть была построена местными народными умельцами, передававшими мастерство из поколения в поколение. И в таком случае она, несомненно, аутентична, поскольку устная традиция куда более созвучна африканскому самосознанию, чем миф о гении-одиночке или навязанной чужеземцами письменной истории. Аналогом этой устной традиции вполне можно считать «праздник обмазывания», когда жители Дженне передают навыки строительства из поколения в поколение, вовлекая в ремонт мечети всю общину.

Накрытая каменным шатром могила викторианского востоковеда Ричарда Бертона в Мортлейке – юго-западная часть Лондона
Однако действительно ли именно устную традицию можно считать в большей степени «исконно африканской» или это очередной романтический миф, изображающий Африку безграмотной вопреки всем свидетельствам обратного? Как-никак Тимбукту и Дженне столетиями слыли центрами науки и международного книгообмена. Регион и сегодня может похвастаться богатой коллекцией средневековых манускриптов, большая часть которых находится в частных библиотеках, несмотря на все усилия иностранцев собрать их в таких организациях, как, например, Институт Ахмеда-бабы – фонд, основанный в Тимбукту в 2010 году и финансируемый южноафриканцами. Нежелание владельцев расставаться со своими книгами понятно, учитывая, что французы тоже пытались, находясь у власти, прибрать коллекции к рукам, а драгоценные переплетенные в кожу тома обеспечивают много пережившей стране связь с прошлым. Книги эти также не смогли уберечь от посягательств во время недавних беспорядков: как и суфийские усыпальницы, они олицетворяют исламскую историю, которую реформаторы мечтают стереть. Незадолго до того, как повстанцы были выдворены французами из Тимбукту, Институт Ахмеда-бабы был ограблен и несколько томов сожжено. К счастью, большинство было предусмотрительно спрятано сотрудниками института – у малийцев за плечами немалый опыт столкновений с вандалами. Если эти рукописи опровергают миф об устной африканской традиции, то мечети Мали точно так же нельзя считать порождением некой безымянной, кустарной, внеисторической традиции, чудесным образом рожденной в африканских «массах». Нам известно имя главного каменщика Дженне, перестраивавшего мечеть в 1907 году, – Исмаил Траоре – и местного архитектора, выступавшего консультантом у реставраторов Ага-хана, – это Абдель-Кадер Фофана, учившийся в СССР и владеющий русским и китайским. Устный характер традиций малийского зодчества не мешает им меняться с годами или вбирать иностранные течения – так происходит со времен хаджа короля Мусы.
Иссушение и опасность размыва дождями постоянно грозят превратить малийские мечети в пески пустыни. Происходящие с ними изменения и необходимость раз в год создавать заботливыми руками верующих очередной слой защитной оболочки делают их прямой противоположностью тем памятникам, которые критиковали модернисты вроде Батая и Мамфорда. Последний под монументальностью понимал постоянство и нерушимость камня, однако глинобитная, возможно, не исконная, но определенно несущая в себе смешанные черты Большая мечеть Дженне постоянна настолько, насколько постоянен заботящийся о ней народ. И если Батай с Мамфордом писали о гнете памятников, под которым оказывается общество, архитектурное наследие Тимбукту и Дженне, превращенное стараниями ЮНЕСКО в нерушимый камень, точно так же грозит задавить свои города. Однако оплывающая глина и беспорядки вокруг Большой мечети напоминают, что памятники вовсе не так незыблемы, как нам представляется. Соответственно и посягательства исламистов на суфийские могилы в Мали свидетельствуют о том, что так называемые общечеловеческие ценности мирового наследия, пропагандируемые ЮНЕСКО, разделяют не все: в частности, для религиозных фанатиков с их табу на образы эти памятники являются ересью, а не сокровищем.
В недавних малийских беспорядках активно участвовали туареги. Несмотря на то что традиционно эти кочевые племена принадлежат к суфиям, многие туареги – особенно те, кто десятилетиями выступает за образование отдельного государства Азавад на севере страны, – в последнее время начали объединяться с исламистами-реформаторами, громя вместе с ними суфийские усыпальницы и уничтожая книги в Тимбукту. Не одно столетие европейцы и арабы романтизировали кочевой образ жизни, а критики монументальных городов нередко говорили о шатрах кочевников как об альтернативном жилье, не ложащемся гнетом на землю. Ричард Бертон, востоковед и исследователь XIX века, сумевший переодетым пробраться в Мекку (а еще издавший скандальные версии «Тысячи и одной ночи» и «Камасутры» без цензуры), был похоронен в пригороде Лондона под каменной копией бедуинского шатра. Это непривычно монументальное воплощение архетипического элемента мобильности служит метафорой недолговечности «шатра» человеческого тела и воскрешения его обитателя – бродячей души – к вечной жизни.
Однако было бы востоковедческой фантазией изображать туарегов (которые в действительности представляют собой не однородную массу, а ячеистую – из зачастую противоборствующих кланов) как противников города, его памятников и памяти. Именно туарег стал недавно премьер-министром Мали, и немало туарегов работает в культурных учреждениях Тимбукту. Тем не менее в ХХ веке образ кочевника был переосмыслен, а на его шатер возложены новые метафорические обязанности. Мамфорд писал:
«Первобытный кочевник – до тех пор, пока не начал перенимать привычки горожан, – избавлял себя от необходимости приносить живых людей в жертву мертвым памятникам. Он путешествовал налегке. Нынешняя цивилизация уже по другим причинам, с другими целями должна, в свою очередь, поучиться у него: не просто путешествовать, но и жить налегке, быть готовой не только перемещаться в пространстве, но и приспосабливаться к новым условиям, к новым промышленным процессам, к новым культурным достижениям. Наши города должны быть не памятниками, а самообновляющимися организмами»{83}.

Шатер современного кочевника. «Комната в кооперативе» Ганса Майера (1926)
Ганс Майер, социалист и руководитель Баухауза, с которым мы уже встречались в конце предыдущей главы, тоже выступал за новый, кочевой образ жизни, предлагая в качестве иллюстрации фотографию с подписью «Жилище. Комната в кооперативе, 1926 год». На фотографии изображен искусственно созданный интерьер с самыми необходимыми для современной кочевой жизни вещами – раскладушкой, граммофоном на складном столике и складным стулом, висящим в сложенном виде на стене. Белые модернистские стены – tabula rasa, очищенная от тревожных воспоминаний, – оказываются при ближайшем рассмотрении тканью палатки. Майер писал: «Благодаря стандартизации нужд в отношении жилья, пищи и досуга [граммофон в углу] у нашего полукочевника появляется преимущество в виде свободы передвижения, экономии, упрощения жизни и отдыха, что для него жизненно важно»{84}. Отсутствие корней сулило не только экономические и психологические выгоды: помимо прочего оно помогло бы искоренить национализм, приведший к Первой мировой войне, стереть оставленную ею горькую память. «Наши дома мобильны как никогда. Большие многоэтажки, спальные вагоны, жилые яхты и трансатлантические лайнеры подрывают саму концепцию отчизны. Отчизна уходит в небытие. Мы учим эсперанто. Мы становимся космополитами»{85}.
Сейчас эсперанто – погибшая голубая мечта давно почивших чудаков, а десятилетия глобализации поставили крест на концепции мирового капитала как миротворческой силы: отсутствие корней не исключает войны, а война зачастую приводит к утрате корней. Росту благосостояния и душевному покою бедных глобализация тоже не особенно помогла (вот он – довод в пользу бруталистской монументальности в противовес капиталистической размытости и зыбкости). Кроме того, палатку кочевника не назовешь мирной. Те же туареги – прославленные воины, совершающие набеги из бескрайних песков пустыни на расположенные южнее города. И хотя кочевническую палатку пытаются вынести за скобки истории (что-то вроде средства против исторического кошмара, от которого отчаянно желают очнуться модернисты), на самом деле она так же незыблема, как глина и кирпич. Шатры туарегов сооружают женщины во время свадебной церемонии (в языке туарегов «шатер» означает также и брак, и вагину), чтобы потом возить с собой до конца жизни. Пусть и не прикованное к одному месту, это жилище все же долговечно и так же наполнено воспоминаниями – личными, семейными, общинными, как и великие памятники Тимбукту и Дженне.
Для оседлых жителей Запада город тоже может превратиться в огромную обитаемую «мадленку», где определенные улицы и закоулки навсегда помечены неугомонным псом памяти. Так, для меня покореженный уличный указатель у кладбищенской стенки в Оксфордшире остался памятником подростковому бунту, а вид из Хрустального дворца хранит память об окончании одной романтической связи. Архитектура переполнена подобными личными воспоминаниями, и даже пышные мемориалы, увековечивающие коллективную память, далеко не монолитны. Людская забывчивость, ошибочные воспоминания, противоречащие друг другу толкования событий прошлого подтачивают их куда сильнее, чем хотелось бы тем, кто их воздвигал. Памятники постоянно обновляются, как осыпающиеся малийские мечети, и каждый из них может превратиться в антипамятник, исписанный нашими собственными воспоминаниями.
Дополнительная литература
‘Theses on the Philosophy of History’, in Walter Benjamin, Illuminations (London, 1999).
4. Палаццо Ручеллаи, Флоренция
(1450)
Архитектура и бизнес
Я не намерен строить для того, чтобы иметь клиентов. Я намерен иметь клиентов для того, чтобы строить.
Айн Рэнд. Источник{86}
Здание всегда достойно своего заказчика.
Норман Фостер{87}

Портрет Джованни Ручеллаи на фоне его архитектурных проектов
«В жизни есть две важные вещи: продолжение рода и строительство» – так писал в XV веке банкир и меценат Джованни Ручеллаи, построивший немало зданий в родной Флоренции. На портрете он изображен перед объединенными лишь на холсте дворцом, церковью и надгробием. Своего рода семейный портрет: гордый отец Джованни с кустистой, как у библейского патриарха, бородой в окружении своих архитектурных детищ. Одно из них, дворец Ручеллаи (слева), отмечает переломный момент в проектировании жилых помещений. Именно с него начался уход от мрачной тяжеловесности прежних дворцов к свету и изяществу нового, с иголочки, классицизма. Палаццо служило семейным жилищем, а поскольку во Флоренции семья и бизнес были тесно переплетены, то заодно и штаб-квартирой – в данном случае такой же впечатляющей и ослепительной, как нынешние шанхайские небоскребы. Дворец Джованни одет в мрамор по последней моде и слову техники, что демонстрирует и надежность, и современность – неотъемлемые черты успешного бизнеса. Неудивительно, что строительство Ручеллаи считал не менее важным делом, чем продолжение рода.
Богачи вроде Джованни всегда использовали архитектуру для рекламирования себя и своего дела, превращая при этом – как процветающие застройщики вроде Дональда Трампа – в прибыльный бизнес само строительство. На архитектуре, как и на любом другом искусстве, можно делать деньги, и гордо возносящиеся ввысь фаллическими символами башни застройщиков вроде Трампа являют архитектурный бизнес во всей свой неприкрытой, пульсирующей денежными потоками красе. От протокапиталистов, строивших Флоренцию, до магнатов, застраивавших Манхэттен; от немцев, придумавших корпоративную идентичность, до не помнящих родства корпораций, паразитирующих на современном Лондоне, корпоративные заказчики изменяют облик города под свои нужды. Однако бизнес и архитектура, клиент и дизайнер, личные интересы и общественное благо никогда не придут к той гармонии, которую призвана продемонстрировать безукоризненная каменная кладка палаццо Джованни и величественные линии Рокфеллеровского центра. Корпоративные заказчики упускают из виду обычного человека, пусть и не пытаясь в буквальном смысле выбить почву у него из-под ног. Своей деятельностью они обрушивают экономику, уничтожают целые районы, а в некоторых случаях приводят к гибели людей. Попытки укротить архитектурный бизнес предпринимались неоднократно, однако все они как слону дробина: как мы еще убедимся, корпоративным заказчикам нечего бояться, кроме собственного успеха.
Родившийся в 1403 году Джованни Ручеллаи происходил из старинного рода флорентийских торговцев тканями, однако в молодом возрасте лишился отца и наследство получил довольно скромное. Словно предварительный набросок к великому капиталистическому мифу о человеке, который «сделал сам себя», Джованни, подстрекаемый амбициозной матерью, преодолел эти неурядицы и преуспел на банковском поприще. По ходу дела он скопил огромное состояние, в какой-то момент оказавшись третьим из крупнейших толстосумов города. Женитьба на дочери флорентийского вельможи Паллы Строцци вроде бы гарантировала дающее безграничные возможности и власть причисление к кругу правящих республикой олигархов, однако надежды Джованни рассыпались в прах, когда Палла вместе с другими влиятельными флорентийскими семьями вознамерился прогнать из города Козимо де Медичи. Козимо, по мнению остальных олигархов, слишком распоясался и угрожал нарушить равновесие сил. К несчастью для заговорщиков, Козимо вскоре вернулся и в 1434 году сумел наконец утвердить владычество Медичи во Флоренции.
С этого начался период олигархической консолидации и окончательный упадок демократических гильдий. Но для Джованни куда хуже было то, что его тесть и покровитель Палла был отправлен в пожизненное изгнание. Однако, несмотря на такой поворот судьбы, Джованни не бросил Паллу, и эта преданность дорого ему обошлась. На друзей своих врагов Медичи смотрели косо, и после их прихода к власти Джованни почти на три десятилетия был отстранен от государственной должности. Печальная дневниковая запись свидетельствует: «Уже 27 лет я с государством не в ладу, скорее, под подозрением». Тем не менее на предпринимательской деятельности Джованни опала не особенно отразилась, и в конце концов он сумел женить своего сына Бернардо на Наннине де Медичи. Брак без любви оказался несчастливым, как следует из писем Наннины, однако свою задачу он выполнил: Медичи перестали ассоциировать Джованни Ручеллаи со старым недругом. Теперь Джованни мог принимать участие в городском управлении – лестная и почетная для тщеславного старика роль, которую он, впрочем, играл спустя рукава.
Вместо этого он отдавал все силы архитектуре. Художником этот приземленный буржуа не был, его записные книжки выдают натуру, не склонную рождать оригинальные идеи, однако строительное дело Джованни сумел превратить в своего рода искусство. Плодами его дорогостоящего хобби стали палаццо и лоджия напротив, впечатляющий своей графичностью мраморный фасад церкви Санта-Мария-Новелла и семейная часовня с изящной гробницей, повторяющей формой храм Гроба Господня в Иерусалиме. Ни одна из этих построек не делала тайны из личности заказчика: даже церковь – сооружение, как правило, предполагающее набожную скромность, – буквально кричит об участии Джованни. Весь фасад, словно сыпью, покрыт фамильными знаками Ручеллаи (не считая резных бриллиантовых колец Медичи, напоминающих о союзе двух семейств), а на самом верху огромными буквами значится: «Джованни Ручеллаи 1470». Единственная из итальянских церквей, она, словно рекламный щит, несет на себе имя заказчика, удивляя заметным отсутствием отсылок к славе Господней.
Разместив свое имя на первой крупной постройке, предстающей перед приезжающими с севера и по сей день, поскольку расположена церковь прямо напротив вокзала, Джованни сделал своему бизнесу отличную рекламу. Но как смирились с такой беспардонностью церковники? Судя по всему, им просто хотелось любой ценой получить новое здание. Мраморная облицовка недешева настолько, что Санта-Мария-Новелла единственная из флорентийских церквей обрела полностью отделанный фасад до окончания эпохи Возрождения. В частности, облицовка кафедрального собора Флоренции под свадебный торт завершилась лишь в XIX веке, и даже Медичи так и не смогли закончить отделку своей семейной церкви Сан-Лоренцо. Как же это удалось Джованни?
Отбывая в изгнание, Палла Строцци по мизерной цене продал своему зятю Джованни несколько ценных имений, чтобы избежать драконовских налогов, которыми обложили их Медичи. Сохраняя имения в семье, Палла надеялся заодно сохранить хотя бы частичное право распоряжаться бывшей собственностью и поставил условием часть доходов от нее отчислять на религиозные нужды. Условие было выполнено: из этих денег Джованни и финансировал облицовку фасада Санта-Марии-Новеллы. Тем временем для уклонения от уплаты налогов он номинально передал часть своих новых владений банкирской гильдии, в которой состоял. (Ряд уловок городские власти сумели раскрыть, но не все.) Таким образом, своим великолепием Санта-Мария-Новелла, одна из самых впечатляющих и вместе с тем нарциссических флорентийских достопримечательностей, обязана уклонению от налогов и выгоде, полученной от изгнания Паллы Строцци. При этом его имя нигде на фасаде не встречается, тогда как Джованни – и его вкус, его богатство, его тщеславие – увековечены в мраморе во всей красе.
В своей любви к саморекламе Джованни был не одинок. Флоренция XV века представляла собой лоскутное одеяло из гербов и подписей и пестрела банкирскими и купеческими знаками, словно улица Лас-Вегаса неоновыми вывесками. Герб Джованни изображал наполненный ветром парус удачи, тем самым переиначивая старую концепцию: если в Средние века фортуна изображалась в виде женщины с завязанными глазами, неумолимо вращающей колесо, которое возносит человека ввысь или подминает под себя, то теперь фортуна представала силой, которую можно обуздать ради выгоды, как ветер, который гнал по морю флорентийские торговые корабли. Парус удачи вырезан на всех постройках Джованни и особенно уместным смотрится на базилике Санта-Мария-Новелла (как гласит английская поговорка, даже самый дурной ветер принесет что-то хорошее, то есть нет худа без добра). Размещение своего имени на крупной постройке, разумеется, гарантировало бессмертие, однако помимо этого демонстрировало финансовое могущество и власть. И это было важно, поскольку во флорентийской экономике того времени все зиждилось на доверии: без него иссякли бы кредитные потоки и клиентура. Один из лучших способов разрекламировать свою кредитоспособность, благополучие и процветание как раз и состоял в том, чтобы построить внушительное здание. Овеществленная прочность была и остается популярной метафорой финансовой состоятельности. Однако лицо предприятия Джовании – палаццо Ручеллаи – рекламирует могущество владельца тоньше и изящнее, чем было принято прежде.
Палаццо Медичи, строительство которого началось около 1445 года, балансирует на тонкой грани между мимикрией и незаметным самовосхвалением, ловко эксплуатируя понятные населению метафоры для демонстрации могущества владельцев. При этом оно избегает громких заявлений, задевающих других олигархов: как-никак семья всего 20 лет назад вернулась из изгнания, поэтому старалась не наступать на больные мозоли. Как гласит история, именно по этой причине Козимо де Медичи отверг куда более пышный проект Брунеллески, строившего купол флорентийского кафедрального собора. И все же двойные окна резиденции Медичи поразительно напоминают разделенные посередине окна палаццо Веккьо, где заседало флорентийское правительство, тогда как прежде ни один заказчик не дерзнул бы копировать резиденцию властей. Вторя строю двустворчатых окон, в первом этаже прорезаны более широкие арочные входы, за которыми изначально скрывались лавки – важный источник арендного дохода. Однако после введения нового налога на коммерческие помещения лавки на первых этажах вышли из моды, и магазины палаццо Медичи замуровали.
Дальнейшая судьба здания подтверждает марксистскую теорию о том, что надстройка (культура) определяется базисом (экономикой). Однако Энгельс отвергал подобное толкование трудов своего соратника как слишком упрощенное, и в дальнейшем мы увидим еще немало примеров того, как эта односторонняя вроде бы связь работает и в обратном направлении, и культура определяет экономику. Архитектура – одна из самых больших загадок в этом взаимодействии, поскольку это и искусство, и бизнес, мощный двигатель экономического роста и в то же время нагляднейшее его олицетворение. И все же замурованные арки бывших магазинов палаццо говорят сами за себя: экономика формирует город не хуже градостроителя. Причем в данном случае мы имеем дело не с невидимой рукой рынка, а с вполне конкретной волей властей, диктующих размеры налогообложения. Еще один элемент демонстрации превосходства власти над архитектурой – рустовка на первом этаже (искусная и дорогостоящая имитация грубо вытесанного камня). При всей нелогичности стремления придать дорогому камню дикий вид рустовка является характерной чертой многих флорентийских зданий, а также бесчисленных более поздних построек в стиле классицизма. Ее нередко объясняют желанием сбалансировать внешний облик здания, утяжелить его основание, сделать визуально более устойчивым. Однако такое прочтение появилось в результате постромантической тенденции сводить искусство к эстетике. На самом же деле рустовка обязана своим появлением местным градостроительным требованиям – как можно богаче украшать здание на уровне улицы, чтобы создать качественное общественное пространство. Как и замурованные арки, рустовка демонстрирует, как эстетика подчиняется воздействию иных, материальных факторов, и тем самым вторит моему утопическому лейтмотиву: пусть корпоративные застройщики сколько угодно обходят закон и подминают его под себя, есть способы направить их энергию в нужное русло.

Фасад палаццо Ручеллаи
В чем же новизна палаццо Джованни? Те же двустворчатые окна, что и в палаццо Медичи, возводившемся почти в то же время, возможно, попытка позаимствовать часть символического могущества, которое Медичи, в свою очередь, заимствовали у флорентийских властей. Однако цоколь уже без рустовки, он разделен рядом плоских колонн (пилястров) и напоминает Колизей, который разомкнули, перевернули и вытянули в фасад. Это действительно было в новинку. Если не считать римских развалин, итальянцы сталкивались с колоннами лишь в религиозных и государственных зданиях, так что Ручеллаи первым облек повседневную постройку в не по чину пышные одежды (отголоском которых сейчас выступают двойные колонны, обрамляющие вход в любой таунхаус). Что же надоумило его отойти от традиций? Идея определенно принадлежала не Джованни, чьи записные книжки являют собой теплый перегной из чужих находок. Он явно сумел найти архитектора, способного придать зданию желаемый современный и вместе с тем благородный облик, эрудированного и славящегося оригинальностью. По всей вероятности, это был Леон Баттиста Альберти (хотя за отсутствием документального подтверждения точное авторство установить невозможно).
Архитектор, художник, теоретик, антиквар, спортсмен, музыкант и наездник, автор первых трактатов о скульптуре, живописи и архитектуре со времен античности, а также составитель первой итальянской грамматики, Альберти был поистине разносторонним человеком. В анонимной автобиографии он утверждает, что мог с места перепрыгнуть через голову стоящего человека и добросить монету до купола собора, звякнув ею о свод. Он хвастался, что «преодолевал себя, взяв за правило осматривать и ощупывать вызывающие отвращение предметы, пока отвращение не пропадет, и тем самым доказывал, что человек при желании способен добиться чего пожелает»{88} (в числе ненавистных объектов, к которым приучал себя Альберти, был, например, чеснок). Со своими афинскими энциклопедическими знаниями, спартанской дисциплиной и склонностью к метаморфозам Альберти был именно тем, кто мог справиться с этой задачей – подогнать античную архитектуру под новое время. Своей популярностью он не в последнюю очередь обязан и таланту к саморекламе. Трактаты помогали ему обрести известность у властей предержащих – от папской курии до флорентийских банкиров. При этом тексты его скользки, словно угорь, и понять, какого же мнения он придерживается, непросто. Голос автора негромок неспроста: избегая категоричности, Альберти привлекал сразу всех потенциальных клиентов. Это было жизненно необходимо, поскольку, хоть эпоха Возрождения и кажется золотым веком архитектуры, зодчие по-прежнему находились в кабале у толстосумов-заказчиков. Джованни Ручеллаи, например, не упоминает архитектора ни в одной своей записи. Современник Альберти, архитектор Пьетро Аверлино, в какой-то момент попытался разъяснить миру важность своей профессии:
«Здание зарождается так. Как человека никто не в силах зачать в одиночку, без женщины, просто по образу и подобию, здание тоже невозможно замыслить в одиночку. И раз нельзя зачать без женщины, желающему построить здание требуется архитектор. Они вместе зачинают проект, а архитектор затем его вынашивает и производит на свет, а значит, становится матерью этого здания ‹…›. Строительство – это не более чем сладострастное желание, как у влюбленного»{89}.
Альберти тоже сильно заботил профессиональный статус, поэтому в его трактатах архитектору отводится новое место в общественной жизни Италии. Почему Ручеллаи выбрал именно его, догадаться нетрудно: благодаря отточенному на себе самом таланту Альберти к позиционированию лучшего разработчика корпоративного имиджа было не сыскать. Поссорившись с родными, Альберти взял имя Леон – «лев» (хотя один из приятелей после его смерти шутил, что «хамелеон» было бы куда уместнее), – и вдобавок к автобиографии придумал себе герб – крылатый глаз с цепкими щупальцами и девизом «Quid tum?» («Что дальше?»). Емкий символ его бесконечной любознательности, любви к новизне, которую разделяли и клиенты, жаждущие новаторских проектов.
В своей книге «Об искусстве зодчества», первом трактате об архитектуре со времен римлян, Альберти писал, что архитекторы должны соблюдать правило благообразия: церковь (или храм, пользуясь классической терминологией вслед за Альберти) должна быть великолепнейшим зданием в городе, а все остальные постройки, ранжированные по степени пышности, обязаны уступать ей. Он заявляет, что «нет задачи более приятной и увлекательной, чем украшение каменными колоннами» стен. Его проекты демонстрируют изящную игру колоннами с учетом функции и статуса украшаемого здания{90}. Например, на фасаде Санта-Марии-Новеллы колонны создают рисунок древней триумфальной арки, увенчанной храмовым фронтоном, – хитроумный способ придать христианской церкви классический облик. Для жилого дома, однако, храмовые фронтоны и триумфальные арки были бы «не по чину» пышными, поэтому Альберти цитирует светские постройки, такие как Колизей. Для придания благородного облика дому Джованни он заимствует у гигантского амфитеатра возвышающиеся на несколько этажей арки и колонны, однако обликом все и ограничивается: за благородными стенам скрывается совершенно не гармонирующий с фасадом винегрет из помещений.
Перед нами типичный пример имиджевой архитектуры (неудивительно, что выбор Ручеллаи пал именно на Альберти как на мастера «ребрендинга»), создающей впечатление надежности, богатства и незыблемости. За незыблемость отвечает один из главных элементов классической архитектуры – колонна. Однако, как писал великий историк архитектуры Манфредо Тафури о другой переработке классической традиции, она компрометирует «сам символ ордера – причем в самой что ни на есть классической версии – помещением его в повседневный антураж. Отчуждение колонны стало аллегорией урбанистического отчуждения»{91}. В руках Альберти колонна стала символом мирской финансовой, а не религиозной власти. Налицо недвусмысленное развенчание мифа – точнее, переход к иной категории мифов, где вместо благовоний и четок фигурируют акции и дивиденды. Колонный строй теперь выступал опорой не религиозным институтам, а крепнущему классу банкиров, не стесняющемуся присваивать вечные символы. Вслед за Тафури можно считать этот процесс аллегорией урбанистического отчуждения. Поглощая общественное пространство Флоренции XV века, олигархи присваивали старинные символы божественной и государственной власти. Из достояния республики колонна превратилась в частную собственность.
В борьбе резиденции Джованни с городом прослеживаются и другие стратегические ходы. В первую очередь архитектор сумел, обратив себе на пользу плотность флорентийской застройки, заставить здание выглядеть крупнее. Улица, на которой стоит дворец, слишком узка и не дает полного обзора фасада, а Виа-дель-Пургаторио, упирающаяся в здание под углом, еще уже. В итоге палаццо предстает зрителю по частям, и Альберти явно это учел. Каменная кладка главного фасада продолжается на боковом фасаде Виа-деи-Пальчетти всего ничего, ровно столько, чтобы создать впечатление цельности и единого облика для идущего мимо прохожего. Если же подходить к зданию спереди, по узкому коридору Виа-дель-Пургаторио, то фасад заполняет все поле зрения, и благодаря упорядоченному рисунку возникает иллюзия, будто он в обе стороны уходит в бесконечность.
Расширяя свои владения, Джованни убедил родственника, жившего напротив (родни Ручеллаи в том районе хватало), продать ему лавку, которую он затем снес. Получилась небольшая треугольная площадь. Тем самым он обеспечил более выигрышный обзор своей резиденции и символический центр «анклаву» Ручеллаи. На другой стороне этой площади, чтобы застолбить район еще нагляднее, он построил семейную лоджию (крытый портик с колоннами). Решение по всем статьям анахроничное: семейные лоджии были на пике моды в XIV веке, когда их использовали по особым случаям вроде свадебных торжеств. Однако для повседневных нужд они годились тоже, если верить рекомендациям Альберти: «Элегантный портик, под которым старшие могут прогуливаться, сидеть, дремать или обсуждать важные дела, несомненно, украсит и перекресток, и форум. Кроме того, присутствие старших поможет приструнить младших, играющих и бегающих на улице, удерживая их от шалостей и дурачества, свойственных незрелой юности»{92}.
Для Альберти лоджия – это средоточие общественной жизни, торговли, досуга, наблюдения и общественного контроля. Возможно, он представлял при этом примыкающую к палаццо Веккьо на главной площади городскую флорентийскую лоджию Ланци, в которой сейчас размещаются скульптуры во главе с челлиниевским «Персеем». Она действительно использовалась в перечисленных Альберти целях, а также в качестве крытой трибуны для членов правительства во время торжеств. У лоджий, возводимых частными лицами, назначение было другим: они создавали что-то вроде буфера, не совсем общественного, но и не совсем частного пространства, посредством которого владелец, заимствуя архитектурную символику государственный власти, обозначал свою принадлежность к верхам и демонстрировал личное могущество (лоджия Ручеллаи, как и палаццо, испещрена семейными гербами). Кроме того, они служили площадкой для семейных празднеств, поэтому не исключено, что Ручеллаи строил лоджию к пышной свадьбе сына, во время которой всю улицу закрыли для публики и установили крытый шелком помост для празднования и танцев.
Тем не менее к середине XV века, когда Джованни заказывал эту лоджию, они успели выйти из моды, и многие были уже снесены или застроены. Лоджия имелась и на углу палаццо Медичи, однако вслед за лавками на первом этаже она тоже была замурована, как в конечном итоге и лоджия Ручеллаи. Одной из причин отказа от них могло послужить постепенное угасание общественной жизни под пятой олигархии. После возвращения Медичи в 1434 году власть гильдий пришла в упадок, и вскоре республика превратилась в полумонархию, где сперва негласно, а потом и в открытую воцарились Медичи, в XVI веке получившие титул великих герцогов Тосканских. Крыша лоджии Ланци стала трибуной, с которой великие герцоги могли наблюдать за празднествами на площади, не смешиваясь с толпой. Семейные лоджии тем временем растворялись в недрах новых палаццо, превращаясь в обнесенные аркадой внутренние дворики – абсолютная приватизация общественного пространства. Медичи построили такой дворик первыми, и теперь наиболее привилегированные посетители дожидались там возможности завладеть вниманием главы семейства, не толкаясь локтями с чернью. Посреди дворика стояла статуя Давида работы Донателло – запертый в доме тирана тираноборец флорентийской республики.
Еще один элемент посягательства частного здания на общественное пространство – длинная каменная скамья, тянущаяся вдоль стены. Она может показаться проявлением заботы об удобстве горожан, и на нее действительно до сих пор с удовольствием присаживаются отдохнуть прохожие, однако на самом деле она привлекала внимание к владениям Ручеллаи и, как и весь дворец, служила поддержанию имиджа. На этой скамье – типичной принадлежности палаццо тех времен, включая палаццо Медичи, – дожидались посетители. В живущей кумовством Италии эпохи Возрождения просители-посетители были олицетворением статуса, маркером принадлежности к постоянно меняющейся олигархии. О том, как важны посетители, свидетельствует и историк XV века Марко Паренти, рассказавший в своих хрониках о перипетиях, выпавших на долю семейств Медичи и Питти. После смерти Лоренцо Медичи, пишет он, «мало кто наведывался в дом, да и те были людьми малозначимыми», тогда как к Луке Питти «посовещаться о городском обустройстве стекался почти весь город»{93}. Однако через какое-то время звезда Медичи взошла снова, а Питти «сидел в своем дворце как сыч, и никто не заходил к нему обсудить политические вопросы, тогда как раньше в доме не иссякал поток посетителей самого разного толка»{94}. Посетители служили признаком высокого положения, которое наглядно демонстрировали число и статус восседающих на скамье. Наряду с лоджией и площадью скамья была способом утвердить свою власть над улицей.
Пусть сегодняшние корпорации и отказались от экзоскелетов из колонн в пользу модернистской прилизанности, но в обращении с окружающим пространством они по-прежнему берут пример с Ручеллаи и ему подобных. Начиная с Джона Рокфеллера-младшего, пионера строительства города в городе, и заканчивая Минору Мори, перестроившим еще более крупный район Токио, застройщики и компании утюжат современные мегаполисы с неумолимостью ледника, накатывающего на долину. Однако ледник может растаять, и тектонические сдвиги под денежными мешками, которые заполоняют города стальными коробками, вполне способны поставить этих деятелей на колени. Но прежде чем перейти к кризисам, давайте вернемся в туманное доиндустриальное прошлое, где встречаются подчас довольно причудливые химеры.
На окраине Дрездена красуется невесть откуда взявшийся мираж – огромная мечеть с куполом и минаретами. На самом деле это вовсе не картинка из «Тысячи и одной ночи». Истина куда прозаичнее. Когда-то это была табачная фабрика, а трубы служили дымоходами. Как и подобало корпоративной постройке начала XX века, с помощью атрибутов внешней роскоши она должна была демонстрировать могущество и престиж – или, как в данном случае, рекламировать продукцию, которая, как и архитектура, была «восточной». Табачная мечеть, как ее называли (прозвище, как и само здание, – типичное порождение той неполиткорректной эпохи), совершенно не вписывается в барочное окружение и по окончании строительства в 1909 году вызвала громкий скандал – верный признак успешного брендирования.
Куда большей популярностью среди корпоративных застройщиков того времени пользовалась архитектура итальянского Возрождения, эпохи (пропитанной духом коммерции), которая наверняка больше отвечала духу современного бизнеса, чем восточные сказки. Кроме того, строения в духе палаццо выступали эффективным способом «заработать на участке земли», как выразился Касс Гилберт, автор построенного в 1912 году в Нью-Йорке небоскреба Вулворт-билдинг, по отношению к своему детищу. Кубическая форма палаццо позволяет извлечь максимальную выгоду из площади помещения и, соответственно, арендной платы – важный фактор для корпоративных заказчиков, выступающих не только владельцами, но и арендодателями. (Как и Медичи, сдававшие лавки на первом этаже, корпоративные застройщики также сдают в аренду немалую часть своих огромных штаб-квартир.) Однако не только экономические причины побуждали титанов американского бизнеса воздвигать небоскребы: как и палаццо в свое время, многие из этих возносящихся к облакам башен не приносили особой прибыли. Так что они не столько давали возможность заработать на участке земли, сколько создавали ореол харизмы и корпоративного лоска.
Одним из таких корпоративных палаццо украсила нью-йоркскую Мэдисон-сквер страховая компания Metropolitan Life. Начав в 1890 году со здания, напоминающего увеличенный флорентийский дворец – с рустовкой, пилястрами и нависающим на головокружительной высоте карнизом, – компания постепенно расширяла свои владения, пока в 1909 году рядом с первым зданием не выросла 50-этажная башня, анахронично скопированная с венецианской колокольни Святого Марка. Как и большинство корпоративных небоскребов, колокольня Metropolitan Life – Метлайф-тауэр – существенного дохода не приносила: по суровому закону убывания архитектурной доходности чем выше здание, тем меньше в нем рентабельной площади, поскольку все больше места занимают необходимые службы (например, лифты). Кроме того, небоскребы дорого строить, они требуют сложной системы опор. Однако, как откровенно признался вице-президент Metropolitan Life, небоскреб обеспечил «рекламу, не стоившую компании ни цента, поскольку все расходы взяли на себя арендаторы»{95}. Изображение здания компания эксплуатировала нещадно, размещая его на каждом клочке бумаги, проходившим через ее офисы, а также в газетной рекламе и на значках.
Архитектура стала ключевым элементом корпоративной идентичности – до такой степени, что теперь здание олицетворяло саму компанию. Не исключено, что в случае с Metropolitan Life свою роль сыграла специфика страховой деятельности – ее неосязаемость. По сей день страховые компании стараются строить как можно более узнаваемые офисы: например, штаб-квартира Lloyd’s of London размещается в созданной Ричардом Роджерсом вывернутой наизнанку неповторимой махине, словно подчеркивая этим прозрачность совершаемых операций, а Швейцарское перестраховочное общество заказало Норману Фостеру знаменитый фаллический «Огурец». Он может показаться ни к чему не привязанной абстракцией, однако у заказчиков на этот счет другое мнение.
«Издалека он выглядит внушительным, а вблизи – довольно хрупким. Он совсем не подавляет, а наоборот, напоминает драгоценную вазу. Рядом с ним остро ощущаешь собственную телесность и массу. Здание обладает антропоморфными качествами. Оно символизирует открытость человека силам природы и в то же время способность укрощать и обозначать их ‹…›. Страховщики выступают посредниками между двумя крайностями – жизнью и смертью. И хотя они, как и все прочие, не в силах предотвратить смерть, им удалось разработать сложную систему механизмов сглаживания ее экономического воздействия. Пусть это внутреннее противоречие неразрешимо, архитектура и искусство способны выразить его в пространственной форме»{96}.
Эта напичканная околофинансовым мистицизмом ахинея свидетельствует о том, что, даже расставшись с колоннами и портиками, деловая архитектура по-прежнему транслирует в мир идею своих церковных предшественников о победе над смертью – только теперь вместо Никейского символа веры ее дарует страховой полис.

Завод AEG, построенный Петером Беренсом в 1909 году в Берлине
Ярчайший пример религиозных притязаний корпоративной архитектуры можно обнаружить на одной мрачной промышленной окраине Берлина. Несмотря на слабое сходство с Акрополем, свой Парфенон в Моабите имеется – построенное в 1909 году (одновременно с другими храмами капитализма – табачной мечетью и небоскребом Metropolitan Life) здание электроэнергетического гиганта AEG. Бетонные колонны и цоколь в наличии, но колонны крышу уже не поддерживают – эту нагрузку взяли на себя стальные конструкции. Оставленный архитектором у подножия каждой колонны небольшой зазор намекает на неоднозначность связи этого здания с прошлым, а на фронтоне, где в настоящих греческих храмах помещалось изображение божества, красуется логотип компании – шестиугольник, поделенный на соты, где вместо трудолюбивых пчел живут химические символы. Идеальное воплощение реформаторского капитализма, популярного в те времена среди немецких архитекторов и промышленников, многие из которых объединились в союз под названием «Веркбунд», призванный пропагандировать современный дизайн.
Состав участников Веркбунда был достаточно разношерстным, в него входили представители многих профессий и политических течений, но всех их объединяла задача реформирования общества, раздробленного, как им представлялось, индустриальной эпохой. Петер Беренс, архитектор завода AEG и один из учредителей Веркбунда, тоже разделял идеалы формирования социального единства посредством дизайна. Кроме самого здания компании Беренс разрабатывал логотип AEG и немалую часть ее продукции. Его считают первым промышленным дизайнером, и хотя это не совсем так, он действительно создал для AEG беспрецедентный унифицированный дизайн, практически воплощающий в жизнь девиз Веркбунда: «От диванной подушки до градостроительства». Другими словами, он стал родоначальником корпоративной идентичности, как мы ее называем сегодня.
Стоит ли удивляться, что реформаторские начинания Беренса, подогреваемые страхом перед пролетарской революцией, вылились в нынешнее торжество потребительства? Неудивительно также, что Беренс, чьи проекты вызывали восхищение у Гитлера и Шпеера, одним из первых вступил в национал-социалистическую партию – еще одну организацию, помешанную на общности и корпоративной идентичности. Храм AEG может сколько угодно претендовать на объединение общества, однако на самом деле это такая же рекламная уловка, как и табачная мечеть под Дрезденом, только гораздо более тонкая: ее диковинные по тем временам стеклянные стены предвосхищают нынешнюю корпоративную любовь к прозрачности. Турбиностроительный завод может бесконечно перекраивать классические образцы на современный лад, вместо богов возводя на пьедестал машины, однако все равно останется узнаваемым архитектурным типажом. Тем не менее вскоре ученики Беренса, в том числе будущие руководители Баухауза Вальтер Гропиус и Мис ван дер Роэ, а также швейцарец Ле Корбюзье, поглядывая на другую сторону Атлантики в поисках «приземленных» промышленных образцов (например, элеваторов), разработают для корпораций Нового Света новую архитектуру, сбрасывающую с себя античную тогу.
Однако манхэттенский стиль начал меняться задолго до нашествия немцев. К 1920-му кубические палаццо первого десятилетия XX века расстались с колоннами и стали ступенчатыми, как перуанские пирамиды. Вот как воспевает эти зиккураты Айн Рэнд в своем пропитанном наркотическим дурманом талмуде под названием «Источник»:
«Дом стоял на берегу Ист-Ривер, как две взметнувшиеся ввысь напряженные руки. Хрустальные формы так выразительно громоздились друг на друга, что здание не казалось неподвижным, оно стремилось все выше в постоянном движении, пока не становилось понятно, что это только движение взгляда и что взгляд вынужден двигаться в заданном ритме. Стены из светло-серого ракушечника казались серебряными на фоне неба, отсвечивая чистым, матовым блеском металла, но металла, ставшего теплой, живой субстанцией, которую вырезал самый острый из инструментов – направленная воля человека»{97}.

«Наполеон Лебрун и сыновья», Метлайф-тауэр (1909)
Рэнд раболепствует перед этими кристаллизованными финансовыми потоками, с шаманской истовостью веря в магическую силу запечатленных ею образов. Однако вылепила эти впечатляющие формы и увлекла взор Рэнд к небесам вовсе не пропагандируемая фашизмом железная воля отдельной личности, а безликая воля государства. Зиккураты – как и рустовка на флорентийских палаццо – явились прямым следствием градостроительных требований. Требованиями этими, в свою очередь, город был обязан одному гигантскому «палаццо» – Эквитабл-билдингу на Бродвее. Эта рукотворная 40-этажная гора, вместившая 111 480 кв. м сдаваемой в аренду площади, подавляла своими исполинскими размерами всю округу. Возмущение горожан было столь единодушным, что городские власти издали законы о зонировании, которым предстояло коренным образом изменить концепцию застраиваемого пространства.
Итальянский законовед XIII века по имени Аккурсий писал: «Владеющий землей владеет ею вверх до небес и вниз до преисподней», – тем самым закладывая основы права на воздушное пространство. Теперь же нью-йоркский муниципалитет обстругал это воздушное пространство до пирамиды, чтобы в бетонные каньоны города проникало хоть немного света, поэтому застройщики, максимизируя полезную площадь внутри этой зонирующей пирамиды, попросту громоздили друг на друга постепенно сужающиеся параллелепипеды. Кому-то это удавалось элегантнее других: так, и здание «Крайслера», и Эмпайр-стейт-билдинг являются порождениями кодекса 1916 года, и первое вдобавок содержит отсылки в виде колесных колпаков и радиаторных решеток на источник крайслеровского богатства. Эти здания родились на волне небывалого экономического подъема 1920-х, но, как и многие другие ступенчатые небоскребы, достраивались уже в ту пору, когда арендный рынок начал ходить ходуном. После 1929 года спрос рухнул окончательно, и Эмпайр-стейт-билдинг вскоре прозвали Эмпти (пустым) стейт-билдингом. (Заполнилось здание лишь после войны, а первые прибыли принесло только в 1950 году.) Спекулятивное строительство отчасти повинно в том буме, который привел к краху Уолл-стрит, в результате чего Манхэттен превратился в кладбище никому не нужных исполинов, уставленное заброшенными памятниками перенасыщению рынка. Крах подкосил мировую экономику и закончился войной. Так что зонирование, хоть и изменило облик города, не сумело обуздать опасные последствия превращения архитектуры в бизнес – наоборот, оно скорее способствовало чрезмерной эксплуатации «лакомых» участков. От зонирования толку было мало.
Даже когда замерли стройки по всему миру, одна площадка в центре Манхэттена до самого конца Великой депрессии гудела словно улей. Финансируемый одним из богатейших людей мира Рокфеллеровский центр – исполинский конгломерат площадью 9 га, занимающий три городских квартала, – стал первой попыткой бизнеса преобразовать город (а не одно здание) по своему образу и подобию. Прежние небоскребы просто вклинивались в городское пространство, сминая целые кварталы и перекрывая течение городской жизни. Теперь же застройщики повернулись к городу лицом, создав знаменитую площадь и сады на крыше Рокфеллеровского центра, предназначенные к использованию в качестве общественного пространства. Разумеется, альтруизмом здесь и не пахло. Реймонд Худ, главный архитектор проекта, ратовал за включение таких элементов, как «висячие сады» (так он их называл), поскольку они «подогревают интерес и восхищение публики, воспринимаются как подлинный вклад в архитектуру, повышают ценность собственности и приносят владельцу ту же прибыль, что и другие разновидности законной рекламы»{98}.
Рокфеллеровский центр, как и Метлайф-тауэр, – типичный представитель рекламной архитектуры, однако он отказался от мгновенно узнаваемых корон и шпилей своих предшественников в пользу плоских крыш и строгих линий. «Уникальным торговым предложением» Центра выступают его псевдообщественные блага, однако на самом деле плаза – такая же «общественная», как и окружающие ее башни. Как и скамьи и лоджии Флоренции эпохи Возрождения, это приватизированное пространство, призванное подчинить беспорядочную общественную жизнь корпоративному контролю. Сегодня это означает исключение экономически неактивных (неимущих, безработных и бездомных, которые не оправдают вложение капитала в помещения Центра покупками, работой или посещением дорогих ресторанов); самовольное ограничение на фотосъемку (объясняемое профилактикой терактов и педофилии), а также запрет собраний и массовых протестов (способных подорвать экономическую активность «полезных» посетителей). Однако декоративные элементы изобличают истинную натуру комплекса: по-орлиному парящий над катком Прометей и бронзовый Атлас с наморщенным лбом неотличимы от тяжеловесных неоклассических образчиков, которых во времена строительства Рокфеллеровского центра штамповала нацистская Германия. (Как ни парадоксально, фреску для Центра заказывали и коммунисту Диего Ривере, но когда художник изобразил на ней Ленина, работу уничтожили.) Подобно картонным героям Айн Рэнд, эти скульптуры не что иное, как химеры психопатического индивидуализма, а на охраняемом ими пространстве гражданские права отфильтрованы для оптимальной монетизации.

Сигрем-билдинг и площадь перед ним
Вдохновленные успехом Рокфеллеровского центра, другие корпоративные застройщики тоже принялись создавать псевдообщественные пространства для рекламы своих зданий. Одним из первых стал законченный в 1958 году небоскреб Сигрем-билдинг, спроектированный бывшим директором Баухауза Мис ван дер Роэ. Не преуспев в получении заказов от нацистов, он стал самой выдающейся фигурой в поколении эмигрировавших немецких модернистов, которые преобразовали облик корпоративной Америки. В своем проекте нью-йоркского Сигрем-билдинга он зашел в поиске идеальной анонимности еще дальше, чем создатели Рокфеллеровского центра, однако этот монолит из тонированного стекла при всей его абстрактности и кажущемся отсутствии исторических аллюзий все равно отсылает нас к престижным строениям прошлого.
Двутавровые профили, идущие вертикально по всему зданию снизу доверху, усиливая впечатление устремленности ввысь, на самом деле не несут никакой функциональной нагрузки. Превращение функционального структурного элемента в чисто декоративный служит отсылкой к плоским колоннам Колизея и палаццо Ручеллаи. Балка – отлитая не иначе как в бронзе – стала пилястром XX века. Используя штампованный строительный материал в качестве символа престижа, Мис (учившийся в Берлине у Петера Беренса) продолжает традиции табачной мечети и фабрики-Парфенона: все три представляют собой попытки мистифицировать индустриальную эпоху. Однако, в отличие от турбиностроительного завода Беренса, его проект не несет в себе задачи реформирования и коллективизации капитализма. Компанией Seagram’s & Sons – производителем спиртных напитков, родившимся во времена сухого закона, – двигали далеко не социально-политические мотивы. Упорно ассоциируемую с коррупцией и мафией компанию изрядно потрепало проведенное в 1950–1951 годах расследование деятельности организованной преступности, вошедшее в историю как «слушания Кефовера». Соответственно, зданию компании предназначалась роль баснословно дорогого парадного фасада, демонстрирующего благополучие и законопослушность.
Закрепляется это ощущение и на уровне улицы. Сигрем-плаза – такая же голая, как и сама башня: ее строгую симметрию не нарушает ни одна скамья. Оставляя пустое пространство перед зданием, Сигрем демонстрировал свое заоблачное богатство – кто еще может позволить себе не использовать кусок «золотой» земли в самом центре Манхэттена? Однако на этой голой площадке все равно бурлит жизнь – люди приходят посидеть на парапете, поесть, пообщаться. В 1961 году неожиданная популярность плазы вдохновила городские власти на изменение требований к зонированию: отныне можно было увеличивать этажность при условии оставления открытого пространства на уровне улицы. Но, как отмечает исследователь Уильям Уайт, создаваемые в результате площадки нередко получались холодными и пустыми, словно нарочно отсеченными от городской жизни. В рамках своего исследования Уайт снял фильм под названием «Общественная жизнь малых городских пространств», в котором он ведет этнографическое наблюдение за поведением горожан на Сигрем-плаза.
В кадре обнимаются парочки, глазеют на женщин мужчины и плещутся в фонтанах дети. Задаваясь вопросом, в чем секрет популярности этой площади, Уайт приходит к выводу, что здесь сошлось сразу несколько факторов, включая доступность «сидячих мест» – мраморных парапетов, стенок и ступеней. Причем проектом такая функция не предусматривалась, и Мис явно был удивлен тем, как горожане используют его планировку.
Флорентийские палаццо, наоборот, прилежно обеспечивали горожан скамьями вдоль фасадов. Однако, прежде чем оплакивать закат более альтруистичной и верной гражданскому долгу эпохе, хорошо бы вспомнить, что флорентийские скамьи исполняли роль рекламных щитов, демонстрирующих принадлежность владельцев здания к кругу избранных, а значит, тоже монетизировали общественное пространство. Для демонстрации могущества владельца предназначались и лоджии, подделывающиеся под общественную архитектуру. Корпоративные площадки-плазы Нью-Йорка ведут аналогичную игру, а значит, стоит ли удивляться, что общественная функция выполняется ими лишь на бумаге, а на деле публику всеми способами отваживают от здания? Уайт критикует более поздние плазы за отсутствие сидячих мест: устанавливаемые корпорацией скамьи, по его утверждению, «не места для сидения, а арт-объекты, назначение которых – украшать собой рекламные фотографии». Еще хуже узкие стенки, шипованные уступы и сиденья, которые американцы метко называют «антибомж». Эти орудия пытки применяются по всему миру против «праздношатающихся» – бездомных и безработных, иными словами, тех, на ком не заработаешь. Дополняет эти негостеприимные площадки охрана, готовая в любой момент выдворить из корпоративного Эдема незваных гостей. При этом, как отмечает Уайт, площадки эти были «отвоеваны горожанами с помощью механизмов зонирования и планировки, так что право публики на городские площади сомнению не подлежит»{99}.
Сигрем-билдинг не поддержал начатое Рокфеллеровским центром полномасштабное перекраивание городской сетки. Тем не менее самый инновационный элемент комплекса – плазу – он из успешного рокфеллеровского проекта позаимствовал. Эта площадка маскирует обособленный архитектурный объект под общественное пространство, превращаясь в фиговый листок заботы о городе, прикрывающий мерзость корпоративной власти, которая в случае Seagram брала начало в гангстерских бандах. При этом самая выдающаяся деталь архитектурной рекламной кампании Seagram так и осталась лишь в чертежах. Это был бункер под зданием – оборудованное, снабженное защитными барьерами охраняемое помещение, идеал неоконсервативного «общественного» пространства. Власти встретили этот рекламный ход, спекулирующий на безудержной паранойе времен холодной войны, на ура, однако в конце концов Seagram отказался от идеи этого корпоративного убежища.
И все же по мере перерастания холодной войны в войну с террором паранойя играла в корпоративной архитектуре все более заметную роль. Авторы таких небоскребов, как Бурдж-Халифа в Дубае и лондонский «Осколок», попытались перенести площадь внутрь «палаццо», вслед за флорентийцами эпохи Возрождения превращая полуобщественные лоджии в закрытые внутренние дворы. Гигантские небоскребы отрезаны от городского окружения в силу своей хваленой самодостаточности. В частности в «Осколке», который застройщик называет «городом в себе», размещаются офисы, магазины, гостиница, десять квартир на продажу, стоящие от 30 до 50 млн фунтов, мишленовские рестораны и спа. Кроме того, прямой переход, связывающий небоскреб со станцией метро «Лондон-бридж», избавляет поток ежедневно курсирующих из пригородов в центр и обратно от необходимости выбираться в город.
Квинтэссенцией этого антигородского урбанизма стал созданный Marvel Comics супергерой Железный человек – еще одно дитя холодной войны. Железный человек – альтер эго миллиардера Тони Старка, занимающегося производством оружия и попутно конструирующего высокотехнологичный металлический костюм для борьбы с международным коммунизмом и продвижением Американской Мечты. Старк/Железный человек – технофашистский гибрид человека и машины – сооружает в Нью-Йорке огромную штаб-квартиру, которая в фильме 2012 года «Мстители» изображена прилепившейся, словно орхидея-паразит, к зданию Метлайф-билдинг. Старк-тауэр – это одновременно и берлога для холостяцких вечеринок, и космическая площадка в стиле хай-тек, и бункер с интегральным реактором, позволяющим не зависеть от городских коммуникаций. Что-то вроде футуристического продолжения индивидуалистической архитектуры Айн Рэнд, расположенной в городе, но при этом полностью автономной. Тянуло бы на аутичную фантазию, если бы нечто подобное не создал в 2003 году в Токио живой, а не выдуманный строительный магнат.
Мори-тауэр – небоскреб, названный в честь своего владельца Минору Мори, – возвышается посреди огромного квартала Роппонги. В этом беспрецедентно автономном здании площадью 110 000 кв. м расположены офисы, квартиры, рестораны, магазины, кафе, кинотеатры, музей, отель и телестудия. Как и у штаб-квартиры Старка, у Мори-тауэр имеется собственное сердце – генератор в подвале, обеспечивающий независимость от города и позволяющий выжить в случае стихийного бедствия или социального кризиса. Зацикленность на кризисах ощущается и в пресс-релизе компании, начинающемся с поразительно самонадеянного заявления: «Строя города, Mori Building всегда ставит целью [создание]… пространства, в котором можно укрыться, а не бежать прочь в случае катастрофы»{100}. Как и многие другие антигородские конгломераты, Роппонги и Мори-тауэр декларируют благоустройство окружающей городской среды и города в целом.
Этот довод, которым размахивают, словно флагом, любители перекроить облик города и воздвигатели символов, родился еще во времена палаццо, своей пышностью, по утверждению заказчиков, призванных облагородить Флоренцию. Все это ложь, как показывает пример лондонских доков, оказавшихся, как часто случается с реновационными проектами, необитаемым островом международных финансов в мертвом море бедности. Никакого «эффекта просачивания благ», только насаждение гетто. Мори-тауэр раз и навсегда разоблачает «альтруизм» застройщиков. Никакое это не пристанище и не убежище, а самый настоящий враждебный анклав в мегаполисе, и его социопатия уже принесла свои горькие плоды. Несмотря на декларируемую Мори задачу «сделать город надежнее и безопаснее» благодаря чудесам высоких технологий, в 2004 году вращающаяся дверь на входе в здание придавила насмерть шестилетнего мальчика. Как выяснилось в ходе судебного расследования, трагедия была не единичной: от дверей в Мори-тауэр пострадали еще 32 человека, включая нескольких детей. При этом, несмотря на зафиксированные несчастные случаи, владельцы намеренно отказались устанавливать датчики движения ниже определенной высоты и даже ставить заграждения, чтобы не нарушать эстетику, а значит, и рентабельность здания.
За последние 100 лет корпоративная архитектура стала ненасытным молохом, откусывающим целые кварталы конгломератами вроде Рокфеллеровского центра и Роппонги. Начало покушениям положило палаццо Ручеллаи, оттяпавшее часть улицы под лоджию и площадь. Кроме того, часть каменной облицовки фасада заходит на соседнее здание. Из мрачных теней Возрождения, призванного воскрешать рационализм и классические аллюзии, скалится призрак дома-каннибала, и каннибализм этот – конструктивная особенность, а не чудовище, порожденное сном разума: коль скоро палаццо терроризирует окрестности неумолимой логикой своего идеально выверенного фасада, его безупречные линии превращаются на пике своего великолепия в заостренные клыки.
Джованни как застройщик действовал не менее хищными методами. Скупая один за другим дома соседей, он постепенно выстроил, как сам пишет в дневнике, «из восьми домов один», протянув первый кусок фасада через два выходящих на улицу здания. Затем приостановился, дожидаясь, пока умрет сосед на Винья-Нуова, много лет отклонявший предложения о продаже. Затем Джованни наконец выкупил вожделенный дом (по взвинченной втридорога цене) и протянул фасад еще дальше. Однако незаконченный, словно обгрызенный, край кладки позволяет предположить, что на этом планы Джованни не заканчивались. Зазубренная кромка – недвусмысленный намек соседям: мой дом не будет закончен, пока не поглотит ваш. По иронии судьбы, он служит предостережением и застройщику: поскольку сосед стоял насмерть, Джованни со своими неумеренными аппетитами остался с незаконченной постройкой. Замахнувшись на невыполнимое – и в делах, и в архитектуре, он обанкротился, погорев на махинациях в своей пизанской конторе. Теперь испещрившие его палаццо, лоджию и церковь паруса выглядели жестокой насмешкой коварной судьбы. Вместо наполненных ветром полотнищ, несущих корабль к земле обетованной, в гербе виделся отныне пустой кошель.
Только на это нам и остается уповать: что корпоративная архитектура пожрет сама себя. Иногда правительству удается на нее воздействовать – как мы видим на примере флорентийской рустовки и ступенчатых нью-йоркских небоскребов, – однако воздействие приводит лишь к косметическим изменениям, а градостроительные требования могущественные заказчики обходят без труда (как в случае с необитаемыми нью-йоркскими плазами). Более того, поверхностное вмешательство способно нанести непоправимый вред, как законы зонирования 1916 года, подлившие масла в костер спекуляции нью-йоркской земельной собственностью. Это привело к буму небоскребов 1920-х и в конечном итоге к финансовому краху, которым заканчивалось и заканчивается любое раздувание спекулятивного пузыря на рынке недвижимости. Вот что писал об этом Маршалл Берман, цитируя Маркса:
«Беда всех буржуазных памятников в том, что их тяжесть и солидность по сути пшик и ничего не весят, их сметают, словно тростник, те самые силы капиталистического развития, которые они восхваляют. Даже самые прекрасные и впечатляющие буржуазные здания и общественные сооружения задумываются как одноразовые, дающие возможность нажиться на стремительном обесценивании и заброшенные впоследствии, поэтому по своим социальным функциям они ближе к палаткам и шатрам, чем к египетским пирамидам, римским акведукам и готическим соборам»{101}.
На самом деле экономические спады и подъемы можно, как доказал экономист Эндрю Лоренс, прогнозировать по скоплению исполинских зданий. Согласно разработанному Лоренсом «индексу небоскребов», перенасыщение экономики всегда выливается в инвестиции избыточного капитала и строительство небоскребов, которые достраиваются как раз к тому времени, когда подъем достигает пика и неизбежно сменяется кризисом и спадом. Эту теорию подтверждают и небоскребы, упомянутые в этой главе: строительство башни «Метлайф» пришлось на экономический кризис в США 1907–1910 годов, а Крайслер-билдинг и Эмпайр-стейт-билдинг были сданы вскоре после краха Уолл-стрит. В этот же ряд можно поставить башни-близнецы Центра международной торговли и Сирс-тауэр, ставшие предвестниками спада середины 1970-х; квартал Канари-уорф, отметивший кризис начала 1990-х, башни Петронас и прочие мыльные пузыри, созданные «азиатскими тиграми» незадолго до того, как им пришлось с позором поджать хвосты, и наконец осаждаемую финансовыми проблемами Бурдж-Халифу в Дубае, символ текущего кризиса. Эти башни нельзя считать метастазами каких-то глубинных раковых процессов – нет, они и есть раковая опухоль. Прелесть «индекса небоскребов» в том, что он разворачивает на 180 градусов традиционный вектор истории искусств: если прежде культура считалась внешним проявлением экономических, политических, исторических перемен, то теперь культура (архитектура) выступает двигателем истории – до такой степени, что способна предсказывать развитие экономики. Так что, когда компании начинают возноситься под облака, пора окапываться. Однако кризис расчищает почву для новых начинаний, и возможно, однажды из искры очередной катастрофы возгорится пламя настоящей революции в строительстве.
Дополнительная литература
Manfredo Tafuri, ‘The Disenchanted Mountain: The Skyscraperand the City’, in The American City: From the Civil War to the New Deal (Cambridge, MA, 1979).
William H. Whyte, The Social Life of Small Urban Spaces (Washington, 1980).
5. Сад совершенной ясности, Пекин
(1709–1860)
Архитектура и колониализм
Ты дойдешь со мной до западной башни замка,
К храму на озере гладком, как голубой нефрит,
По которому лодки скользят под звуки свирелей и барабанов,
И вода стелется драконьей чешуей, покрытая бутылочно-зеленой рябью…
И все это скоро закончится.
И больше к нам не вернется.
Ли Бо. Письмо из ссылки (VIII век)
Мы, европейцы, цивилизованы и китайцев считаем варварами. Полюбуйтесь же, что сделала наша цивилизация с варварством!
Виктор Гюго (1861)

Руины европейских павильонов
На пыльной северной окраине Пекина раскинулся большой парк, известный тем редким западным туристам, кто отважится туда добраться, как Старый летний дворец. Подступы к прудам преграждают кустарниковые заросли, и торчат напоминанием о былой роскоши обломки колонн. (Однако, прежде чем впадать в сентиментальность, не забудьте добавить к картине романтического запустения появившиеся в парке в последние годы шумные аттракционы, пейнтбольную площадку и трек для картинга.) Каменные обломки, оплаканные китайскими правящими кругами, – все, что осталось от одного из величайших дворцов в истории – Юаньминъюаня, Сада совершенной ясности. Парк, строившийся в течение полутора столетий правления Цин – последней императорской династии Китая, – был не просто уголком для летнего отдыха, а главной резиденцией пяти сменявших друг друга на престоле императоров и заодно хранилищем обширной коллекции картин, книг и других ценностей. Чтобы осознать его истинное значение, представьте себе собранные воедино Версаль, Лувр и Французскую национальную библиотеку. (Намеренно беру французские примеры, поскольку Букингемский дворец, Национальная галерея и Британская библиотека уж слишком проигрывают масштабами.) На огромной территории 3,4 кв. км взору посетителя на каждом шагу представали нарядные постройки – большие аудиенц-залы, павильоны, храмы, библиотеки, студии, административные здания и даже «игрушечная» деревня, где императорская семья изображала простолюдинов, а дворцовые евнухи за прилавками – торговцев. Европейские путешественники изумлялись этому невиданному великолепию.
«Что до павильонов, они поистине очаровательны и располагаются на невиданном просторе. Есть там и насыпные холмы от 6 до 18 м высотой, а между ними бесчисленное множество долин. ‹…› И в каждой из этих долин по берегам прудов стоят домики, весьма гармонично сгруппированные: глаз отдыхает, когда видишь разом все эти дворы, открытые и закрытые портики, цветники, сады и каскады»{102}.
Так писал в 1743 году служивший при дворе французский священник Жан-Дени Аттире. Однако вся эта роскошь была стерта с лица земли в октябре 1860 года, когда на исходе Второй опиумной войны британские войска, основательно поживившись дворцовыми сокровищами, сожгли парк дотла. По иронии судьбы единственные уцелевшие детали – те самые остатки колонн и барочных завитков – принадлежали «западным павильонам», спроектированным миссионерами-иезуитами. История этих построек изобилует такими же крутыми поворотами в области культурных взаимоотношений, как и вся история архитектуры и колонизаторства. Эта история вполне справедливо рисует Запад имперским агрессором, однако сопутствующую тенденцию преуменьшать ответственность «невежественных стран», которым не повезло попасть под каток европейской экспансии, я бы хотел переломить. Сад совершенной ясности, сожженный западными колонизаторами, был изначально делом рук других колонизаторов – китайских, точнее, маньчжурских.
Правители династии Цин, построившие Сад совершенной ясности, принадлежали не к исконно китайской народности хань, а к вторгшимся из-за Великой китайской стены завоевателям-маньчжурам. Эти «варвары» (по ханьским меркам) налетели на столицу на конях в 1644 году, после того как последний император династии Мин тихо повесился на дереве за стеной Запретного города. Завоеватели привезли с собой странные обычаи (например, обязательную для мужчин длинную косу), навязывание которых встречало бурное сопротивление. Однако закрепиться завоевателям помогло не насильственное насаждение маньчжурской культуры, а умелое переманивание на свою сторону китайской аристократии, сохранение традиций предшествующей династии и усвоение (до определенной степени) нравов своих новых подданных. Мультикультурный характер династии Цин сознательно ковался ее величайшими представителями – императорами Канси, Юнчжэном и Цяньлуном, правление которых с 1662 по 1795 год называют в Китае Эпохой расцвета, характеризующейся неуклонным ростом и автократической централизацией империи. В эту эпоху Китай был самой богатой и могущественной страной в мире, лидируя на начальном этапе экспансионистской борьбы за Центральную Азию, которая позже выльется в так называемую Большую игру. Раздвигая границы империи на запад, поглощая пронизанную караванными путями мусульманскую пустыню и горное царство далай-ламы, чтобы в результате создать государство, превосходящее размерами нынешний Китай, они прилежно обогащали придворный уклад культурой и обычаями своих новых поданных: по примеру мусульман заводили наложниц, а вслед за тибетцами начали поклоняться Будде.
Эта стратегия отразилась и на архитектуре Юаньминъюаня. Цинские императоры в большинстве своем недолюбливали Запретный город Пекина – один из них назвал старинную резиденцию династии Мин «вонючей канавой с киноварно-красными стенами и черепичными крышами». Они предпочитали ей сельскую идиллию в окружении просторных садов, озер, гор и охотничьих угодий. Однако в этом «запретном саду», хоть и расположенном в целом дне езды на север от столицы, все было подчинено тому, чтобы избежать обвинений в пренебрежении государственными обязанностями. Юнчжэн первым из цинских императоров перенес туда двор из Пекина насовсем, поэтому очень близко к сердцу принимал упреки в лености. Сразу за главными воротами он возвел уменьшенную копию Зала высшей гармонии из Запретного города и вершил там государственные дела, восседая на палисандровом троне. Как и все, кому приходится отстаивать право работать дома, он доказывал, что в более комфортной обстановке сумеет сделать больше. Однако министры, не обладавшие такой же дисциплиной, норовили подчинить работу досугу: как-то раз в 1726 году Юнчжэн напрасно просидел на троне урочный час аудиенции в ожидании придворных с докладами. Не явился никто. Тогда, отчитав министров, он повесил над троном изречение: «Знай меру в удовольствиях».
Юнчжэн был трудоголиком и отдавал работе почти круглые сутки – с пяти утра до полуночи, – на что другие государственные деятели были способны лишь во время войны. Правителем он был въедливым и требовательным, вовремя прогонял продажных чиновников, пытался ввести общую для своих разноязычных подданных стандартизированную форму китайского языка (предвестницу нынешнего мандаринского наречия) и запретил курение опиума, который только начали ввозить британцы. Запрет этот дорого обошелся Китаю как в буквальном, так и в переносном смысле. Кроме того, он устроил в Юаньминъюане шелкопрядильню и ферму, где под его личным надзором придворные евнухи обрабатывали рисовые поля словно простые крестьяне. Однако, в отличие от Марии Антуанетты с ее кокетливым пастушьим нарядом, Юнчжэн не устраивал игр в пастораль в позолоченных коровниках. Сад китайского аристократа всегда служил владельцу источником дохода, и хотя миниатюрная ферма в Саду совершенной ясности ни в коем случае не окупила бы все это совершенство и ясность (расходы на содержание дворца один из источников оценивает в $800 000 в год), ею можно было, как большим фиговым листом, прикрывать императорский земной рай. Как выразился историк искусства Крейг Клунас, китайский сад позволял «придать богатству естественность»{103}.
Беспокойство Юнчжэна по поводу восприятия его сада было вполне понятно, учитывая, на какой тонкой грани двух культур он балансировал: императорская власть, воплощенная в копии Зала высшей гармонии Запретного города, и лежащая вокруг буколическая пастораль. Контраст между двумя этими пространствами имел большое символическое значение, поскольку, как гласит один из памятников китайской классики – конфуцианский трактат «Чжоуские ритуалы», «только правитель основывает город, ориентирует его по сторонам света, придает столице очертания и расчерчивает поля. Он создает должности и определяет их назначение, формируя сердце страны, которое будет служить образцом для народа»{104}.
Таким образом, осевая симметрия Запретного города и расчерченная по линейке столица вокруг него олицетворяли власть и главенство императора. Каждое китайское поместье, даже самое захолустное, подчинялось неукоснительному правилу: главное здание всегда должно быть обращено на юг, к сидящему на троне императору. Тот же принцип соблюдался и в строгой симметрии административных зданий Юаньминъюаня, демонстрируя, что императорский статус, даром что вдали от столицы, незыблем и жесткая иерархия китайского общества остается неизменной. Асимметричное расположение садовых построек и холмистый ландшафт, рассеченный извилистыми тропинками и ручьями, напротив, располагали к иному образу жизни: не к действию, а к созерцанию, не к субординации, а к непринужденности.
К середине XVIII века это расслабленное существование на лоне природы стало общепринятым у такой сугубо китайской социальной прослойки, как вышедшие в отставку чиновники. В Китае продвижение по длинной и сложной бюрократической лестнице зависело – по крайней мере в теории – от личных заслуг. Все молодые люди (или хотя бы располагающие достаточными для учебы средствами) могли подниматься со ступеньки на ступеньку, сдавая государственные экзамены. Наградой служило улучшение финансового положения, социальный престиж и власть, но чем выше они поднимались, тем больнее было падать, и выбывшие из гонки чиновники оседали на покое в сельской местности. Особенно характерно это было для образованных китайцев хань, многие из которых чувствовали себя при новых властях отщепенцами. Ими полнились культурные центры бывшей династии Мин – такие города к югу от Янцзы, как Сучжоу, Нанкин и Ханчжоу. Демонстративно удаляясь от средоточия власти Цин, но в то же время держа руку на пульсе местных дел, ханьские чиновники, по выражению Вольтера, «возделывали свой сад» – посвящали себя литературе, распитию вин, каллиграфии и меценатству. Один из таких отставных чиновников по имени Чжао И писал:
«Кисть твоя рождает прекрасные слова, сердце полно свежих, как снег, идей, а ты погряз в земной суете – разве не расточаешь ты тем самым свой талант? Мне же милее наполнить свой кабинет тысячью книг и ежедневно встречаться с мудрецами древности на их страницах»{105}.
Этим благородным занятиям, как правило, предавались за высокими стенами городских поместий, тем самым избегая неудобств и изолированности настоящей пещеры отшельника. Сегодня самым знаменитым из таких поместий остается Сад незадачливого политика (известный также как Сад скромного управляющего) в Сучжоу. Созданный в XVI веке, он до сих пор радует глаз характерными для поздней Цин сахарно-белыми стенами, чешуйчатой черепицей, многоугольными окнами и миниатюрными искусственными утесами из камней причудливых форм – так называемых «чиновничьих камней». Повсюду виднеются павильоны и залы, через многочисленные пруды перекинуты мостики. Устраивая такое разнообразие на сравнительно небольшом пространстве, создатели Сада незадачливого политика и других китайских садов уменьшают мир до понятных, компактных, удобных для владения размеров (в конце концов, сад – это собственность и неплохой способ передать состояние детям и внукам). Однако и сады, в свою очередь, завладевали хозяевами, становясь настолько неотъемлемым атрибутом жизни литературно-чиновничьего бомонда, что многие из владельцев даже брали имя в честь своего сада. Один из литераторов взял на себя смелость утверждать, что «сад – это портрет владельца: каждым своим цветком, деревом, камнем, размещенными в определенных местах, он раскрывает нрав и характер хозяина». И если «лицом» китайского императора были его земли, то и для землевладельца эти сады становились чем-то вроде миниатюрной империи, как наглядно демонстрирует величайший литературный памятник Китая «Сон в красном тереме».
В этом произведении Цао Сюэциня, потомка влиятельного ханьского рода, при Цин оказавшегося в опале, в роскошных садах сибаритствуют представители одного аристократического клана. Но хотя львиную долю времени они проводят флиртуя, сочиняя стихи и выпивая, над садом незаметно сгущаются тучи. Наследник рода – хилый эстет; бабушку, главу клана, заботит предосудительное поведение молодежи; а творящиеся на заднем плане финансовые махинации грозят обрушить шаткое нагромождение резного дерева и изысканных приемов. Иными словами, описанный в романе Сад роскошных зрелищ – это миниатюрная, словно бонсай, модель империи Цин со всем ее показным великолепием и скрытыми изъянами. Вот и император Юнчжэн превратил Юаньминъюань в почти буквальную миниатюрную модель своей империи (пусть и без сатирического подтекста). За главной административной зоной он разместил императорскую резиденцию – комплекс дворцов на девяти островках, лепящихся к берегам обширного озера. Эти островки, связанные между собой и с берегом зигзагообразными переходами и горбатыми мостиками, он назвал Девять континентов – в честь девяти частей света, на которые делила мир древнекитайская космология. Собрав вокруг себя весь мир в своей личной резиденции, император недвусмысленно провозглашал, что, как правитель Срединного царства, он выступает полноправным властелином всего мира. (В подобных замашках он не одинок, как доказывает современный пример шейха Мухаммеда, создавшего на дубайском побережье искусственный архипелаг под названием «Мир».) Кроме того, Юнчжэн утверждал на китайской земле колониальную власть династии Цин.
Несмотря на немалый вклад Юнчжэна в благоустройство и самого сада, и его построек, пика своего великолепия (и, пожалуй, помпезности) Юаньминъюань достиг при сыне Юнчжэна Цяньлуне. Жизненные пути трех великих китайских императоров можно представить в виде будденброкианской дуги постепенного возвышения, а затем упадка. Благодаря военному таланту и недюжинному уму Канси, а затем грамотному правлению его сына Юнчжэна империя Цин достигла невиданного для китайской истории расцвета и размаха. Цяньлун продолжил славное дело своего отца и деда, однако, возможно, перегнул палку. Новая империя, вобравшая в себя Монголию и обширные мусульманские территории под названием Синьцзян на западе, была попросту слишком большой, и сохранение ее целостности давалось тяжело. Несмотря на бесспорные успехи и отчаянные старания, в Цяньлуне чувствовалось желание остановиться на достигнутом и явное истощение сил. К концу его 60-летнего правления над империей уже витал аромат коррупции и тлена. За последние десятилетие его царствования фаворит (и, если верить молве, любовник) Цяньлуна Хэшэнь сколотил огромное состояние на взятках и вымогательстве. Тем временем императорская казна постепенно скудела, истощенная затянувшейся войной с повстанцами из общества Белого лотоса.

Выполненный в форме свастики Павильон всеобщего мира. Гравюра из принадлежащей Цяньлуну серии «Сорок видов Юаньминъюня» (сейчас находится во Французской национальной библиотеке)
Совокупность этих факторов – чрезмерного расширения, коррупции и бунтарских настроений – ввергла династию Цин в штопор, из которого она так и не вышла, позволив западным варварам 60 лет спустя сжечь Сад совершенной ясности дотла. Многие уничтоженные британцами постройки были возведены именно Цяньлуном, неустанно демонстрировавшим свой изысканный вкус. Дополнений в эту резиденцию он внес немало: по примеру отца с дедом он поселил на территории целую семью архитекторов и ландшафтных дизайнеров по фамилии Лэй, которые выстроили великолепные павильоны и расширили общую площадь резиденции до 3,4 кв. км, присоединив еще два сада – Сад элегантной весны и Сад вечной весны.
Среди многочисленных дополнений Цяньлуна имелся и библиотечный комплекс. Китайский сад всегда был достаточно литературным пространством, располагавшим к сочинениям, к чтению – для себя и вслух и, в свою очередь, «читавшимся» как текст, так что Юаньминъюань не был исключением. Прототипом для его Библиотеки литературных источников послужила знаменитая библиотека Тянь И в южном городе Нинбо, около 200 лет принадлежавшая знатной семье Фань. Однако простая копия была бы недостойна императора, поэтому здание библиотеки Цяньлуна оказалась в два с лишним раза протяженнее 23-метрового оригинала и насчитывала целых три этажа. Каждой категории хранящихся там книг – конфуцианская классика, философия, история и литература – полагался свой отдел, маркированный одним из четырех цветов (зеленый, белый, красный и черный).
Гордостью библиотеки было «Полное собрание книг по четырем разделам» из 36 000 томов – еще один пример императорской мании величия и наглядная демонстрация его власти над ханьской культурой. Эта антология классической китайской литературы была заказана Цяньлуном в 1722 году, и на то, чтобы собрать ее полностью, у 400 ученых ушло 20 с лишним лет. Проект хитроумно убивал одним ударом нескольких зайцев: позволял раструбить на всех углах о том, как император заботится о традиционной китайской науке, и при этом занять делом заведомо настроенную против цинских властей прослойку ханьской интеллигенции. Кроме того, параллельно с каталогом из 3461 книги ученым было поручено составить почти такой же по объему каталог запрещенных книг. Эти книги затем были сожжены – за то, что либо ставили под сомнение законность правления Цин, либо еще каким-то непозволительным, на взгляд императора, образом нарушали устои. Явившаяся побочным продуктом этого упражнения в каталогизации и им же обеленная инквизиторская цензура Цяньлуна предстала героическим подвигом во славу литературы. Однако в своем вандализме он не дотянул до варварской неразборчивости европейцев: в 1860 году энциклопедия Цяньлуна сгорела вместе с уничтоженным ими садом.
Сад располагал не только к чтению, но и к письму. Цяньлун, до неприличия подражающий литературно-чиновничьему бомонду, любил смотреть рассеянным взглядом на пионы, звезды и озера, а потом изливал свои впечатления водопадом стихов. За свою жизнь он написал около 40 000 стихотворений, посвятив многие из них своим садам и дворцам. Можно расценивать это как неимоверное напряжение сил, результатом которого, по словам одного раздосадованного синолога, стала бы лишь «лавина совершенно бесполезных рифмованных строк»{106}, однако это времяпрепровождение куда логичнее считать обычным досугом, а не поэтическим трудом с большой буквы. В нем содержался примерно тот же смысл, который Пьер Бурдье вкладывает в фотографирование: хобби, укрепляющее социальные связи своих приверженцев. Как и для моментального снимка, для поэтических упражнений Цяньлуна важнее не художественная ценность, а само заявление «Здесь был я». И поскольку субъектом этого заявления всегда выступал император, словно вожак стаи, метящий каждое дерево на своей территории, оно укрепляло его власть и владычество.
Юаньминъюань не только вдохновлял на творчество, но и сам служил холстом: примером тому выстроенный Юнчжэном в форме свастики Павильон всеобщего мира на одном из островков Девяти континентов. Свастика в буддизме символизирует печать сердца Будды, поэтому здание представляет собой игру слов. Символ на китайском произносится как «вань», что созвучно другому иероглифу, означающему «десять тысяч» и подразумевающему универсальность. Таким образом, здание символизировало всепроникающую любовь Будды. (Император любил сидеть там и размышлять о мире во всем мире, пока его полководцы подавляли бунт в западных провинциях.) Павильон этот не единственный в саду имел символическую форму, были и другие: Павильон стоячей воды – в форме иероглифа 田 («тянь», поле); Павильон летней прохлады – в форме иероглифа 工 («гон», работа) и Павильон, наполненный осенью, – в форме иероглифа 口 («коу», рот).
Письмена присутствовали в саду и не в столь монументальном формате – в виде изречений. Китайский сад представлял собой не только литературную площадку, он был тесно связан с искусством пейзажной живописи, поэтому всем композициям из камней, деревьев, воды и зданий давались названия, словно картинам в альбоме. В Юаньминъюане эти названия часто брались из императорских стихов и вырезались, имитируя его собственный каллиграфический стиль, на камнях или деревянных табличках, будто сопроводительные подписи к картине. Цитатами из Цяньлуна (еще одно свидетельство его графомании) Китай пестрит до сих пор, по обилию с ними могут сравниться только изречения Мао Цзэдуна, продолжившего императорскую традицию. (Мао тоже писал стихи. Великий синолог Артур Уэйли считал, что в художественном отношении они превосходят гитлеровские упражнения в живописи, но не дотягивают до черчиллевских.) Изречениям в китайском обществе придавался большой смысл: как говорит один из персонажей «Сна в красном тереме» о своем саде, «все эти виды и павильоны – даже камни, и деревья, и цветы – будут казаться неполными без завершающегося штриха поэзии, который может добавить лишь письменное изречение»{107}.
Глава, из которой взята цитата, демонстрирует, сколько сложных правил существовало в игре наименований. В этой главе отец семейства Цзя Чжэн ведет группу гостей по Саду роскошных зрелищ накануне его официального открытия. В саду будет жить его дочь, недавно произведенная в императорские наложницы, поэтому различным видам и постройкам требуются соответствующие статусу красивые названия. Однако, вопреки обычаю, Цзя Чжэн – пусть с напускной неохотой – доверяет эту ответственную задачу своему своенравному изнеженному сыну Баоюю. Автор подробно разъясняет, зачем это понадобилось:
«Ведь семья Цзя принадлежала к числу образованных, и в ней всегда нашлись бы люди, способные сочинить подобные надписи», «не то что у разбогатевших выскочек, которые швыряются деньгами, словно песком и, выкрасив свой дом в алый, развешивают повсюду огромные полотнища с надписями “Зеленые ивы с золотыми замками у ворот”, “Голубые холмы, словно вышитые ширмы за домом”, почитая их верхом изящества»{108}.
Для Цзя Чжэна процесс наименования – удобный случай проэкзаменовать и просветить своего сына, тем самым закрепляя сложившийся порядок.
«У одной из них он остановился и наверху, на склоне, увидел гладко отполированный камень, на него так и просилась какая-нибудь надпись.
Цзя Чжэн обернулся и с улыбкой сказал:
– Господа, посмотрите внимательно и скажите, какое название дали бы вы этому месту?
Все заговорили наперебой. Одни предлагали “Изумрудные скалы”, другие – “Узорчатые хребты”, третьи – “Курильница ароматов”, четвертые – “Маленький Чжуннань” и еще много-много других.
Цзя Чжэн молчал. Тут только все разгадали его намерение и, предложив для приличия еще несколько банальных названий, умолкли. Баоюй тоже понял, чего хочет отец, и, когда тот обратился к нему, так сказал:
– Я слышал, еще предки говорили: “Для описания того или иного места лучше брать старые изречения, чем сочинять новые; в резьбе – подражать старинным узорам, а не придумывать новые”. Ведь не это главный пейзаж, главный впереди, поэтому лучше ничего не придумывать, а просто взять древнее изречение: “Извилистая тропа ведет в укромный уголок”.
– Правильно! Прекрасная мысль! – в один голос вскричали гости. – У вашего сына удивительные способности, а какой тонкий вкус! Куда уж нам, старым начетчикам, тягаться с ним!
– Не захвалите его, – рассмеялся Цзя Чжэн. – Слишком он еще молод, нахватался поверхностных знаний и вообразил, что постиг все премудрости. Я сейчас над ним подшутил, посмотрим еще, на что он способен»{109}.
Этот обычай образованной прослойки и перенял Цяньлун и дал 40 главным видам сада (император питал болезненную страсть к перечням) названия вроде (4) «Чеканная луна и расходящиеся облака», (8) «Небесный свет сверху и снизу», (11) «Гармония настоящего и прошлого» и (17) «Глубокое сострадание и вечное благословение». Он заказал пейзажи с этими видами придворным художникам, и составленный в результате альбом с написанными лично императором поэтическими комментариями демонстрировался во дворце. (В 1860 году он был похищен французами и теперь хранится в Национальной библиотеке.) Однако император не просто подражал ученым забавам на лоне природы – он перенес Сад отставного чиновника в свою резиденцию целиком. И это было уже не столько культурное заимствование, сколько колонизация.
Возрождая начинание своего деда, он совершил несколько пышных церемониальных паломничеств в дельту Янцзы – сердце ханьской культуры и источник львиной доли благополучия страны – и попытался где кнутом, а где пряником добиться покорности подданных. Паломничества эти были крайне разорительны для принимающей стороны: перед императорским визитом в знаменитый своими красотами город Янчжоу его жителям, чтобы не ударить в грязь лицом и оправдать императорские ожидания, было велено перестроить целые районы. В результате вместо того, чтобы завоевывать сердца, император своими визитами добивался прямо противоположного. Однако там, где не действовал пряник, в ход шел кнут: за письмо со слезной просьбой к императору отменить визит один южный чиновник был приговорен к казни «тысячи порезов». В ходе этой отвратительной экзекуции человека привязывали к позорному столбу и острейшим ножом отрезали по маленькому кусочку тела, как можно дольше оттягивая момент смерти. Кроме того, для пущей острастки были обезглавлены или сосланы около 1000 родных и знакомых чиновника.
Помимо палачей Цяньлун брал с собой в паломничества и рисовальщиков, перед которыми стояла задача запечатлеть знаменитые виды южных земель, чтобы затем воссоздать их в его северном саду. Один из таких видов был заимствован из монастыря в Ханчжоу. Оригинал этого пейзажа под названием «Ручей с рыбами» представлял собой место, где прихожане отпускали в воду пойманных рыб – обычай, символизирующий сострадание всему живому и до сих пор проводящийся во многих буддийских храмах. Однако в Саду совершенной ясности он превратился в метафору императорской милости – и пример чванливого богохульства, учитывая приравнивание императора к Будде.
Вдобавок к воспроизведению отдельных видов для услаждения взора императора в резиденции были целиком воссозданы пять садов из таких южных городов, как Сучжоу и Нанкин. Тем самым демонстрировалось признание классической традиции садового устройства и вместе с тем давался прозрачный намек, что эти сугубо частные территории, находящиеся вне политики, тоже подпадают под всеобъемлющую императорскую власть. Вслед за отцом, устроившим в саду архипелаг, олицетворяющий девять известных китайцам частей света, Цяньлун символически инкорпорировал в собственном саду культурную топографию ханьского Китая, однако, в отличие от Юнчжэна, он не боялся обвинений в слабости, в превращении из продолжателя военных традиций маньчжуров в ханьского изнеженного книжного червя. Цяньлун не стеснялся играть роль ханьского интеллигента, поскольку при его могуществе она превращалась в утверждение законности и величия всей его династии. С удовлетворением глядя на дело рук своих, он вопрошал торжественно: «Будет ли мне отныне недоставать юга?»
Самым существенным вкладом Цяньлуна стали дополнительные 428 га площади с восточной стороны, увеличившие территорию сада почти вдвое. Именно там он собирался обосноваться после ухода на покой (заявив с характерной любовью к театральным эффектам пополам с конфуцианским почтением, что скорее отречется от престола, чем дерзнет править дольше своего деда Канси, пребывавшего на троне 61 год). В действительности он и после формального ухода не выпускал бразды правления из рук до самой своей смерти, настигшей его четыре года спустя. Присоединенная часть территории получила оптимистичное название «Сад вечной весны» и вид имела еще более непринужденный, чем сам Юаньминъюань, поскольку предназначена была для отхода от государственных дел. Устроена она была вокруг цепочки озер – воды в этой части сада было, пожалуй, даже больше, чем суши. На островках, усеявших водную гладь, расположились фантастические сооружения, в числе которых был и круглый многоярусный павильон, похожий на пекинский Храм неба, построенный на острове с потрясающим названием – Остров расширения сознания.
Одна из самых знаменитых сегодня достопримечательностей сада – Сянлоу, «европейские павильоны», руины которых легче всего разглядеть среди останков садового комплекса. Остальные дворцы и павильоны, сделанные в основном из дерева, сгорели дотла. Происхождение этих каменных построек отлично иллюстрирует отношение цинских правителей к иностранцам. Нам обычно кажется, что культурный обмен в XVIII веке происходил в одностороннем порядке – от Востока к Западу, – и действительно, в Европе повальная мода на все китайское – фарфор, шелк, мебель – имела куда больший размах, чем «еврофилия» в Китае. Тем не менее такое явление существовало. Проводниками западной культуры в Китае служили прежде всего миссионеры-иезуиты, обосновавшиеся при дворе со времен династии Мин с целью обратить в христианство один из самых многочисленных народов земли. И добивались они этой цели в том числе демонстрацией превосходства «христианских» искусства и науки.
Отношение к иезуитам разнилось от правителя к правителю: дед Цяньлуна Канси был человеком любознательным, преклонявшимся перед западной наукой и любившим демонстрировать придворным собственное владение полученными от иезуитов знаниями. Цяньлун оставил иезуитов при дворе, однако экзотические формы изобразительного искусства интересовали его в первую очередь как еще одна возможность увековечить себя и свое правление. Миланский живописец Джузеппе Кастильоне, на китайском получивший имя Лан Шинин, пережил при цинском дворе две смены правителей, нарисовав портреты всех трех императоров. Эти портреты занимают любопытное промежуточное положение между западной техникой с использованием перспективы и традиционной китайской. Цяньлун категорически запретил пользоваться при написании его портретов светотенью, поэтому, несмотря на присутствующие перепады рельефа, его изображения работы Кастильоне выглядят иконописно плоскими.
В отличие от Канси, его сын интереса к иностранной науке и технике – кроме занятных диковин – не питал. Это отношение совпало с закатом империи Цин – когда-то величайшей, богатейшей и самой могущественной на земле. Теперь же ее опережали европейские выскочки вроде Британии: как-никак для развития баллистики требовалось то же научное осмысление пространства, что и для постижения линейной перспективы. Однако именно интересу Цяньлуна к европейским диковинкам обязаны своим появлением «европейские павильоны». Увидев на какой-то гравюре барочные фонтаны, император пожелал заиметь такие же. Сад совершенной ясности представлял собой микромодель мира под властью китайского правителя, а поскольку для Срединного царства все остальные страны, особенно расположенные вдали от его непосредственных границ, выступали потенциальными вассалами, микрокосмос был бы неполным без варварских европейских построек. И хотя в императорских резиденциях цинских правителей имелись заимствования и из других азиатских стран (например, огромная копия дворца далай-ламы Потала в северной летней резиденции Чэндэ), здесь архитектурная экзотика обретала новое звучание. По свидетельству иезуита отца Аттире, отношение китайцев к европейской архитектуре изначально было другим:
«Их взгляд настолько привык к собственной архитектуре, что наша им не особенно по нраву. Желаете знать, как они о ней отзываются и что говорят, рассматривая гравюры с самыми знаменитыми нашими зданиями? Их поражает высота и толщина стен наших дворцов. Наши улицы кажутся им тоннелями, пробитыми в страшных горах, а наши дома – скалами, устремленными в небо, да еще полными пещер, напоминающих берлоги медведей или других диких зверей. А больше всего их пугают громоздящиеся друг на друга этажи: им невдомек, зачем с риском свернуть шею ежедневно карабкаться на четвертый-пятый этаж. “Очевидно, – сказал император Канси, глядя на планы наших европейских домов, – эта Европа очень тесная и жалкая страна, раз жителям негде расположить свои города на земле и приходится лезть в небо”»{110}. («Мы же считаем иначе, – несколько свысока добавляет Аттире, – и у нас есть на то свои причины».)
В конце концов Юаньминъюань пополнился большим количеством каменных китайско-барочных построек – дворцов, бельведеров, террас, фонтанов, а также птичником и лабиринтом. Даже по тогдашним европейским меркам сработаны они были грубо, однако в них, как свидетельствуют руины, имелась своеобразная прелесть. Довольно точное представление об их внешнем облике дает также серия гравюр, заказанная придворному китайскому художнику, явно обучавшемуся у иезуитов. Пилястры, арки, балюстрады и непривычные для Китая застекленные окна видны во всей красе, как и несуразно изгибающиеся над ними типично китайские карнизы. На этих гравюрах западные технологии (гравировка на меди и линейная перспектива) как нельзя удачно сочетаются с более характерными для Китая изобразительными традициями. Результат впечатляет: искажение перспективы выглядит не погрешностью, а намеренной адаптацией западной техники к китайским нуждам. Высказывались предположения, что множественность точек схода перспективы на гравюре отражает попытку изобразить объект в восприятии всевидящего императорского ока. В частности, дополнительная линия направления взгляда на изображении Большого фонтана соответствует виду на фонтан с трона, установленного напротив под открытым небом.
Судя по всему, эти постройки нужны были Цяньлуну лишь как выставка коллекции западных диковин (особенно ему нравились часы) и как фон для церемониальных шоу фонтанов и фейерверков. Однако по крайней мере один постоянный житель у них имелся – императорская фаворитка, известная по преданиям как Душистая наложница из недавно завоеванной области Синьцзян. Об этой женщине сложено немало романтических легенд: ее похитили у мусульман, Цяньлун воспылал к ней страстной любовью, но она отвергала ухаживания, посвятив себя служению богу, и наконец, снедаемая тоской, свела счеты с жизнью. На самом деле все куда более прозаично: история наложницы представляет собой типичный пример решения политических вопросов через постель. Означенная женщина принадлежала к турецкой народности, вступившей в союз с Цин и помогавшей им завоевать Синьцзян. Чтобы скрепить этот военный союз, дочь старейшины выдали за Цяньлуна, и она родила от императора ребенка. Вполне возможно, что одна из занимаемых наложницей европейских построек играла роль мечети, учитывая, как терпимо в империи Цин относились к чужим верованиям (за исключением навязчивого проповедования христианства: Юнчжэн запретил миссионерскую работу за пределами столицы). Это сочетание брачных и архитектурных завоеваний (турецких и европейских иноземцев соответственно) в очередной раз выявляет символическое значение Сада совершенной ясности как имперского микрокосма.
Вскоре после этого сад стал также символом имперского упадка, поскольку в последнее десятилетие правления мудрость изменила Цяньлуну, и империя начала угасать. В год 80-летия императора лорд Макартни, глава британской миссии при дворе Цяньлуна, свидетельствовал: «Китайская империя – одряхлевший военный корабль первого класса, который череда способных и прилежных офицеров полтора столетия удачно поддерживала на плаву, нагоняя страху на соседей одними лишь размерами и грозным видом. Однако стоит взойти на мостик неумехе, и прощай дисциплина и безопасность. Может быть, корабль и не потонет сразу, может, еще какое-то время подрейфует с течью в боку, а потом разобьется в щепки, выброшенный на берег, но выстроить его заново на прежнем остове не получится»{111}.
По случаю юбилея Цяньлуна в саду была устроена пышная церемония с шоу европейских фонтанов. Однако их механические насосы вышли из строя еще до торжеств, а иезуитов, которые могли бы устранить поломку, при дворе уже не было (папа распустил орден в 1773 году). По приказу Цяньлуна огромные резервуары пришлось наполнять вручную (евнухи таскали воду ведрами) – очень трудоемкий и долгий процесс. По-прежнему величественная на вид, но безнадежно ветшающая внутри империя Цин была обречена.
«К вечеру 19 октября [1860 года] летние дворцы исчезли с лица земли, и местность вокруг них изменила облик: лишь по обугленным конькам крыш и грудам горелых бревен можно было догадаться, где стояли императорские павильоны. Во многих местах вместе со зданиями огонь поглотил и росшие рядом смолистые сосны, оставив одни головешки. Когда мы первый раз попали в эти сады, они напоминали страну фей из волшебных сказок, а после нашего ухода 19 октября там осталась выжженная пустошь»{112}.
Так писал британский офицер (впоследствии виконт) Гарнет Уолсли вскоре после победоносного возвращения со Второй опиумной войны (1856–1860). Война, целью которой было заставить суверенное государство легализовать торговлю опасным наркотиком, почти закончилась, и до заключения мира англо-французским войскам осталось взять лишь Юаньминъюань, покинутый императором Сяньфэном, который бежал в северную резиденцию Чэндэ.
Потрясенные захватчики обнаружили там настоящий земной рай (и впечатление не портило даже плавающее в озере тело покончившего с собой смотрителя сада). Среди многочисленных императорских богатств они нашли три роскошные кареты, сделанные Джоном Хэтчеттом из Лонгакра, но не используемые, поскольку китайский протокол запрещал кучеру сидеть спиной к пассажирам, а также несколько английских пушек, подаренных, как ни парадоксально, предыдущей миссией и тоже не использовавшихся. Однако восхищение не умерило алчности захватчиков, и в свидетельствах участников начавшегося затем разграбления фигурирует немало нелепых сцен с солдатами, бегающими по саду в халатах китайских мандаринов и разбивающими бесценные вазы (уцелевшие сокровища были в основном отправлены в Лондон и Париж). В Британском музее до сих пор хранится немалая часть вывезенного, в том числе и одно из самых знаменитых произведений китайской живописи – созданный в VIII веке свиток «Наставления старшей придворной дамы» Гу Кайчжи.
Представители императора по вполне понятным причинам затягивали подписание мирного договора: его условия предполагали переход под власть иностранцев больших участков китайской территории и легализацию опиумной торговли. Но когда 18 европейских посланников, отправленных обсуждать мир, были возвращены в ящиках, замученные пытками до смерти, реакция иностранцев тоже оказалась вполне объяснимой и предсказуемой. Предводитель британской стороны лорд Элджин – сын того самого Элджина, который вывозил мраморы Парфенона, принял единоличное решение в качестве наказания сжечь любимую резиденцию императора (французы в тот момент умыли руки, считая поджог варварством). Элджин оправдывался тем, что подобные карательные меры нанесут душевную рану императору, не затрагивая простой народ. Судя по сделанной им записи после разграбления сада, оправдывать себя он был мастак:
«Только что вернулся из летнего дворца. Очень милое место, похоже на английский парк – бесчисленные павильоны с изящными залами, полные китайских диковин, красивых часов, бронзы и т. п. Но, увы! Такое запустение… Какой зал ни возьми, всюду половина вещей вывезена или разбита вдребезги… Война – страшное дело. Чем больше в ней участвуешь, тем больше ее ненавидишь»{113}.
Вскоре после этого он отдал приказ сжечь резиденцию. Типично для британцев – поливать пепел крокодиловыми слезами: эти лицемерные рыдания звучат контрапунктом к сентенциям о «бремени белых». Историку Саймону Шаме следовало бы назвать Британию не империей благих намерений, а вероломной империей – так было бы честнее. Тот же Элджин был великим мастером заламывать руки и обладал безграничными способностями к самоуничижению, уступавшими разве что его беспредельной жестокости. Именно он руководил империалистическими военными действиями в Канаде, Индии и Китае, сея вокруг политые слезами сожаления разрушения. Перед тем как обстрелять Гуанчжоу, он прочитал о подавлении индийского восстания и задался вопросом: «По силам ли мне каким-то образом уберечь Англию от господнего гнева за надругательство над еще одним слабым восточным народом? Или все мои потуги приведут лишь к расширению земель, на которых англичанам суждено демонстрировать пустоту и ветреность своей цивилизации и христианства в целом?»{114} Этот и другие образчики самобичевания, которыми пестрят дневники Элджина, напоминают кэрролловского Моржа, поедающего устриц.
Лицемерному самоуничижению предавались не только сливки европейского империализма, но и самый знаменитый порицатель разрушения Юаньминъюаня. Виктор Гюго, чей вопль: «Полюбуйтесь же, что сделала наша цивилизация с варварством!» – одобрительно цитируют многочисленные китайские историки, владел внушительным запасом тончайших китайских шелков, вывезенных из Сада совершенной ясности французскими солдатами. Шелка эти он приобрел всего через каких-нибудь пять лет после разграбления сада: очевидно, к тому времени его праведный гнев успел утихнуть. Несмотря на постоянное заламывание рук, имперское высокомерие Элджина проявляется во всей красе в оценке уничтоженных им артефактов:
«Не думаю, что в области искусства нам есть чему у них учиться… Китайское понятие прекрасного рождает на свет лишь гротески в наиболее циничном их проявлении. Тем не менее я склонен считать, что где-то в этой куче мусора и уродства кроется искра божья, из которой моим соотечественникам может посчастливиться раздуть пламя»{116}.
Как и положено истинному сыну страны лавочников, больше всего он горевал о погибших материальных ценностях. «Разрушить и разграбить такое место само по себе плохо, но гораздо хуже потери и поломки. Из общей стоимости 1 000 000 фунтов, пожалуй, около 50 000 фунтов выручить не представляется возможным»{117}. Налицо кардинальная перемена в отношении к китайской культуре по сравнению с XVIII веком, когда в 1761 году на волне восхищения китайским искусством Уильям Чемберс воздвигал пагоду в Ботаническом саду Кью. Чемберс, построивший также совершенно некитайский Сомерсет-хаус, побывал в Китае лично, поэтому в китайской архитектуре разбирался на редкость хорошо. Примерно в это же время в Потсдаме Фридрих Великий строил куда более далекий от реальности Китайский чайный домик. Однако к середине XIX века в Европе наступил подъем, и восхищение корифеев Просвещения вроде Вольтера конфуцианскими ценностями сменилось у приверженцев Адама Смита пренебрежением к неизлечимо авторитарному и косному китайскому экономическому строю. Маркс описывает этот переломный момент в статье для New York Daily Tribune от 20 сентября 1858 года:
«То, что колоссальная империя, население которой составляет почти треть человечества, прозябающая вопреки духу времени, изолированная насильственным выключением ее из системы мировых связей и поэтому умудряющаяся обманывать самое себя иллюзией насчет своего “небесного совершенства”, что такая империя должна погибнуть, в конце концов, в смертельном поединке, в котором представитель одряхлевшего мира следует этическим побуждениям, а представитель самого современного общества борется за привилегию покупать на самых дешевых и продавать на самых дорогих рынках, – это поистине трагедия, необычайный сюжет которой никогда не дерзнула бы создать даже фантазия поэта»{118}.
Обретенное Западом превосходство повлекло за собой презрение к китайской культуре и, как мы уже убедились, к жизням китайцев. После взятия англо-французскими войсками города Бэйтан, значительная часть которого была превращена в руины, один из подручных Элджина размышлял с преступной наивностью о том, что в городе было 20 000 жителей, но «какая участь постигла большую часть этого населения, осталось невыясненным»{119}. Как писал чуть ранее в том же столетии Генрих Гейне, там, где жгут книги, скоро начнут жечь и людей.
Сегодня Сад совершенной ясности представляет собой что-то вроде государственного памятника уязвленному самолюбию. На каждом шагу транспаранты «Не забудем о постигшем страну унижении!», и сами развалины покрыты современными граффити, клеймящими британцев и французов. После окончания Культурной революции китайское правительство постепенно стало вместо коммунистической риторики опираться на возвращение к имперской истории. Теперь на смену коммунистической лексике приходят «национальная гармония» и «историческая преемственность», которыми фонтанируют руководители страны, на каждом шагу поминая «цивилизацию, насчитывающую 5000 лет непрерывной истории», словно не было ни колонизации династией Цин, ни их собственной коммунистической революции. Останки Юаньминъюаня – о которых с 1949 по 1978 год старались не вспоминать, считая их отголосками феодального прошлого, – теперь служат для воспитания националистических и даже в чем-то ксенофобских чувств и формирования государства, основанного на тех самых европейских идеалах XIX века, которые и привели к разрушению резиденции.

Здание Центрального телевидения Китая, Пекин
От китайских наблюдателей не ускользнула горькая ирония того, что именно останки «европейских павильонов» целы до сих пор, хотя мало кто осмеливается заметить, что в качестве ориентиров для предположительно социалистического государства они не особенно годятся. Сегодня Пекин, Шанхай и другие китайские мегаполисы заполнены современными зданиями, в которых китайские традиции мешаются с западными. Например, Пекинский национальный стадион, известный также как «Птичье гнездо», является плодом сотрудничества швейцарского архитектурного бюро Herzog & de Meuron и китайского художника Ая Вэйвэя. Как и прошедшая там церемония открытия Олимпийских игр 2008 года, он представляет собой причудливую смесь советской и потребительской эстетики. Аналогичным образом и новое здание Центрального телевидения Китая (жестко цензурируемого пропагандистского рупора, аббревиатура которого на английском – CCTV – подозрительно совпадает с общепринятым сокращением названия систем видеонаблюдения) было спроектировано бывшим хулиганом от архитектуры Ремом Колхасом в форме гигантского иероглифа 口 («коу», рот – чей, партии?), пронизанного переходами, по лицемерному замыслу архитектора обеспечивающими доступ публики в наглухо закрытую организацию. (Несмотря на то что здание было сдано в 2012 году, переходы так и не открыли для публики.) Возможно, истинная трагедия заключается в том, что в своем диалектическом стремлении подстроиться и под китайский феодализм, и под западный капитализм подобные китайско-европейские гибриды снова возводятся автократической империей, чтобы произвести впечатление могущества. Однако Запад, как и следовало ожидать, тоже мало чему научился: мы по-прежнему силой вмешиваемся в политику суверенных государств ради собственной выгоды и по-прежнему бездумно крушим чужую историческую архитектуру – и чужие жизни.
Дополнительная литература
Craig Clunas, Fruitful Sites: Garden Culture in Ming Dynasty China (London, 1996).
6. Байройтский фестивальный театр, Германия
(1876)
Архитектура и развлечения
Дома служат балаганными подмостками. Они словно бесчисленные театры, в которых представления разыгрываются одновременно. Балконы, внутренние дворы, окна, ворота, лестницы, крыши выступают сразу и сценой, и ложами.
Вальтер Беньямин и Ася Лацис. Неаполь{120}
Бродвей превращается в Кони-Айленд[1].
Ричард Роджерс и Лоренц Харт. Верните его индейцам

Вагнеровский фестивальный театр, Байройт
Одно из самых ярких моих воспоминаний, связанных с архитектурой, относится к тому времени, когда мне было лет 16. Я у себя дома, медленно двигаюсь по узкому каменному коридору. Коридор запутанный, словно овечьи кишки, как говорят китайцы, видно лишь на пару шагов вперед, однако доносящееся из-за каждого угла непонятное хриплое сопение подсказывает, что ничего хорошего меня там не ждет. Но я продолжаю продвигаться, каждую секунду ожидая нападения. Внезапно из темноты вырастает чей-то силуэт, и человек-кабан с щетинистым ирокезом, загнутыми клыками и солнечными очками на рыле во весь опор несется на меня. Опомнившись, я вскидываю ружье и – в последний момент – пристреливаю зверюгу.
Не исключено, что вам этот сюжет тоже знаком: игра пользовалась бешеной популярностью. Вышедшая в 1996 году «Duke Nukem 3D» была одним из хитов (вызвавших, впрочем, неоднозначные отклики) первого поколения трехмерных «стрелялок», и лично я с трудом мог от нее оторваться. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что больше всего в ней привлекала напряженная атмосфера, страх, нагнетаемый всеми этими коридорами, пещерами и заброшенными заводскими цехами. По сегодняшним меркам анимация кажется примитивной, а графика – грубой, но, когда смотришь на скриншоты, это безлюдное игровое пространство (где только руки с оружием внизу экрана напоминают, что это я сейчас двигаюсь по коридору, это я смотрю перед собой) по-прежнему наводит страх и по коже бегут мурашки. Возможно, причина столь сильных эмоций (если не считать в принципе присущего подросткам обостренного восприятия) в том, что компьютерный экран в данном случае выступал порталом между привычным домашним миром и пугающей игровой действительностью, причем в ней, в отличие от фильмов по телевизору, главное действующее лицо – я. Бывало, наигравшись за день, я продолжал ходить по этим коридорам даже во сне.
Думаю, у многих представителей моего поколения найдутся такие же яркие воспоминания о виртуальной архитектуре. И хотя среда компьютерных игр возникла сравнительно недавно, зрелищная архитектура – от древнегреческих амфитеатров до американских кинотеатров 1920-х – занимает прочное место в человеческой жизни. Развлечения – это не просто легкомысленные забавы, это важный социальный опыт. Зрелищная архитектура (и архитектура в зрелищах) глубоко запечатлена в нашем коллективном и индивидуальном сознании: например, темный кинозал несет мощный эротический заряд для тех, у кого именно там случился первый поцелуй, а архитектура на экране (будь то пристанище Кэри Гранта или плод фантазии Хичкока) надежно врезается в память, поскольку наплывающая камера помещает зрителя глубже в пространство картины. В этой главе мы проследим, как менялась зрелищная архитектура на пути от амфитеатров к компьютерному экрану, и начнем с одновременно значимого и слегка нелепого поворотного момента – открытия в 1876 году вагнеровского Festspielhaus (фестивального театра).
У незнакомых с музыкой Вагнера имя композитора ассоциируется с необъятными сопрано в рогатых шлемах, бесконечными операми о волшебных кольцах и нацистами – Вагнер действительно был одним из любимых композиторов Гитлера и оголтелым антисемитом. Однако давайте лучше вспомним одну из величайших сцен мирового кинематографа, когда в «Апокалипсисе сегодня» американские вертолеты пикируют над морем к вьетнамскому селению под ревущий из динамиков «Полет валькирий», и мы осознаем неувядающую мощь – и этическую неоднозначность – вагнеровской музыки. Его произведения вызвали раскол среди современников, поделившихся на вагнеровцев и антивагнеровцев, а кого-то даже поссорили с властями, как Томаса Манна, которого выслали из Германии за лекцию о вагнеровских «болезненных проявлениях героизма» в 1933 году{121}, или с самим собой, как Марка Твена, который писал: «Я искренне наслаждался первым актом всех вагнеровских произведений, однако впечатление всегда было таким сильным, что одного акта мне хватало с лихвой. После двух актов я уходил физически опустошенным, а опрометчивое решение прослушать оперу до конца оборачивалось чем-то сродни самоубийству»{122}. Фридрих Ницше, какое-то время друживший с композитором, из почитателя, как известно, превратился в его недруга, а теоретик марксизма Теодор Адорно диалектически совмещал обе ипостаси. Другие придерживались какой-то одной стороны. Людвиг II Баварский, Шарль Бодлер, Бернард Шоу, Уистен Оден, Томас Элиот, Сальвадор Дали и Оскар Уайльд были горячими поклонниками мрачного вагнеровского эротизма и нервных созвучий. Его диссонансы предвосхитили появление авангардных произведений Малера и Шенберга, а также бесчисленных мелодий к голливудским фильмам, среди которых незабываемая музыка Бернарда Херрманна к «Головокружению». И наконец, вагнеровская концепция Gesamtkunstwerk – «совокупного произведения искусства», объединяющего поэзию, музыку и драму, – оказала огромное влияние на искусство конца XIX века, а затем и модернизм. Адорно доказывал даже, что своим Gesamtkunstwerk Вагнер способствовал изобретению кино.
Оперный дом Вагнера – или, скорее, театр (он называл свои произведения «музыкальными драмами», чтобы отличить от оперы) – был таким же необычным, как и его музыка. Построенный исключительно для постановок его произведений (и по-прежнему функционирующий в этой роли каждое лето), театр стоит на невысоком холме в окружении полей близ небольшого баварского городка Байройт. Благодаря такому расположению здание выглядит доминантой, хотя на самом деле в задачу архитектора не входило придавать ему величие: изначально оно было выстроено в фахверковой технике (позже стены заменили на укрепленный цемент) из красного кирпича в противовес пышным оперным театрам XIX века.

Парадная лестница парижской оперы Гарнье словно сцена, где зрители купаются в лучах славы
Вершиной традиции уподоблять оперные здания богато украшенным тортам стала Парижская опера по проекту Шарля Гарнье, открывшаяся годом ранее вагнеровского театра. Исполинская громада театра, разместившаяся на слиянии нескольких больших бульваров в перестроенном бароном Османом городе, буквально вываляна в позолоте. Куда ни кинешь взгляд – всюду нагромождение финтифлюшек из разных периодов и стилей. Такая же роскошь ждет посетителей и внутри, а про вестибюль реформатор архитектуры и воскреситель готики Виолле-ле-Дюк сказал: «Такое впечатление, что лестницу создавали для вестибюля, а не вестибюль для лестницы». Отчасти это замечание было продиктовано досадой от проигрыша в конкурсе проектов, но доля истины в нем имелась: в Париже времен Второй империи арену общественной жизни захватила буржуазия. Театры были возможностью «других посмотреть и себя показать», а спектакли – поводом выйти в свет. Такая практика длилась уже не первый век, однако опера Гарнье отличалась от других театров, в том числе из таких отсталых стран, как Англия, где аристократы проходили через отдельные входы прямо в ложу, а чернь толкалась в непримечательных боковых дверях. В буржуазном Париже все, кому был по карману билет, поднимались по парадной лестнице в непозволительном на взгляд потрясенного иностранца смешении.
Немецкая опера тем временем продолжала феодальные традиции, насчитывавшие свыше двух столетий. До произошедшего в 1871 году объединения Германия представляла собой скопление разрозненных крупных и мелких земель, в каждой из которых имелся свой придворный театр под покровительством местного правителя. В число таких театров входила и придворная опера Дрездена – блестящей столицы Саксонского королевства, воплощенного великолепия и высокой культуры. В 1848 году этот же город стал колыбелью подрывной деятельности. В «год революций», когда вся Европа превратилась в большую пороховую бочку, в Дрездене жили основоположник анархизма Михаил Бакунин, придворный архитектор Готфрид Земпер – тот самый, который любовался «карибской хижиной», – и Рихард Вагнер, дирижер оперного оркестра.
Эти трое часто встречались и обсуждали перспективы революции, объединения страны и конституционных реформ, хотя Бакунин был куда большим радикалом, чем Земпер и Вагнер, который написал наивное послание королю с просьбой провозгласить республику. Они, казалось, не понимали, что эта политическая активность может стоить им карьеры или даже жизни. Однако нерешительный король проигнорировал призывы к реформам, и, когда в мае 1849 года войска открыли огонь по горожанам, весь Дрезден ощетинился баррикадами. Вагнер, восхищенный таким поворотом событий, посоветовал Земперу обратить свой архитектурный талант, воплощавшийся прежде в строительстве королевских опер, на службу революции. В результате появилась «земперовская баррикада» – одноэтажная крепость, воздвигнутая, как с насмешкой заметил Вагнер, «в лучших традициях Микеланджело и Леонардо да Винчи», в свое время тоже потрудившихся на ниве военной инженерии. Земпер лично отстоял на баррикаде три дня, а Вагнер тем временем маршировал с остальными по улицам, выкрикивая страшные угрозы сжечь дворец – старую оперу и в самом деле в конце концов подожгли. Однако, когда в Дрезден ворвалась прусская армия, Вагнер и Земпер поняли, что игры закончены, и бежали. Земпер укрылся в Лондоне, где, перебиваясь без заказов, писал в Британской библиотеке теоретические труды об архитектуре (рядом с ним работал Карл Маркс, еще один изгнанник революции 1848 года). Вагнер тем временем перебрался в Швейцарию, а затем выписал туда и жену с их ручным попугаем.
В цюрихском изгнании Вагнер опубликовал несколько эссе, включающих «Произведение искусства будущего» и «Искусство и революция» (а также антисемитское «Иудаизм в музыке»). При всей сумбурности, бесцветности и напыщенности этих сочинений в них содержится представление Вагнера о задачах искусства и их сплаве в Gesamtkunstwerk. В это же время Вагнер начал работать над либретто (еще одно его нововведение – писать либретто к операм самому) будущего 15-часового цикла из четырех опер под названием «Кольцо нибелунга» – эпоса о волшебном кольце, которое несет гибель всем, кто возжелает даруемой им власти над миром.
Поскольку в душе Вагнера еще не стихло эхо революции, неудивительно, что эти сочинения пропитаны тем, что марксист Дьердь Лукач называл «романтическим антикапитализмом», – отвергающим бюрократические ограничения и финансовые мотивы буржуазной системы, однако вместо развязывания классовой борьбы призывающим вернуться в некую якобы светлую эпоху. По мнению Вагнера, для исцеления современного ему общества и искусства требовалось вернуть театру исконное место в центре общественной жизни, которое он якобы занимал в сплоченных социумах прошлого (в частности, в Древней Греции). Драматическое Gesamtkunstwerk объединит в себе разные виды искусства, при этом парадоксальным образом «впервые позволяя каждому раскрыться в полной мере». Так, например, музыка и живопись освободятся от повествовательности, поскольку эту функцию возьмет на себя либретто, а поэзия избавится от необходимости писать словесные картины. Однако, возможно, главная задача Gesamtkunstwerk состояла в сплочении зрителей – между собой и с актерами на сцене – и создании общности, единства, народа – Volk. Для этой цели Вагнер предлагал покончить с социальным разобщением, открыв двери театров не только для сливок общества, но и для всех по примеру древних греков, у которых амфитеатры, бывало, вмещали до 14 000 человек. Это единение позволит людям, как и разным видам искусства, раскрыться как личностям. «Только при коммунизме эгоизм получает полное удовлетворение», – писал Вагнер{123}. Однако его представление о коммунизме сильно отличалось от изложенного Марксом и Энгельсом в «Манифесте коммунистической партии», опубликованном за год до вагнеровского «Искусства и революции». Оно было националистическим, а не интернациональным, поскольку основывалось на идее единства народа и совмещало консерватизм с прогрессизмом, поскольку было направлено на создание светлого будущего посредством подражания воображаемому древнему миру.
Если вагнеровский национализм отвечал духу новой эпохи, то в пиетете перед классическим театром ничего нового не было: итальянцы с XV века оглядывались на античную драму. До того театр сводился к религиозным представлениям на открытом воздухе, средневековым мистериям и балаганным зрелищам на рыночных площадях или на паперти перед собором. Поворот к классическому формату произошел в 1486 году в итальянском городе Феррара, где в герцогском дворце поставили пьесу древнеримского драматурга Плавта «Два Менехма» (по мотивам которой Шекспир напишет свою «Комедию ошибок»). Сценой для спектакля послужил внутренний двор здания, еще 13 лет назад бывший рыночной площадью, пока герцог не присоединил его к дворцу, приватизировав общественное пространство в лучших традициях знати (как мы уже наблюдали в главе 4). Это дало возможность ставить спектакли без вмешательства церкви, не одобрявшей светские зрелища, и отфильтровывать аудиторию: если на рыночной площади зрителем мог стать кто угодно, то здесь публику составляли исключительно приглашенные герцогом, при этом герцогиня и другие знатные дамы восседали в лоджии – прообразе королевской ложи.

Радикально демократичный зрительный зал Олимпийского театра Палладио в Виченце. На сцену выходят семь «улиц»
Прошло 100 лет, и великие венецианские архитекторы Андреа Палладио и Винченцо Скамоцци спроектировали один из первых со времен античности постоянных театров, но уже совсем для другого заказчика. Олимпийский театр был проектом Олимпийской академии Виченцы – объединения ученых, купцов и художников, куда входил и сам Палладио, занимавшихся изучением и продвижением классической культуры. Отсутствие заказчика из числа сильных мира сего позволило сделать зрительный зал театра демократичным – без лож и привилегированных мест, просто полукруглым амфитеатром, как в античности. Еще больше роднит его с классическим театром постоянная декорация, изображающая город, – аллюзия на античную «скену», служившую в древнегреческих театрах задником и закулисным пространством. У Палладио эта декорация получилась истинно ренессансной – с пилястрами и многочисленными статуями в нишах. Статуи, однако, изображают не императоров, как положено в придворных театрах, а классических писателей и местных выдающихся граждан. Кроме того, в декорации имеется семь проемов, имитирующих уходящие вдаль городские улицы, – на самом деле это неглубокие проходы, расписанные в технике тромплей, создающей иллюзию перспективы. Проемы расположены по всему заднику, и «улицы» выходят на сцену под разным углом, тем самым добавляя демократичности зрительному залу, поскольку происходящее на сцене одинаково хорошо видно с любого места.
Театр в Виченце был не единственным, где на сцену выводился город, и уникальным его делала именно демократичная планировка. Большинство театров принадлежало герцогам и князьям, поэтому места в зрительном зале подчинялись определенной иерархии: герцогская ложа помещалась в глубине зала над остальными рядами, откуда открывался наилучший обзор. Герцог словно взирал сверху на подвластный ему город, и театр превращался в микрокосм государства. У остальных зрителей, в отличие от привилегированного владыки, обзор получался несколько искаженным, им почти буквально «указывали их место» – характерный для Ренессанса прием. Такая планировка стала стандартом для всех европейских театров на ближайшие 200 лет. Типичный тому пример – опера, построенная Байройтскими маркграфами в 1748 году. Здание напоминает барочную шкатулку для драгоценностей с ложей маркграфа (облепленной ангелочками и увенчанной огромной позолоченной короной) в качестве главной жемчужины.
Вагнер не первым пытался пробудить драму от феодального забытья. В 1784 году, за пять лет до французской революции, архитектор-утопист Клод-Никола Леду построил в Безансоне новаторский театр. В отличие от большинства предшественников, этот образец чистого неоклассицизма не примыкал к дворцу. Однако он не стал первым отдельно стоящим театральным зданием. Тут пальма первенства принадлежит Берлинской опере, построенной в 1745 году при Фридрихе Великом на специально расчищенной площади близ Унтер-ден-Линден. Вольтер назвал французские театры жалким средневековьем по сравнению с ней.
Вдохновленный трудами таких реформаторов театра, как Вольтер и Дидро, Леду вернулся к полукруглым амфитеатрам античности. Он писал о том, что хочет своей постройкой «основать новое религиозное течение», отказавшись от традиции неуемного украшательства, чтобы сосредоточить внимание зрителя на моральных уроках спектакля. Кроме того, он намеревался упразднить частные ложи, эти «просторные гнезда, где восседают на своих позолоченных шестках сильные мира сего»{124}, чтобы обеспечить полный обзор общественного микрокосма и заодно прекратить шуры-муры за бархатными портьерами. Чтобы окончательно привести этот микрокосм в соответствие с действительностью, Леду предлагал сделать места и для самых бедных зрителей, которые до того стояли перед сценой, приходя и уходя посреди спектакля когда заблагорассудится и издавая при этом много шума – а заодно распространяя вонь, как брезгливо отмечал архитектор.
Осуществление этих планов радикально перевернуло бы сложившиеся театральные порядки: все зрители сидели бы на поднимающихся амфитеатром рядах; дорогие места ближе к сцене, дешевые – на галерке. Парижская аристократия встретила такую перспективу в штыки и годами активно противилась нововведению. Театральные ложи служили не только признаком статуса, но и площадкой для выхода в свет и местом для амурных похождений, поэтому знать не имела ни малейшего желания ломать эту практику. В зале-амфитеатре аристократы, с одной стороны, перестали бы выделяться из толпы (не покажешь себя), а с другой – оказались бы на виду (не поамурничаешь в уединенной ложе). Уравнительные планы Леду пришлось скорректировать: для знати остались ложи, а для простого народа – партер (хоть теперь и с сидячими местами).
Безоговорочно просвещенческая идея визуальной дисциплины (как писал сам Леду: «Когда зрителю видно все и отовсюду и сам он находится на виду, что способствует наслаждению спектаклем и обеспечивает благопристойность») перекликалась с современной ей концепцией паноптикума – сооружения, дисциплинирующего за счет своей полной прозрачности{125}. Спроектированный британским философом Иеремией Бентамом паноптикум представляет собой цилиндрическое здание с помещениями-камерами по периметру, которые без труда просматриваются из центральной башни. Обитатели камер в башню заглянуть не могут, поэтому не знают, наблюдают за ними или нет, однако сама вероятность постоянного надзора неуклонно влияет на поведение. В конце концов дисциплина становится внутренней: каждый заключенный ежесекундно чувствует направленный на него взгляд недреманного ока. Бентам задумывал паноптикум как более гуманную модель тюрьмы, позволяющую избавиться от цепей и карцеров, попутно предполагая внедрить этот принцип и на фабриках. Новаторство Леду состояло в том, чтобы применить визуальную дисциплину не в исправительных учреждениях или на производстве, а в области зрелищ и развлечений: иными словами, распространить ее на все общество, а не только на низшие слои.
Контраст с «визуальным пространством» прежних театров был разительным. В открытых амфитеатрах древности взгляд зрителя устремлялся на актеров, на скену за ними, изображающую, в зависимости от задника, город или дом, а оттуда на пейзаж за скеной. Поскольку амфитеатры высекались в ближайшем доступном склоне – обычно на акрополе, возвышавшемся в центре большинства древнегреческих полисов, – за скеной расстилался город, а за ним – окрестности, будь то долина, море или лес. Не будем банальничать, утверждая, что древние обладали более цельным видением мира или что у каждой эпохи свой подход к театру (разумеется, друг на друга древнегреческие зрители тоже глазели немало), однако контраст со средневековыми театрами весьма поучителен. Средневековый зритель, вместо того чтобы взирать с высоты на окрестности и пейзажи, смотрел снизу вверх на балаганные подмостки, воздвигнутые на рыночной площади или перед собором (и служившие в зависимости от представления мирскими или религиозными декорациями). Затем в придворных театрах эпохи Возрождения замкнутость, принадлежность единоличному владельцу и расположение мест в зале создали строго контролируемое зрительное пространство, в котором зрелище предназначалось в первую очередь для глаз правителя.
Так продолжалось вплоть до XIX века, однако вместе с концепцией «монокулярного» театра сложилась и привычка к взаимному эксгибиционизму, когда аристократы демонстрировали с помощью лож свой статус, красуясь перед другими и устраивая почти прилюдные амурные похождения. Леду за рамки этого уклада еще не вышел, однако сумел переломить его, подстраивая под идеи Просвещения: вместо взаимных смотрин под бдительным и повелительным оком правителя – полный обзор, или паноптикум, пользуясь термином Бентама. Обезличенный и постоянный (перерастающий во внутреннюю дисциплину) общественный контроль для грядущей постабсолютистской эпохи.
Проектируя театр, Леду нарисовал исполненную таинственного смысла гравюру-эмблему, демонстрирующую его представления о зрительном восприятии, просвещении, обществе и театре. На гравюре изображен огромный глаз, на радужке которого отражается зрительный зал в Безансоне. Возможно, это глаз актера, смотрящего на публику и, в свою очередь, выступающего ее отражением на сцене, а значит, спектакль служит зеркалом общества. Откуда-то сверху на зрительный зал льется солнечный свет, в буквальном смысле просвещая зрителей – и заодно дисциплинируя, поскольку теперь никому не удастся скрыть свои грешки в полутемной ложе. Откуда исходит этот просвещающий луч – от Господа или из головы актера? Олицетворяет ли он более общую идею, что визуальное восприятие или наблюдение просвещает само по себе? Или это архитектор с удовлетворением взирает на дело своих рук, неся людям знания и порядок (в виде ранжированного в соответствии с социальной стратификацией зрительного зала)?
Стремление Леду уравнять публику осуществилось 90 лет спустя благодаря Рихарду Вагнеру, хотя композитор переосмыслил концепцию по-своему. Как мы помним, после неудавшейся революции 1849 года он бежал от немецких властей, и хотя в 1862 году ему наконец разрешили вернуться, счастливым это возвращение назвать нельзя. Он был измучен расшатанным здоровьем, разваливающимся браком, скандалом вокруг супружеской измены и финансовой несостоятельностью, а еще неизбежным гневом кредиторов, в число которых к тому моменту вошли почти все его знакомые. Он отчаянно нуждался в заказах, и жизнь его превратилась в скитания по захолустным городкам в попытках сбежать от кредиторов. В 1864 году он оказался в Штутгарте и был уже совсем на грани, но тут случилось чудо. В марте его самый большой поклонник получил титул короля Людвига II Баварского, и практически сразу после восшествия на престол 18-летний монарх пригласил композитора на аудиенцию. Однако встреча состоялась не сразу. Композитор по-прежнему скрывался от кредиторов, так что насилу отыскавший его агент Людвига с трудом убедил Вагнера, что перед ним не судебный пристав. Предложение Людвига стало для Вагнера подарком судьбы: перебраться в Мюнхен, отдать все долги и, пользуясь неограниченной финансовой поддержкой, дописать «Кольцо нибелунга».
Поначалу дела пошли в гору. Людвиг боготворил композитора с тех пор, как в 13-летнем возрасте впервые познакомился с его творчеством, и Вагнеру это несказанно льстило. Справедливости ради отметим, что его искренне тронула преданность и любовь к искусству юного короля. Учитывая, что последний раз мы видели Вагнера на дрезденских баррикадах, переход под покровительство августейшей особы может показаться странным, однако изгнание достаточно остудило революционный пыл композитора, который и так никогда не был республиканцем. Тем временем его концепция народного единства стала еще более шовинистической, а сам он частично ударился в мистицизм, проникнувшись мрачной философией Артура Шопенгауэра, пропагандировавшего буддийский уход в мир иллюзий. В короле Вагнер находил единомышленника, разделявшего его отвращение к обыденности и глубокую убежденность в ключевом значении искусства для жизни и драмы для общества. Эти взгляды воплотятся в проекте театра, который должен был стать памятником Вагнеру и Людвигу, но похоронил под собой обоих.
Вскоре после прибытия в Мюнхен Вагнер порекомендовал королю своего старого товарища Готфрида Земпера в качестве архитектора для театра, где предполагалось ставить тетралогию «Кольцо нибелунга». Однако, поскольку архитектор с композитором всегда были склонны к разногласиям, к единому мнению о том, как должен выглядеть этот театр, они тоже не пришли. Земпер, как и король, считал более уместным величественное постоянное здание, а Вагнер по-прежнему вынашивал реформаторские идеи и периодически выступал с радикальными предложениями: давать оперы бесплатно на временной деревянной сцене, которую после фестиваля можно будет разобрать или даже сжечь вместе с декорациями, реквизитом и партитурами. Отчаявшийся Земпер, которого три года держали в подвешенном состоянии нерешительный король, придворные интриги и переменчивый композитор, в конце концов написал Вагнеру: «Ваши произведения… слишком велики и роскошны для временных сцен и деревянных подмостков»{126}.
В результате Вагнера удалось убедить в необходимости постоянной сцены, однако она не должна была походить на известные оперные театры: во-первых, ряды зрительного зала должны были подниматься одним сплошным амфитеатром, стирая социальные границы, как в древности, и лишая выезд в театр функции светского раута. Таким образом, зритель мог сосредоточиться на действии. Во-вторых, оркестр предполагалось опустить в специальное углубление между сценой и зрительным залом. Идея не была новаторской – Леду предлагал то же самое для театра в Безансоне. Однако у Вагнера имелись особые причины помещать оркестр в яму: таким образом создавалось безупречное Gesamtkunstwerk, при котором музыкальный аккомпанемент к действию на сцене возникал словно из ниоткуда. В-третьих, сцену должен был обрамлять двойной просцениум, создающий то, что Вагнер назвал Mystischer Abgrund, – «мистическую пропасть», отделяющую публику от действия на сцене, которая превращалась в священный иной мир и в то же время (очередной вагнеровский парадокс) приковывала внимание зрителя к обрамленной просцениумом парящей в воздухе живой картине.
Однако, несмотря на восхищение мюнхенцев операми, которые ставил в их городе Вагнер, проект фестивального театра показался им чрезмерно экстравагантным. На него ополчились все – и придворные, и пресса, и мюнхенские музыкальные круги, завидующие успеху пришлого композитора. Щедрое жалованье из казны, высокомерие и скандальный роман с женой собственного дирижера Козимой фон Бюлов тоже не добавляли Вагнеру популярности, и к 1866 году король был вынужден просить его покинуть Мюнхен – Людвиг уверял, что временно, однако больше Вагнер в столицу Баварии не возвращался.
Горячее желание Вагнера построить театр в Мюнхене к тому времени порядком остыло: теперь ему хотелось найти место, где будут преклоняться перед его освобожденным от политического вмешательства и журналистских нападок творчеством. Король, не разделявший его оптимизма, забрасывал композитора взволнованными телеграммами. «Если мой драгоценный того пожелает, – говорилось в одном из посланий, – я с радостью оставлю трон и всю эту позолоченную мишуру и приеду к нему, чтобы не расставаться с ним никогда… воссоединиться с ним, возвысившись над мирской суетой, – это единственное, что спасет меня от отчаяния и гибели»{127}. Вагнер благоразумно спустил предложение на тормозах. В том году Бавария объединилась с Австрией в разорительной войне против Пруссии, и даже композитор видел, что у короля масса других забот, – впрочем, это не удержало Вагнера от эмоционального шантажа, с помощью которого он заставил Людвига обнародовать нелепое письмо, где отрицался роман композитора с Козимой. А Людвигу война не помешала скинуть управление страной на министров и умыть руки.
В 1870 году Пруссия снова вступила в войну – на этот раз с Францией – и снова победила. Окрыленный победой прусский канцлер Отто фон Бисмарк с воодушевлением продолжил объединение немецких земель, и после присоединения Баварии к рейху Людвиг стал прусской марионеткой. Однако для него было невыносимо подчиниться своему ненавистному дяде кайзеру Вильгельму, и он бежал от государственных обязанностей в мир грез. Он часто ставил в своих личных покоях спектакли и оперы и при этом сетовал: «Мне не удается погрузиться в мир спектакля, когда на меня все время глазеют, следят в лорнеты за каждым моим вздохом. Я хочу наслаждаться зрелищем, а не становиться зрелищем для публики»{128}. Для отошедшего от дел монарха роль театра как красочного феодального микрокосма отжила свое. Драма стала для него способом сбежать из суровой политической действительности в прекрасную сказку, наполняющую собой всю его жизнь. В этом отношении Людвиг был не феодальным ретроградом, а прогрессивным предвестником XX столетия.
Вагнеровские произведения давно подтвердили исповедуемые Людвигом идеалы единства искусства и жизни и теперь вдохновили заполнить возникшую после отъезда композитора пустоту китчевыми архитектурными проектами, создающими параллельную вселенную по вагнеровским мотивам. Людвиг заказал театральному художнику Кристиану Янку, расписывавшему задники для вагнеровских опер, эскиз своего сказочного замка Нойшванштайн («Новый лебединый камень»). Это примостившееся на альпийской вершине здание, тянущееся к небу всеми своими башнями, разрисованное сценами из вдохновлявших Вагнера мифов, должно было изображать обитель рыцарей Грааля из «Лоэнгрина». Кроме него Людвиг построил еще два замка – Линдерхоф и Херренкимзее, но ни в одном из них надолго не задерживался. В отличие от романтизированно-средневекового Нойшванштайна, эти дворцы подражали Версалю в память о Людовике XIV. (Людвиг называл себя королем-луной, ночным антагонистом своего абсолютистского кумира.) На территории Линдерхофа имелись беседки, декорированные по мотивам вагнеровских опер. В гроте Венеры с помощью новейших на тот момент технологий воссоздавалась сцена из первого действия «Тангейзера»: цементные сталактиты озаряла электрическая подсветка, автоматически менявшая цвета (красный, синий, зеленый), а в искусственное озеро извергался из стены искусственный водопад. Иногда по этому озеру на небольшом челне в форме раковины катался сам Людвиг, одетый лебединым рыцарем Лоэнгрином.
Превращение действительности в сказку дорого обходилось Людвигу. К 1885 году его личный долг составлял 14 млн марок, а правительственных чиновников, советовавших ему умерить расходы, он попросту увольнял. В 1886 году в результате заговора кабинета министров консилиум из четырех врачей, ни один из которых не осматривал короля лично, объявил Людвига душевнобольным. Сложно сказать, действительно ли он повредился умом: в начале царствования он был, самое большее, чудаковатым, и некомпетентным правителем его точно назвать нельзя. Однако, все глубже уходя в себя от отчаяния и одиночества, к 1880-му он уже чудил по-крупному: вел ночной образ жизни, отказывался вести государственные дела, разорвал помолвку с герцогиней и был замечен в скандальных связях с молодыми егерями и актерами, а еще вел разговоры с невидимыми собеседниками (например, с Марией Антуанеттой). Через день после признания его недееспособным Людвиг утонул при загадочных обстоятельствах в озере Штарнберг вместе с одним из докторов, подписавших заключение о невменяемости.
За 16 лет до гибели Людвига, когда Пруссия объявила мобилизацию на войну с Францией, Вагнер вел собственную кампанию – бесконечную борьбу за свой фестивальный театр. В тот год они с Козимой наметили для постановки «Кольца нибелунга» маркграфский оперный театр в Байройте (имевший самую просторную на тот момент в Германии сцену). Однако, посетив город лично, Вагнер нашел здание слишком тесным и плохо приспособленным для его постановок. Тем не менее Байройт показался ему идеальным местом для специализированного театра: достаточно далеко от мюнхенских недругов, но все же в Баварии, вотчине его друга и покровителя. Кроме того, расположение в самом центре Германии как нельзя лучше отвечало намерениям Вагнера создать государственный театр для новой страны, пусть и ценой предательства мечты Людвига о возглавленном баварцами национальном восстании. Окончательный отказ Вагнера от Мюнхена стал для короля сильным ударом.
Определившись с местом для будущего театра, Вагнер начал искать средства на постройку. По всей Германии были учреждены Вагнеровские общества, и преданные поклонники принялись собирать пожертвования, однако, несмотря на пришедшую к композитору известность, получить спонсорскую поддержку оказалось нелегко. Вагнер едва наскреб денег, чтобы нанять двух архитекторов – Карла Брандта и Отто Брюквальда, которые спроектировали здание, откровенно напоминающее более ранний мюнхенский проект Земпера. Чертежи Земпера вместе с внушительным пожертвованием Вагнеру передал Людвиг, и в конце концов композитор признался архитектору, что «театр выстроен по твоему проекту, хотя несколько неуклюже и безыскусно»{129}. Краеугольный камень был заложен в 1872 году, но завершилось строительство – после многочисленных неурядиц – только в 1876-м, к первой фестивальной постановке всей тетралогии «Кольца нибелунга». (Цикл был закончен в 1874 году, у Вагнера ушло на него 26 лет.)
Гости первого Вагнеровского фестиваля, среди которых были кайзер Вильгельм, император Мексики, Григ, Брукнер, Сен-Санс, Чайковский, Лист и Людвиг II (инкогнито), прибыли на городской вокзал и отправились по пешеходной аллее к возвышающемуся на холме театру. Там их ждало здание, не похожее ни на одну известную оперу. Во-первых, оно помещалось в каком-то захолустье – многие гости жаловались на отсутствие в городе привычного комфорта. В нем не было блеска ни парижской, ни даже маркграфской оперы, находившейся у подножия холма. И даже сурового величия построенной Земпером дрезденской оперы оно было лишено, хоть и заимствовало земперовскую входную группу в виде триумфальной арки. Здание было построено из обычного кирпича и деревянных балок, а внутреннее убранство попросту ужасало. Зрительный зал полностью соответствовал реформаторским замыслам Вагнера: простой, голый (никаких бархатных портьер и купидонов), только ряд колонн, увлекающих взгляд зрителя к сцене, обрамленной двойным просцениумом. Под сценой находилась оркестровая яма, а сами зрители размещались на поднимающихся рядами одинаковых креслах (общим числом 1650), как в древнегреческом амфитеатре. Кресла были без обивки – можно представить, какой пыткой оказалось высидеть на них пятичасовую оперу.
Зрители вели себя не менее непривычно. Марк Твен, посетивший фестивальный театр в 1891 году, отмечал, что в Байройте «ты сидишь словно бок о бок с мертвецами во мраке могилы».
«Вагнеровская публика одевается кто во что горазд, сидит в темноте и благоговеет в молчании. В нью-йоркской Метрополитен же она сидит в ослепительном сиянии и надевает самую драгоценную сбрую. Зрители напевают мелодии, скрипят веерами, непрерывно прыскают и шушукаются. В некоторых ложах разговоры и смех звучат так громко, что отвлекают от происходящего на сцене»{130}.
В Байройте подобное поведение было строжайше запрещено, там царила благоговейная тишина, однако не всем это пришлось по нраву. После первого фестиваля и сам Вагнер впал в глубочайшее уныние. Несмотря на восторженный прием, в финансовом отношении предприятие оказалось катастрофой, принеся 150 000 талеров убытка. Пять месяцев спустя он все еще горевал, и Козима, уже ставшая его женой, отмечала в дневнике: «Р. жалуется, что достиг той стадии, когда больше и слышать не хочет о “Кольце нибелунга”, а театру желает сгореть»{131}. При жизни Вагнера в Байройте состоялось еще только одно представление.
Вагнер был не единственным, кого разочаровала премьера: его близкий друг Фридрих Ницше тоже пришел в отчаяние. Поначалу Ницше разделял мечты Вагнера об объединяющей общественной функции искусства и писал страстные речи в защиту произведений композитора. Однако, год от года слабеющий здоровьем, он уехал из Байройта с нервным расстройством еще до окончания фестиваля. «Моя ошибка, – вспоминал он, – состояла в том, что я прибыл в Байройт полный лучезарных надежд, и, разумеется, они были обречены. Это засилье уродства, безобразия и банальности полностью меня оттолкнуло»{132}. После пережитого во время франко-прусской войны вагнеровский национализм и антисемитизм казались ему все более отвратительным издевательским олицетворением тривиальности и шовинизма новой Германии. Приземленная буржуазная публика никак не годилась для воплощения мечты Ницше об обществе, сплоченном трансцендентным эстетическим опытом. После Байройта Ницше удалился в добровольное изгнание, скитаясь по безлюдным водным и лыжным курортам вне сезона, перенеся свои симпатии на Бизе и все более жестко клеймя бывшего друга. В книге, вышедшей незадолго до помутнения рассудка, Ницше спрашивает: «Человек ли Вагнер в принципе? Не болезнь ли он? Он заражает все, чего ни коснется. Он уже и музыку отравил»{133}.
Реакция Ницше предвосхитила волну похожих мнений: когда нацизм набрал силу, а Гитлер покровительствовал фестивалю в Байройте, музыка Вагнера многим стала казаться ядовитой, одурманивающей. В числе самых ярых ее противников выступил немецкий философ Теодор Адорно. Еврей и марксист Адорно Вторую мировую войну провел в калифорнийском изгнании, где его лос-анджелесскими соседями были Бертольд Брехт, Арнольд Шенберг и Томас Манн. В этом причудливом окружении, отвергаемый и капиталистической «принимающей стороной», и фашистами, от которых он бежал, Адорно писал пространные критические статьи о высоком искусстве своей родины (в частности, о тоталитарных порывах, которые он усмотрел в творчестве Вагнера) и о массовом искусстве американской «культурной индустрии».
Адорно называл вагнеровское Gesamtkunstwerk предвестником Голливуда, который, по его мнению, имел немало общего с постановками, воспитавшими приверженность нацизму. Новаторская идея погрузить зал в темноту, чтобы сосредоточить все внимание на завораживающем действии спектакля; единоличная власть режиссера; помещение оркестра в яму, чтобы движения музыкантов не отвлекали публику, и наконец, попытка объединить все искусства и нанести массированный удар по чувствам зрителя, не давая ему трезво взглянуть на происходящее, – все эти приемы, только усиленные, Адорно видел в кино. «Сокрытие процесса производства путем предъявления только конечного продукта – вот формальный закон, лежащий в основе вагнеровских произведений», – утверждал Адорно. Иными словами, «продукт кажется самопроизводящимся»{134}. Для Адорно такой взгляд на театр и кино представлял проблему, поскольку совпадал с вполне определенным мировоззрением. В капиталистическом обществе труд, затрачиваемый на производство чего бы то ни было – от опер до автомобилей и фильмов, – тоже скрыт, поэтому потребитель с легкостью забывает, что продукт не возник сам по себе, а произведен людьми, имеющими собственные права, нужды (и планы). Как и переходы между музыкой и поэзией в вагнеровских операх, разломы и трещины капиталистического общества маскируются всепоглощающей иллюзией цельности. Однако Адорно находит у Вагнера и положительный элемент: разрозненные фрагменты нельзя соединить, они не подходят друг к другу. А значит, осознав несостоятельность Gesamtkunstwerk, мы, возможно, осознаем и несостоятельность капиталистического общества: «Распад на фрагменты подчеркивает фрагментарность целого»{135}. Или, как пел Леонард Коэн, «везде найдется трещина, через нее и проникает свет».
Адорно, происходивший из высших слоев немецкой буржуазии и легко сопротивлявшийся влиянию массовой культуры, питал удивительную слабость к комедиям с братьями Маркс: в своей книге о пагубном воздействии капиталистического сознания «Диалектика просвещения» Адорно упоминает только одного из них – Граучо. Несмотря на классическое образование и снобистский скептицизм по отношению к новому виду зрелищ, Адорно нравится оргиастическое уничтожение декораций к «Трубадуру» Верди в кульминации фильма 1935 года «Вечер в опере» с братьями Маркс. Ниспровержение высокой культуры начинается, когда Граучо изображает тирана – директора оперы, а Харпо подменяет партитуру нотами песни «Возьми меня с собой на бейсбол». Тем самым первый обозначает присущие опере диктаторские замашки, а второй – современную взаимозаменяемость высокой и массовой культур. Когда махинации вскрываются, начинается переполох, и Граучо, спасаясь от погони, выпрыгивает из директорской ложи, а Харпо и Чико выходят на сцену в костюмах цыган, чтобы сорвать спектакль. Тенор исполняет арию, полиция окружает сцену, и Харпо, взбираясь по канату за кулисами, меняет задники: на месте пасторального пейзажа возникает трамвайная остановка, затем тележка уличного торговца, а потом корабль, наставивший орудия на зрительный зал. После чего Харпо карабкается по декорациям, разрывая их в клочья, и наконец гасит свет, останавливая представление.
С точки зрения Адорно, это постепенное «расчленение» спектакля символизирует критику фальшивой цельности оперы. И хотя сами фильмы продолжают традицию иллюзионизма – и даже поднимают ее на новый уровень, – в кино есть такие элементы (как Харпо Маркс), которые способны эту иллюзию развеять. Многие из этих элементов берут начало в традиции массовых зрелищ, от которой отпочковалось и кино и которую оно пытается разобрать на составляющие под маской фальшивой цельности, однако некоторые из них слишком анархичны для привычной повествовательной структуры. По настоянию киностудии «Вечер в опере» строится на слащавом романтическом сюжете, где истинная любовь побеждает все и «плохие» несут заслуженное наказание – в отличие от предыдущих работ, здесь братьям Маркс не дают возможности дать справедливый отпор, – однако вся эта притянутая за уши любовная история трещит по швам, все наносное выветривается из памяти и остается только образ Харпо, взбирающегося по декорациям.
У кино было бездомное, беспризорное детство. Далекое от мраморных чертогов оперы XIX века, оно, как и другие массовые развлечения, вело кочевой образ жизни. Фильмы показывали в темных палатках как дополнение к цирковому представлению, а также в специально переоборудованных магазинных витринах. Затем, когда выявился экономический потенциал нового вида зрелищ, стали строиться постоянные кинотеатры по образцу водевильных театров – именно в таких зданиях начали карьеру братья Маркс. Водевильный театр перенял всю эклектику таких образцов буржуазной зрелищной архитектуры, как парижская опера Гарнье, добавив к ней новые технологии вроде электрического освещения и кафеля, позволяющие делать ослепительные фасады с нависающими над тротуаром козырьками. Традиция эта до сих пор жива в Лондоне и Нью-Йорке, где зрелищная архитектура служит доминантой целых районов: в частности, Тоттенхем-Корт-роуд до совсем недавнего времени находилась под пятой гротескного колосса Фредди Меркьюри на фасаде театра «Доминион».
Вслед за ними в эклектичные арлекинские костюмы начали рядиться и кинотеатры. Пиком этой тенденции стали американские «кинодворцы» 1920-х, а одним из самых аляповатых образцов – Китайский театр Граумана на Голливудском бульваре. Отпечатки ладоней знаменитостей на площадке перед входом, броский восточный фасад – настоящий опиумный притон для народа. В Германии кинозалы тоже одевались в театральные павлиньи наряды, но привлекали ими не всех. Зигфрид Кракауэр, известный журналист с архитектурным образованием (и друг детства Адорно), часто освещал тему массовых развлечений, которые, по его мнению, отвлекали новые городские классы от взрывной политической ситуации в стране, притупляя тревогу и внушая ложное чувство благополучия. В 1926 году в своей статье «Культ отвлечения» Кракауэр раскритиковал кино за то, что оно вслед за театрами изображает фальшивое единство – то самое вагнеровское Gesamtkunstwerk. Он требовал, чтобы кино не замазывало социальные трещины, а, наоборот, выявляло их. «На улицах Берлина, – писал он в своем мрачном пророчестве, – нередко возникает чувство, что когда-нибудь все это вдруг взлетит на воздух. Зрелища, на которые толпами стекается народ, должны вызывать то же ощущение»{136}.
Кракауэр не единственный выступал против помпезных театрализованных кинотеатров: найти более подходящее выражение для нового вида искусства пытались и архитекторы, в частности Эрих Мендельсон. Мендельсон начинал как экспрессионист, питающий слабость к плавным природным изгибам в противопоставление суровой угловатости и прямолинейности высокого модернизма. В полной мере отражает этот его ранний стиль башня Эйнштейна в Потсдаме – построенная в 1917 году причудливая обсерватория, обтекаемое устремленное ввысь сооружение, пульсирующее жизненной силой Вселенной. Мендельсон не брезговал коммерческой архитектурой – проектировал и офисные здания, и магазины, – и клиенты ценили его умение создать впечатляющий шедевр при относительно малом бюджете. Бесконечные стеклянные фасады с вечерней подсветкой служили непревзойденной рекламой, маня прохожих выставленными товарами и превращая улицу в продолжение торгового зала.
Аналогичным образом и его кинотеатры (например, берлинский «Универсум» 1926 года), в отличие от своих аляповатых предшественников, имели плавные изгибы, завлекающий фасад (вслед за оперными театрами Земпера контуры фасада повторяли контуры зрительного зала) и при этом спартанский интерьер, не пытающийся конкурировать с происходящим на сцене. В конце концов, кинозал, как и зрительный зал вагнеровского театра в Байройте, во время показа погружался в темноту, так зачем тратить деньги на позолоченных кариатид? «Зачем Бастеру Китону дворцы в стиле рококо, а “Потемкину” – гипсовые свадебные торты?» – спрашивал Мендельсон, неся в массы упрощенные обтекаемые формы, которые впоследствии станут известны как ар-деко{137}. Вскоре клоны «Универсума» заполонили мир: во многих провинциальных городах кинотеатр в стиле ар-деко был самым ярким (если не единственным) образцом модернистской архитектуры. По проекту самого Мендельсона построено одно из первых модернистских зданий в Британии – Павильон де ла Варр в городе Бексхилл-он-Си, еще одна площадка для массового досуга.
Одним из крупнейших кинотеатров в стиле ар-деко стал Радио-сити-мюзик-холл в нью-йоркском Рокфеллеровском центре. Это здание, словно веха, отмечает момент, когда, как в последней сцене «Вечера в опере», кино подмяло под себя и оперу, и водевиль. Джон Рокфеллер-младший загорелся идеей своего исполинского «города в городе», услышав о планах постройки в центре Нью-Йорка здания для Метрополитен-оперы. Руководство Метрополитен лелеяло мечту о традиционном отдельно стоящем здании у стечения широких авеню, однако средствами на такой амбициозный проект не располагало. И тогда за дело взялся Рокфеллер, увидевший скрытый потенциал очага высокой культуры в коммерческом комплексе. Однако финансовый кризис 1929 года вынудил Метрополитен выйти из игры, и участок перешел к более богатому развлекательному консорциуму, возглавляемому водевильщиком Самюэлем «Рокси» Ротафелем. Гигантский зал мюзик-холла, вмещающий до 6000 зрителей, был оформлен Дональдом Дески в элегантном стиле ар-деко, а сцена превратилась в солнечную полусферу, испускающую яркое сияние.
Открывшийся в 1932 году Радио-сити задумывался как площадка для высококлассных эстрадных представлений, однако замысел провалился: актеры, мимика и голоса терялись в огромном пространстве зала и сцены, поэтому в программе стали преобладать фильмы. В отличие от просвещающего и дисциплинирующего луча на гравюре Леду, сияние вокруг сцены Радио-сити олицетворяет отраженный от серебряного экрана луч прожектора, слепящий глаза публики.
Мы всецело во власти нового визуального средства, но что несет оно зрителям? Считать ли кино вслед за Кракауэром «орудием массового отвлечения» или средством открыть народу глаза? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к творчеству еще одного уникального немецкого экспрессиониста – Ганса Пельцига. Как и Мендельсону, первую славу Пельцигу принесли проекты театров и кино. В 1919 году он перестраивал бывший цирк в зрительный зал на 3500 мест для знаменитого театрального импресарио, а впоследствии голливудского режиссера Макса Рейнхардта, своими масштабными постановками продолжавшего вагнеровскую традицию объединения искусств и использовавшего все подручные технические средства для создания всеобъемлющего Gesamtkunstwerk. Построенный Рейнхардтом и Пельцигом в Берлине Большой драматический театр (Grosses Schauspielhaus) напоминал переливающийся разноцветной подсветкой искусственный грот со стилизованными сталактитами – точь-в-точь грот Венеры Людвига Баварского, но на этот раз служащий для развлечения и эскапизма массовой публики. Последующие кинотеатры Пельцига, напротив, имели вид куда более сдержанный, как у проектов Мендельсона: зал его «Вавилона» лишен всех украшений в полном соответствии с вагнеровским стремлением сосредоточить внимание зрителя на сцене. Однако то, что зритель поглощен игрой теней в глубине этой платоновской пещеры, не означает, что самим теням нечего сказать о предметах, которые их отбрасывают. В свой раннеэкспрессионистский период Пельциг рисовал декорации к фильму ужасов 1920 года «Голем», режиссер и исполнитель главной роли которого Пауль Вегенер когда-то входил в труппу Рейнхардта. В этом пересказе древнеиудейской легенды раввин в средневековой Праге создает себе из глины исполинского раба, который, как водится, отбивается от рук. В одной из ключевых сцен фильма появляется любопытная архитектурно-кинематографическая аллегория, демонстрирующая, что не все фильмы (и даже не все популярные фильмы) бездумно утверждают статус-кво. В упомянутой сцене раввина вызывают во дворец развлечь императора, и он показывает на волшебном экране картину – фильм в фильме – об истории евреев. Когда филистеры-придворные начинают улюлюкать при виде измученного скитаниями Вечного жида, дворец рассыпается на части, и императора спасает лишь своевременное появление голема. В благодарность император отказывается от своего решения изгнать евреев из города. При всей спорной экзотичности этой сцены публике, пожалуй, стоит призадуматься.
Несмотря на то что архитектура на сцене и экране присутствует в избытке, функция ее остается исключительно декоративной, однако в мире существует и параллельное направление – создание трехмерных функциональных декораций. Поначалу они были доступны лишь аристократии – как игрушечная деревня Марии Антуанетты в Версале или гроты Людвига II, однако на заре XX столетия обычная публика получила свой собственный мир грез – тематические парки развлечений. Прецеденты имелись и прежде – сады для гуляний вроде лондонского Воксхолла и всемирные выставки второй половины XIX века, однако в эпоху массовых развлечений и электрификации они разрослись, стали более многолюдными и разнонаправленными. Одни из первых и самых знаменитых тематических парков появились на Кони-Айленде – «зародыше Манхэттена», как назвал его Рем Колхас, где «отрабатывались будущие фирменные манхэттенские приемы и технологии»{138}.
Популярность Кони-Айленд начал набирать после строительства в 1883 году Бруклинского моста, по которому на остров потекли толпы горожан. Первым аттракционом стал искусственный трек для стипль-чеза, где предлагалось преодолевать хитроумные препятствия на механической лошади. Он пользовался большим успехом, поскольку давал пролетариям возможность приобщиться к миру конного спорта, не требуя больших вложений и подготовки. Затем ансамбль дополнили еще две площадки. Открывшийся в 1903 году Луна-парк щеголял картонными декорациями в виде городского пейзажа, спроектированными несостоявшимся выпускником архитектурного училища. Увенчанный мириадами шпилей и куполов сказочный город ярко светился по ночам – электрификация позволила осветить заодно и пляж, тем самым обеспечивая почти круглосуточный наплыв публики и подтверждая складывающуюся у острова порочную репутацию. Второй площадкой стал «Дрим ворлд» – детище республиканского сенатора, который затем заказывал проект небоскреба Крайслер-билдинг. В этом парке имелись такие диковины, как населенный живыми карликами миниатюрный город (со своим парламентом); целый квартал с истеричными жителями, ежечасно сгоравший дотла; и искусственный Везувий, регулярно заливавший лавой игрушечный городок у подножия. Бесконечные репетиции искусственных катаклизмов закончились настоящим пожаром, в котором накануне Первой мировой погибли и «Дрим ворлд», и Луна-парк, а в 1938 году нью-йоркский градостроитель Роберт Мозес безжалостно снес многие из оставшихся аттракционов, расчищая место под более элегантный – и более скучный – ландшафтный парк.
Кони-Айленд давал возможность вырваться из города тем, кому не по карману были заграничные путешествия, однако постепенно, как отмечает Рем Колхас, всю эту фантасмагорию искусственных площадей, тематических ресторанов, торговых центров и сияющих шпилей город вобрал в себя. Иногда такие развлекательные площадки – курорт в городе – сразу объединялись под одной крышей, как в случае необыкновенного «Хаус Фатерлянд» в Берлине. Бывшее кафе на Потсдамер-плац было перестроено в 1928 году архитектором Карлом Шталь-Урахом, автором экспрессионистских декораций для фильмов Фрица Ланга о докторе Мабузе. В здании разместились кинотеатр, бальный зал и несколько тематических ресторанов. Среди них был ковбойский салун с «негритянско-ковбойским джазовым ансамблем», а также венская винная таверна, где можно было отведать торт «Захер» (по оригинальному рецепту, эксклюзивно предоставленному владельцам «Фатерлянд») и полюбоваться панорамой со шпилем Святого Стефана на фоне звездного неба, под которым игрушечный трамвай полз по мосту через Дунай. Имелись также баварский пивной погреб с розовеющей в искусственном закате вершиной Цугшпитце, японский чайный домик, венгерская таверна с цыганскими скрипачами и самый что ни на есть вагнеровский зал с «Рейнской террасой» – диорамой, изображающей вид на скалу Лорелеи. Между столиками танцевали 20 рейнских дев, и каждый час помещение темнело перед искусственной грозой. По словам Зигфрида Кракауэра, «“Фатерлянд” охватывал весь мир», пусть даже «очищенный до последнего уголка, словно пылесосом, от пыли обыденности»{139}. Это были «бараки развлечений», «приют для бездомных», дающий мелким конторским клеркам возможность отвлечься от рутинной работы и на миг почувствовать себя богатыми буржуа.
Аналогия с более поздними парками развлечений вроде открывшегося в 1955 году Диснейленда очевидна, хотя Уолт Дисней намеревался создать дистиллированную бесполую замену «грязной буффонаде» кони-айлендского типа{140}. Прикрываясь детьми, Диснейленд делал инфантильными и взрослых посетителей, подслащивая пугающую действительность времен холодной войны для людей, не покидающих пределов страны. Не случайно главная архитектурная достопримечательность Диснейленда и эмблема компании «Дисней» списаны с замка Нойшванштайн – еще одного пристанища эскапистов, теперь открытого для широкой публики.
С появлением компьютерных игр вроде трехмерной Duke Nukem царство фантазий слилось с повседневной действительностью, подвергаясь в процессе приватизации. Однако, в отличие от единоличного владения театром, как во дворце герцога Феррары, эта приватизация не дает потребителю власти над содержанием, которое остается прерогативой индустрии развлечений. Более того, приватизация упраздняет социальный аспект развлечения, то самое предвкушение знакомств и связей, присущее Кони-Айленду. Теперь же изобретение аутичных механизмов вроде Google Glass грозит распространить эту асоциальную зону на общественное пространство улицы, обесценивая и монетизируя наше взаимодействие, а возможно, и ощущение реальности.
Дополнительная литература
Marvin Carlson, Places of Performance: The Semiotics of Theatre Architecture (Ithaca, NY, 1989).
Rem Koolhaas, Delirious New York (New York, 1994).
Siegfried Kracauer, The Mass Ornament: Weimar Essays (Cambridge, MA, 1995).
7. Автомобильный завод в Хайленд-парке, Детройт
(1909–1910)
Архитектура и работа
И я действительно увидел приземистые застекленные корпуса, этакие нескончаемые клетки для мух, где двигались люди, но двигались еле-еле, словно с трудом отбиваясь от чего-то немыслимого. Это и есть Ford? Вокруг тяжелый, настойчивый, глухой гул целой армии разнообразных машин, этих механических аппаратов, которые вращаются, катятся, стонут и, вечно готовые сломаться, никогда не ломаются.
Луи-Фердинанд Селин. Путешествие на край ночи{141}
Куда ни пойду,
Везде твое лицо,
На каждом шагу.
Тебя я несу с собой:
Некуда бежать, крошка,
Негде скрыться.
Марта Ривз и The Vandellas. Некуда бежать (Nowhere to Run)

Суточный выпуск автомобильных рам на заводе Форда, Хайленд-парк, август 1913 года
Детройт, бывший индустриальный центр, подаривший миру конвейер и мечту каждого американца – доступный автомобиль, а также навеявший своими ритмами музыкальные стили мотаун и техно, стоит в развалинах. Здания обезлюдели, парковки пустуют. В центре снесены целые кварталы – словно СССР времен холодной войны все-таки сбросил на Штаты бомбу. На их месте разрастаются городские фермы, будто предсказывая своим видом удручающее будущее Запада. Неужели нам предстоит вернуться к земле и, став крестьянами постиндустриального периода, обрабатывать наделы, нарезанные между торговыми центрами? В пору своего расцвета в 1950-х Детройт был четвертым по величине городом США с населением 2 млн, высочайшим в стране уровнем среднего дохода и крупнейшей долей домовладельцев. Затем капитал перетек из Детройта на более выгодные рынки труда, и теперь в нем живет всего 700 000 человек. Упадок обратил 362 кв. км городской территории в запустение, средний класс бежал или обеднел и вынужден был заложить дома.
Замерли заводы General Motors, Chrysler и Ford, когда-то обеспечивавшие четыре пятых мирового автопрома. Стоят заброшенные корпуса в северном пригороде Детройта Хайленд-парке. Длинное и скучное четырехэтажное здание подслеповато таращится бесконечными рядами пыльных окон. А ведь именно здесь накануне Первой мировой войны началось невозможное на первый взгляд сотрудничество двух американцев – промышленника-антисемита по имени Генри Форд и архитектора Альберта Кана, родившегося в семье раввина. Именно их гигантские заводы выпустили первый автомобиль массового производства – модель Т, а еще, как любил подчеркивать сам Форд, они выполняли другую важную миссию – формировали человека. Форд задался целью изменить общество, меняя характер производства. В этой главе мы проследим загадочный путь идей Форда – от автозавода, где они родились, до зданий, в которых мы все живем, – поскольку люди трудятся не только на производстве или в офисах, но и на кухнях и в гостиных.
Генри Форд – выдающаяся личность XX века, сотворенного в том числе и его усилиями; он не уставал рекламировать себя, обретая множество недругов, но еще больше поклонников. (Тедди Рузвельт, такой же неисправимый любитель привлечь к себе внимание, как-то пожаловался с досадой, что слава Форда затмила президентскую.) Идеи Форда изменили Америку, а затем и остальной мир, но, несмотря на свои революционные начинания, в глубине души он был убежденным консерватором, и это лишь одно из многочисленных противоречий его загадочной натуры.
Рожденный на ферме во время Гражданской войны в Америке, он долго относился к большим городам с подозрением, что не мешало ему строить заводы размером с города. Любовь к природе не помешала ему навсегда изменить облик загородных просторов: автомобили несли с собой урбанизацию. Его машины дарили американцам свободу, а его заводы – порабощали их. Он ценил прошлое – и своими руками рыл ему могилу. Он принадлежал одновременно и миру деревенской жизни, и миру индустриального рабства – безумный титан, неутомимо ищущий «средство от всех болезней» и безошибочно угадывающий, что нужно людям (по словам Эптона Синклера, «он завоевывал своими идеями среднего американца, зная его как облупленного, поскольку сам был средним американцем уже 40 лет»{142}). Он требовал от своих рабочих супружеской верности, а сам крутил роман на стороне с женщиной гораздо младше себя. Он питал сентиментальную любовь к детям – и отчитывал собственного сына, даже когда тот уже находился на пороге смерти. Отъявленный антисемит, он запретил использовать на своих фабриках латунь, называя ее «еврейским металлом»{143} (там, где без нее было не обойтись, ее красили в черный цвет для отвода глаз магната). Написанные за него литературными «неграми» антиеврейские тексты немало послужили становлению фашизма (в 1938 году он получил орден от Гитлера), однако на его фабриках работало больше темнокожих, чем где бы то ни было, и тем самым он способствовал формированию крупной прослойки негритянского среднего класса. И наконец, он обожал традиционные американские постройки до такой степени, что покупал их и перевозил целиком в созданный для этой цели тематический парк, хотя его заводы безжалостно расправлялись с архитектурным прошлым.
В отличие от фантастических фабрик, описанных в четвертой главе, – табачной мечети или парфеноноподобного турбиностроительного завода AEG, украшенных статусными заимствованиями у религиозных зданий, – созданный Альбертом Каном для Форда современный завод в Хайленд-парке был внешне предельно прост. Этот огромный ангар, в котором стекло преобладало над несущими конструкциями, отражал новую тенденцию в промышленной архитектуре, известную как «фабрики с дневным светом», сменившие погруженные во мрак душегубки XVIII–XIX веков. Благодаря недавно изобретенному железобетону (Альберт Кан с братом запатентовали собственную успешную технологию) появилась возможность оставлять в стене большие проемы для застекления, тогда как кирпичная кладка допускала ограниченное число небольших окон. И поскольку теперь можно было впустить в здание больше света, а железобетон позволял перекрыть большую площадь, фабричные цеха существенно расширились, обеспечивая невиданные до тех пор объемы производства.
Железобетонные конструкции, подарившие фабрикантам такую возможность, легко угадываются в фасадах Кана, не замаскированные ни облицовкой, ни краской, ни лепниной. Это не значит, что Кану в принципе была чужда историческая помпезность: его жилые и общественные здания выглядят сборной солянкой из отживших свое стилей, да и главный фасад завода в Хайленд-парке, надо сказать, тоже слегка украшен – Кан, очевидно, считал архитектурную наготу не лучшим зрелищем для публики. При этом нельзя утверждать, что он не пекся об общественном имидже клиента: безликость заводов придавала Форду загадочность, становясь «чистым холстом», на котором тот создавал культ своей личности. Аскетизм Кана был проявлением архитектурной рационализации, точнее, фордизации – избавления от лишних узлов и деталей в соответствии с принципами фордизма.
Фордизм, получивший глобальное распространение, поскольку импонировал в равной степени и фашистам, и коммунистам, и капиталистам, за долгие годы прочно укоренился в нашем сознании и кажется привычным, но тогда, при Форде, он произвел настоящий переворот в умах. Родился он из стремления Генри Форда снизить расходы и поднять зарплату, создав настоящий массовый рынок и товар для его насыщения. Форд полагал, что компенсация ультраэффективного производства ненасытным массовым потреблением (сам он, впрочем, выразился бы куда проще) решит вечную проблему современного капитализма – перепроизводство. Постоянно борясь за повышение объемов и снижение расходов на производство (в том числе и зарплаты рабочих), производители рано или поздно остаются без потребителя (живущим на минимальную зарплату товар становится не по карману).
Придуманное Фордом решение – общедоступный автомобиль – оказалось в новинку и вызвало много споров. Кредиторы Форда хотели, чтобы он выпускал роскошные дорогие модели, считая, что массовый рынок автомобилей невозможен в принципе. Несколько раз ему отказывали в финансовой поддержке, и лишь с третьей попытки он сумел наладить успешное производство. Потребительство вызывало неприятие у современников Форда, гордо тянущих лямку викторианской бережливости. И пока проповедники и старшее поколение внушали молодежи необходимость считать деньги, Форд ронял в газетном интервью: «Никто из преуспевших молодых людей никогда ничего не копил. Они тратили все подчистую, вкладывая в себя»{144}. Эта позиция вызвала бурное негодование – и принесла Форду огромные дивиденды, сделав его богатейшим человеком в мире.
Выполняя собственную задачу – создать общедоступный автомобиль, с 1908 по 1927 год Форд выпустил на рынок только один стандартизированный по максимуму товар – модель Т, предлагаемую, как гласит известная цитата, «в любом цвете, если это черный». Эптон Синклер, автор тенденциозной повести о Форде под названием «Автомобильный король» (в оригинале – Flivver King, по одному из бесчисленных прозвищ модели Т), как и многие, довольно презрительно отзывался о внешнем виде автомобиля:
«Модель Т, на которую пал выбор мистера Форда, была довольно безобразной: с поднятым верхом она походила на маленький черный ящик на колесах. Но имелось сиденье, на котором можно было сидеть, крыша, под которой можно было укрыться от дождя, мотор, который работал на совесть, и колеса, которые вертелись без отказа. Генри держался той точки зрения, что средний американец похож на него самого – мало заботится о красоте и много о пользе»{145}.
В конечном итоге Форд оказался неправ, но об этом позже. Тем не менее он успел продать 15 млн своей модели Т, ставшей одним из первых действительно доступных автомобилей, пока более привлекательные модели конкурентов не выдавили ее с рынка и не вынудили снять с производства. Ее аскетический облик (как и у выпускавших ее заводов) был прямым следствием рационализации производственного процесса. Корпус в основном клепался из плоских листов, поставляемых собственными заводами Форда (ранее владельцы автозаводов брали детали у сторонних поставщиков), простых в изготовлении и сборке, – конечный результат получался угловатым, зато дешевым.
Форд (точнее, его инженеры, чьи идеи он всегда выдавал за свои) без устали искал способы оптимизировать производство, ускорить процесс, урезать расходы и максимально увеличить объемы выпускаемой продукции. Поначалу завод в Хайленд-парке был организован поэтажно: мелкие узлы собирались на верхних этажах, затем через люки, на лифтах и по желобам подавались на второй, где бригады собирали корпус на закрепленных за каждой участках. И наконец каждый корпус опускался на первый этаж, где ставился на раму. Поскольку детали и конечный продукт производились (в основном) одни и те же, Форд получил возможность заменить универсальные токарные, пильные и сверлильные станки на узкоспециализированное оборудование, которое, в свою очередь, заменило мастеров, позволив нанимать более дешевую неквалифицированную рабочую силу. Специальное оборудование и направленный сверху вниз технологический поток многократно ускоряли производство, однако самый главный скачок был еще впереди.
В 1913 году Форду и его инженерам пришла в голову идея движущегося сборочного конвейера. В мемуарах Форд утверждал, что озарение настигло его на чикагской бойне, где подвешенные на крючьях туши перемещались от одного мясника к другому. Однако на самом деле никакого озарения за новаторской идеей не стояло – к ней привела совокупность мелких нововведений, все больше и больше ускоряющих процесс производства. Вертикальный технологический поток превратился в горизонтальный, и теперь собираемая деталь – магнето – перемещалась от рабочего к рабочему по конвейерной ленте. Поскольку рабочие стояли на месте, а двигался лишь узел, паузы в работе исчезли, и время сборки магнето сократилось с 20 минут до пяти. Вскоре нововведение распространили на весь производственный процесс, и к 1914 году на цепном конвейере закачались и автомобильные рамы.
Если раньше на сборку автомобиля уходило 12 часов 38 минут, то конвейерное производство сократило процесс до 1 часа 33 минут, давая возможность производить невиданные прежде 500-долларовые машины и кардинально изменить организацию труда. Чтобы продажа таких дешевых машин приносила прибыль, 15 000 рабочих Хайленд-парка должны были производить 1400 автомобилей в сутки, что в результате составляло половину объема мирового автомобильного производства. Каждому рабочему на конвейере поручались все более и более мелкие операции, пока наконец на пике специализации операция не свелась к вкручиванию одного-единственного винтика, обрекая рабочего на бесконечное повторение одного и того же простейшего действия. В защиту этого явно отупляющего процесса Форд приводил следующий высокомерный довод: «Среднестатистический рабочий, как ни прискорбно, предпочитает дело, где требуется как можно меньше усилий, а в идеале – где не требуется даже думать». Типичный пример двойных стандартов, поскольку в другой беседе Форд признавался: «Монотонная работа – одно и то же действие, повторяемое раз за разом, – сущий кошмар для человека с определенным складом ума. Например, с таким, как у меня»{146}.
Эти «кошмарные» нововведения представляли собой новый подход к работе, складывающийся на рубеже XIX–XX веков. Помимо Форда в число главных его проводников входили Фредерик Уинслоу Тейлор, разработавший целую систему анализа и реорганизации рабочего процесса, которая получила название «тейлоризм», а также супруги Фрэнк и Лилиан Гилбрет, основоположники исследования трудовых движений. Форд утверждал, что не знакомился с трудами Тейлора (что вполне возможно, поскольку читать он не любил), однако, несмотря на различия в подходе, их роднило убеждение, что разбивка рабочего процесса на отдельные операции оптимизирует производство. Разделение труда стало ключевым элементом промышленного переворота еще в XVIII веке, однако научные методы управления подняли его на недосягаемую высоту. Разбивка рабочего процесса на мелкие операции позволяла устранить все «бесполезные» или «непродуктивные» действия, тем самым ускоряя производство и максимизируя прибыль. В отличие от прежних этапов развития промышленного производства, когда разбивался на части и делился между рабочими производственный процесс, научная организация делила на части самого рабочего: человек из единого целого превращался в совокупность движений, которые можно было разъять, а затем собрать заново, словно детали машины. Новая архитектура конвейерной линии делала из цеха лабораторию Франкенштейна, где люди разбирались на части, собирались заново и дергались у конвейера, словно гальванизированные лягушки, стараясь успеть за движущейся лентой. Французский писатель Луи-Фердинанд Селин, посетивший Детройт в 1920-х, описал свои впечатления от завода, который действительно преобразовывал человека, но совсем не так, как предполагал Форд:
«Гигантская постройка дрожала, мы – тоже, сотрясаемые от пяток до ушей мелкими толчками, потому что здесь вибрировало все – стекла, пол, металл. От этого ты сам со всеми потрохами поневоле превращаешься в машину, потому что неистовый грохот вгрызается внутрь тебя, стискивает тебе голову, вывертывает кишки и вновь поднимается вверх, к глазам, мелкими, торопливыми, безостановочными, несчетными толчками. ‹…› В шесть вечера, когда все останавливалось, я уносил этот грохот с собой, и его, а также запаха смазки хватало на целую ночь, словно мне навсегда подменили нос и мозг. Так, постепенно отказываясь от себя, я стал как бы другим человеком. Новым Фердинаном»{147}.
Помимо фрагментации труда и трудящихся изобретение движущегося конвейера подготовило почву для ненавистной «потогонной системы». Вскоре Форд и его управляющие смекнули, что для увеличения прибыли нужно всего лишь пустить конвейер чуть быстрее. Ускорение породило новую жестокую логику: несправлявшихся увольняли, а контролеры, неустанно измеряющие с секундомером минимальное время выполнения операции – будь то завинчивание гайки, сварка панели или полная сборка автомобиля, – постоянно сокращали показатели, требуя от каждого рабочего такой же производительности, как у самого быстрого из товарищей по цеху в самый продуктивный день. Переосмысленная Каном и Фордом фабрика превратилась в безжалостную машину, ради прибыли выжимающую из рабочих все соки.
Заводы Форда стали орудием воплощения в жизнь его рационализаторской мании. Здания удешевлялись всеми возможными средствами – даже историк Райнер Бэнем, пламенный поклонник промышленной архитектуры, говорит о «впечатлении вопиющей скупости» от первых заводов Кана, обеспечивавших тем не менее оптимальные условия для производства Форда. Условия эти предполагали не перегороженные стенами или опорами просторные открытые помещения, позволяющие разместить громоздкие механизмы и массу рабочей силы (а также обеспечить скрупулезный надзор за каждым действием); большие окна, пропускающие много дневного света, и, возможно самое главное, простор для почти бесконечного переоборудования. Как и Троцкий с Мао, Генри Форд верил в перманентную революцию. Его инженеры без устали предлагали новые, улучшенные варианты организации конвейера, а значит, от архитектуры требовалась гибкость.
Здание завода в Хайленд-парке с его просторными открытыми цехами до определенной степени этой гибкостью обладало, однако и оно устарело уже через четыре года после постройки. Появление движущегося конвейера потребовало видоизменения фабричных зданий. На смену многоэтажному сооружению, обеспечивавшему вертикальный производственный поток, при котором растущие в процессе сборки узлы спускались с верхних этажей на нижние, пришла длинная низкая конструкция, вмещающая горизонтальную линию сборки и допускающая бесконечное наращивание в любом направлении. Плотно застроенный пригород Хайленд-парк стал непригодным для дальнейшего расширения производственных мощностей, что наглядно демонстрирует фото 1914 года: к внешней стене завода приделан деревянный пандус, по которому корпус автомобиля опускают на выкатываемые с первого этажа рамы. Неуклонно расширяющееся производство выдвинулось за пределы здания, пуская первые ростки будущей мировой империи – от каучуковой плантации под названием Фордландия в Амазонии до дилеров в Англии. В этой гибкости – понимании архитектуры как процесса, а не конечного результата – и состояло основное новаторство Форда и Кана. Попытки приобщиться к вечности путем подражания древним храмам и мечетям остались в прошлом: фордовская промышленная архитектура стала руслом для постоянно меняющих направление потоков.
Свою производственную концепцию Форд и Кан начали претворять в жизнь на новых мощностях к западу от Детройта, на реке Руж. «Руж», как стали называть этот завод, вырос из старой судостроительной фабрики, работавший там в годы Первой мировой (которой Форд как убежденный пацифист яростно противился, пока не надумал извлечь из нее прибыль). Завод, переоборудованный после войны под производство тракторов, а затем автомобилей, стремительно расширялся по мере пристройки новых корпусов. Одноэтажные здания с широким остеклением (даже на крыше, чтобы пропускать как можно больше света) позволили отказаться от железобетона в пользу легких стальных конструкций, тем самым еще больше удешевив и ускорив строительство.
В 1921 году был достроен литейный корпус, в 1922-м – стекольный (Форд единственный из автопроизводителей наладил выпуск собственного стекла), в 1923-м – цементный, в 1925-м – электростанция и мартен, в 1931-м – корпус по производству шин, работавший на сырье с амазонской каучуковой плантации Форда, и, наконец, в 1939-м – кузнечно-прессовый цех, огромное здание в виде буквы Г, где один фасад имел длину 505 м, а другой – 285 м. Там штамповались и отливались панели автомобильного корпуса. В 1930-х, в пору своего расцвета, завод «Руж» не уступал размерами целому городу: раскинувшись на площади 5 кв. км, он насчитывал 100 000 сотрудников и выпускал по 4000 машин в сутки. Сырье поставлялось с шахт Форда по специально прорытому каналу и за 28 часов превращалось в готовый автомобиль, который отгружался по специальной железнодорожной ветке в полном соответствии с рекламным лозунгом завода – «От руды до авто». Форд создал первую в мире вертикально интегрированную компанию – пожалуй, даже самый полноценный пример вертикальной интеграции. Между тем влияние Форда, за которым стояла теперь мировая империя поставщиков и дистрибьюторов, начало распространяться и на повседневную жизнь рабочих.
Поводом для вторжения Форда в бытовую сферу послужило открытие, что работа на конвейере, даже достаточно быстром, совершается с недостаточной скоростью. В рационализации обнаружился один существенный просчет: рабочие, живые люди, склонные отвлекаться, оказались куда менее надежными и покладистыми, чем станки. Форд сделал труд отупляющим, лишив его творческого начала и самостоятельности, однако на его фабриках таких отупленных рабочих собирались тысячи, а значит, им было проще сплотиться против его системы. Сопротивление было неизбежно. На заводах пышным цветом цвел саботаж – намеренное замедление рабочего процесса – и шла волна хронических прогулов (10 % в 1913 году). Условия труда тоже не способствовали удержанию кадров: текучка достигала ошеломляющих 370 % в год (то есть в 1913 году Форду пришлось нанять 52 000 человек, чтобы обеспечить требуемый штат 14 000). К индивидуальным протестам добавлялись растущие призывы к объединению в профсоюзы, вызывавшие у Форда яростное неприятие.
Соответственно в 1914 году Форд принял решение, от которого промышленный мир содрогнулся, а популярность самого Форда взлетела до небес: он удвоил плату своим рабочим до знаменитых $5 в день. Пресса откликнулась истерическими заголовками вроде «Неслыханный в истории мировой экономики план Форда», «Форд раздает акции рабочим – начало новой индустриальной эпохи?» и «У безумца Форда утекают сквозь пальцы миллионы». За неделю компания получила 40 000 заявлений о приеме на работу, а у завода в Хайленд-парке уже через сутки после известия о повышении зарплаты собралась 10-тысячная толпа отчаянно желающих наняться – в конце концов их разогнала полиция.
На самом деле программа «разделения прибыли», как преподносил Форд это нововведение, не означала поголовного начисления пятидолларового дневного заработка. Он причитался не всем рабочим, повышение нужно было сперва заслужить. Чтобы отделить зерна от плевел, Форд учредил социологический отдел – вполне в оруэлловском духе, – в котором в лучшие времена трудилось 50 инспекторов. Вооруженные блокнотами они ходили по домам рабочих, проверяя исполнение заповедей Форда – не греши, не живи в грязи, не пускай постояльцев (с которыми можно вступить в нежелательную связь), не пей (Форд был убежденным трезвенником) – и предписывая нововведения, как нравственные, так и архитектурные. Задачей было создать целеустремленную, здоровую, крепкую рабочую силу с ненасытным потребительским аппетитом, не спускающую свободные средства на выпивку и азартные игры.
Патернализм Форда не был таким уж беспрецедентным: в рабочих поселениях, создаваемых прежде британскими промышленниками из филантропических побуждений (например, в Бурневиле, поселении рабочих Cadbury), полное отсутствие пабов компенсировалось обилием часовен, что демонстрировало набожность основателей. Фордовский эксперимент в социальной инженерии отличался куда более глубоким вмешательством и высоким уровнем организации, а также степенью лицемерия, поскольку Форд, требуя от рабочих супружеской верности, несколько десятилетий поддерживал внебрачные отношения с женщиной на 30 лет моложе. Распространение надзора на дома рабочих было логическим продолжением фордистской системы. От рабочего места до постели – от сырья до белья, как говорится, – система контролировала каждый шаг производственного процесса, который теперь включал и потребление: рабочие должны были иметь материальную возможность приобретать автомобили, иначе все усилия пойдут прахом. Дом стал частью производства, еще одним цехом наряду с шинным, штамповочным или литейным, а значит, наравне с ними подлежал улучшению и научной организации.
Однако в конце концов войска империи Форда отступили с домашнего фронта. В 1921 году магнат отказался от социальной инженерии и закрыл социологический отдел. Его приводили в ярость непрекращающиеся призывы к объединению в профсоюзы. Торговаться с наемными рабочими он считал неприемлемым, и его задевало, что пятидолларовая программа не оценивается по достоинству. В том же году он ввел потогонную систему, при которой прежние объемы производства обеспечивал сокращенный на 40 % рабочий состав, что позволило ему уволить 20 000 человек, включая 75 % управляющих среднего звена. В результате прибыли за 1921–1922 годы подскочили до $200 млн. Дисциплина при этом ужесточилась, поскольку Форд сменил пряник на кнут.
Этот кнут вложили в руки Гарри Беннета, бывшего профессионального боксера со связями в криминальных структурах. Форд поручил Беннету – тогда еще начальнику отдела кадров – сформировать службу внутреннего контроля, которая продолжит начатое социологическим отделом. В результате из головорезов, отсидевших преступников и бывших спортсменов был сколочен спецотряд шпионов и громил, которые без устали выискивали признаки объединения в профсоюзы и невыполнения норм и могли с полным правом запугивать, притеснять и увольнять неугодных. После кризиса 1929 года, когда пришлось сокращать зарплату и штат и одновременно появилось много желающих работать за любые деньги при любых условиях, внутренняя полиция развернула настоящий террор. Рабочие Форда подвергались избиениям в очередях за зарплатой, были запрещены все разговоры, отлучаться в туалет можно было, только если кто-то подменит тебя на рабочем месте, а перерывы урезали до 15-минутного обеда. Подручные Беннета цеплялись к самым ничтожным поводам: одного рабочего уволили за то, что он вытирал руки от смазки, другого – за то, что купил плитку шоколада, когда выходил в город по поручению, третьего – за то, что улыбался за работой. Сам Форд проявлял все большую непоследовательность: сталкивал лбами управляющих, подрывал авторитет собственного сына (президента компании) и доводил дисциплину до маоистских крайностей. В погоне за тотальным контролем он в одночасье распускал целые отделы, а влиятельнейшие начальники, придя утром на службу, находили свои рабочие столы расколоченными топором в щепу.
Как раз в тот период Форд увлекся народными танцами.
Однако в 1937 году очередная попытка Форда подавить профсоюзное движение обернулась для него катастрофой. Головорезы Беннета остановили и жестоко избили рабочих «Руж», которые шли распространять листовки с лозунгом «Профсоюзам – да, фордизму – нет». К несчастью для Форда, свидетелями сцены на пешеходном мосту у ворот завода стали несколько журналистов и фотографов, и, хотя внутрення полиция накинулась и на них и попыталась разбить фотокамеры, некоторые кадры «Битвы на переходе» попали-таки в газеты. Разразился скандал на всю страну, и многие винили в случившемся лично Генри Форда. Союз работников автомобильной промышленности обрел огромную общественную поддержку, и в конце концов сломленному и обессиленному Форду пришлось допустить профсоюзы на свою территорию. В поздние годы он впал в сварливое старческое слабоумие, и его громкие победы потонули в густом тумане неверных решений и провалов. Однако, несмотря на то что Форд, закрыв социологический отдел, перестал вторгаться в быт подчиненных, его идеи и концепции других адептов научной организации труда активно применялись в Америке и Европе, неся рационализацию в личную жизнь и стирая границы между работой и досугом.
Самое яркое – и неожиданное – продолжение программа Форда получила на другом берегу Атлантики. Просторные голые ангары Кана оказали огромное влияние на европейских модернистов, видевших в Америке «бетонную Атлантиду», по меткому выражению Райнера Бэнема: воплощение мифологического величия на земле, страну, где геометрические формы, не уступающие простотой и надежностью пирамидам, указывают путь к героическим свершениям. Молодые европейские зодчие черпали вдохновение в американской промышленной архитектуре как провозвестнице светлого, полного технологических чудес будущего, однако теперь концепцию Форда перенесли с фабрик на жилые дома. Поворотным моментом стал выход ежегодника Немецкого Веркбунда за 1913 год. В этом альманахе Вальтер Гропиус, будущий руководитель школы искусств и дизайна «Баухауз», опубликовал 14 немного подретушированных загадочных фотографий, которым предстояло оказать огромное влияние на авангардистов всей Европы. На одном из снимков красовались гигантские цистерны элеватора в Буффало, на другом – недостроенный высоченный склад в Цинциннати. Был там и застекленный «ангар» Кана в Хайленд-парке.
Эти открытки из будущего перепечатывались во многих других работах, включая знаменитую «К архитектуре» Ле Корбюзье 1923 года (при этом Корбюзье тоже немного поколдовал над снимками, сделав здания еще «чище»). Именно они положили начало «американизации» – преклонению перед всем заокеанским, охватившим Европу в 1920-х. Однако путь к вожделенному процветанию и торжеству новейших технологий, которое обещали сказочные снимки, Европе предстоял долгий. Сам Гропиус во время публикации снимков строил в Германии фабрику, в которой от американского прототипа был только внешний облик, но не начинка. Не одно десятилетие историки полагали, что знаменитый завод «Фагус» в Руре построен на стальном каркасе. На вид очень похоже: сплошное панорамное остекление на углах здания вроде бы демонстрирует отсутствие несущих кирпичных простенков. Однако недавние исследования показали, что это иллюзия: на самом деле несущая кирпичная кладка аккуратно утоплена между окнами. Как бы то ни было, завод «Фагус» достаточно сильно подогрел страсть к индустриальной эстетике – равно как и псевдоиндустриальные виллы Корбюзье, тоже выстроенные из кирпича. Ле Корбюзье сделал акцент на отделке стен, выкрасив их в белый, чтобы добиться сходства с бетоном. Желая строить свои дома «по тем же принципам, что и автомобиль Форда», он предложил способ массового производства железобетонных конструкций. Разоренная войной Европа испытывала беспрецедентную нехватку жилья, и промышленное изготовление заготовок для сборного строительства давало надежду на обеспечение всех нуждающихся. Надежда не оправдалась, однако если «штамповка» зданий пока откладывалась, то уж придать им соответствующий облик ничто не мешало.
Альберт Кан между тем не разделял преклонения модернистов перед индустриальным обликом:
«Я вижу прямую аналогию между современными промышленными зданиями и современными жилыми домами, похожими на коробки с плоскими крышами, которые сегодня сооружаются на каждом шагу. И, в отличие от фабрик, часто вызывающих у меня восхищение, в жилых зданиях я ничего восхитительного не нахожу. Многое из того, что строится или уже построено под знаменем так называемого модернизма, кажется мне крайне уродливым и унылым»{148}.
Кан, руководивший одним из крупнейших архитектурных бюро в мире (в 1929 году стоимость построенных им за неделю зданий составляла $1 млн), был человеком чрезвычайно, до анонимности, скромным. В публичных выступлениях он то и дело приписывал идеи своих зданий «мистеру Форду» и утверждал, что архитектура – это «90 % бизнеса и 10 % искусства». Собственное бюро он реорганизовал по принципу конвейерного производства за годы до того, как начал работать на Форда, превратив традиционную мастерскую гения-одиночки в предельно рационализированную фабрику-студию. Вертикальная интеграция, достигнутая за счет сотрудничества в одной конторе 400 дизайнеров, чертежников, канцелярских работников, а также проектировщиков и конструкторов (бюро Кана одним из первых стало нанимать собственных инженеров), и объединение специалистов в проектные группы позволили оптимизировать строительство огромного числа промышленных зданий – свыше 1000 для Форда, 127 для General Motors, 521 фабрики в СССР и множество жилых и общественных объектов. Неудивительно, что Кан, не выносивший «капризных примадонн», не одобрял «необъяснимые», «созданные для привлечения внимания» творения Корбюзье. С точки зрения Кана (и Форда), архитектурная простота годилась для рабочего места, где царствует экономичность, но быт с его традиционными ценностями требовал традиционных стилей, которые, кроме всего прочего, помогали замаскировать суровую экономическую реальность фордовской эпохи. Такой дифференцированный подход и был, по мнению Кана, истинно функциональным.
Тем не менее одной «чистотой» промышленной кановской архитектуры заимствования из фордизма в сфере жилья и быта не ограничились: от начатого Фордом переворота нельзя было скрыться в исторических фантазиях. На самом деле американские теоретики применяли идеи научной организации в быту задолго до Форда. Передовая писательница Катарина Бичер предложила рациональную реорганизацию кухни еще в 1842 году, а значит, при желании можно утверждать, что научная организация берет начало в быту, а не на производстве. Однако, если не вдаваться в вечные споры о курице и яйце, попытки преобразовать и дом, и завод доказывают, что традиционные границы между трудом и досугом, домом и предприятием постепенно размывались. Дома рабочего класса, исстари служившие мастерскими (когда товары производились кустарно), с уходом жильца на фабрику превращались в жилое пространство, при этом оставаясь рабочим местом для женщины, которая теперь впрягалась в двойное ярмо (фабричной и домашней работы). Более богатые дома, наоборот, традиционно делились на жилое пространство для владельца и рабочее место прислуги, но, когда от прислуги пришлось отказаться и хозяйки среднего класса превратились в домработниц, рабочие зоны дома привлекли внимание реформаторов и законодателей моды – тут-то и явилась Бичер с ее кухонной эргономикой.
Функциональное обустройство жилища под нужды домохозяйки среднего класса начала Америка, однако настоящую силу эта рационализация набрала именно в Европе, хоть и под совершенно иным политическим соусом. Кристина Фредерик в своем авторитетном труде под названием «Новое домохозяйство», вышедшем в Штатах в 1913 году, а в 1921 году переведенном на немецкий, спрашивала: «Если принципы эффективности с успехом применимы в любом производстве, на фабрике, на предприятии, почему нельзя с равным успехом применить их в быту?» Этим же вопросом задались европейские архитекторы, в том числе австрийка Маргарете Шютте-Лихоцки. Лихоцки придерживалась радикальных политических взглядов, участвовала в австрийском Сопротивлении и провела пять лет в фашистских застенках. Одна из первых австрийских женщин-архитекторов, в начале своей карьеры она занималась созданием левацких поселений на окраинах Вены, а позже строила квартиры для рабочих. В результате на нее обратил внимание немецкий архитектор Эрнст Май и нанял в 1926 году помогать с перестройкой Франкфурта (испытывавшего отчаянный дефицит жилья) по социалистическим принципам. За пять лет Май с командой сдали в «Новом Франкфурте» 15 000 квартир – большей частью для семей рабочих.
Свою революционную «франкфуртскую кухню» Лихоцки разработала именно для этих новых домов. Истинная марксистка, она рассматривала дом как производственный участок, а взваливание домашнего труда на женщину – как препятствие образованию, устройству на работу и участию в политической жизни. Кроме того, будучи адептом научной организации, она провела хронометраж трудовых движений женщины на кухне и реорганизовала пространство, сокращая лишние перемещения и оптимизируя процесс приготовления пищи, тем самым (как она надеялась) освобождая женщине время для более важных в политическом и экономическом отношении занятий. Вдохновением для Лихоцки послужили кухни вагонов-ресторанов, поэтому «франкфуртская кухня» получилась вытянутой в длину, со сплошной столешницей, перекрывающей эргономично размещенные шкафчики, а раковина, мусорное ведро, сушилка и плита выстраивались в упрощающую уборку и мытье «производственную линию».
Однако в свою «франкфуртскую кухню» Лихоцки привнесла еще один, более концептуальный элемент тейлоризма. Одной из главных целей жилищных реформаторов в то время было разделить в квартире рабочей семьи кухню и жилую комнату, до тех пор объединенные в Wohnküche – «жилую кухню». Намерения ими двигали самые благие: сделать дом более гигиеничным и безопасным, а также облагородить женский труд, выделив женщине полноценное рабочее место – фабрику приготовления пищи. Однако многим представительницам «нового Франкфурта» изоляция кухни пришлась не по душе. Теперь им приходилось в отрыве от домочадцев заниматься готовкой в тесном помещении – сокращенная в угоду эффективности площадь не позволяла устроить на кухне посиделки или присматривать за детьми. Встроенный кухонный гарнитур лишал владелиц возможности подогнать обстановку под себя, и многие женщины жаловались, что скучают по старомодным кухням-столовым.
Как и фабрики Форда, «франкфуртская кухня» была попыткой рационализировать рабочее пространство, а вместе с ним и человека, делая его расторопнее, производительнее и счастливее. И точно так же, как Форд, Лихоцки не учла составляющие повседневной жизни, вместе с водой выплеснув и ребенка – все то, что примиряет нас с работой и придает ей интерес. Кроме того, Лихоцки оставила за скобками фундаментальные вопросы гендерных ролей, укрепляя традиционное представление о домашней работе как о сугубо женском деле. Однако попытки решить проблему взаимоотношения двух миров – работы и досуга, дома и производства – возникали в промышленную эпоху и до Лихоцки. Некоторые из ее предшественников старались взглянуть на этот вопрос шире, принимая во внимание более мелкие аспекты человеческого существования, индивидуальные причуды, потребность в разнообразии – и в получении удовольствия.
Шарль Фурье, родившийся в 1772 году во Франции, долго, но без особого успеха работал коммивояжером. Лично столкнувшись с мошенничеством, расточительством и несправедливостью раннеиндустриальной эпохи, а также пережив французскую революцию (лишившую его состояния), он ополчился на вызывающую у него презрение «цивилизацию». Вдохновленный собственным коммерческим опытом и примером Ньютона, Фурье составил подробный и слегка странноватый (он, вероятно, полагал, что едко-сатирический) каталог многочисленных огрехов и примеров двуличия цивилизации, включавший 36 разновидностей банкротства и 76 способов наставить рога супругу. Решать проблему бывший коммивояжер предлагал объединением в коммуны – фаланги, где все участники разделят между собой (и тем самым уменьшат) груз «цивилизованного труда, который, не принося никакого удовлетворения ни уму, ни сердцу, становится пыткой вдвойне»{149}. Как один из основоположников феминизма, Фурье затронул в своих расчетах и проблему домашнего труда. Ведение домашнего хозяйства представлялось ему непреодолимым препятствием к счастью, поскольку обрекало женщину на повторяющуюся изо дня в день неблагодарную черную работу. Утверждая, что «почвой для общественного прогресса… является прогрессивное раскрепощение женщины»{150}, он предлагал централизацию и разделение домашнего труда. Для равномерного и справедливого распределения идеальная фаланга, согласно расчетам Фурье, должна была состоять из 1620 участников (именно столько человеческих типов он вывел в своей сложной и запутанной схеме), чтобы добиться идеального сочетания разнообразных характеров и талантов.
Вести это идиллическое существование предполагалось в жилых комплексах под названием «фаланстеры». В своих фантастических трудах (где, среди прочего, утверждалось, что в один прекрасный день морские воды обратятся в лимонад, а люди вымахают выше двух метров и будут жить по 144 года) Фурье дает подробное описание фаланстера: «Вместо типичного для наших городов нагромождения домишек, один другого грязнее и уродливее, фаланга выстроит себе самое совершенное для данного участка здание»{151}. В центре этого огромного сооружения размещались залы для собраний, библиотеки, лекционные и концертные залы с водопроводом, центральным отоплением, вентиляцией и газовым освещением. С мастерскими и жилыми помещениями, распределяемыми согласно доходу (Фурье не был противником классовых различий), их связывали крытые застекленные переходы, отдаленно напоминающие конструкцией будущие заводы Кана. Фурье замыслил высокотехнологичную утопию, достойную машинной эпохи, и, как на заводах Форда, планировка фаланстера определялась производственным потоком, однако конечный продукт был направлен не на получение прибыли, а на получение удовольствия.
Помимо перечисленных выше специализированных помещений в фаланстере предусматривались отдельные комнаты для удовлетворения индивидуальных «страстей». В этом и состоит самый оригинальный аспект утопии Фурье – учет психологических особенностей. По Фурье, идеальное общество удовлетворяет не только материальные нужды своих участников, но и чувственные запросы, которые он, по примеру Ньютона, пронумеровал, словно физические законы. Интимно-половая сфера получила в его теории особый акцент и неожиданную свободу освещения. Фурье критиковал традиционный брак как разновидность полового рабства, кабальную в первую очередь для женщины. В качестве альтернативы предлагался «любовный минимум» – удовлетворение плотских желаний любым, даже самым нетрадиционным способом. Тем самым Фурье пропагандировал гомосексуальную терпимость (и был активным сторонником лесбийских отношений), организованные оргии в назначенные часы в специально отведенном помещении фаланстера под названием «Двор любви», а также «любовную филантропию» (при которой молодые и гибкие будут удовлетворять желания престарелых и немощных). Пожалуй, «терпимость» – слишком мягкое слово для воззрений Фурье: он ратовал не просто за вялое либеральное безразличие к человеческому разнообразию, он этим разнообразием упивался, видя в нем гарантию самого сильного и бесконечного наслаждения для всех. С пресыщенностью – главным врагом его утопии – можно бороться лишь бесконечным разнообразием. Эту же логику Фурье распространял и на труд, доказывая: «В работе, как и в удовольствии, разнообразие обусловлено самой природой»{152}. Поскольку через час-другой любое занятие становится в тягость, он предлагал постоянную смену деятельности (при всей своей любви к организации заводы Форда Фурье возненавидел бы всей душой).
Последователи Фурье (в том числе его американские переводчики), боясь шокировать читателя-пуританина, старательно обходили все отсылки к сексуальной сфере, тем самым выхолащивая оригинал. Однако даже в этой выхолощенной интерпретации фурьеризм распространялся со скоростью лесного пожара. Во Франции одним из самых успешных адептов Фурье стал производитель чугунных плит по имени Жан-Батист-Андре Годен, построивший огромную коммуну (которую он назвал фамилистер) для своих рабочих в Гизе под Парижем. В полном соответствии с принципами устройства фаланстеров Фурье там имелись просторные застекленные общественные помещения, общие прачечные и кухни, и в целом эксперимент можно было считать удачным. Основанный в 1846 году и впоследствии отданный рабочим в кооперативное владение и управление, фамилистер прекратил существование лишь в 1968 году, когда компания перешла к немцам.

В фамилистере, построенном Годеном для своих рабочих в 1850-х годах, помимо жилья имелись кооперативные магазины, сад, ясли, школы, бассейн и театр
Гораздо большее (пусть и недолговечное) влияние идеи Фурье оказали по другую сторону Атлантики, где в 1840-х в ходе разразившегося бума коллективизации по всей стране стали возникать коммуны с говорящими названиями вроде Утопии в Огайо. Наибольшую известность среди них обрела Брук-Фарм, созданная в 1841 году под Бостоном унитарианским священником по имени Джордж Рипли. Чтобы разместить коммунаров, Рипли начал строить большой фаланстер
«53 метров длиной, в три этажа, с мансардами, разбитыми на уютные комнатки для одиночек. Второй и третий этажи были отданы под 14 отдельных квартир, каждая с гостиной и тремя спальнями, объединенных опоясывающей все здание верандой. ‹…› В цокольном этаже размещались просторная кухня, столовая на 300–400 человек, два салон-бара и просторный зал или лекторий»{153}.
Натаниель Готорн, какое-то время живший в этой фаланге, увековечил свои впечатления в «Романе о Блайтдейле». Так и не став убежденным последователем фурьеризма, он мягко подтрунивает над надеждами коммунаров: «Мы хотели разгрузить трудящегося, взять на себя часть его тяжкой ноши, внести свою лепту собственным потом и кровью. Мы добивались своих благ взаимопомощью, вместо того чтобы вырвать их железной рукой у врага или выманить хитростью у простаков (если такие еще остались в Новой Англии){154}». Из-за экономических проблем коммуна вскоре прогорела – в буквальном смысле, поскольку в 1847 году недостроенное и незастрахованное здание фаланстера сгорело дотла. Однако Готорн обозначил и другие причины разлада: в «Романе о Блайтдейле» коммуна распадается, когда между рассказчиком, его другом-пуританином Холлингвортом и двумя молодыми барышнями завязываются запутанные романтические отношения. Готорн был знаком с трудами Фурье, поэтому в одной из сцен романа рассказчик поднимает запретную эротическую тему.
«Я продолжил, насколько это было в моих скромных силах, разъяснять некоторые положения системы Фурье, иллюстрируя их выдержками из текста и интересуясь у Холлингворта, что он думает о внедрении этих прелестных постулатов у нас. “Слышать больше не желаю!” – воскликнул он с отвращением… “Тем не менее, – заметил я, – учитывая обещанные преимущества – которые наверняка по достоинству оценили соотечественники Фурье, – диву даешься, почему вся Франция не кинулась очертя голову претворять его учение в жизнь”. “Убери эту книгу с глаз моих долой, – скривился Холлингворт, – или, клянусь, я сам швырну ее в огонь!»{155}
Готорн хочет сказать, что подавление эротического начала реформаторами вроде этого мини-Робеспьера Холлингворта ведет лишь к социальному разладу, а значит, если бы американские фаланстеры это начало не подавляли, коммуны могли бы предложить своим неуклонно разочаровывающимся участникам нечто большее, чем тяжелая работа и плохое питание. Форд тоже мог бы извлечь урок из «Блайтдейла» и трудов Фурье: отказ от удовлетворения чувственных нужд потребителей и рабочих грозит предприятию крахом.
Попытка Форда создать гармоничную и оптимально прибыльную промышленную вселенную потерпела неудачу, поскольку он искоренял удовольствие на всех стадиях производства и потребления. Социологический отдел подходил к вопросам сексуальной нравственности с устаревшими нравоучениями, и Форд, навязывая рабочим собственные лицемерные викторианские ценности, в попытке примирить личную жизнь с работой на самом деле только разобщил эти две сферы. Затем, осознав свою ошибку, он сменил административное воздействие (социологический надзор и пятидолларовую зарплату) на силовые методы (внутреннюю полицию) – и тем самым предрешил печальный исход. Тем временем конкурент Форда Альфред Слоун из General Motors заметил брешь в броне крупнейшего в мире автопромышленника. Перещеголять Форда в рационализации было невозможно, поэтому руководство General Motors решило пойти другим путем: предложить потребителю широкий выбор более привлекательных внешне товаров, вернув в сферу потребления чувственное удовольствие, но никак не решая смежную проблему – удовлетворения от труда. Тем не менее к середине 1920-х General Motors впервые опередила Форда по объему продаж, и в 1927 году тот, вняв наконец многолетним увещеваниям своих управляющих, согласился снять с производства модель Т, чтобы заменить ее более соблазнительной моделью А, доступной в нескольких цветах помимо черного. Однако преимущество Форд уже потерял и восстановить статус крупнейшего в мире автопроизводителя больше не смог.
Несмотря на личные неудачи Форда, фордизм как течение продолжил существовать – и даже расцвел – после Второй мировой, мутировав в нечто такое, что сильно встревожило бы основоположника. Катализатором этих перемен стали кредиты (которые Генри Форд, настороженно относившийся к «еврейским» деньгам, не одобрял) и секс. Новый фордизм ударяется во все тяжкие после съемок на заводе «Руж» в 1965 году клипа Марты Ривз и The Vandellas на хит «Некуда бежать». (Владелец Motown Records Берри Горди работал на этом заводе, прежде чем основать свою фирму звукозаписи.) Три молодые ослепительные певицы танцуют среди рабочих, собирающих «Форд Мустанг», тем самым приравнивая в глазах зрителя женщину как объект секс-потребления к окружающим их взаимозаменяемым штампованным деталям. Автомобильные запчасти в клипе действительно использовались – гремящие цепи противоскольжения, задающие настойчивый ритм и выступающие далекими провозвестниками более резкого индустриального стиля музыки, который Детройт подарит миру в конце 1980-х. Гремящие цепи символизируют описанные в песне разрушительные отношения, из которых нет выхода, а кроме того, всепроникающую силу промышленного капитала, вторгшуюся в царство Эроса через поп-культуру: «Некуда бежать, негде скрыться». Отдых стал «досугом», удовольствие – работой (и предлогом для потребления).
Тот же процесс находит игривое отражение в короткометражном фильме сатаниста и художника-авангардиста Кеннета Энгера Kustom Kar Kommandos. Снятый в том же году, что и клип Марты Ривз и The Vandellas, этот трехминутный шедевр гомоэротики в пастельных тонах показывает молодого человека, любовно полирующего эмаль своего автомобиля под выпущенный студией Фила Спектора хит Dream Lover. Как ни парадоксально, снимался фильм на $10 000, выделенных из Фонда Форда.
Форд бы этого не одобрил. Тем не менее в конце жизни – видимо, догадываясь, что он где-то ошибся, но все еще не осознав важность чувственной сферы, – Форд дал задний ход, ощупью пробираясь к американскому утопизму и утверждая, что сельской жизни требуется индустриализация, а индустриальную – необходимо повернуть в сельскохозяйственное русло. Для этого он собирался децентрализовать отрасль, разбив созданные им огромные заводские комплексы на более мелкие предприятия и рассеяв их по сельской местности. Он намеревался заново объединить производство и личную жизнь рабочих в некоем безгрешном промышленном Эдеме. Однако этот его утопический порыв не шел ни в какое сравнение с более убедительными послевоенными попытками позднего фордизма обуздать домашнюю сферу: реклама и поп-культура сумели придать домашнему труду и потреблению эротическую окраску. Тиглем, в котором происходил этот алхимический процесс, стала кухня, где, исполняя (хоть и в извращенном виде) мечту Форда, домашнее хозяйство подверглось индустриализации, а промышленное производство было одомашнено.
Мечта о кухонной рационализации, зародившаяся еще в 1840-х у Катарины Бичер, теперь предлагалась более широким слоям населения – новому среднему классу, обладателю свободного дохода, обеспеченного фордистским трудом. Капиталисты надеялись вернуть часть этих «излишков» себе как прибыль, поэтому, изображая труд домохозяйки как бесконечные, не требующие усилий веселье и радость, реклама (наполненная сексуальными образами) заряжала и дом, и относящиеся к нему труд и потребление эротической энергией, делая кухню с ее утварью символами традиционной женственности, перед которыми невозможно устоять. Так домашнее хозяйство и уют были полностью поставлены на промышленные рельсы, объединив в себе потребление и труд, однако на исключительно индивидуалистической почве. И хотя акцент на удовольствиях здесь присутствовал, с фаланстерами Фурье ничего общего не наблюдалось. Никакого стремления совместными усилиями уменьшить груз домашней работы – «стирка без хлопот» так и осталась обещанием, поскольку производители все выше и выше поднимали планку чистоты, заставляя потребителя покупать все более и более специализированные продукты для ее поддержания. Никаких футуристических улиц со стеклянным сводом, величественных дворцов и помещений для «любовного минимума» – только одинокая алчность, подделывающаяся под счастье. Социалистические побуждения Шютте-Лихоцки тоже остались за бортом: кухня представала местом потребления, а не работы, хотя, разумеется, работы там по-прежнему было невпроворот и разнообразные агрегаты не освобождали, а еще больше закрепощали хозяйку.
Однако настоящая смертельная битва двух разных подходов – фордистского и фурьеристского – к взаимоотношениям производства и дома состоялась совсем на другом континенте, вдали от американских пригородов с их жаркими кухнями. На первый взгляд Советский Союз кажется не самым подходящим местом для претворения в жизнь идей фордизма – и уж тем более фурьеризма, учитывая, что партия представляла Фурье слегка сумасшедшим предшественником «научного социализма», – однако на самом деле Форда в послереволюционной России возвели на пьедестал. Его портреты висели на фабриках рядом с ленинскими, а Альберт Кан по приглашению партии построил в первую пятилетку 1928–1932 годов сотни заводов. (Изначально почти все они выпускали тракторы, а затем были переоборудованы под производство танков, сокрушивших гитлеровскую армию.) Популярность фордистских идей в СССР отражает странное сходство между капиталистической и коммунистической экономикой – общее стремление в угоду гиперпроизводству (будь то ради прибыли или утопического светлого будущего) недооценивать важность удовольствия от труда. Однако бурные годы становления СССР – до того, как страну сжал железный сталинский кулак, – еще оставляли простор для более творческих способов организации жизни и работы в коммунистической утопии. Самого Ленина очень вдохновлял фурьеристский роман Николая Чернышевского «Что делать?», призывавший к строительству гигантских чугунно-стеклянных дворцов-коммун «среди нив и лугов, садов и рощ».
Процветал и феминизм. Революционерки вроде Александры Коллонтай, впоследствии ставшей советским послом в Норвегии и первой в мире женщиной-послом, доказывали, что при коммунизме традиционные семейные и гендерные роли отомрут, воспитание детей будет поручено коллективу, а любовь станет свободной. Эти идеи нашли отражение и в архитектуре: молодые визионеры, называвшие себя конструктивистами, проектировали (не строили – в послереволюционный период для воплощения проектов в жизнь не хватало средств и возможностей) здания, служившие проводниками идей коммунального труда и быта. Самым знаменитым из таких проектов был Памятник Третьему интернационалу Владимира Татлина – гигантская накрененная башня из высокотехнологичных стекла и металла, в которой должны были располагаться медленно вращающиеся конференц-залы. Оставшаяся на бумаге, башня должна была устремляться вершиной в светлое будущее, в отличие от неподвижной, закрепляющей статус-кво Эйфелевой башни, антагонисткой которой она выступала.
В последующие годы конструктивисты все же сумели воплотить немалую часть своих проектов – даже во время первой сталинской пятилетки. Образцом позднего конструктивизма стал построенный в 1930 году по проекту Моисея Гинзбурга знаменитый Дом Наркомфина в Москве, задуманный как коммуна, «социальный конденсатор», средство преобразования общества путем перекомпоновки и перемешивания его представителей. Ему отводилась роль прототипа для всей последующей советской застройки, однако на деле жилье в этот период почти не строилось. Партия делала куда больший упор на индустриализацию, и большинство горожан по-прежнему ютились в грязных комнатушках уплотненного наследия царской эпохи. Разительно выделявшаяся на этом фоне снежно-белая громадина Гинзбурга была навеяна идеями европейских модернистов вроде Корбюзье и индустриальной эстетикой, которая в 1920-х – начале 1930-х вошла в моду и в России, однако Гинзбург хотел, чтобы новаторские формы украсили собой социалистическую утопию, а не только виллы богатых промышленников. Проект Дома Наркомфина предусматривал общую кухню и столовую, спортивный и читальный залы, детский сад и общие прачечные – пока все вполне по Фурье. Предполагалось, что при коммунизме в индивидуальных ячейках люди будут только ночевать, а всем остальным занятиям – и труду, и отдыху – предаваться сообща. Революция, таким образом, освобождала от оков даже интимную жизнь.
Однако конструктивисты (подгоняя свои представления под волю партии, уже отошедшей от романтического идеализма 1920-х) понимали, что людей нельзя в одночасье заставить жить по новым правилам. Чтобы облегчить переход, в Доме Наркомфина планировались разные типы жилых ячеек – от традиционных квартир до общежитских спален. Из 200 потенциальных жильцов, «запущенных» в дом в виде буржуазных нуклеарных семей, предполагалось «на выходе» получить новеньких, с иголочки, коммунистов: Дом представлялся производственной линией, где будет создаваться новый человек, а не просто «машиной для жилья», как в диаметрально противоположной промышленной метафоре Корбюзье. Перевоспитание было органично вписано в саму структуру здания – причем перевоспитание не абстрактное, как на заводе «Руж» Форда и Кана, а в определенном, коммунистическом, ключе. Однако, несмотря на фурьеристские черты, от фордистского подхода к домашнему быту в Доме Наркомфина тоже кое-что имелось: и там, и там стремились искоренить личную жизнь – будь то патерналистским надзором, как у социологического отдела Форда, или минимизацией личного пространства в здании Гинзбурга – с целью гармонизировать быт и труд, объединив их в оптимально продуктивный союз.
Утопии не суждено было претвориться в жизнь. Когда строительство Дома Наркомфина завершилось, Сталин уже начал загонять мысль и творчество в жесткие рамки, навязывая собственные глубоко консервативные взгляды. В том же году он распустил Женотдел – женскую секцию партии, тем самым покончив с попыткой переосмысления гендерных ролей. Модернистскую архитектуру отец народов тоже не жаловал – помпезная классика была ему куда милее футуристических лабораторий, выращивающих новую жизнь. Иностранные специалисты оказались в опале, и Эрнст Май с Маргарете Шютте-Лихоцки, бежавшие из фашистского Франкфурта помогать строить новую Россию вместе с другими «левыми» немцами, были вынуждены покинуть страну. Многим советским модернистам повезло меньше – их ждала «перековка» (и то в лучшем случае). Дом Наркомфина стал первой ласточкой, которой железной рукой свернули шею. Вскоре после завершения постройки один из партийных начальников потребовал возвести на крыше личный пентхаус – как раз там, где предполагалась общественная терраса, и архитекторам пришлось отказаться от потерпевшего фиаско социального эксперимента. Дальнейшие жилищные проекты выполнялись в угоду ретроградным сталинским взглядам, и утопический коммунизм был забыт на долгие десятилетия.
Однако после многолетнего забвения он возродился опять – в дивном новом мире хрущевской оттепели после смерти Сталина в 1953 году. Похороненные в 1930-х концепции ненадолго ожили, и конструктивизм получил переосмысление: из контрреволюционного «формализма» он превратился в исконно советское социалистическое направление искусства, которым можно было (хотя и осторожно) гордиться. Комитет жильцов ветшающего Дома Наркомфина, общественные помещения которого приспосабливались под другие нужды, обратился с просьбой вернуться к первоначальному замыслу. Просьба удовлетворена не была, но какое-то время фурьеристские идеи совместной готовки, стирки и присмотра за детьми носились в воздухе. Между 1957 и 1959 годами была разработана серия типовых домов в рамках ускоренной программы жилищного строительства, позволявшей переселить миллионы граждан в чистые новые квартиры. Программа предусматривала как частные, так и общественные кухни: приверженцы объединения работы и быта в духе позднего фордизма боролись за главенство в советской архитектуре с последователями коммунальных принципов Фурье. Одни утверждали, что советским гражданам необходимы благоустроенные частные дома, демонстрирующие торжество коммунистического потребления, другие – что социалистическим принципам гораздо больше отвечают общежития с помещениями для совместных занятий. Предлагалось также сочетание обоих принципов, согласно которому товары потребления будут находиться в государственной собственности и браться домохозяевами напрокат.
В конце концов спор выиграли фордисты и тем самым подложили бомбу замедленного действия под экономику СССР, не выдержавшую американских объемов потребления. И все же одно время было похоже, что мечты сбываются, – в соблазнительную эпоху «красного изобилия», как назвал английский писатель Фрэнсис Спаффорд тот недолгий период, когда СССР вроде бы опережал капиталистический Запад. Сегодня, когда еще свежи воспоминания о бесславном распаде советской империи, мы забываем, что был момент – между запуском спутника в 1957 году и Кубинским ракетным кризисом 1962 года, – когда казалось, что победа в холодной войне может остаться за СССР. Советы догнали и перегнали Запад по части технологических достижений, опередив его в космической гонке (Юрий Гагарин вышел на орбиту в 1961 году) и в экономике, растущей быстрее всех остальных, за исключением японской; они выпускали невероятное количество инженеров и ученых, а также лидировали в области кибернетики в стремлении – так и не осуществившемся – компьютеризировать плановую экономику. Хрущев понимал, что советский народ, измученный войнами, голодом и жестким идеологическим прессингом, ждет от него конкретики в картине светлого будущего – не туманной коммунистической утопии, а удовлетворения вполне определенных нужд и желаний. Годом окончательного торжества над Америкой был опрометчиво назначен 1980-й. Через 20 лет из рога коммунистического изобилия посыплются, как описывал Спаффорд, «“жигули”, своей спокойной мощью способные посрамить “порше”, “лады”, что мурлычут тише “роллс-ройсов”, “Волги”, дверцы которых захлопываются с тяжелой завершенностью, вызывающей у “мерседес-бенца” бессильную зависть»{156}.
Народ верил – и не без оснований. Простые советские люди приобщались к невиданным материальным благам и комфорту. Полки магазинов ломились, прохожие на улицах щеголяли яркой новой одеждой. Но партия – прекрасно осведомленная о несостоятельности трещащей по швам порочной экономической системы, – знала, что хрущевская программа неосуществима. В 1964 году Хрущева сместили, обещания были официально похоронены, однако остались жить в сознании советских граждан, постепенно подтачивая веру в партию. Так что же надоумило Хрущева дать это абсурдное обещание о «коммунизме через 20 лет»? Кровавая сталинская эпоха давила на него тяжким грузом, и, похоже, он искренне хотел загладить вину, приближая обещанное коммунизмом счастье. Однако международной политической общественности это обещание предназначалось не в меньше степени, чем собственным гражданам.
В 1959 году две сверхдержавы схлестнулись на одном из самых нелепых полей битвы в истории – в кухонном интерьере, представленном на Американской национальной выставке в Москве. Знаменитые «кухонные дебаты», вспыхнувшие между Хрущевым и вице-президентом Никсоном, стали поворотным моментом холодной войны, когда фордистская американская мечта массового потребителя двинулась нога в ногу с советским идеалом коммунистического изобилия. Американская выставочная кухня была намеренно оформлена в светлых тонах – точнее, в пастельно-розовом и канареечно-желтом, поскольку General Electric в полном соответствии с концепцией позднего фордизма предлагала покупателям достаточно широкий выбор цветов. Потребительский выбор, как тогда, так и сейчас, олицетворял торжество демократии, так что перед нами типичный пример пропаганды через быт.
Среди представленных на выставке футуристических бытовых приборов имелись робот-полотер и мобильная посудомоечная машина. Глядя на всю эту автоматику, Хрущев спросил у Никсона: «А у вас нет такой машины, которая бы клала в рот еду и ее проталкивала?» Это бичующее капиталистическую алчность и лень замечание советского руководителя выдавало, что он задет за живое этой демонстрацией бытового изобилия. Холодная война сменила условия: американцы, проигрывающие космическую гонку, отступили на домашний фронт, а хрущевские космические и научные победы не могли перевесить куда более ощутимого отставания на бытовой ниве. Советские газеты могли сколько угодно доказывать (в полном соответствии с истиной), что эта техника по карману лишь немногим американцам и что большая часть домов в Штатах куплена на кабальные займы, – советские граждане тысячами стояли в очереди, чтобы посмотреть на эти достижения иной цивилизации, сеющие в каждом посетителе окрашенное в карамельные цвета зерно сомнения. Фурьеристская альтернатива в виде совместного труда и разделения обязанностей сошла со сцены. Победу одержал поздний фордизм, спаявший воедино потребление и производство, работу и удовольствие в быту, и по обе стороны «железного занавеса» разнеслось эхо гремящих цепей – «некуда бежать, негде скрыться».
Казалось бы, Фурье, делавший упор на общежитие и чувственное удовольствие, предлагал альтернативу этому позднефордистскому порабощению. Однако на самом деле Фурье, как я неоднократно намекал в этой главе, не так далеко ушел от Форда. Его тяга к категоризации продиктована теми же просвещенческими мотивами, что и рационализаторский подход Форда, и, помещая «страсти» во главу угла, Фурье загадочным образом предвосхитил поздний фордизм. «Совершенное производство, – доказывал он, – достигается за счет универсализации запросов и воспитания потребителя продуктов, одежды, мебели и развлечений»{157}. «Моя теория ограничивается утилизацией ныне порицаемых страстей в том виде, в каком они даны нам природой, без попыток их изменить», – продолжал он{158}.
Но, как выяснилось, страсти все же подлежали изменению – путем индустриализации. Фурье хотел препарировать сексуальность, как Форд препарировал движения рабочего, и оставленные его хирургическим ножом шрамы до сих пор видны в отчетах маркетологов, продолжающих изучать 57 разновидностей желания, но уже в угоду консьюмеризму. Поп-культура и реклама поставляют нам новые объекты вожделения, сулящие море чувственного удовольствия и неги. Приняв во внимание те области человеческого опыта, которые отвергал Форд, и включив их в сферу потребления, поздний фордизм успешно и с выгодой интегрировал страсти в индустриальное общество. Однако один из аспектов фурьеризма так и остался нереализованным, несмотря на все кресла-мешки для сотрудников в офисе Google. «Жизнь, – писал Фурье, – становится одной сплошной пыткой для тех, кто занимается нелюбимым делом. Мораль учит нас любить работу; так давайте же научимся делать ее любимой и прежде всего окружим рабочее место удобством и роскошью»{159}. В нашу постфордистскую эру, когда промышленники уже не заботятся о том, чтобы продукция оказывалась по карману рабочим, перенося производство на более дешевые рынки труда, о роскоши на рабочем месте остается только мечтать. Да и моря в лимонад пока не превратились.
Дополнительная литература
Charles Fourier, The Utopian Vision of Charles Fourier, trans. Jonathan Beecher and Richard Bienvenu (London, 1972).
Синклер Э. Дельцы. Автомобильный король. – М.: Правда, 1986.
Спаффорд Ф. Страна Изобилия. – М.: Астрель, 2012.
8. E-1027, Кап-Мартен
(1926–1929)
Архитектура и секс
А ты, Стена, любезная Стена,
Отцов-врагов делящая владенья, –
Пусть станет мне хоть щель в тебе видна
Для моего предмета лицезренья{160}.
Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь
Я помню,
Как мы стояли у стены,
Над головами свистели пули,
А мы целовались, как ни в чем не бывало.
Дэвид Боуи. Heroes

Вилла Эйлин Грей на Ривьере напоминает выброшенный на скалы лайнер
На водах Ривьеры виднеется что-то темное, словно колотая рана на блестящей глади моря. Постепенно волны возвращают чужеродный предмет на берег. И вот под окнами столько лет мучившей его виллы лежит, словно загорая на песке, погибший Ле Корбюзье, самый знаменитый архитектор XX века. Есть подозрение, что его гибель в этот чудесный августовский день 1965 года была самоубийством. Потеряв недавно и мать, и жену, он стал угрюмым, замкнулся в себе и как-то бросил коллеге: «Как славно было бы умереть, плывя к солнцу!»{161} Однако наша история не о смерти, а о любви и сексе. История безумной страсти Ле Корбюзье к дому на утесе и неприязни к создательнице этого дома – Эйлин Грей. Неподвижный камень кажется полной противоположностью живой плоти, но в этой главе мы проникнем в альковные тайны зданий, узнаем об их способности возбуждать и дарить желание. Это история о домах, построенных для любовников; о зданиях, которые душат любовь, и о людях, которые влюбляются в сами здания. И хотя некоторые из героев этой главы (например, женщина, вышедшая замуж за Берлинскую стену) впадают в откровенные крайности, наша интимная жизнь по-прежнему протекает в основном в четырех стенах. Как же влияет архитектура на наше либидо?
Прежде чем я попытаюсь ответить на этот вопрос, давайте вернемся к описанной выше сцене: залитый солнцем пляж, тело знаменитого архитектора и, самое главное, возвышающаяся на утесе вилла. Дом в Кап-Мартене, даром что был первым архитектурным творением Эйлин Грей, вышел настоящим шедевром. Изящное белое строение покоится на скалах, словно выброшенный на берег лайнер, из его окон и террас открывается вид на Средиземное море. Морскую тему поддерживают и меблировка, и отделка, вдохновленные романтикой путешествий на яхтах и поездах, – «походный стиль», как называла его Грей. Все приспособлено к тому, чтобы по максимуму использовать имеющееся пространство. Ящики выдвигаются не вперед, а вбок по дуге, откидывающиеся кровати убираются в стену, и вся обстановка словно участвует в своеобразном механическом балете. Ожившая, скользящая, выписывающая пируэты архитектура.
Однако этот дом не просто чудо техники, это еще и любовная поэзия, подарок возлюбленному Грей Жану Бадовичи. В названии E-1027 зашифрованы инициалы партнеров: E – Эйлин, 10 – Ж (J – десятая буква латинского алфавита), 2 – Б и 7 – Г (G на латинице). Как ни парадоксально, эта анонимная формула, в которую Грей облекает свои отношения, с головой выдает ее как натуру загадочную и скрытную. Ее переживания были тайной даже для близких друзей, а большую часть личной переписки она впоследствии уничтожила. Однако, несмотря на эмоциональную закрытость, Грей кажется женщиной незаурядной и склонной к приключениям.
Из аристократического отчего дома в Ирландии она в юном возрасте перебралась в ослепительный Париж. Там изучала искусство и вращалась в лесбийском обществе экспатрианток вроде Гертруды Стайн и Джуны Барнс, а также питала романтическую привязанность к знаменитой шансонье Дамии, экстравагантной особе, разгуливавшей с ручной пантерой на поводке. Самые продолжительные отношения у Грей сложились с Бадовичи, редактором архитектурного журнала, который был моложе ее на 14 лет. В 1924 году он попросил ее спроектировать для него дом, и после завершения строительства в 1929 году парочка проводила на вилле почти каждое лето. Как и было задумано, она представляла собой настоящее любовное гнездышко. Центральная гостиная могла превращаться в спальню – «спальню-будуар», как назвала Грей более раннюю версию спроектированной ею комнаты двойного назначения. Ключевым элементом выступал большой диван, раскладывающийся в кровать.
На стене над диваном Грей повесила морскую карту с надписью «L’invitation au voyage» («Приглашение к путешествию») – названием стихотворения Бодлера. Стихотворение это как нельзя лучше отвечает духу дома:
Такое впечатление, что именно этот уединенный уголок в Кап-Мартене с видом на море и описывал Бодлер:
Однако на самом деле спальня-будуар в Е-1027 сияла не отполированным антиквариатом, а автомобильным хромом и стеклом.
Грей не всегда была таким технофилом, имя она заработала как дизайнер мебели, создавая лакированные изделия в стиле ар-нуво – вроде кресла с подлокотниками в виде извивающихся змей, впоследствии приобретенного Ивом Сен-Лораном. Технике лакировки (утомительно долгий процесс, требующий поэтапного нанесения долго сохнущих слоев лака) она училась у японского мастера в Париже. Однако постепенно отошла от этой, по ее собственному презрительному выражению, «кустарной бутафории» и обратилась к геометрическим формам в духе неопластицизма, навеянного работами голландского общества «Стиль». В Е-1027 модернистская обстановка достигает апогея и обретает новое свойство – растворяться в пространстве. Вся меблировка либо выполнена в «походном стиле» (складная, сворачивающаяся, переносная и пропадающая из вида), либо встроена в стены, либо сама эти стены образует. Она словно отражает переход хозяйки из профессии в профессию, из дизайнеров интерьера – в архитекторы: одно естественным образом вырастает из другого.

Спальня-будуар в Е-1027
Этот переход от мебели к архитектуре наиболее явно воплотился в созданных Грей ширмах. За свою карьеру она сделала их немало и всегда использовала в собственных домах. Нередко они были прозрачными – из целлюлозы (предшественницы пластика) или проволочной сетки. Один из знаменитых образцов начала 1920-х был сконструирован из покрытых черным японским лаком панелей, вращающихся вокруг своей оси на стальных петлях. Вдохновением послужили такие же панели, которыми облицовывался коридор по проекту Грей на Рю-де-Лота в Париже: в конце коридора они выступали из стены под разными углами, дробя сплошную поверхность. Человеку, попадающему с людной улицы в это замкнутое, интимное пространство, казалось, что само здание распадается на куски.
«Кирпичная ширма», на которую вдохновил Грей этот интерьер, стала еще одним шагом к мобильной архитектуре: гладкая поверхность стены распадается на вращающиеся панели, позволяя зрителю заглянуть за преграду. В проектах Грей архитектура теряет статичность и непроницаемость, растворяясь и становясь мобильной и прозрачной. Ее ширмы разделяют (и объединяют) архитектуру и мебель, зримое и незримое, интимное и публичное, открывая широкий простор для сексуальности. Испокон веков архитектура служила тому, чтобы скрыть секс от посторонних глаз, и наша интимная жизнь, как правило, ограничена четырьмя стенами спальни. История дома Грей демонстрирует, что происходит, если эти стены начинают рушиться.
В Е-1027 Грей продолжила эксперименты по разгораживанию, и самый примечательный их результат встречает посетителя почти у порога. Жилую комнату отделяет от входа изогнутый шкаф, продлевающий пространство прихожей. Грей описывала вход в дом в чувственных, почти эротических выражениях, как «помещение, сохраняющее тайну того, что вскоре предстанет взору, позволяющее растянуть удовольствие». Было у нее и еще одно заявление, от которого Фрейд пришел бы в неописуемый восторг: «Вход в дом – это как попадание в рот, который за тобой захлопнется»{163}. Ширма, кроме того, что продлевает ощущение проникновения, скрывает обитателей дома от посторонних глаз, обозначая тем самым двойственность главной комнаты, которая одновременно является и интимной, и общественной зоной, местом и для занятий любовью, и для приема гостей. Три нанесенных на стены изречения в прихожей призваны еще дольше задержать посетителя. У входа в гостиную написано «entrez lentement» («входите медленно»); у двери в кухню – «sens interdit» (буквально «запретное направление», но можно прочитать это и как «запретные чувства» или даже «без запретов» – «sans interdit»); а под вешалкой – «défense de rire» («не смеяться»). Эти игривые указания предостерегают неосторожного гостя от нежелательного вторжения или замечания и одновременно намекают на райскую свободу любовного гнездышка, где нет никаких запретов.
Одним из постоянных гостей Е-1027 был Ле Корбюзье, близкий друг Бадовичи. Ле Корбюзье, как он сам себя называл (настоящее его имя – Шарль-Эдуард Жаннере-Гри), стал самым выдающимся архитектором XX века не в последнюю очередь благодаря умелой саморекламе и неустанной пропаганде «новой архитектуры». Кроме того, он был политически беспринципен и готов работать при любой власти – даже при режиме Виши, – лишь бы строить. Его здания возводились по всему миру, он проектировал и музей в Токио, и столицу целого индийского штата. Однако завоевавшему мировую славу архитектору до конца жизни не давал покоя маленький домик Грей на морском берегу. Погостив там в 1938 году, Ле Корбюзье послал Грей открытку с пылким признанием: «Счастлив сообщить, что за несколько дней, проведенных в вашем доме, я сумел по достоинству оценить тот необычный дух, который диктует его устройство снаружи и внутри. Тот необычный дух, который придает обстановке и инсталляциям такое очарование, благородство и остроумие»{164}. Архитектор был польщен, увидев на вилле Грей воплощение своих фирменных принципов. Приподнимающие постройку над землей изящные стальные опоры (pilotis, как он их называл), которые Грей добавила по настоянию Бадовичи; выход на крышу; горизонтальные окна и открытая планировка – все это напрямую перекликалось с «Пятью отправными точками архитектуры» Ле Корбюзье. Однако, если отбросить формальное сходство, дом Грей довольно сильно отклонялся от его концепции. Различие коренилось в фундаментально ином представлении о функции архитектуры. Грей в открытую спорила с самым знаменитым корбюзианским постулатом. «Дом, – утверждала она, – это не машина для жилья [курсив автора]. Это раковина человека, его продолжение, его отдушина, его духовная эманация»{165}. Руководствуясь этим принципом, она очеловечила машинную стерильность современного ей дизайна игривыми штрихами, такими как кресло «Бибендум» по мотивам мишленовского логотипа, спасательный круг на террасе и каламбуры на стенах.
Еще дальше отходя от канона Ле Корбюзье, Грей отказалась от пропагандируемых мэтром единых, неразгороженных пространств. Его дома с новаторскими ленточными окнами и открытой планировкой стремились к полной прозрачности. Как он сам писал однажды, здание должно быть «архитектурным променадом. Перед вошедшим моментально разворачиваются архитектурные пейзажи»{166}. Здания Грей не столь открыты. Несмотря на роскошные океанские виды, внутри Е-1027 полна перегородок и ширм, которые создают ощущение лабиринта и загадочности. Идеал жилища Грей был куда более замкнутым, чем у Корбюзье. «Цивилизованный человек, – писала она, – понимает интимность некоторых действий; ему нужно уединение»{167}. Многочисленные визуальные преграды в Е-1027 как раз обеспечивают эту интимность, не нарушая простора открытой планировки.
К началу 1930-х отношения Грей с Бадовичи стали натянутыми. Она не могла больше терпеть его неверность и пьяные дебоши. Грей была независимой натурой, не позволявшей связывать себя ни людям, ни вещам, как бы дороги они ей ни были когда-то, поэтому она съехала с созданной ею виллы. После этого Бадовичи жил в Е-1027 один, часто принимая Корбюзье. В 1938 году – возможно, во время того самого визита, который и вдохновил его на хвалебное послание Грей, – Корбюзье попросил у Бадовичи разрешения украсить стены фресками. Получившаяся в результате резкая, кричащая роспись диссонировала со спокойной гармонией изначального дизайна Грей. Фрески, имеющие ощутимое сходство со стилем Пикассо, изображают обнаженных женщин в эротических позах. На части из них, вдохновленной сильно повлиявшим на Корбюзье путешествием в Алжир в молодые годы, виден то ли гарем, то ли бордельные сцены. На большой фреске в гостиной нарисованы две обнаженные женщины с парящим между ними ребенком. У одной из них на груди свастика – Корбюзье никогда категорически не отказывался от своих симпатий к нацистам. О чем говорит эта провокационная картина? Воображаемое рождение на свет нового человека? Намек на сексуальную ориентацию Грей?
Что бы ни подразумевал Корбюзье, фрески сильно оскорбили Грей, считавшую их надругательством над своим творением. Однако никаких действий она не предпринимала – до тех пор, пока в 1948 году Корбюзье не написал о своих художествах статью в журнал. В ней он походя задевает детище Грей. «Дом, который я оживил своей росписью, был довольно мил и вполне мог обойтись без моих талантов, – снисходительно роняет он, тут же добавляя: – Для больших фресок были выбраны самые бесцветные и непримечательные стены»{168}. В довершение всего в статье не упоминалась сама Грей. Уже не первый раз ее имя пытались стереть из анналов истории – очередной пример шовинизма, до сих пор не изжитого в архитектурных кругах, – а в последующие десятилетия авторство Е-1027 нередко приписывалось одному Бадовичи или даже Корбюзье.
После этого Бадовичи написал Корбюзье – по просьбе Грей, как отмечает ее биограф Питер Адам: «В какую тесную клетку ты меня загнал за годы – особенно в этом году – своим тщеславием… [Е-1027] служила полигоном, воплощением глубоко продуманной концепции, формально отвергавшей роспись. Она была исключительно функциональной, на этом она и продержалась так долго». Саркастический ответ Корбюзье явно предназначался Грей:
«Тебе от меня нужно заявление, опирающееся на мой международный авторитет – если я правильно понимаю твои скрытые мысли, – демонстрирующее “качество функциональной архитектуры без прикрас”, которое ты воплотил в доме в Кап-Мартене и которое я уничтожил своим вмешательством. Хорошо, пришли мне фотографическое подтверждение этого торжества чистого функционализма… и я обнародую наш спор перед всем миром»{169}.
Этот непорядочный и лицемерный ответ полностью противоречит его прежнему панегирику вилле. Противоречит он и сделанному Корбюзье недвусмысленному заявлению о росписях. «Я признаю, что фрески предназначались не для того, чтобы украсить стену, – писал он, – а наоборот, чтобы разрушить ее, лишить монументальности, веса и т. п.»{170}
В том же году, когда состоялась эта ожесточенная полемика, Ле Корбюзье прошелся в письме к Бадовичи по различным элементам виллы E-1027. Особенно задевала его перегородка в прихожей. Он называл ее «эрзацем» и предлагал Бадовичи от нее избавиться. Учитывая, что перегородка скрывает жилую комнату от любопытных глаз посетителей, можно предположить, что стенные росписи, как и попытка устранить перегородку, были нужны для того, чтобы придать вилле прозрачность. Одну из фресок – «способ разрушить стену» – Корбюзье нарисовал прямо на перегородке, включив туда сделанные Грей надписи «défense de rire» и «entrez lentement». Символически уничтожая стены, он словно пытался заглянуть вглубь дома, а эротическими сюжетами претворял в жизнь свои вуайеристские фантазии. В архивах сохранилась необыкновенная фотография Корбюзье, расписывающего стены на вилле. На этом снимке он стоит совершенно обнаженный, если не считать очков, – единственная его фотография такого рода. Решение рисовать эти фрески обнаженным говорит о том, что Корбюзье видел в своих действиях первобытное искажение архитектурного пространства. И здесь самое время обратиться к другому пионеру модернизма, австрийскому архитектору Адольфу Лоосу, чтобы пролить свет на противоречивую – и неожиданно обретающую сексуальный подтекст – роль стенной росписи в современной архитектуре. Лоос выступает в данном случае ключевой фигурой, поскольку был одним из первых и самых громких критиков архитектурного украшательства, предвосхищая голый минимализм XX века. Он вдохновлял и Корбюзье, и Грей: от одного его эскиза Грей отталкивалась в первом своем архитектурном проекте. В эссе 1908 года «Орнамент и преступление» Лоос доказывает с характерной для него логикой, что «с развитием культуры орнамент на предметах обихода постепенно исчезает… Потребность первобытного человека покрывать орнаментом свое лицо и все предметы своего обихода является подлинной первопричиной возникновения искусства, первым лепетом искусства живописи. В основе этой потребности лежит эротическое начало… современный человек, ощущающий потребность размалевывать стены, – или преступник, или дегенерат»{171}.

Ле Корбюзье расписывает стены виллы Е-1027 (шрам на бедре оставлен винтом моторной лодки во время несчастного случая на воде)
В своих сочинениях Лоос большое значение придавал отделению общественного фасада от интимного интерьера. Простой белый фасад его зданий в то время воспринимался скандально минималистичным, даже голым. При этом в его интерьерах применяются сложные приемы пространственной композиции и роскошные материалы вроде мрамора и меха, создающие ощущение чувственной близости. Этот же окутывающий, обволакивающий эффект переняла у него для своих интерьеров и Грей, тогда как Корбюзье, напротив, распространяет на свои интерьеры пустоту лоосовского фасада, смешивая публичное и интимное посредством ленточных окон и пространств-гибридов, находящихся одновременно и внутри, и снаружи. В своей замечательной книге «Частное и общественное» (Privacy and Publicity) Беатрис Коломина подчеркивает, что Ле Корбюзье четко осознавал разницу между своим и лоосовским подходами к строительству. «Как-то раз Лоос сказал мне, – вспоминает она, – что цивилизованный человек не смотрит в окно, его окно – матовое, пропускающее лишь свет, а не любопытные взгляды»{172}. В противоположность пропагандируемой Корбюзье прозрачности у Лооса окна обычно закрыты встроенной мебелью, шторами, ширмами – те же приемы впоследствии применит и Грей для усложнения собственных интерьеров. В Е-1027 Ле Корбюзье намеревался собственноручно эти преграды разрушить.
Но он был не единственным из архитекторов XX века, кто обладал вуайеристскими наклонностями. Прозрачность характерна почти для всех современных зданий: за последние 100 лет, прошедших от Стеклянного павильона Бруно Таута 1914 года до «Огурца» Нормана Фостера, традиционная непроницаемость каменной кладки постепенно уступила место невесомой прозрачности. На это есть и технологические причины: такие инновации в строительных конструкциях, как железобетонные рамы и консольные перекрытия, позволили архитекторам сократить число несущих стен и использовать больше стекла, а также обратиться к свободной планировке. Однако не стоит низводить прозрачность до побочного эффекта научно-технического прогресса. Если бы параллельно не менялось и общество, застекленные общественные здания XIX века вроде Хрустального дворца или Паддингтонского вокзала так и не нашли бы аналогов в сфере частного строительства.
Промышленная революция взбаламутила все, что прежде казалось незыблемым: человеческие отношения, социальный уклад и архитектуру. Как писал о современной эпохе Маркс, «все сословное и застойное исчезает». Архитекторы-авангардисты с самого начала понимали архитектурную прозрачность как отказ от буржуазного индивидуализма, который так долго защищали разукрашенные фасады XIX века. «Жить в стеклянном доме – вот наивысшая революционная доблесть», – писал Вальтер Беньямин{173}. Пионеры нового направления – такие как Бруно Таут и Пауль Шеербарт – соглашались и писали утопические манифесты о всеобщем братстве, которое принесут стеклянные дома, позволяющие без труда рассмотреть, чем заняты соседи (хотя представителю XXI века эта идиллия больше напоминает тоталитарный ад). В этом слегка сумасбродном витализме присутствовал и сексуальный подтекст – приверженность нудизму, проистекавшая из веры (которая до сих пор жива в Германии, где нудизм и зародился) в несомненную пользу солнечных и воздушных ванн. А там, где есть секс, есть и сексизм. В своем причудливом романе 1914 года «Серое платье с десятью процентами белого» (Das graue Tuch und zehn Prozent Weiß) Пауль Шеербарт выводит в качестве главного героя архитектора-визионера, который женится на женщине, чьи скромные серые платья идеально гармонируют с его радужными стеклянными постройками. По условиям брачного договора жена обязуется до конца жизни носить унылые серые платья, создавая фон для настоящего шедевра – прозрачных творений мужа-архитектора.
После Первой мировой войны экстатические речи апологетов прозрачности утихли под гнетом суровой действительности, однако было ясно, что личная жизнь – и сексуальность – уже никогда не станет прежней. Тщательно обособляемые «публичные» зоны жилища XIX века – прихожая, гостиная и столовая – постепенно утратили самостоятельность и слились с бывшими личными покоями, образуя популярную сегодня открытую планировку «гостиная-кухня-столовая». Эти пространственные трансформации шли рука об руку с переменами в обществе: среднему классу пришлось в массе своей отказаться от слуг, поэтому кухня превратилась из помещения для готовки в помещение для еды, место общего пользования, где друзья и родственники, собираясь вместе, совершают кулинарные обряды, «принося жертвы на мраморных алтарях кухонной столешницы», по выражению Джейми Оливера.
Новая организация пространства отражала и смену нравов: викторианское целомудрие уходило в прошлое, тема секса теряла статус табу. С исчезновением прислуги из буржуазного лексикона исчезла и фраза «не при слугах», а открытая планировка растопила ледяную чопорность среднего класса. Но на этом процесс не закончился. По мере того как стены превращались в стекло, части тела и действия, прежде считавшиеся интимными, бесстыдно выставлялись напоказ – до такой степени, что теперь от прежде скрытого не знаешь куда деться. Секс-видео с участием знаменитостей, реалити-шоу по телевизору, порнография в Интернете необратимо размывают традиционные границы допустимого, каждый наш жест передают правительству скрытые камеры, каждая высказанная в Сети мысль отслеживается Агентством национальной безопасности. Вуайеризм стал частью современного сознания, перестав быть прерогативой извращенцев и богемных художников. Первые архитектурные воплощения этих перемен появились на заре XX столетия, когда стараниями таких новаторов, как Ле Корбюзье, жилища лишались стен, однако история взаимоотношений архитектуры и секса уходит гораздо дальше в прошлое.
Архитектуре всегда находилось место в историях о любви – хотя бы в качестве места действия, а иногда ей доводилось играть и более активную роль. Один из ранних примеров архитектурной эротики мы находим в древнеримской легенде о Пираме и Фисбе – молодых соседях, которые влюбляются друг в друга вопреки родительской вражде. История эта знает бессчетное количество пересказов (самый знаменитый из которых, разумеется, «Ромео и Джульетта»), отражающих своими трансформациями произошедшие за столетия радикальные перемены во взаимосвязях между интимной жизнью и архитектурой. Первый известный нам пример этой легенды датируется IX веком нашей эры и содержится в «Метаморфозах» Овидия:
Бессердечная стена остается глуха к мольбам влюбленных, поэтому они устраивают тайное ночное свидание у заброшенного склепа. Фисба прибывает первой, однако ее спугивает вышедшая на охоту львица. В спешке девушка теряет платок, который разрывает на части явно недовольная исчезновением добычи хищница с окровавленной после охоты мордой. Появляется Пирам и во время напрасных поисков возлюбленной находит растерзанный и окровавленный платок. Решив, что Фисба погибла, он пронзает себя мечом. В этот момент возвращается Фисба и, обезумев от горя, тоже лишает себя жизни.
Легенда, кроме очевидного вывода о том, чем чреваты опоздания, демонстрирует ключевую роль архитектуры как препятствия к сексу и показывает, что случается с теми, кто пытается его преодолеть. Можно считать эту историю космогоническим мифом взаимосвязи секса и архитектуры: он напоминает, что среди изначальных задач зодчества было и предотвращение нежелательных связей. Во многих культурах стены служили (а иногда и служат до сих пор) препятствием к незаконной любви, первобытным средством закрепления брачных уз, предотвращения супружеской неверности, кровосмешения и прочих табуированных связей. И хотя автор «Метаморфоз» выбирает местом действия древний Вавилон (характерный для классиков неодобрительный кивок в сторону восточной жестокости), подобное практиковалось и в древних Афинах – предполагаемой колыбели западной цивилизации. Афинские женщины не имели ни права голоса, ни собственности и скрывались от посторонних глаз в самой глубине супружеского дома, где в помещении под названием «гимнасий» ткали и занимались детьми. Таким образом, архитектура стояла на страже моногамии. Тем временем мужчины принимали гостей в «андроне» – общественном помещении, предназначенном для обедов и гулянок, для развлечений с гетерами и ведения дел.
Бурная политическая активность афинских мужчин объяснялась исключительно отсутствием необходимости работать. Демократия покупалась ценой подкрепленной архитектурными средствами власти над женами, чей труд наравне с рабским обеспечивал мужской досуг. Роль женщины в греческой архитектуре ярче всего отражают кариатиды, поддерживающие портик Эрехтейона на афинском Акрополе. Эти исполинские женские фигуры навеки придавлены своей ношей, навеки обречены поддерживать поработившее их социальное здание. Активное использование кариатид в западном классицизме наглядно свидетельствует о том, что традиция подчинения женщин жива до сих пор и Ле Корбюзье, рисуя наложниц на стенах виллы Грей, совершал атавистический поступок: он пытался превратить комнату женщины в гарем – в тюрьму, возведенную мужским шовинизмом; в клетку, которой положено быть прозрачной, чтобы не создавать препятствий бдительному мужскому взору. Но Корбюзье опоздал, закрывая дверь конюшни, когда лошадь уже давно скачет на воле.
Однако, прежде чем женщина сбежала из своей архитектурной тюрьмы, прошел не один век – мрачный век, когда церковь возводила для сексуальных отношений преграды покрепче каменных стен. И лишь через 1340 лет после Овидия созданный Боккаччо сборник пикантных историй под названием «Декамерон» станет глотком свежего воздуха в задыхающемся от ханжества Средневековье. В обработанной Боккаччо легенде о Пираме и Фисбе инициатором запретной связи выступает скучающая домохозяйка, запертая ревнивым мужем. Несмотря на все предосторожности ревнивца, она находит щель в стене, отделяющей супружеский дом от соседнего, в котором, по счастливой случайности, проживает симпатичный молодой человек. Бросая камни через стену, женщина привлекает его внимание, и начинаются влюбленные шепотки. Пока все в соответствии с греческим оригиналом, а вот дальше следуют нововведения. Не удовлетворившись разговорами, женщина разрабатывает хитроумный план по устранению мужа с дороги. Сыграв на его ревности, она убеждает супруга, что, пока он спит, в дом проникает другой мужчина. Разъяренный муж решает поймать этого призрачного соперника, еженощно карауля входную дверь, – и пока он охраняет вход, сосед пробирается через (значительно расширенную за это время) щель в стене прямо в постель к хозяйке.
Рассказанная Боккаччо история свидетельствует о том, что сексуальные оковы, надетые на женщину мужчиной, постепенно теряют силу: главная героиня хитростью ломает архитектурную клетку и безнаказанно наслаждается сексуальной свободой. Развязность «Декамерона» продиктована переменами в интимной сфере, главная из которых – принятие как социального факта сексуальной вольности, которая ведет уже не к трагедиям, а к удовлетворению. Общество изменилось, предприимчивость и хитрость ценятся в нем больше, чем средневековая набожность, а нефункциональные для общества нравы преподносятся как вредные и глупые. Однако, несмотря на то что стена Боккаччо куда податливее и уступчивее неприступной стены у Овидия, это по-прежнему стена, и женщина все еще остается пленницей в доме мужа.
Эпоха Возрождения принесла новые перемены: в «Сне в летнюю ночь» история Пирама и Фисбы разыгрывается компанией мастеровых на потеху аристократической публики. Аристократам пока невдомек, но мастеровые эти выступают предвестниками массового общества и его демократизации, поэтому их представления об интимной сфере многое говорят о нестабильности сексуальных нравов в начале Нового времени. Показательно, что стена в «Сне в летнюю ночь» живая и на равных участвует в добывании запретного плода. Роль говорящей стены играет медник Рыло: «Известка с глиной, с камешком должна вам показать, что я и есть Стена».
Эта трансформация – один из первых примеров сугубо современного процесса овеществления, материализации абстрактного. Происходит она от неумения разглядеть формирующие общество капиталистические силы. Утратив осознание того, что ценность создается людским трудом, человек наделяет вещи (товары) самостоятельной ценностью и отводит им социальные роли наравне с собой (так, например, к рынкам применяются термины вроде «лихорадит», «крепнет», «растет» – словно к одушевленным объектам). И если в результате овеществления созданные человеком предметы получают собственную жизнь, живые люди опредмечиваются, воспринимаются как товар, поскольку продать они могут только себя – свое время и свой труд. Приводят эти разнонаправленные тенденции к тому, что стены (возводимые человеком, а значит, подверженные разрушению) воспринимаются как Богом данные преграды, которые могут взаимодействовать с людьми на собственных условиях. Таким образом, социальное положение медника Рыло, перевоплотившегося в стену, в буквальном смысле становится твердокаменным и незыблемым.
Шекспир не только улавливает и отмечает процесс овеществления на заре становления капиталистического общества, его прозорливости хватает и на то, чтобы предвидеть аналог этого феномена в сексуальной сфере – фетишизм. Аналогично обретающим голос ходячим стенам, сдвинутым с места механизмами общественного производства, личные предметы или части тела – например, обувь или ступни – обосабливаются и заменяют собой весь предмет обожания. В «Сне в летнюю ночь» стена уже не просто препятствие, это соучастница действия, откликающаяся на просьбы приоткрыть или расширить щель. А затем, по мере дальнейшего развития овидиевского сюжета, любовь Пирама к Фисбе проецируется и на стену. «О ты, Стена, любезная Стена!» – восклицает Пирам, прижимаясь губами к камню. Так стена становится фетишем. Мы наблюдаем некоторый регресс по сравнению с сюжетом Боккаччо, у которого хитрость побеждает преграды. У Шекспира стена становится полноправной участницей интимных отношений. Так зарождается вуайеризм, потому что вуайерист немыслим без физических и мысленных стен. Ему не нужен открытый обзор, он (обычно это он, а не она) хочет подглядывать, оставаясь невидимым, отделенным от предмета обожания. Поэтому, несмотря на крушение материальных стен (которое происходит со времен Боккаччо), архитектура подавления сексуальности занимает прочное место в человеческом сознании.
У Шекспира виден более психологический подход к сюжету, чем у Овидия и Боккаччо, и это обращение внутрь себя – еще одна характерная черта Нового времени. Своего пика оно достигает в другом виде литературы – псевдонаучных повествованиях, навеянных фрейдистским психоанализом. Однако куда любопытнее развенчанных фрейдистских идей о подавлении и вуайеризме история, рассказанная в его знаменитом эссе 1919 года «Зловещее» (название эссе – Unheimlich – можно перевести и как «неуютное», что дает нам красноречивую архитектурную метафору). В нем Фрейд описывает возникавшее и у него ощущение неуютности:
«Однажды жарким летним днем я блуждал по незнакомым мне улицам одного маленького итальянского городка и вдруг очутился в таком квартале, в характере которого мне недолго пришлось сомневаться. Здесь можно было видеть одних лишь размалеванных женщин у окон маленьких домишек, и я поспешил покинуть эту узкую улочку, свернув у ближайшего поворота. Но, после того как я бесцельно прослонялся еще какое-то время, я вдруг обнаружил, что снова оказался на той же улице, где на сей раз стал привлекать к себе внимание, а мое поспешное отступление имело своим следствием лишь то, что, пройдя каким-то новым окольным путем, я вновь попал туда же. Тут уж меня охватило такое чувство, которое я могу назвать лишь зловещим, и как же я обрадовался, когда, отказавшись от дальнейших исследовательских прогулок, я вскоре нашел пьяццу, через которую незадолго до того проходил»{175}.
Фрейд подает происходящее так, словно эта «зловещая» архитектура склоняет его к разврату: сам город, архитектурное воплощение знойного юга, ловит его сетью узких улочек, из которой он с трудом выпутывается. Но кто в этой истории настоящий пленник? Фрейд скован собственным страхом перед женскими взглядами, однако он волен вернуться на пьяццу, к пристойной общественной жизни. А вот проститутки – действительно пленницы своего борделя, и попытка выбраться в респектабельный квартал наверняка грозит им арестом. Прозрачность витрин – как в амстердамском квартале красных фонарей – никоим образом не улучшает положение женщин, которые выступают такими же пленницами архитектуры, как и древнегреческие кариатиды. Перед нами очередное подтверждение того, что в основе архитектурной прозрачности кроется гендерное начало: мужчина может заглядывать внутрь, женщина должна выглядывать изнутри. Оборотная сторона этого мужского вуайеризма – своеобразная архитектурная паранойя, когда окна в домах препятствуют разглядыванию со стороны женщины. Встречный взгляд появляется в Новое время все чаще и чаще (яркий пример тому – порожденная массовой мужской истерией возмущенная реакция на надменную «Олимпию» Мане), женщины из объекта наблюдения становятся наблюдательницами, и «неуютное» ощущение Фрейда на самом деле отражает удивление и страх мужчины, на глазах которого меняются привычные гендерные роли.

Амстердамский бордель
Смена гендерных ролей набирала обороты в конце XIX–XX веках, и женщины отвоевывали беспрецедентную власть над собственным архитектурным окружением. Литературное отражение этой битвы мы находим в знаменитом эссе Вирджинии Вулф «Своя комната». Вулф задается вопросом, почему история знает так мало женщин-творцов, и приходит к выводу, что ответ надо искать в области экономики и организации пространства: «У каждой женщины, если она собирается писать [книги], должны быть средства и своя комната»{176}. Заканчивается эссе на высокой эмоциональной ноте: Вулф описывает окончательный побег из гимнасия и обретение себя в разных творческих областях: «Миллионы лет женщины просидели взаперти, так что сегодня самые стены насыщены их творческой силой, которая уже настолько превысила поглощающую способность кирпича и извести, что требует выхода к кистям и перьям, делу, политике»{177}.
Примечательно, что эссе Вулф вышло в свет в том же году, когда Грей закончила строительство Е-1027. Первое современное здание, построенное архитектором-женщиной, эта вилла вполне тянет на «собственную комнату», разросшуюся до размеров дома, – это вулканическое извержение издревле сдерживаемой женской творческой силы, о которой говорит Вулф. Однако есть одно но: как видно из названия виллы, Е-1027 была не «комнатой» для одной Грей, а домом для влюбленной пары. В конце концов Грей, которую стали душить отношения с Бадовичи, пришлось бежать из собственноручно построенной тюрьмы, где сама планировка сдавливала в семейных тисках. Уехав, она построила дом в альпийской деревушке Кастеляр – на этот раз для себя лично, но с началом Второй мировой вынуждена была покинуть и его. Не исключено, что она покинула бы его в любом случае. «Я люблю создавать, но не люблю владеть», – сказала она однажды{178}. На нее слишком сильно давили стены, отнимая самое ценное – свободу. Своя комната из конечного этапа самоопределения превращается в очередную ловушку, где свободу заменяет буржуазное погружение внутрь себя (вспомним поток сознания Вулф). В конце концов, своя комната – это собственность, товар, четыре стены, отделяющие нас от других.
Фетишизация архитектуры предстает в приведенных сюжетах метафорой современных тенденций овеществления, однако иногда метафора превращается в самую что ни на есть шокирующую действительность. В 1979 году женщина по имени Эйя-Рита Эклеф вышла замуж за Берлинскую стену, получив в замужестве фамилию Берлинер-Мауэр (в переводе с немецкого – «Берлинская стена»). Фрау Берлинер-Мауэр была не чудачкой-одиночкой, а участницей группы объектофилок, как они сами себя назвали, основанной некой Эрикой Эйфель, которая состояла в браке… думаю, вы уже догадались с чем. Объектофилок объединяет влечение к неодушевленным предметам – в первую очередь крупным архитектурным сооружениям, хотя, как признается госпожа Берлинер-Мауэр, «мне нравятся и другие предметы промышленного производства – мосты, заборы, железнодорожные пути, ворота ‹…›. У них у всех два общих признака: они прямоугольные или имеют параллельные линии и они что-то разделяют. Этим они меня и манят». Итак, преграда может вызывать влечение.
Можно считать этот доведенный до абсурда фетишизм уделом извращенного либидо, однако на самом деле это лишь крайнее проявление более общей тенденции, обозначенной еще Шекспиром в «Сне в летнюю ночь». Когда Пирам и Фисба переносят свою любовь друг к другу на разделяющую их стену, живую и отзывчивую, они попадают в фаустовскую ловушку овеществления, которое оживляет окружающий мир, но очерствляет душу. Фрау Берлинер-Мауэр – крайний случай, однако Берлинская стена (в действительности разделившая немало счастливых пар) обладала куда более широким возбуждающим воздействием, как подметил Дэвид Боуи в своей песне «Герои» (Heroes). На первый взгляд может показаться, что Боуи поет о двух героических влюбленных, разделенных железным занавесом. Однако если вслушаться (и заметить неслучайные кавычки)…
На самом деле Боуи высмеивает браваду парочки (прототипами которой послужили продюсер Боуи Тони Висконти и его девушка из Западной Германии), встречавшейся у западной части стены. Целуясь, они воображают, будто бросили вызов всему миру, тогда как на самом деле стена просто служит для них афродизиаком. По иронии судьбы, недопонятая песня Боуи сильно укрепила романтический имидж Берлинской стены в западном сознании, и наверняка именно под ее мелодию проходили сотни свиданий. Однако если для слушавших Боуи и приверженцев романтического мифа о Берлине времен холодной войны стена имела лишь символическое значение, то некоторые стены обладают куда более сильным возбуждающим потенциалом. Речь идет о гомосексуальных сношениях через дыру в тонкой перегородке, которая только усиливает анонимность участников изначально анонимного полового акта.
Логично предположить, что практика сношений через проделываемые в перегородках туалетных кабинок отверстия появилась в более строгие времена, когда анонимность была необходима для защиты репутации скрытых гомосексуалов. Однако практика эта существует по сей день, из чего следует вывод, что перегородки и анонимность не теряют возбуждающих свойств. Перегородка с отверстием, как и положено в фетишизме, отделяет член от тела, низводя партнера до полового органа, лишенного каких бы то ни было человеческих качеств, кроме эрекции. Как и в истории фрау Берлинер-Мауэр, ключевая роль здесь принадлежит разделению: разъединению людей и дроблению человеческого тела на части. Печальное свидетельство того, до какой степени очерствило овеществление человеческую душу, – и в то же время вдохновляющая демонстрация того, как сексуальность способна преодолеть любую преграду, даже ценой частичного вовлечения преграды в процесс. Ирония в том, что процесс вовлечения отражает стремление настоящих стен становиться прозрачными или таять в открытой планировке. Испокон веков существовавшие физические преграды исчезают, перевоплощаясь (после пришедшейся на период творчества Боккаччо краткой передышки на пороге капиталистической эпохи) в преграды моральные.
Последним примером архитектурного эротизма в этой главе будет история о том, что происходит при попытке разрушить эти стены вместо того, чтобы ужиться с ними. Фильм Райнера Вернера Фассбиндера «Замужество Марии Браун» посвящен стараниям женщины выжить и обрести благополучие в лицемерной материалистической послевоенной Германии. И хотя фильм метафорически отражает судьбу западной половины поделенной на две части страны, сама Берлинская стена в кадре не появляется – ее заменяют другие преграды.
Сюжет начинается с того, что Мария выходит замуж накануне наступления союзных войск на Берлин. Начальные кадры показывают разрываемую взрывом фотографию Гитлера на стене, и в образовавшую дыру мы видим Марию и ее жениха, расписывающихся в ратуше. После войны Мария, считающая мужа погибшим, вынуждена пробиваться сама, и она безжалостно эксплуатирует свой эротический потенциал, ложась в постель с любым полезным ей мужчиной. В процессе она проходит путь от Trümmerfrau («щебенщицы» – так называли женщин, расчищавших от развалин города послевоенной Германии) до секретарши, а затем ответственной сотрудницы процветающей западногерманской корпорации. В конце концов, достаточно разбогатев, она покупает высший символ финансовой независимости и буржуазного успеха – собственный дом. И только тогда осознает, что это не дом, а тюрьма, и подъем к нему по карьерной лестнице на самом деле был спуском в ад. В двусмысленной финальной сцене Мария, не выключив газ, зажигает сигарету и взрывает дом вместе с собой и мужем.
Фильм заканчивается так же, как и начался, – взрывом и грудой щебня, Мария снова становится «щебенщицей». Но случайна ли ее смерть? Возможно, самоуничтожение Марии Браун – попытка окончательно сбежать из архитектурной ловушки, которой мы якобы владеем, но которая на самом деле владеет нами и ограничивает нашу половую жизнь четырьмя стенами буржуазной одомашненности. Ее поступок – поступок «деструктивного персонажа», как называет их Вальтер Беньямин: «Там, где другие видят стену или гору, он видит выход ‹…›. Он крушит все вокруг – не ради самого крушения, а ради того, чтобы выбраться»{179}. Однако в пессимистичной фасбиндеровской версии к освобождению приводит только смерть.
* * *
Последнее действие моей пьесы начнется еще с одного взрыва. Бомбя в 1944 году Сен-Тропе, отступающие немецкие войска уничтожили и квартиру, которую в городе снимала Грей, вместе со всеми ее эскизами и блокнотами. Кроме того, немцы разграбили ее дом в Кастеляре, а стены Е-1027 использовали для учебной стрельбы по мишеням (нарисованная Корбюзье фигура со свастикой была вся изрешечена пулями, словно перед ней регулярно проводили расстрелы). Не в силах видеть уничтожение дела своей жизни, Грей вернулась в Париж. Впоследствии она построила еще один загородный дом под Сен-Тропе, в свои 75 сама руководя работами, но в Е-1027 так и не вернулась.
А вот страсть Ле Корбюзье к этой вилле не утихала с годами. Он купил участок с видом на виллу Грей и в 1952 году соорудил там крохотную постройку – деревянную пастушью хижину, cabanon, как их называют на юге Франции. Этот однокомнатный летний домик был его подарком жене Ивонн и, подобно Е-1027, шедевром минимализма. Удобства там были самые примитивные, зато 14 кв. м площади не казались тесными. Под фальшивым потолком скрывалось дополнительное пространство для хранения, мебель в основном была встроенная или складная, а за шторой прятался идеально вентилируемый, по утверждению самого Корбюзье, туалет. В кухне необходимости не было, поскольку в соседнем доме находился любимый местный ресторанчик Корбюзье, где они с женой каждый день и обедали.
Если отбросить роднящий два этих жилища минимализм (причем у Корбюзье получилась куда более спартанская версия, чем у Грей), огромное отличие виллы Е-1027 бросается в глаза, когда смотришь на окна «хижины» Ле Корбюзье. В противовес сплошным стеклянным стенам, которые он пропагандировал в большинстве своих проектов, в хижине всего два небольших квадратных окошка с видом на море. На ставнях нарисованы эротические сцены, а на противоположной стене – большое изображение человека-быка с гигантским фаллосом. Перед нами классический пример вуайеризма: для чужих жилищ архитектор проектировал окна, в которые можно заглянуть, а в единственном построенном для себя доме – окошки-бойницы, из которых можно только выглядывать. «Я существую лишь при условии, что могу смотреть», – писал он однажды. Хижина напоминает примостившееся на утесе укрытие орнитолога, а картинки на внутренней стороне ставень, как и фрески в Е-1027, словно по волшебству придают окружающей действительности желаемый вид.
Постройка хижины не ослабила стойкий интерес Ле Корбюзье к Е-1027. После смерти Жана Бадовичи вилла перешла к его сестре, румынской монахине, а затем была выставлена на аукцион. Видимо, опасаясь, что личное участие в торгах привлечет ненужное внимание, Ле Корбюзье купил дом через свою швейцарскую знакомую Мари-Луизу Шельбер. Подергав за нужные ниточки, архитектор устроил так, чтобы, несмотря на перебивающую ставку от некоего мистера Онассиса, дом достался именно Шельбер. В дальнейшем он строго следил за тем, чтобы Шельбер содержала виллу должным образом, не позволяя, например, убирать оттуда мебель, и регулярно наведывался туда, когда жил в своей хижине по соседству – до самой своей гибели под окнами виллы.
Итак, мы вернулись туда, откуда начали эту главу, однако загадочная история виллы Е-1027 на этом не заканчивается – хотя кардинально меняет тон. Из повести о сексуальной одержимости она превращается в дешевый бульварный триллер. Где-то в 1980 году некий доктор Хайнц-Петер Кэги вынес из Е-1027 почти всю мебель и глухой ночью перевез к себе в Цюрих. Три дня спустя его пациентка Мари-Луиза Шельбер была найдена мертвой в своей квартире, а Е-1027 перешла в собственность Кэги. Дети мадам Шельбер, заподозрив обман, попытались опротестовать завещание, но попытка успехом не увенчалась.
Как гласит молва, Кэги устраивал на вилле оргии, соблазняя местных парней наркотиками и алкоголем, пока однажды ночью 1996 года не был убит двумя молодыми людьми в спальне-будуаре. Преступники, утверждавшие, что Кэги нанял их на садовые работы и отказался платить, вскоре были пойманы на швейцарской границе и посажены за решетку. Бесхозная Е-1027 начала ветшать. Туда вселились сквоттеры, и оставшаяся меблировка была либо украдена, либо разбита. Многочисленные попытки сохранить здание потерпели фиаско, пока наконец там не начались реставрационные работы по восстановлению росписей Корбюзье и дом не перешел под государственную опеку. По горькой иронии судьбы, именно нежелательное вмешательство Корбюзье в дизайн виллы в конце концов способствовало ее спасению как исторического памятника и привлекает к ней больше всего внимания. Однако и после многолетней слабо финансируемой и вызывающей бесконечные нападки реставрации вилла до сих пор не открыта для публики.
Что же увековечивает Е-1027 как исторический памятник? Ее, несомненно, можно считать вехой, отмечающей момент, когда женщина наконец отвоевала себе право строить, хотя борьба эта, несмотря на громкую славу женщин-архитекторов вроде Захи Хадид, не окончена до сих пор: архитектура была и остается одной из самых мужских профессий. Однако помимо этого вилла Грей увековечивает и другой аспект, куда более зыбкий и трудноуловимый, – момент сопротивления. Интернализация стен (превращение во внутренние преграды) за счет овеществления и фетишизма, скорее всего, неотвратима, как бы Грей ни пыталась сбежать от них, то и дело переезжая и начиная с чистого листа. Эта тяга к перемене мест согласуется с сугубо модернистским императивом, который Брехт назвал «Заметай следы»:
Однако сколько бы мы ни бросали все нажитое и не бежали от изживших себя отношений (даже из виллы Е-1027 с ее переносной походной мебелью, идеально подходящей для современного кочевого образа жизни, или с одним чемоданом, как Вальтер Беньямин), нам никуда не скрыться от собственной души, от привязанности к вещам, которая ловит нас в свой капкан. Но, если вилле Грей и не удается избежать традиционной буржуазной одомашненности, она успешно сопротивляется другой современной тенденции, главным апологетом которой был Ле Корбюзье, – радикальному избавлению от стен. Можно считать пропагандируемую им прозрачность утопичной попыткой отстоять человеческую сексуальность, сопротивлением буржуазному ханжеству. Однако вуайеризм Корбюзье на этом не останавливается, превращаясь в квазитоталитарный надзор, убивающий сексуальность на корню: достаточно посмотреть шоу «За стеклом» или посетить нудистский пляж, чтобы убедиться, насколько антиэротично полное оголение. И действительно, после того как корпорации превратили архитектурную прозрачность в символ (несуществующей) прозрачности бизнеса, изначальные благие намерения оказались более хрупкими, чем стекло, из которого строятся эти здания. Дом Грей (в этом отношении лишь наполовину дом) с его ленточными окнами, ширмами, перегородками подхватывает стремление к прозрачности, в то же время героически (но недостаточно сильно) сопротивляясь его нежелательным аспектам. Есть ли в принципе в наше время веб-камер, стеклянных башен, охранного видеонаблюдения, общедоступной порнографии и реалити-шоу возможность сбежать от полной прозрачности – другой вопрос.
Дополнительная литература
Peter Adam, Eileen Gray (London, 1987).
Beatriz Colomina, Privacy and Publicity (Cambridge, MA, 1994).
9. Лечебно-оздоровительный центр в Финсбери, Лондон
(1938)
Архитектура и здоровье
Когда я был еще совсем ребенком, ничья из судеб библейских мужей не казалась мне столь несчастной, как судьба Ноя, который из-за потопа был на сорок дней заточен в ковчег. Позже я часто болел и в течение многих дней тоже должен был оставаться в «ковчеге». Тогда я понял, что, только находясь в ковчеге, Ной мог видеть мир, несмотря на то что ковчег был заперт и на земле была ночь{181}.
Марсель Пруст. Утехи и дни

Запрещенный в 1942 году агитационный плакат Абрама Геймса с изображением Финсберийского лечебно-оздоровительного центра
Невидимые в кромешном мраке затемненного Лондона фигуры в касках, вооруженные лишь ведрами с песком, высматривали с башен и крыш – кто пристально, а кто со скукой – сыплющиеся с неба немецкие «зажигалки». Среди этих дежурных был и индийский иммигрант доктор Чуни Лал Катьял.
Привлекательный человек с социалистическими взглядами и хорошими связями (на фотографии 1931 года он снят с Чарли Чаплином и Махатмой Ганди), доктор Катьял не так давно стал первым в Британии мэром азиатского происхождения. Кроме того, он был председателем государственного комитета здравоохранения в Финсбери, и особую остроту его дежурствам на крышах придавала угроза его собственному детищу – Финсберийскому лечебно-оздоровительному центру. Доктор Катьял создавал его в 1938 году потом и кровью, а теперь здание стояло наполовину погребенное под мешками с песком – неизбежная мера предосторожности, учитывая, что большая часть фасада в лучших традициях модернистской архитектуры была выполнена из стеклоблоков (стеклоблоки потрескались под давлением, но в остальном здание благополучно пережило войну). В данном контексте знакомая нам прозрачность обрастала новыми ассоциациями со здоровьем. Вера в оздоровительную силу солнца по-прежнему не иссякала, и если днем стеклоблоки пропускали целительные лучи снаружи, то вечером здание светилось собственным электрическим светом (приглушенным на время войны, чтобы спрятаться от люфтваффе), словно маяк посреди трущобного мрака и убожества.
Надо сказать, что вовсе не для пущего драматического эффекта мы начинаем рассказ об архитектуре и здоровье в такой тревожной обстановке. Даже если вопреки Гераклиту не считать войну «отцом всего», современное здравоохранение своим появлением на свет обязано именно ей: расцвет государств и империализма, потребовавший создания профессиональной регулярной армии, заставил правительство по-новому взглянуть на численность и здоровье нации. Военные и военно-морские госпитали Британии XVIII века служили примером для архитекторов всей Европы, а суровый опыт лечения больных и раненых во время Крымской войны (1853–1856) побудил Флоренс Найтингейл развернуть долгую кампанию за реформирование госпиталей на родине. И наконец, слабое здоровье добровольцев англо-бурских войн (1880–1902) вызвало в Британии национальный скандал: годными к военной службе оказались лишь две пятых из них, и страх перед ослаблением и распадом империи послужил стимулом к улучшению жилищных условий рабочего класса.

Доктор Чуни Лал Катьял (слева во втором ряду) принимает Чарли Чаплина и Махатму Ганди у себя дома в лондонском Ист-Энде в 1931 году
Однако, несмотря на предпринятые шаги, здоровье нации и в 1930-х оставалось в удручающем состоянии. Главным врагом был туберкулез, уносивший по 30 000–40 000 жизней в год. Не вызывало сомнений, что такая его распространенность связана с антисанитарией и теснотой. Финсбери с его характерной для трущоб высокой плотностью неимущего населения был настоящим рассадником заразы. Состояние жилого фонда заставляло содрогнуться: он включал 2500 подвалов, при этом 30 % населения проживало по двое в комнате. Как следствие, средняя продолжительность жизни у мужчин составляла 59 лет, а уровень смертности на 18 % превышал хэмпстедский, где плотность населения была гораздо ниже. Но в таких местах, как Финсбери, возник еще один стимул улучшать здравоохранение – муниципальный социализм.
В 1934 году прошли первые выборы в рабочий совет – и на уровне административного района, и на уровне Лондона, – результатом которых явился План Финсбери, предполагавший расчистку трущоб и строительство школ, жилья и медицинских учреждений. Одним из первых плодов этой программы и стал оздоровительный центр. Объединивший весь спектр медицинских услуг под одной крышей, сделавший их бесплатными и доступными, центр предвосхитил появление такого уникального британского института, как Государственная служба здравоохранения. Политическое значение новостройки было предельно понятно современникам, однако общественную реакцию вызывало разную: на военном плакате, нарисованном в 1942 году Абрамом Геймсом, за нарядным фасадом центра скрывается грязный подвал, в котором прячется худосочный мальчишка. Неоднозначный лозунг на плакате призывал: «Твоя Британия – сражайся за нее!» Военный кабинет принял плакат в штыки, и Уинстон Черчилль отдал приказ уничтожить весь тираж. «Может, Черчилль и был великим военачальником, – вспоминал позже Геймс, – но в трущобы он не наведался ни разу. Я видел в войне возможность привлечь внимание к нуждам британцев, а он, я полагаю, принимал сторонников социальных программ за коммунистов»{182}.
Архитектура и здоровье всегда были неразрывно связаны с достатком. До XX века больницы предназначались только для бедных – богатые могли позволить себе домашнего доктора. Это вело к совершенно разному восприятию болезни и, хотя медицина зачастую оказывалась бессильна, к разному ее исходу, поскольку бедняки редко выходили из убогих больниц живыми.
Один богатый и знаменитый больной по имени Марсель Пруст, сын прославленного врача (чья книга «Гигиена и лечение неврастеников» читается как справочник наблюдавшихся у сына симптомов), до конца своих дней страдал от разнообразных недугов. Три последних года жизни Пруст провел в герметичной обитой пробкой комнате, куда не проникали звуки, запахи и солнечный свет, раздражавшие и отвлекавшие от работы. Комнату воссоздали впоследствии в парижском музее Карнавале, заново обив пробкой, поскольку исконные панели почернели от сажи: Пруст постоянно жег там порошки против астмы, что вкупе с арсеналом депрессантов и антидепрессантов, к которым он питал пристрастие, пагубно сказывалось на его здоровье. Изолированный от общества и частенько накачанный сильнодействующими средствами, Пруст вспоминал персонажей из своего прошлого, ограничивая все многообразие жизненных перипетий узкими рамками болезней.
Болезнь, кроме прочего, влияет и на восприятие пространства, будь то пляшущие в горячечном бреду стены комнаты, или ограниченный спальней, уборной и перемещениями между ними мир тяжелобольного, или почти непреодолимая полоса препятствий, в которую превращается окружающая действительность для инвалида. Таким образом, взаимосвязь между архитектурой и здоровьем возникает не только в больницах и клиниках, но и в повседневной жизни.
За 10 лет до строительства Финсберийского лечебного центра в южной части Лондона уже предпринимались попытки оздоровить быт. Так называемый Пекемский эксперимент начали врачи Иннес Пирс и Джордж Уильямсон, намеревавшиеся исследовать здоровье и жизненный уклад жителей рабочего квартала с целью улучшить и то и другое. Как и многие реформаторы того времени, задачи они ставили евгенические – «чтобы плодились и размножались только здоровые», поэтому эксперимент начался с небольшого клуба, за шесть пенсов в неделю предоставлявшего местным семьям репродуктивного возраста услуги присмотра за детьми, юриста, прачечной и помещения для встреч{183}. В обмен врачи получили возможность проводить периодические осмотры участников клуба. Результаты оказались плачевными: по итогам осмотров лишь 9 % не были подвержены «болезням, недугам и немощи», – поэтому врачи решили создать в Пекеме более основательное заведение.
На средства богатых филантропов, также тревожившихся о репродуктивном здоровье нации, Пирс и Уильямсон наняли архитектора Оуэна Уильямса, который спроектировал сияющее стеклянными стенами здание, снискавшее похвалу самого директора Баухауза Вальтера Гропиуса. Тот назвал его «стеклянным оазисом в кирпичной пустыне». Открытый в 1935 году Пионерский лечебно-оздоровительный центр представлял собой трехэтажное здание с внутренним двором, в котором находился бассейн. На бассейн открывался вид из кафетерия и кабинетов: предполагалось, что плавающие вдохновят своим примером остальных. В этом и состояла философия Пекемского эксперимента: вместо того, чтобы внушать семьям необходимость совершенствования, врачи будут показывать им наглядные примеры правильного образа жизни, на которых подопечные станут учиться и передавать опыт другим. Отсюда и прозрачный фасад, призванный пропагандировать оздоровление обществу в целом. Казалось бы, похвальное отсутствие диктата и назидательности, однако на самом деле решение «пустить все на самотек» было продиктовано евгеническими мотивами: победа останется за носителями «достойных» генов – за сильнейшими, способными правильно распорядиться собой. Прозрачность здания, кроме всего прочего, позволяла врачам наблюдать сквозь стеклянные стены за участниками экспериментов, «подобно цитологу, который рассматривает в микроскоп растущие клетки»{184}.
Перед Финсберийским лечебным центром ставились совершенно другие задачи. Пекем не был трущобным районом, большую часть его обитателей составляли ремесленники и квалифицированные рабочие, в отличие от гораздо более бедного Финсбери. В худшую сторону отличалось и здоровье финсберийцев, что прекрасно сознавал доктор Катьял. Поэтому свой центр он задумывал не как чашу Петри для человекообразных бактерий, а как лечебницу. Свою модель он нашел на конференции Британской медицинской ассоциации в 1932 году, где радикально-новаторское архитектурное бюро Tecton представило проект туберкулезного санатория для Ист-Энда. Этот тип медицинского учреждения олицетворял прогрессивные для того времени тенденции в строительстве, поэтому представлял собой идеальный полигон для группы молодых архитекторов, желающих заявить о себе.
Не стоит удивляться тому, что модернизм слился в «пляске смерти» с туберкулезом. Сельские жители стекались в грязные трущобы больших промышленных городов, создавая крупные рассадники инфекции, поэтому на рубеже XIX–XX веков главным бичом взрослого населения Европы и США стал туберкулез. До выяснения бактериальной природы этой смертельной болезни ее возбудителями считались плохой воздух, грязь и наследственность. И лишь когда Роберт Кох в 1882 году увидел в микроскоп бациллы, подтвердилась гипотеза о передаче инфекции воздушно-капельным путем, однако до получения антибиотика в 1946 году лечение сводилось к чисто символическим мерам пополам со знахарством. Считалось, что туберкулез лечится солнцем, свежим воздухом и покоем, поэтому богатые больные косяками отправлялись в Альпы «на оздоровление» – этот феномен описал Томас Манн в своей «Волшебной горе». В его романе 1924 года недалекий обыватель Ганс Касторп приезжает навестить болеющего туберкулезом двоюродного брата, проходящего лечение в горах, и обнаруживает, что идеально вписывается по складу характера в неведомый до тех пор мир туберкулезного санатория. Прибывший «снизу», как презрительно называют больные остальной мир, Касторп видит длинное здание «с множеством балкончиков, благодаря чему оно издали напоминало пористую губку со множеством ячеек»{185}. Балконы несли функциональную нагрузку: именно там пациенты отбывали ежедневный двухчасовой Freiluftkur – «сеанс воздушных ванн» на шезлонгах, которые тоже прочно утвердились в современном дизайне. В качестве одного из самых знаменитых примеров можно назвать кресло «Паймио», созданное Алваром Аалто для своего финского санатория.
Вспыхнувшую у Ганса Касторпа любовь к санаторию разделили дизайнеры по всей Европе, применявшие принцип «оптической гигиены» (позаимствуем термин у профессора Баухауза Ласло Мохой-Надя) ко всем зданиям подряд – и общественным, и жилым. Большие окна, плоские крыши (для солнечных ванн, даже не в самом солнечном климате), хромированная мебель и белые стены усиливали сходство с больницей, а архитекторам придавали облик лабораторных ученых, который ассоциировался теперь с медицинской профессией. Метафора стала настолько шаблонной, что ее начали высмеивать. «Современный человек родится в клинике и умирает в клинике, так пусть и живет как в клинике!» – писал Роберт Музиль в «Человеке без свойств»{186}. Гигиена превратилась в выразительный модернистский стилистический прием, выступающий проводником самых разнообразных идей. К эстетической функции новизны и чистоты добавлялось, например, снятие нервного напряжения, создаваемого современным городом, как в безмятежно белом санатории для нервнобольных в Пуркерсдорфе близ Вены, истинной столицы невроза. В этом санатории лечились в свое время Малер, Шенберг и Шницлер. В более зловещем смысле гигиена могла означать и расистскую гигиену – евгенику, как мы уже убедились на примере Пекема. С другой стороны, она могла олицетворять отказ от мещанского нагромождения в интерьере и неравномерного распределения отходов индустриального общества, как показывает другой пример – знаменитый санаторий в голландском Хилверсуме под названием «Зоннестрал» («Солнечный луч»).
Построенный Яном Дейкером и Бернардом Бейвутом между 1925 и 1931 годами, санаторий представляет собой почти невесомую цементную конструкцию, воспевающую целительную силу света. Под светом в данном случае подразумевалось и политическое просвещение, поскольку санаторий был не курортом для богачей, а здравницей профсоюза гранильщиков алмазов – самого крупного и состоятельного из голландских профсоюзов. Гранильное дело было прибыльным, но опасным, поскольку алмазная пыль, образующаяся в процессе огранки, поражала легкие. И было вполне справедливо, что деньги, вырученные от продажи этой пыли, пойдут на строительство сияющего санатория, где рабочие будут дышать целительным сосновым ароматом окружающих лесов.
Финсберийский лечебно-оздоровительный центр появился на свет на волне международной популярности социально ориентированного, гигиеничного, современного дизайна. Самый знаменитый из сотрудников проектировавшего его бюро – Бертольд Лубеткин имел безупречное модернистское происхождение: родился в богатой еврейской семье в грузинском Тифлисе в 1901 году, в 1917-м отправился в Москву изучать искусство и наблюдал революцию из окна своей комнаты. Раннее столкновение с политическим радикализмом и бурлящая творческая атмосфера революционной России оставили неизгладимый отпечаток на его архитектурном творчестве: он всегда помнил время, «когда история крушила рамки обыденного», как «безграничную, упоительную радость». Более поздняя сталинская доктрина Лубеткина не прельщала, и он с сожалением добавлял, что свобода «оказалась недолгой»{187}. После десятилетних переездов по Европе и недолгой учебы в Париже у ведущего специалиста по строительству из железобетона Огюста Перре, учеником которого был и Корбюзье, в 1931 году Лубеткин перебрался в Лондон.
В отличие от многих беженцев из тоталитарной Европы, он обосновался в Англии надолго. Остальные двигались дальше, в манившую относительной открытостью Америку, но харизматичному и амбициозному молодому архитектору Лубеткину пыльная старая Англия показалась куда более перспективной. Он примкнул там к небольшому, но достаточно яркому модернистскому кружку и именно с его участниками, включая будущего автора Национального театра Дениса Ласдуна, создал мастерскую Tecton – сокращение от architecton («архитектура» по-гречески). Для Британии бюро было уникально тем, что делало имя всему коллективу, тем самым пропагандируя дух совместного творчества в противовес до сих пор существовавшей феодальной традиции, когда группы безымянных младших сотрудников корпели над проектами, под которыми затем ставил подпись архитектор с громким именем. В эпоху экономической депрессии такая радикальная группа не имела широких возможностей для творчества, однако в 1934 году мастерской удалось заявить о себе на самом малоподходящем для этого проекте – бассейне для пингвинов в Лондонском зоопарке. Знаменитый пандус в виде двойной спирали, появившийся благодаря инженерному опыту Ове Арупа (который еще много лет будет сотрудничать с Tecton и Лубеткиным), представлял собой раннюю вариацию на тему одной из ключевых идей Лубеткина – социального конденсатора. По замыслу конструктивистов, разработавших концепцию, здание социального конденсатора должно было вовлекать людей в новые взаимоотношения, готовя почву для нового образа жизни. Пусть объединение пингвинов обладало куда меньшим революционным потенциалом, однако в данном случае дизайн выполнял пропагандистскую функцию, рекламируя мастерство Tecton и футуристические возможности современной архитектуры публике в целом – и потенциальным заказчикам в частности.

Созданный мастерской Tecton бассейн для пингвинов в Лондонском зоопарке демонстрировал игровой характер современного дизайна
В конце концов Tecton удалось применить на практике свои идеи архитектуры социального назначения: в 1935 году доктор Катьял, вдохновленный проектом туберкулезного санатория, заказал мастерской лечебно-оздоровительный центр для Финсбери. Получившееся здание стало первым модернистским проектом, созданным в Британии по инициативе муниципальных властей и резко выделявшимся своими белыми стенами и прозрачными стеклоблоками на фоне окружающей нищеты. Однако в нем присутствовал и отчетливый классический колорит – спокойная симметрия и боковые корпуса, распахивающие объятия, как колоннада собора Святого Петра в Риме. По небольшому пешеходному мостику через газон, выполняющему роль своеобразной ковровой дорожки, посетитель попадал в ярко освещенный вестибюль с непринужденно сгруппированными вокруг столиков креслами. В отличие от привычных унылых приемных с рядами выстроенных по линейке стульев, обстановка вызывала ассоциации с клубом, куда можно заглянуть в любое удобное время, не испытывая страха перед грозными врачами. Другими словами, медицинский центр – как и бассейн для пингвинов – должен был играть роль социального конденсатора, но на этот раз для людей. Выполненная Гордоном Калленом роспись стен добавляла непринужденности, призывая посетителей: «Как можно больше бывайте на воздухе!» Слегка повелительный тон подчеркивает двойное назначение здания: от него требовалось стать не просто клубом, но и «рупором здоровья», просвещающим местное население и осуществляющим не только лечение, но и профилактику. Однако решалась эта задача не так, как в Пионерском лечебно-оздоровительном центре в Пекеме: вместо жутковатого евгенического подтекста здесь присутствовало открытое пространство для просвещения и взаимодействия. Стоит порадоваться тому, что именно этот подход переняла Государственная система здравоохранения, а Пекемский эксперимент исчерпал и себя, и выделяемые на него средства, и Пионерский лечебно-оздоровительный центр был перестроен (что закономерно) под элитное жилье.
Финсберийский центр включал в себя одну из первых женских клиник, туберкулезный диспансер, морг, стоматологическое и ортопедическое отделения, санитарно-обмывочный пункт, а также жилое помещение, куда можно было переселиться на время дезинсекции. Здание делилось на центральный и боковые корпуса – в центральном находились постоянные службы, такие как регистратура, лекторий и уборные, а в крыльях – медицинские и административные кабинеты, которые по мере необходимости можно было перегруппировывать или объединять с коридором. Тем самым Tecton отдавал дань стремительному развитию современной медицины и ниспровергал статическую симметрию традиционной планировки: классическая архитектура (любая архитектура, по сути) не предполагает перемен, тогда как это здание именно с прицелом на социальные перемены и строилось. По английским меркам это была революционная концепция, попытка решить извечную проблему медицинских учреждений, ведь здоровье и жизнь, в отличие от монолитного бетона или мрамора, текучи и изменчивы. Своей гибкостью лечебный центр продолжал традицию фордовского завода «Руж» – заодно символически обозначая родство государства благоденствия с фордистским капитализмом. Хоть Форд и распустил социологический отдел, идея его продолжала жить, только теперь не в корпоративном, а в государственном сознании. Социальные программы помогали контролировать и дисциплинировать рабочих не только на производстве, но и дома, и на отдыхе, добиваясь максимальной производительности.

Поначалу Финсберийский лечебно-оздоровительный центр окружали викторианские трущобы
Тем не менее ориентированная на будущее планировка не отменяет того, что здание в равной мере оглядывалось и в прошлое: строительство двух крыльев, призванных обеспечить максимальный доступ дневного света и свежего воздуха, было продиктовано устаревшими медицинскими представлениями – так называемой теорией миазмов. С античных времен очаговое распространение определенных заболеваний наводило людей на мысли, что эти недуги вызывает дурной воздух – миазмы от продуктов гниения. Поэтому больницы «павильонного» типа строились с учетом этой теории – отдельные корпуса для каждого отделения, обеспечивающие свободную циркуляцию свежего воздуха. То, что столь древние идеи не находили отражения в архитектуре вплоть до XVIII столетия, объясняется тем, что до тех пор больницы строились вовсе не для лечения: в Средние века их заменяли богадельни – фабрики призрения и милосердия.
Изначально создававшиеся при крупных монастырях богадельни давали паломникам возможность отдохнуть; бедным, больным и престарелым – оказаться в заботливых руках и отойти в мир иной с совершением всех необходимых обрядов, а заботящимся о них – очистить душу добрыми делами. Планировка богаделен, как и монастырей, при которых они существовали, подчинялась религиозным требованиям, как в странноприимном доме во французском городе Тоннер. Здесь недужные лежали на койках в огромном зале, в одном конце которого помещалась освещенная часовня, расположенная так, чтобы больные могли видеть или хотя бы слышать службу (традиция причащения Святыми Дарами отмерла еще в Средневековье, теперь для спасения достаточно было просто лицезреть их).
В XIV–XV веках богатеющие и обретающие все большее могущество купцы и предприниматели начали основывать благотворительные организации. В то же время на волне вновь вспыхнувшего интереса к античности стал возрождаться классический стиль в архитектуре. Одна из самых успешных попыток объединить классическую и христианскую традиции была предложена для Милана итальянским архитектором Филаретом. Его Оспедале маджоре (Большая больница) делилась на две части. В левой четыре мужские палаты располагались крестом вокруг центрального алтаря, который видно было с любой койки, в правой находилось женское отделение с такой же планировкой. Периметр образовывали административные здания, а восемь внутренних дворов были отданы под ледник, аптеку, дровяной склад и кухню. Посреди центрального двора стояла церковь. Весьма рациональная планировка, если, конечно, полагать главной функцией больницы спасение души. В последующие столетия планировка в форме креста распространилась по всей Европе. Одно из таких зданий, спроектированное немецким архитектором Фуртенбахом в середине XVII века, напоминало очертаниями распятого Христа, который, как писал сам Фуртенбах, «простирает животворящие длани над койками страждущих… открывает свое милосердное сердце во время службы и склоняет святую главу к христианству над верхним алтарем. Таким образом здание принимает облик нашего любящего Спасителя, неустанно напоминая о том, как он сам страдал и умер за нас»{188}.
Однако, по мере того как власть церкви ослабевала, а институт государства укреплялся, менялась и функция больниц. Абсолютистские монархи использовали их как инструмент управления. В 1656 году Людовик XIV учредил Hôpital Géneral – не заведение как таковое, а режим, при котором различные нежелательные элементы помещались за решетку (и зачастую в цепях). Нищие, бродяги, безработные, недужные, сумасшедшие, эпилептики, венерические больные и молодые женщины непристойного (или склоняющегося к непристойному) поведения – в общей сложности 1 % населения Парижа – содержались под стражей в больницах Бисетр и Сальпетриер. В Сальпетриер действовал принцип, который Джон Томпсон и Грейс Голдин назвали «разделяй и властвуй»: каждому душевнобольному, одержимому, депрессивному отводилась отдельная камера, и все они – из-за низинного расположения больницы – периодически подтапливались водами Сены и наводнялись крысами из канализации. Практика массового лишения свободы, которую Мишель Фуко назвал «великим заточением», распространилась по всей Европе: в частности, в Англии она приняла форму исправительных, а затем и работных домов. Вифлеемская королевская больница (получившая прозвище Бедлам, которое стало синонимом сумасшедшего дома), приглашала публику за плату поглазеть и поглумиться над содержащимися в ней душевнобольными: на воротах, зазывая желающих, красовалась фигура «буйнопомешанного» в цепях. Фуко объясняет этот новый подход к болезням и сумасшествию идеями Просвещения и ростом рыночной экономики, вследствие чего изгонялось и преследовалось все неразумное и экономически неактивное. Для «праздношатающихся» места не оставалось: их родным, вынужденным работать, не хватало ни времени, ни средств, чтобы за ними присматривать, поэтому неугодных приходилось изолировать, предотвращая распространение нравственной заразы.

Скульптуры, изображающие меланхолию и буйную ярость, на воротах Вифлеемской королевской больницы в Лондоне, созданные Каем Сиббером (около 1676 год). Цепи, сковавшие «буйнопомешанного», вовсе не аллегория
Помимо контроля над гражданским населением становление европейского империализма вело к необходимости создавать более многочисленную и крепкую армию. А поскольку состояли эти армии уже не столько из «пушечного мяса», сколько из профессиональных военных, на подготовку которых тратились деньги, возникла потребность в лечебных и реабилитационных заведениях. Британский военный врач Джон Прингл в своем авторитетном трактате 1750 года отмечал, что пациенты стационарных госпиталей почти неизбежно умирали, тогда как лежавшие в импровизированных санитарных пунктах вроде продуваемых насквозь сенников, амбаров и палаток имели больше шансов на выздоровление. Считая это подтверждением теории о дурном воздухе как причине распространения болезни, он рекомендовал держать больных и раненых как можно дальше друг от друга, а не сосредоточивать в одном месте. Эти идеи были взяты на вооружение при постройке Королевского военно-морского госпиталя в плимутском Стоунхаусе, открытого в 1765 году. Рассчитанный на 1200 коек комплекс состоял из десяти соединенных между собой колоннадами трехэтажных корпусов-павильонов, образующих четкий военный строй. Госпиталь пользовался такой доброй славой среди военных, что туда частенько перебирались тайком солдаты из соседнего армейского, которых приходилось затем выпроваживать.
В 1787 году Плимут посетили двое участников комиссии, занимавшейся перестройкой старинного парижского Странноприимного дома, и с большим изумлением увидели, что их замыслы уже реализованы британцами. Странноприимный дом, построенный на острове Сите в VII веке, к концу XVIII столетия разросся так, что занял оба берега Сены и соединяющий их мост. Часть многоэтажных корпусов теснилась на пирсах, и их цокольная часть напоминала ласточкины норы, вырытые над мутной водой. Подобная скученность была в порядке вещей, когда основная задача богадельни заключалась в спасении душ, но к концу XVIII века развитие медицины и рост ее авторитета, подкрепленные стремлением государства упрочить свою власть над народом, привели к тому, что доктора начали отвоевывать управление больницами у религиозных орденов. Теперь они могли беспрепятственно настаивать на своем и претворять в жизнь теории о миазмах. В результате переполненный Странноприимный дом (в ходе одной из инспекций там обнаружилось 2377 пациентов, нередко делящих одну койку на восьмерых) прослыл «самым опасным местом на свете». Врача-реформатора Жака Тенона ужасали его «узкие темные коридоры с заплеванными стенами, заляпанные нечистотами из тюфяков и опорожняемых суден, гноем и кровью от ран и кровопускания»{189}. В 1772 году в здании вспыхнул пожар, который унес жизнь 19 пациентов и вызвал огромный общественный резонанс. В результате было предложено свыше 200 проектов перестройки Странноприимного дома, и в большинстве из них предполагалось строительство нескольких корпусов.
На ближайшую сотню лет в медицинской архитектуре утвердилось разделение больничного здания на корпуса. Изобилующий войнами век вроде бы подтверждал преимущества разрозненного содержания пациентов. В частности, во время Крымской войны Флоренс Найтингейл отмечала 42 %-ную смертность британских солдат в реквизированных под госпиталь османских казармах Ускюдара. Из-за забитой и переполненной канализации скапливались экскременты, а поступавшая с перебоями вода, как выяснилось, текла через разлагающийся конский труп. В то же время в смонтированном из готовых панелей по проекту Изамбарда Брунеля ренкиойском госпитале смертность не превышала 3 %. Рассредоточенные по территории деревянные двухпалатные корпуса на 50 человек были покрыты тщательно отполированной жестяной кровлей, отражающей палящие солнечные лучи. Ренкиойский госпиталь вызвал безмерное восхищение Флоренс Найтингейл, свято верившей в теорию миазмов, поэтому, вернувшись в Британию, знаменитая медсестра начала требовать реформ. Больничные здания, утверждала она, не должны превышать высотой двух этажей, а от внутренних дворов следует отказаться вовсе, поскольку там скапливается дурной воздух. Гигиена палат требует сквозной вентиляции, поэтому корпуса должны быть отдельно стоящими, чтобы продуваться насквозь при открытии окон на противоположных сторонах. Такие палаты получили название найтингейловских, хотя Флоренс всего лишь популяризировала этот тип. Спартанская обстановка способствовала свободной циркуляции воздуха, а стройные ряды коек облегчали медсестрам доступ к больным – и распространяли на гражданские больницы военную дисциплину их предшественников-госпиталей. Форму найтингейловской палаты диктовала не только теория миазмов, но и тяга к визуальной дисциплине в духе Фуко. «Каждый лишний чулан, прачечная, раковина, прихожая и лестница, – писала Найтингейл с фельдфебельским напором, – представляет, с одной стороны, место, которое требуется чистить, тратя силы и время, а с другой – удобное укрытие для жаждущих приключений пациентов или обслуживающего персонала. А такой контингент в больницах будет всегда»{190}.
При всей своей ошибочности в отношении возбудителей болезни теория миазмов и ее воплощение в архитектуре все же сумели сократить смертность пациентов за счет рассредоточения больных и улучшения санитарных условий. Окончательным ее триумфом явилось создание в Лондоне центральной канализационной системы по проекту Джозефа Базалджетта. Однако в конце концов стало очевидно, что одного искоренения источников миазмов недостаточно – тем более что в это же самое время Пастер и Кох открыли подлинные механизмы возникновения инфекций, и бактериальная теория восторжествовала над миазматической. Вместе с последней отмерло и деление на корпуса, однако некоторые ассоциировавшиеся с такой планировкой концепции оказались неискоренимы. В частности, ценность солнечного света и свежего воздуха превозносилась вплоть до XX века и далее, о чем свидетельствует прозрачность и планировка Финсберийского лечебно-оздоровительного центра. Построенный после подтверждения бактериальной теории, но до распространения антибиотиков, он функционировал во время своеобразного 70-летнего междуцарствия, когда еще бытовала вера в волшебную антибактериальную силу солнечного света. Кроме прочих помещений в нем имелся солярий, где жители трущоб могли понежиться под искусственным солнцем – распространенная в те времена процедура.
Монументальная, дорогостоящая архитектура, как правило, не успевает угнаться за развитием общества и технологий, а кроме того, новые лечебные учреждения имели тенденцию размещаться в зданиях прошлой эпохи. Учрежденной в Британии после Второй мировой войны Национальной службе здравоохранения досталось в наследство немало больниц XVIII–XIX веков, обветшавших и по меркам современной медицины плохо оснащенных. Неодновременность одновременного, как обозначил это явление немецкий философ Эрнст Блох, способна рождать удивительную гармонию: преобладающие в больницах найтингейловские палаты как нельзя лучше отвечали послевоенной концепции государственного надзора и сплоченности. Этот общинный дух в медицине был не только отголоском войны, но и побочным продуктом развития науки. Растущие сложность и стоимость медицинского оборудования означали, что даже богатые уже не могут успешно лечиться дома или в частных клиниках, поэтому больницы превращались в более полноценный микрокосм общества, пусть и разделенный на общие и персональные (для самых зажиточных) палаты. Опыт пребывания в больнице активно эксплуатировали создатели серии фильмов «Так держать!» (Carry On), препарирующих послевоенное британское сознание. Во втором и самом популярном из этих фильмов «Так держать, медсестра!» 1959 года появились непременные персонажи любой медицинской комедии – суровая палатная сестра с орлиным взором и военной выправкой и мягкая аппетитная медсестричка. Вдвоем они действуют как «хороший» и «плохой» полицейские, вовлекая пациента (непременно мужчину) в микрокосм больничного государства благоденствия, где правительство твердой рукой наставляет его на путь истинный. Все комические ситуации в этих фильмах построены на попытках маленького человека ускользнуть из-под государственного надзора и на перемешивании представителей разных классов в обстановке, исключающей даже минимальное личное пространство. Однако в конечном итоге все так или иначе притираются друг к другу под бдительным и суровым оком палатной сестры, и социальная демократия торжествует.
В 1962 году устаревшие корпуса и найтингейловские палаты наконец начали уходить в прошлое: министр здравоохранения Энох Пауэлл подписал масштабную программу строительства государственных больниц. Самый распространенный тип планировки, заимствованный у деловой архитектуры и прозванный «спичечным коробком на оладье», представлял собой высотную башню на широком малоэтажном основании. Это архитектурное решение стало популярно в результате роста цен на землю, из-за которого резко подорожало строительство многокорпусных зданий; развития медицины, опровергшей необходимость сквозной вентиляции (теперь, наоборот, считалось, что она способствует распространению микробов); развития строительных технологий, позволяющих оборудовать здания лифтами, а также и кондиционерами, которые обеспечивают вентиляцию помещений большой площади без участия окон; и прогресса в хирургическом лечении и уходе за больными, что отменило продолжительный постельный режим. Теперь пациентов лечили и выписывали в минимальные сроки, поэтому палаты становились меньше во избежание распространения инфекции, а главные роли отводились техническим помещениям – рентгеновским кабинетам, операционным, процедурным и т. д. В больнице типа «спичечный коробок на оладье» все эти службы, как правило, находились в нижнем корпусе – «оладье», где их можно было распределять и перетасовывать по мере необходимости, а палаты, как более статичные, помещались в многоэтажной башне. Башни эти несли заодно и идеологическую нагрузку – особенно в европейских городах, – утверждая своими монументальными формами современность, власть и присутствие социально ориентированного государства в пику башням капитала.
Такая власть не могла остаться незыблемой, и в сотрясаемых финансовыми кризисами 1970-х начался постепенный процесс деинституционализации – перевода пациентов психиатрии на амбулаторное лечение. Оформленное как гуманитарная реформа под эвфемистическим лозунгом «заботы об обществе» закрытие психиатрических клиник (которому способствовало изобретение нейролептиков вроде хлорпромазина, дешево и сердито запирающего пациента в собственной голове, а не в больничной палате) и домов престарелых было в первую очередь идеологизированной попыткой неолиберального правительства сократить государственное вмешательство. В отсутствие финансирования расширение больничных комплексов сводилось к добавлению малоэтажных модульных пристроек, парадоксальным образом возвращавшему больницы к отжившему свое типу планировки. В то же время больничные палаты начали заполнять жертвы деинституционализации. Как-то раз мне довелось провести месяц в крупной лондонской больнице. Палату за неимением нормальных домов престарелых наводнили пожилые, однако были и более колоритные персонажи: помешанный гибралтарец, который был убежден, что в окно залетают ведьмы, желающие его похитить, а еще постоянно норовил зажечь сигарету под одеялом; наркоман, которого старушки окружили неусыпной материнской заботой; и наконец, мужчина, однажды изрыгнувший фонтан рвоты с кровью, которая забрызгала мою газету (я читал ее на соседней кровати).
Испытывающие хроническую нехватку финансирования, переполненные больницы вызывают немалую головную боль у неолиберальных правительств, чьи граждане желают видеть отлаженную систему здравоохранения, но стараниями заинтересованных кругов в парламенте и прессы убеждены, что необходимое для этого повышение налогов в их интересы не входит. Поэтому консервативное правительство Джона Мейджора охотно ухватилось за идеологически приемлемый способ финансирования государственных услуг, впервые предложенный в Австралии, – частную финансовую инициативу. Разросшиеся при неолейбористах частные финансовые объединения вливали в медицинскую отрасль заемный капитал, обеспечивая строительство крупных новых больниц – таких, например, как рассчитанная на 987 мест Норфолкско-Норвичская, открывшаяся в 2001 году, – без повышения налогов. Норфолкско-Норвичская больница, как и большинство проектов частной финансовой инициативы, была построена за городом: это дешевле, чем в городской черте, и позволяет свободно распределить по территории равномерно заполняемые корпуса, однако большинству горожан становится нелегко добираться до учреждения. Оуэн Хэзерли об этих «вечно строящихся на отшибе» больницах отзывался так: «Типичный проект частных финансовых объединений, которых неолейбористы наштамповали уже тысячу, – чуть-чуть кирпича, волнистая пластиковая крыша, зеленое стекло и несколько ярких цветовых пятен за счет коврового покрытия»{191}.
Помимо эстетической пресности (заказчики предпочитали дешевые проекты от застройщика) проблема частной финансовой инициативы заключается в том, что, даже избавив правительство от необходимости принимать непопулярные решения, экономию она дает сомнительную. Сделки, совершаемые от лица частных финансовых объединений, оказываются неоправданно дорогими, и в результате британцы платят за строительство и оснащение больниц куда больше, чем получилось бы в результате повышения налогов. Многие критики программы видели это с самого начала, однако последствия проявились только сейчас: процент с займов, идущих на постройку новых больниц, настолько высок, что для компенсации закрываются другие государственные учреждения, включая травмпункты и отделения скорой помощи. Напрашивается циничное предположение, что этого неолибералы и добивались: опустошить Государственную систему здравоохранения (ГСЗ), чтобы потом электорат встретил маркетизацию с распростертыми объятиями. Лицемерная одержимость сокращением прямых расходов, распространившаяся в британских чиновничьих кругах, имела катастрофические последствия и для архитектурного бизнеса. Хороший дизайн стал считаться дорогостоящим излишеством, поэтому заказчики предпочитают заключать контракты на строительство «по индивидуальному проекту», откуда архитекторы вытесняются застройщиком и его штатной дизайнерской командой. Итог – банальные, обходящиеся втридорога здания и кризис профессии архитектора.
В числе потенциальных жертв ослабления ГСЗ оказался и Финсберийский центр. Несмотря на включение в реестр государственных памятников, он уже который год страдает от недостатка финансирования, а местный фонд ГСЗ всеми силами старается снять его с баланса (и тогда, вероятно, его тоже перестроят под элитное жилье). Автор здания Бертольд Лубеткин вряд ли счел бы такой исход неожиданностью, поскольку сам быстро разочаровался в государственных социальных программах. Во время войны он удалился на ферму в Глостершире, где ухаживал за бегемотами и шимпанзе, эвакуированными из Лондонского зоопарка. Последующее возвращение в архитектуру должно было стать для него праздником: в правительстве теперь сидели лейбористы, что сулило широкие перспективы для строительства. Tecton получил заказ в рамках завершения программы благоустройства Финсбери, а кроме того, мастерская спроектировала ряд передовых жилищных комплексов в разных районах Лондона. Один из них (изначально он должен был называться Ленин-Корт, но политическое давление вынудило изменить название на Бевин-Корт) удивляет одной из самых необычных лестниц в мире – очередной социальный конденсатор в стиле космической эпохи для лондонского рабочего класса. Однако послевоенный социализм не оправдал надежд Лубеткина. Стесненным в средствах чиновникам было не до архитектурных утопий, и, когда после долгих совещаний разработанный Лубеткиным план строительства города Питерли отклонили, архитектор обиженно отказался от дальнейшего участия в программе. «Нет предела совершенству для обычного человека», – заявлял он когда-то, однако в 1970-х о своих финсберийских проектах он отзывался уже с горечью: «Эти здания принадлежат тому миру, который мы так и не увидели»{192}.

Лестница в спроектированном Tecton Бевин-Корте (1955). Жилой комплекс, который изначально предполагалось назвать Ленин-Корт, находится на месте лондонского дома известного революционера
Выше в этой главе я уже отмечал, что взаимосвязь здоровья и архитектуры отражают не только собственно медицинские учреждения вроде больниц и клиник, но и повседневное пространство нашего обитания. Проблемами оздоровления бытовой среды занимались самые разные люди – это и Джозеф Базалджетт, и врачи, проводившие Пекемский эксперимент, и бесчисленные архитекторы-модернисты, пропагандирующие четкие линии и море солнечного света. Эта борьба продолжается в Западной Европе и Америке и сегодня, но в совершенно другой форме. Во-первых, произошел отход от принципов модернизма – зачастую по политическим причинам, как в эволюции больничного дизайна после 1970-х. Модернистские офисные здания, заполонившие наши города, теперь ассоциируются с чем угодно, кроме здоровья, поскольку технологии, призванные обеспечить жизнеспособность больших помещений открытой планировки, – современные материалы и системы кондиционирования – обвиняются в прямо противоположном воздействии – отравлении вредными веществами и циркуляции несвежего воздуха. И хотя синдром «вредного здания» в медицинских кругах признан массовой истерией, возвращением к миазматической теории и, возможно, немым протестом против постфордистской практики трудовых отношений, передача легионеллеза по кондиционированным воздуховодам отелей и круизных судов остается непреложным печальным фактом. В то же время стоило избавиться от смертельно опасных инфекций, как повсеместное распространение лифтов и эскалаторов привело к тому, что горожан начала массово косить гиподинамия. Теперь задуманная Лубеткиным в качестве социального конденсатора необыкновенная лестница в Бевин-Корте простаивает без дела.
Борясь с этими тенденциями, урбанисты (в том числе и градостроительный департамент Нью-Йорка) взяли на вооружение модную теорию «подталкивания» (предполагающую, что человека можно ненавязчиво подвести к заботе о собственном здоровье) – строя, например, более заметные лестницы или превращая ступени в клавиши пианино, издающие отдельные ноты, когда на них наступаешь. Перед нами осовремененная версия Пекемского эксперимента с его «невмешательством», только в основе лежит не евгеника, а идеологически ангажированная неприязнь к социальным программам и государственному регулированию, куда менее продуктивная, чем то и другое. С другой стороны, в развивающихся странах элементарная антисанитария по-прежнему уносит массу жизней: треть населения мира живет без уборных, и все еще свирепствуют болезни, провоцируемые перенаселенностью (в частности, туберкулез: в настоящее время он занимает второе место после СПИДа по количеству вызываемых им смертей – в 2011 году от него погибло 1,4 млн человек{193}). Изречение Ганди, гласящее, что «санитария важнее независимости», обретает сегодня новую остроту: современные экономические гиганты – Индия, Китай и Бразилия предстают задымленными колоссами на глиняных ногах (если не хуже). Способна ли в данном случае помочь архитектура – тема нашей последней главы.
Дополнительная литература
John Allan, Berthold Lubetkin: Architecture and the Tradition of Progress (London, 2013).
10. Пешеходный мост, Рио-де-Жанейро
(2010)
Архитектура и будущее
Жизнь важнее архитектуры.
Оскар Нимейер{194}

Крутобокий пешеходный мост Оскара Нимейера ведет в Росинью, крупнейшую из фавел Рио
Наш экскурс в мир камней и судеб завершается у моста в форме ягодиц (разве мог я упустить эту хулиганскую возможность?). Проделав путь от воображаемой деревянной хижины до бетонной задницы, мы, как ни странно, возвращаемся туда, откуда начали, поскольку пешеходный мост, перекинутый через оживленную автомобильную трассу, ведет в Росинью, крупнейшую фавелу Рио – огромное скопление «шалашей», многие из которых на самом деле не так уж первобытны, учитывая наличие водопровода, электричества и плазменных телевизоров. Если верить слухам, Оскар Нимейер, самый знаменитый из бразильских архитекторов и последний из великих модернистов, специально задумывал этот мост как филейную часть женского тела в бикини. И хотя лучшего символа для этого жаркого города не придумаешь, сам Нимейер утверждал, что «стринги» на подвесном мосту цитируют его предыдущий проект – арку, венчающую аллею городского самбадрома во время карнавальных шествий. Однако, учитывая собственные высказывания архитектора, не исключено, что им и впрямь владели мысли о ягодицах. «Прямые углы меня не привлекают. Никаких рукотворных прямых, жестких, негнущихся линий, – писал он в своей автобиографии «Изгибы времени» (Curves of Time). – Меня манят свободные, чувственные изгибы. Те, что дарят нам горы, морская волна, формы любимой женщины»{195}.
Отвлечемся пока от палеозойских сексуальных предпочтений. Мост явился знаком солидарности и подарком для обитателей фавелы, облепившей подножие расположенной за ним горы. Нимейер (который, кроме прочего, проектировал общественные здания в столице страны – Бразилиа, ярчайшем образце модернистского градостроительства) до последних дней своей 104-летней жизни оставался коммунистом. В 2006 году он писал: «Когда-нибудь мир станет более справедливым и вознесет жизнь на более высокую ступень, не сковывая себя правительствами и правящими классами»{196}. Когда-нибудь, может быть. Но пока 20 % кариока, как называют жителей Рио, обитают в трущобах – фавелах, а в престижных пляжных районах Ипанемы и Леблона от цен глаза лезут на лоб даже у лондонцев. Растущее социальное расслоение – проблема не только бразильская, хотя здесь социальная пропасть и достигает головокружительной глубины: в трущобах в настоящее время живет почти миллиард мирового населения. Разновидностей трущоб немало, будь то окраинный самострой, как в Росинье, или старинные анклавы вроде каирского Города мертвых – мамлюкского кладбища, усыпальницы которого сейчас населяет свыше полумиллиона человек.
Засилье трущоб не единственная стоящая перед архитектурой проблема: в 2010 году доля мирового городского населения впервые превысила 50 %. Большинство этих горожан проживают в мегаполисах развивающихся стран, таких как Шанхай, Мехико, и в плодовитых городских агломерациях вроде бесконечно расползающейся Рио – Сан-Паулу, общее население которой достигает 45 млн человек. Пока города пухнут и сливаются друг с другом в агломерации, урбанизируется и сельская местность. В Китае, как пишет в своей потрясающей книге «Планета трущоб» (Planet of Slums) Майк Дейвис, «во многих случаях сельскому жителю уже не приходится мигрировать в город – город сам идет к нему»{197}. «Города будущего, опровергая прогнозы предыдущих поколений урбанистов, строятся не из стекла и стали, а из грубого кирпича, соломы, переработанного пластика, цементных блоков и деревянного лома. Пронизанные светом города, взмывающие к облакам, так и остались мечтой: большая часть горожан XXI века по-прежнему живет в нищете, дыша дымом и утопая в экскрементах и гнили»{198}.
В условиях стремительной урбанизации, когда стираются границы между городом и деревней, когда западную экономику подрывают нехватка жилья и кризисы на рынке недвижимости, когда огромные людские массы ютятся в самострое, самая главная задача архитектуры – обеспечение простых людей жильем. И если в прошлом столетии архитекторы подходили к этой задаче со всей ответственностью, иногда радуя блестящими находками (хотя гораздо чаще огорчая коррумпированностью и некомпетентностью), в наше время от нее активно увиливают. Теперь ее норовят переложить на плечи частного сектора или самих бедняков, а архитекторов вовсе выдавливают из процесса, оставляя им лишь отделку корпоративных штаб-квартир и постройку очередных музеев с сомнительной функциональностью.
Впрочем, мне бы не хотелось превращать мост Нимейера в мишень для нападок. Да, мост вполне можно выставить образцом бесполезности, однако Нимейер действовал от чистого сердца. Он бесплатно предоставил проект для программы благоустройства фавелы, включающей строительство большого спортивного центра по одну сторону моста и благоустройство жилья по другую. Эти работы в рамках федеральной программы ускорения экономического роста совпали с недавним «умиротворением» фавел, когда удалось покончить с разгулом преступных банд (хотя наркоторговля где-то в закоулках идет как и шла) и создать в стратегических точках полицейские участки. И программа, и «умиротворение» явно были приурочены к чемпионату мира по футболу и надвигающимся Олимпийским играм.
Расходы на чемпионат мира уже вызвали один из самых бурных массовых протестов в истории Бразилии: в июне 2013 года на улицы вышли больше миллиона человек. Длинные тени от протестантов, вылезших на крышу построенного Нимейером здания конгресса в Бразилиа, превращали чашеобразную постройку в ожившую греческую амфору – живой символ демократии, который архитектору наверняка пришелся бы по душе. Олимпийские игры в Рио намечены на 2016 год, Росинья расположена достаточно близко к туристическим пляжным анклавам, а на Международный олимпийский комитет нужно любой ценой произвести хорошее впечатление. Однако, несмотря на то что явное затишье в бандитских разборках можно лишь приветствовать, «умиротворение» (подразумевавшее повальные обыски домов без ордера и многочисленные проявления расизма со стороны полицейских, поскольку львиную долю жителей фавел составляют темнокожие) воспринимается скорее как вмешательство государства в полуавтономную зону с целью присвоить достижения ее обитателей, освоивших прежде пустовавшую землю.
Проекты, финансируемые программой ускорения экономического роста, тоже вызывают вопросы: до сих пор особых изменений к лучшему в общей нищете и криминальной обстановке фавел Рио не наблюдается. В Росинье нечистоты по-прежнему сбрасываются в заполненную водой канаву, носящую эвфемистическое название Валау (долина), где плещутся дети и кишат паразиты. Намеченные программой школы и магазины пока существуют лишь на бумаге, либо в их недостроенных остовах селятся бездомные, а нимейеровский мост и раскрашенные во все цвета радуги новые дома и спортивный центр по обеим его сторонам выглядят дорогостоящей заплаткой, никак не решающей катастрофические проблемы фавелы. Фигуристый мост, мелькающий за окнами проносящихся по автостраде автомобилей, не что иное, как маска для фавелы – и буквальная, и идеологическая. Равно как и широко разрекламированная канатная дорога над другой фавелой, Комплексо-до-Алеман, – всего лишь неприлично дорогой аттракцион, построенный главным образом для посторонних. Он наглядно демонстрирует всем, кроме жителей трущоб, что «работы ведутся», и, как заметил один из обитателей фавелы, дает туристам возможность поглазеть на бедняков, не пачкая ноги. (После «умиротворения» у туристов начался бум на фавелы, хотя в 2012 году один немец был серьезно ранен во время перестрелки в Росинье.)
У многих не вызывает ни малейшего удивления, что программа ускорения экономического роста забуксовала и, возможно, даже провалила задачу благоустройства трущоб. Фавелы Рио (существующие с 1897 года) за последнюю сотню лет неоднократно подвергались самым разнообразным расчисткам, переселениям, вторжениям и воздействию, как разъясняет Кэтрин Осборн в своей книге, посвященной их истории. Еще в 1910 году многие фавелы были насильственно расчищены для османизации Рио – глобального переустройства по примеру Парижа, перестроенного бароном Османом. В то время трущобы, как в Южной Америке, так и в Европе, считались рассадниками болезней, морального разложения, криминала и политических беспорядков. Особенно беспокоили постколониальное правительство последние, поскольку именно в трущобах проживала основная масса бывших рабов и коренного населения страны. В 1937 году был намечен первый план реконструкции фавел, отталкивающийся от перечисленных выше предубеждений: поселения были признаны «уродством» и подлежали сносу. Однако снос фавел не искоренил городскую нищету и политические протесты, поэтому в 1940-х в фавелы вторглась католическая церковь, помогая изгнать оттуда коммунизм – деятельность коммунистической партии, набравшей 24 % голосов на муниципальных выборах 1947 года, оказалась под запретом.
Тем не менее в 1950-х жители фавел начали организовываться и слать правительству петиции с просьбами о благоустройстве и поддержке, а в 1960-х новый муниципальный чиновник социолог Жозе Артур Риуш предложил в ответ программы благоустройства, которые впервые за все время подразумевали привлечение к участию жителей фавел. Однако градоначальник, действуя в интересах торговцев недвижимостью, желавших расчистить фавелы под застройку, положил программам конец и возобновил расчистку, переселив свыше 100 000 жителей в гигантские жилые комплексы на окраинах города. Они были слишком дорогими, некачественными, плохо обслуживались и находились на выселках, поэтому вскоре там сложилась та же криминогенная обстановка с бандитскими разборками, что и в фавелах: дурная слава одного из таких кварталов под названием Сидад-де-Деуш (Город бога) прогремела на весь мир благодаря одноименному боевику 2002 года. Однако, несмотря на очевидные недостатки, жилые комплексы продолжали строить, что неудивительно, поскольку их возведение приносило огромные барыши строительным компаниям и политикам, получающим за это взятки. Впрочем, то же самое происходило в Британии в 1960-х: вспомним хотя бы главу муниципального совета Ньюкасла Томаса Дэниэла Смита, осужденного за взятку от архитектора Джона Поулсона.
Тем временем объединения жителей фавел требовали прекратить расчистку, доказывая, что можно благоустроить и существующие поселения, а если снос действительно необходим, то жильцов следует переселять ближе к прежнему месту обитания. Однако правительство игнорировало эти требования до самого окончания военной диктатуры и возвращения демократии в 1985 году, когда фавельцы наконец получили право голоса. На выборах мэра в 1992 году уроженку фавел Бенедиту да Сильва с микроскопическим отрывом опередил Сесар Майя, склонивший на свою сторону часть избирателей соперницы посулами определенных благ. Начатая в результате программа «Фавела – байру» («От фавелы к району»), построенная по принципу совещания с жителями и «сохранения колорита» фавел, действовала с 1994 по 2008 год. Основной упор в этой программе делался не на жилье, а на общественное пространство и инфраструктуру – детские сады и ясли, общественные учреждения, сферу обслуживания. Результаты впечатляли, однако из-за некачественных материалов и ремонта все эти постройки быстро приходили в негодность. Кроме того, хваленые принципы сотрудничества и поддержки в основном лишь декларировались: большинство программ спускались сверху, социальная помощь либо не оказывалась, либо почти сразу иссякала.
Следующую волну благоустройства принесла программа ускорения экономического роста 2007 года, спонсировавшая такие престижные проекты, как мост Нимейера и спортивный центр в Росинье, а также канатную дорогу над Комплексо-до-Алеман. Затем уже в 2010 году нынешний мэр Рио Эдуарду Пайс, подгоняемый приближающимся чемпионатом мира и Олимпийскими играми, объявил о начале новой муниципальной программы под названием «Морар кариока». Она подразумевала многомиллиардный долларовый бюджет и тесное сотрудничество с Бразильским архитектурным институтом по вопросам благоустройства основных объектов инфраструктуры, таких как дороги, канализация, места отдыха и развлечений и общественные центры. Кроме того, она сулила «участие организованных объединений… на всех стадиях», обещала расселенным предоставление нового жилья поблизости от прежнего и введение зонирующих градостроительных норм, которые обеспечат доступное жилье и тем самым предотвратят джентрификацию – выдавливание бедных слоев населения после облагораживания района. Однако, как отмечает Осборн, «несмотря на невероятные посулы программы “Морар кариока” на бумаге… на практике местные власти пользуются ею как прикрытием для беспардонного, одностороннего, зачастую произвольного насильственного вторжения в фавелы Рио. Оказавшись на вечном распутье “ломать или строить”, нынешние городские власти пошли в рамках “Морар кариока” по третьему, противоречивому, пути: благоустройству на словах и выселению на деле – как путем открытого сноса домов, так и путем джентрификации»{199}.
Однако, если взглянуть на происходящее шире, данная политика покажется не такой уж противоречивой. История трущоб Рио – квинтэссенция мировой истории отношения к бедным кварталам. В конце XIX века проблемы пытались решить расчисткой трущоб, хотя на самом деле в этом случае бедняков просто сгоняли с насиженных мест и отрезали от источников заработка, возвращая себе ценную городскую землю. В первой половине XX века муниципальные социалисты, модернистские архитекторы и военные диктаторы хором ратовали за строительство новых жилых кварталов взамен трущоб (в Европе над расчисткой немало потрудились люфтваффе и британские Королевские ВВС). Однако к 1950-м массовое бюджетное строительство уже подверглось критике. Британские социологи Уилмотт и Янг в своем знаменитом исследовании, посвященном переселению семей рабочего класса из городского района Бетнал-Грин в пригородный Эссекс, отмечали, что такое дальнее переселение разрушает сложившиеся сообщества. В противовес этому явлению и ужасам послевоенного градостроительства архитектор Седрик Прайс вместе с историками Райнером Бэнемом и Питером Холлом пропагандировали другую крайность, названную ими Non-Plan, – пустить все на самотек, что в конечном итоге привело к неконтролируемому разрастанию района лондонских доков.
Реакция возникла и в развивающихся странах, где масштабные, финансируемые из бюджета жилищные проекты подверглись критике за дороговизну и неэффективность, а также за плохое качество построенного, и критики предлагали «искать решение в трущобах». Тенденции эти, что неудивительно, начались в американских и британских колониях, в частности в Пуэрто-Рико, где американские власти с конца 1930-х годов проводили политику «помощи в самостоятельном строительстве». Затем возглавляемые британцами и американцами международные организации распространили эти эксперименты и на остальные страны Латинской Америки, а еще чуть позже они начали финансироваться американцами как антикоммунистическая мера. Поддерживали их и многие архитекторы: например, британский анархист Джон Тернер. В 1950-х он побывал в Перу на восстановлении разрушенного землетрясением города Арекипа и рекомендовал правительству, вместо того чтобы строить новые дома для лишившихся крова, инициировать программу помощи в самостоятельном строительстве, тем самым способствуя большему его размаху. В идеале это означало бы обеспечение доступа к инфраструктуре, предоставление участков, обучение, дотации на инструменты и материалы для того, чтобы жители сами строили или руководили постройкой собственного жилья.
Тернер не первым из градостроителей и архитекторов выступал за самостоятельное строительство, однако он оказался самым громким и, видимо, самым влиятельным агитатором, поскольку его рекомендации нашли финансовую поддержку у Всемирного банка, возглавляемого тогда Робертом Макнамарой. В должности министра обороны США Макнамара значительно расширил присутствие американских войск во Вьетнаме, однако сотрудничество этого неолиберального мясника с градостроителем-анархистом Тернером покажется куда менее странным, если учесть, что оба, хоть и по разным причинам, боролись с государственным вмешательством. Намерения Тернера были вполне благими: он считал, что местные выстроят себе жилье гораздо более привлекательное и с гораздо меньшими затратами, чем получилось бы у правительства; построенное собственными силами принесет больше радости, и, наконец, самопомощь отучит рассчитывать на международный спекулятивный капитал. Неолибералы же добивались, чтобы правительство стран третьего мира выпустило из рук строительную промышленность, и тогда заказы на жилищное строительство отойдут частным компаниям.
Однако у Тернера оказался запущенный случай «идиотизма деревенской жизни» по выражению Маркса – он романтизировал трущобы, видя в них пример самовыражения, тогда как на самом деле это не что иное, как вынужденная мера в условиях крайней нужды{200}. Хуже того, тернеровской пропагандой самостоятельного строительства прикрывались как идеологическим фиговым листком представительства мирового капитала. Отказываясь обеспечивать жильем своих налогоплательщиков, государство позволяет капиталистам извлекать прибыль из эксплуатации рабочих дважды: первый раз на производстве, второй раз – дома, требуя, чтобы они задаром решали жилищную проблему. Кроме того, минимизация стоимости жилья позволяет удерживать низкий уровень заработной платы. Как и в любой отрасли, сокращение государственного вмешательства в жилищное строительство вовсе не ведет к снижению стоимости жилья или повышению стандартов качества (это типичное неолиберальное двоемыслие): большая часть средств, сэкономленных программами самостоятельного строительства, попросту перетекает к застройщикам-собственникам. И, как отмечает Род Берджесс в своей критике самостоятельного строительства, «по мере усугубления кризиса капитализма стоимость жилого пространства, зон отдыха, городских служб, инфраструктуры, энергии и сырья катастрофически возрастает. И в передовых капиталистических странах, и в государствах третьего мира… в качестве решения выдвигается философия самопомощи: сам построй себе дом, сам вырасти себе еду, езди на работу на велосипеде, осваивай ремесло и т. д. Для тех представителей третьего мира, кто через все это прошел, но по-прежнему живет на грани нищеты, призывы к самообеспечению наверняка выглядят загадочной разновидностью радикализма»{201}.
Написанное Берджессом 30 лет назад сегодня становится все актуальнее. В конечном итоге, хоть анархистский подход Тернера и греет душу «выживальщикам» и корпоративным либертарианцам, очевидное решение проблемы некачественного муниципального жилья не в том, чтобы перестать строить его в принципе, а в том, чтобы строить лучше. И это не такая уж непосильная задача: развивающиеся страны изобилуют примерами высококлассных, но недорогих проектов. В частности, гонконгское архитектурное бюро Джона Лина построило несколько комплексов в материковом Китае, привлекая местную рабочую силу и специалистов для создания экономичных, энергоэффективных зданий с учетом геодезических условий. Надо сказать, что собственный дом Джона Лина в селении Шизця провинции Шаньси тоже производит сильное эстетическое впечатление, несмотря на скромность в выборе строительного материала. При этом большинство новостроек в китайской сельской местности – особенно финансируемых уехавшими на заработки в большой город детьми, которые высылают деньги родне, – представляют собой пересаженные на новую почву городские типы жилья: многоэтажные бетонные виллы, облицованные кафелем и, если позволяют средства, украшенные причудливыми нагромождениями из тонированного стекла и полированной трубчатой стали.
И хотя несомненное своеобразие в них имеется, Лин пытается возродить в качестве переходного типажа традиционный китайский одноэтажный дом с внутренним двором, как нельзя лучше подходящей трансформирующейся китайской деревне. Есть что-то почти бруталистское в его стремлении пускать в дело почти все, что можно найти под рукой (в данном случае традиционные саманные кирпичи), получая в итоге знакомые народные мотивы в современном прочтении. Здание в Шицзя строилось на бетонном каркасе для сейсмоустойчивости, однако заполнялся каркас все теми же саманными кирпичами, а затем все здание было одето в кожух из ажурной кирпичной кладки, обеспечивающей и тень, и вентиляцию. Кроме жилых помещений в доме имеется свинарник, и газ от брожения навоза используется для кухонной плиты. По иронии судьбы, дом этот в псевдосоциалистическом Китае строился на средства богатого филантропа.
Однако при всем восхищении, которое вызывают такие проекты, демонстрируя прежнюю актуальность архитектурного дизайна на фоне растущего выдавливания профессионалов из строительной отрасли, необходимы системные перемены, гарантирующие строительство муниципального жилья в достаточно больших объемах и действительно на благо жителей. Несмотря на декларируемое участие местных сообществ в разработке проектов, это, как правило, лишь символический жест в ответ на политические требования бедноты, как мы наблюдали на примере Рио. Там очевидное противоречие между декларируемым правительством участием и действительностью в виде насильственного выселения никаким противоречием на самом деле не является. Это просто новый способ отъема капиталом созданной людьми ценности: трущобы строятся бедняками без правительственного руководства, там начинается разгул бандитизма и беззакония, затем, как только застройка достигает определенного уровня, трущобы «умиротворяются» либо захватываются государством, готовящим почву для других бандитов – рынка недвижимости.
В наше время маятник взаимоотношений правительства и трущоб качнулся от поддержки самостоятельного строительства к джентрификации – захвату трущоб хитростью. Выгоду от урбанизации Росиньи получат не ее нынешние обитатели. Большинство из них живут там в арендованных квартирах и потому никак не выиграют от программ, признающих права владельцев трущобной недвижимости, которые проживают на Ипанеме и в Леблоне. Поддержка самостроя уже не требуется: бедняки большинства городов полностью освоили свои окраины, и капиталистам остается лишь конфисковать созданные ими ценности. То же самое происходит и на Западе по отношению к среднему классу. Кризис субстандартного кредитования недвижимости вызвал волну незаконных выселений, которая, как выразился один американский конгрессмен, стала «самым крупным захватом частной собственности, предпринятым банками и правительственными организациями»{202}.
Положить этому конец способны лишь политические перемены: выбор между архитектурой и революцией, о котором говорил Ле Корбюзье, больше не актуален, поскольку мы испытываем острую потребность и в архитектуре, и в революции. Когда положение изменится и периферия отвоюет центр, архитектура наконец будет служить людям, а не наживающимся на ней застройщикам, спекулянтам, землевладельцам и коррумпированным бюрократам.
Дополнительная литература
Mike Davis, Planet of Slums (London, 2006).
Благодарности
Идея этой книги не пришла бы мне в голову без Изабель Уилкинсон, а без поддержки Рейчел Миллз, Аннабель Мерульо и Тима Байндинга из литературного агентства Peters Fraser and Dunlop я не продвинулся бы дальше. Хочу поблагодарить сотрудников издательства Bloomsbury: Ричарда Эткинсона, заказавшего мне эту книгу, и Билла Свенсона, который опытной и заботливой рукой подвел меня к завершающей фразе. Спасибо профессору Фреду Шварцу из Лондонского университетского колледжа за терпение и выдержку, проявленные, когда я уклонялся от своих преподавательских обязанностей, а также за личный пример рабочей дисциплины – очень надеюсь, что я не слишком низко опустил заданную им планку. Спасибо Буюнь Чэнь, устроившей меня в Нью-Йорке и давшей профессиональные советы по главе, посвященной Саду совершенной ясности (любые оставшиеся там неточности исключительно на моей совести), а также Стиву и Хелен Бейкер, помогавшим переводить Селина. Неоценимую помощь оказали мне коллеги из Architectural Review – спасибо Питеру и Шарлотте Фиелл, направившим меня к ним. И наконец, я хотел бы поблагодарить Эби Уилкинсон и Натали Здроевски за помощь в эти порой очень нелегкие два года, Оуэна Киффина за бесценные советы и сотрудника хостела Detroit, который довез меня до завода «Руж».
Избранная библиография
Adam, Peter, Eileen Gray (London, 1987).
Adorno, Theodor, In Search of Wagner, trans. Rodney Livingstone (London, 1991 edition).
Alberti, Leon Battista, On the Art of Building, trans. J. Rykwert, N. Leach and R. Tavernor (Cambridge, MA, 1988).
Allan, John, Berthold Lubetkin: Architecture and the Tradition of Progress (London, 2013).
Arnade, Peter, Beggars, Iconoclasts, and Civic Patriots: The Political Culture of the Dutch Revolt (Ithaca, NY, 2008).
Attiret, Jean-Denis, A Letter from F. Attiret, trans. Harry Beaumont (London, 1752), http://inside.bard.edu/~louis/gardens/attiretaccount.html
Banham, Reyner, A Concrete Atlantis: US Industrial Building and European Modern Architecture, 1900–1925 (Cambridge, MA, 1986).
Barmé, Geremie, ‘The Garden of Perfect Brightness: A Life in Ruins’, in East Asian History no. 11, June 1996.
Bell, Gertrude, Amurath to Amurath (London, 1924), http://www.presscom.co.uk/amrath/amurath.html.
–, Diaries, http://www.gerty.ncl.ac.uk/diary_details.php?diary_id=1176
Benjamin, Walter, One-Way Street and Other Writings (London, 1979).
–, Selected Writings ed. Michael Jennings, Howard Eiland and Gary Smith (Cambridge, MA, 2004–6).
Berman, Marshall, All That is Solid Melts Into Air (New York, 1987).
Bernhardsson, Magnus, Reclaiming a Plundered Past: Archaeology and Nation Building in Modern Iraq (Austin, TX, 2005).
Bevan, Robert, The Destruction of Memory: Architecture at War (London, 2006).
Brook, Daniel, ‘The Architect of 9/11’, Slate, September 10 2009, http://www.slate.com/articles/news_and_politics/dispatches/features/2009/the_architect_of_911/what_can_we_learn_about_mohamed_atta_from_his_work_as_a_student_of_urban_planning.html.
Bucci, Federico, Albert Kahn: Architect of Ford (Princeton, 1993).
Burgess, Rod, ‘Self-Help Housing Advocacy: A Curious Form of Radicalism’, in Self-Help Housing: A Critique, ed. Peter Ward (London, 1982).
Carlson, Marvin, Places of Performance: The Semiotics of Theatre Architecture (Ithaca, NY, 1989).
Champlin, Edward, Nero (Cambridge, MA, 2003).
Chi, Xiao, The Chinese Garden as Lyric Enclave (Ann Arbor, MI, 2001).
Clunas, Craig, Fruitful Sites: Garden Culture in Ming Dynasty China (London, 1996).
Colomina, Beatriz, Privacy and Publicity (Cambridge, MA, 1994).
Dacos, Nicole, The Loggia of Raphael: A Vatican Art Treasure (New York, 2008).
Darling, Elizabeth, Re-Forming Britain: Narratives of Modernity Before Reconstruction (London, 2007).
Davis, Mike, Planet of Slums (London, 2006).
de La Grange, Henry-Louis, Gustav Mahler (Oxford, 1995–2008).
Forty, Adrian, Words and Buildings (London, 2000).
Foucault, Michel, Language, Counter-Memory, Practice, trans. Donald Bouchard and Sherry Simon (Ithaca, NY, 1980).
Fourier, Charles, Selections from the Works of Charles Fourier, trans. Julia Franklin (London, 1901), http://www.archive.org/stream/selectionsfromw00fourgoog#page/n2/mode/2up
–, The Utopian Vision of Charles Fourier, trans. Jonathan Beecher and Richard Bienvenu (London, 1972).
Glendinning, Miles and Stefan Muthesius, Tower Block: Modern Public Housing in England, Scotland, Wales and Northern Ireland (New Haven, CT, 1993).
Harpham, Geoffrey, On the Grotesque: Strategies of Contradiction in Art and Literature (Princeton, NJ, 1982).
Harvey, David, Rebel Cities (London, 2012).
Hatherley, Owen, A Guide to the New Ruins of Great Britain (London, 2010).
–, A New Kind of Bleak: Journeys Through Urban Britain (London, 2012).
Hays, K. Michael, Modernism and the Posthumanist Subject: The Architecture of Hannes Meyer and Ludwig Hilberseimer (Cambridge, MA, 1992).
Hunwick, John, Timbuktu and the Songhay Empire (London, 2003).
Kayser, Wolfgang, The Grotesque in Art and Literature (Bloomington, IN, 1963).
Koolhaas, Rem, Delirious New York (New York, 1994).
Koss, Juliet, Modernism After Wagner (Minneapolis, MN, 2010).
Kracauer, Siegfried, ‘Cult of Distraction: On Berlin’s Picture Palaces’, trans. Thomas Levin, New German Critique no. 40, winter 1987.
–, The Mass Ornament: Weimar Essays, trans. Thomas Levin (Cambridge, MA, 1995).
–, The Salaried Masses, trans. Quintin Hoare (London, 1998).
Lüsebrink, Hans Jürgen and Rolf Reichardt, The Bastille: A History of a Symbol of Despotism and Freedom, trans. Norbert Schürer (London, 1997).
Mann, Thomas, The Magic Mountain, trans. John E. Woods (New York, 2005).
Meades, Jonathan, Museum Without Walls (London, 2012).
Minton, Anna, Ground Control: Fear and Happiness in the Twenty First Century City (London, 2012).
Mumford, Lewis, The Culture of Cities (London, 1938).
Newman, Ernest, The Life of Richard Wagner (New York, 1941).
Newsinger, John, ‘Elgin in China’, in New Left Review 15, May – June 2002, http://www.math.jussieu.fr/~harris/elgin.pdf
Niemeyer, Oscar, The Curves of Time (London, 2000).
Nietzsche, Friedrich, The Case of Wagner, trans. Anthony Ludovici (Edinburgh and London, 1911).
Nietzsche, Friedrich, Untimely Meditations, trans. R. J. Hollingdale (Cambridge, 1983).
O’Dell, Emily, ‘Slaying Saints and Torching Texts’, on jadaliyya.com, 1 February 2013, http://www.jadaliyya.com/pages/index/9915/slaying-saints-and-torching-texts.
Osborn, Catherine, ‘A History of Favela Upgrades’, www.rioonwatch.org, 27 September 2012, http://rioonwatch.org/?p=5295.
Ovid, Metamorphoses, trans. Brookes More (Boston, 1922), http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0028%3Abook%3D4%3Acard%3D55.
Pevsner, Nikolaus, Outline of European Architecture (London, 1962).
Ruskin, John, The Seven Lamps of Architecture (New York, 1981 edition).
Rykwert, Joseph, On Adam’s House in Paradise: The Idea of the Primitive Hut in Architectural History (Cambridge, MA, 1981).
Schwartz, Frederic, The Werkbund: Design Theory and Culture Before the First World War (New Haven, CT, 1996).
–, Blind Spots: Critical Theory and the History of Art in Twentieth-Century Germany (New Haven, CT, 2005).
Semper, Gottfried, Style in the Technical and Tectonic Arts, trans. Mallgrave and Robinson (Los Angeles, CA, 2004).
Spence, Jonathan, The Search for Modern China (New York, 1990).
Stevenson, Christine, Medicine and Magnificence: British Hospital and Asylum Architecture, 1660–1815 (New Haven and London, 2000).
Suetonius, The Lives of the Caesars, trans. J. C. Rolfe (Cambridge, MA, 1914), http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Nero*.html.
Tafuri, Manfredo, ‘The Disenchanted Mountain: The Skyscraper and the City’, in The American City: From the Civil War to the New Deal (Cambridge, MA, 1979).
–, Theories and History of Architecture, trans. Giorgio Verrecchia (London, 1980).
Tavernor, Robert, On Alberti and the Art of Building (New Haven, 1998).
Thompson, John and Grace Goldin, The Hospital: A Social and Architectural History (New Haven and London, 1975).
Vidler, Anthony, Claude-Nicolas Ledoux: Architecture and Social Reform at the End of the Ancien Régime (Cambridge, MA, 1990.
Watts, Steven, The People’s Tycoon: Henry Ford and the American Century (New York, 2005).
Whyte, William H., The Social Life of Small Urban Spaces (Washington, 1980).
Wolseley, G. J., Narrative of the War With China in 1860 (London, 1862), http://www.archive.org/stream/narrativeofwarwi00wols/narrativeofwarwi00wols_djvu.txt.
Young, James, ‘The Counter-Monument: Memory against Itself in Germany Today’, Critical Inquiry, 18, 2, winter 1992.
Беккет С. Первая любовь // ©оюз писателей, № 4, 2002.
Витрувий. Десять книг об архитектуре. – М.: Архитектура-С, 2006.
Вулф В. Своя комната. – М.: Прогресс, 1992.
Карлейль Т. История французской революции. – М.: Мысль, 1991.
Конрад Дж. Сердце тьмы и другие повести. – СПб.: Азбука, 1999.
Лоос А. Орнамент и преступление // Мастера архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1972.
Мандевиль Б. Басня о пчелах. – М.: Мысль, 1974.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения в 39 томах. – 2-е изд. – Т. 16. – М.: Госполитиздат, 1960.
Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи. – М.: Прогресс, 1994.
Синклер Э. Дельцы. Автомобильный король. – М.: Правда, 1986.
Спаффорд Ф. Страна Изобилия. – М.: Астрель, 2012.
Сюэцинь Цао. Сон в красном тереме. – М.: Художественная литература, Ладомир, 1995.
Тацит К. Сочинения в двух томах. Т. I. Анналы. Малые произведения. – М.: Ладомир, 1993.
Торо Г. Уолден, или Жизнь в лесу. – М.: Наука, 1979.
Фурье Ш. Теория четырех движений и всеобщих судеб. Избранные сочинения. Т. 1. – М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1938.
Об авторе
Том Уилкинсон работает редактором исторического отдела в журнале Architectural Review. Пишет докторскую диссертацию по истории искусства в университетском колледже Лондона, где преподает историю архитектуры. Жил в Шанхае и Берлине, сейчас проживает в восточной части Лондона.
Сноски
1
Полуостров в Бруклине, известный парком аттракционов, аквариумом, променадом и пляжем. – Прим. пер.
(обратно) (обратно)
Комментарии
1
Фуко М. Ницше, генеалогия и история // Философия эпохи постмодерна: Сборник переводов и рефератов. – Мн.: Красико-принт, 1996.
(обратно)
2
Henry-Louis de la Grange, Gustav Mahler, Vol. 4: A New Life Cut Short (Oxford, 2008), 821.
(обратно)
3
Henry-Louis de la Grange, Gustav Mahler, Vol. 4: A New Life Cut Short (Oxford, 2008), с. 460.
(обратно)
4
Henry-Louis de la Grange, Gustav Mahler, Vol. 4: A New Life Cut Short (Oxford, 2008), с. 213.
(обратно)
5
Торо Г. Уолден, или Жизнь в лесу. – М.: Наука, 1979.
(обратно)
6
Витрувий. Десять книг об архитектуре. – М.: Архитектура-С, 2006.
(обратно)
7
Paul Schultze-Naumburg, Kunst und Rasse (Munich, 1928), 108.
(обратно)
8
Gottfried Semper, Style in the Technical and Tectonic Arts, trans. Mallgrave and Robinson (Los Angeles, CA, 2004), 666.
(обратно)
9
Конрад, Дж. Сердце тьмы и другие повести. – СПб.: Азбука, 1999.
(обратно)
10
Конрад, Дж. Сердце тьмы и другие повести. – СПб.: Азбука, 1999.
(обратно)
11
Беккет С. Первая любовь. Пер. П. Молчанова. // ©оюз писателей, № 4, 2002.
(обратно)
12
Беккет С. Первая любовь. Пер. П. Молчанова. // ©оюз писателей, № 4, 2002.
(обратно)
13
В продолжение начатой в предисловии традиции отрицания общепринятого добавлю, что зародились они независимо друг от друга в разных местах земного шара, включая бассейн реки Янцзы. – Прим. авт.
(обратно)
14
Брехт Б. Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания. В пяти томах. Т. 5/2. – М.: Искусство, 1965.
(обратно)
15
Бытие 11:4.
(обратно)
16
Бытие 11:6.
(обратно)
17
Бытие 11:9.
(обратно)
18
Иосиф Флавий. Иудейские древности. – М.: АСТ, 2007.
(обратно)
19
Исход 1:14.
(обратно)
20
Иеремия 51:29.
(обратно)
21
Откровение 14:8.
(обратно)
22
Magnus Bernhardsson, Reclaiming a Plundered Past: Archaeology and Nation Building in Modern Iraq (Austin, TX, 2005), 26.
(обратно)
23
Robert Miola, Early Modern Catholicism: An Anthology of Primary Sources (Oxford, 2007), 59.
(обратно)
24
Peter Arnade, Beggars, Iconoclasts, and Civic Patriots: The Political Culture of the Dutch Revolt (Ithaca, NY, 2008), 113.
(обратно)
25
Карлейль Т. История французской революции. – М.: Мысль, 1991.
(обратно)
26
Карлейль Т. История французской революции. – М.: Мысль, 1991.
(обратно)
27
Карлейль Т. История французской революции. – М.: Мысль, 1991.
(обратно)
28
Hans Jürgen Lusebrink and Rolf Reichardt, The Bastille: A History of a Symbol of Despotism and Freedom (London, 1997), 121–122.
(обратно)
29
Gertrude Bell. Amurath to Amurath (London, 1924), vii. http://www.presscom.co.uk/amrath/amurath.html
(обратно)
30
Bernhardsson, 21.
(обратно)
31
Bernhardsson, с. 44–45.
(обратно)
32
Bernhardsson, с. 241.
(обратно)
33
www.gerty.ncl.ac.uk/diary_details.php?diary_id=1176
(обратно)
34
Letter to H. B. 16 January 1918. The Letters of Gertrude Bell, vol. 2 (1927). http://gutenberg.net.au/ebooks04/040046h.html
(обратно)
35
Bernhardsson, 105.
(обратно)
36
Bernhardsson, с. 108.
(обратно)
37
Jean-Claude Maurice, ‘Si Vousel répétez, je dementivai Chirac Sarkozy Vilepin’ (Paris, 2009).
(обратно)
38
Daniel Brook, ‘The Architect of 9/11’, Slate, September 10, 2009.
(обратно)
39
Wolfgang Kayser, The Grotesque in Art and Literature (Bloomington, IN, 1963), 20.
(обратно)
40
Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. – М.: Наука, 1993.
(обратно)
41
Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. I. Анналы. Малые произведения. – М.: Ладомир, 1993.
(обратно)
42
Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. I. Анналы. Малые произведения. – М.: Ладомир, 1993.
(обратно)
43
Gustave Flaubert, La danse des morts (1838), 171.
(обратно)
44
Фундаментальными историками существование этих предметов оспаривается.
(обратно)
45
Nikolaus Pevsner, Outline of European Architecture (London, 1962), 411.
(обратно)
46
Edward Champlin, Nero (Cambridge, MA, 2003), 200.
(обратно)
47
Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука, 1977.
(обратно)
48
Мандевиль Б. Басня о пчелах. – М.: Мысль, 1974.
(обратно)
49
World Bank, 2010.
(обратно)
50
Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. I. Анналы. Малые произведения. – М.: Ладомир, 1993.
(обратно)
51
Витрувий. Десять книг об архитектуре.
(обратно)
52
Nicole Dacos, The Loggia of Raphael: A Vatican Art Treasure (New York, 2008), 29.
(обратно)
53
Дюма А. История знаменитых преступлений. – М.: Эксмо, 2007.
(обратно)
54
Geoffrey Harpham, On the Grotesque: Strategies of Contradiction in Art and Literature (Princeton, NJ, 1982), 30.
(обратно)
55
Manfredo Tafuri, Theories and History of Architecture (London, 1980), 17. Курсив автора.
(обратно)
56
Ruskin, from The Stones of Venice, quoted in Geoffrey Scott, The Architecture of Humanism: A Study in the History of Taste (London, 1914), 121.
(обратно)
57
(обратно)
58
Miles Glendinning and Stefan Muthesius, Tower Block: Modern Public Housing in England, Scotland, Wales and Northern Ireland (New Haven, CT, 1993), 322–323.
(обратно)
59
Jonathan Meades, Museum Without Walls (London, 2012), 381–385.
(обратно)
60
See Owen Hatherley, A Guide to the New Ruins of Great Britain (London, 2010) and A New Kind of Bleak: Journeys Through Urban Britain (London, 2012), and Anna Minton, Ground Control: Fear and Happiness in the Twenty First Century City (London, 2012)
(обратно)
61
Augustus Welby Pugin, The True Principles of Christian Architecture (London, 1969), 38.
(обратно)
62
Adrian Forty, Words and Buildings (London, 2000), 299.
(обратно)
63
Лоос А. Орнамент и преступление // Мастера архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1972.
(обратно)
64
K. Michael Hays, Modernism and the Post-Humanist Subject: The Architecture of Hannes Meyer and Ludwig Hilberseimer (Cambridge, MA, 1992).
(обратно)
65
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения в 39 томах. – 2-е изд. – Т. 16. – М.: Госполитиздат, 1960.
(обратно)
66
Robert Bevan, The Destruction of Memory: Architecture at War (London, 2006), 7.
(обратно)
67
John Hunwick, Timbuktu and the Songhay Empire (London, 2003), 9.
(обратно)
68
N. Levtzion and J. F. P. Hopkins (eds), Corpus of Early Arabic Sources for West African History (Cambridge, 1981), 271.
(обратно)
69
Suzan B. Aradeon, ‘Al-Sahili: the historian’s myth of architectural technology transfer from North Africa’, Journal des Africanistes, vol. 59, 99–131, 107. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jafr_0399-0346_1989_num_59_1_2279?luceneQuery=%2B%28authorId%3Apersee_79744+authorId%3A%22auteur+jafr_787%22%29&words=persee_7944&words=auteur%20jafr_787
(обратно)
70
Walter Benjamin,fr/web/revues/home/prescri, trans. Harry Zohn, in Selected Writings. Vol. 4: 1938–1940, eds Howard Eiland and Michael Jennings (Cambridge, MA, 2003), 391–392.
(обратно)
71
George Bataille, ‘Architecture’, trans. Dominic Faccini, October vol. 60, spring 1992, 25–26, 25.
(обратно)
72
Lewis Mumford, The Culture of Cities (London, 1938), 435.
(обратно)
73
Bevan, 91.
(обратно)
74
http://wais.stanford.edu/Spain/spain_1thevalledeloscaidos73103.html
(обратно)
75
James Young, ‘The Counter-Monument: Memory against Itself in Germany Today’, Critical Inquiry, 18, 2, winter 1992, 267–96, 279.
(обратно)
76
Friedrich Nietzsche, Untimely Meditations, trans. R. J. Hollingdale (Cambridge, 1983) 62.
(обратно)
77
Irina Bokova, ‘Culture in the Cross Hairs’, New York Times, 2 December 2012.
(обратно)
78
Emily O’Dell, ‘Slaying Saints and Torching Texts’, on jadaliyya.com, 1 February 2013. http://www.jadaliyya.com/pages/index/9915/slaying-saints-and-torching-texts
(обратно)
79
Sona Stephan Hoisington, ‘“Ever Higher”: The Evolution of the Project for the Palace of Soviets’, Slavic Review, vol. 62, no. I, spring 2003, 41–68, 62.
(обратно)
80
John Ruskin, The Seven Lamps of Architecture (New York, 1981), 184.
(обратно)
81
Neil MacFarquhar, ‘Mali City Rankled by Rules for Life in Spotlight’, New York Times, 8 January 2011.
(обратно)
82
Felix Dubois, Notre beau Niger (Paris, 1911), 189.
(обратно)
83
Mumford, 439–440.
(обратно)
84
K. Michael Hays, Modernism and the Posthumanist Subject: The Architecture of Hannes Meyer and Ludwig Hilberseimer (Cambridge, MA, 1992), 65.
(обратно)
85
K. Michael Hays, Modernism and the Posthumanist Subject: The Architecture of Hannes Meyer and Ludwig Hilberseimer (Cambridge, MA, 1992), с. 69.
(обратно)
86
Рэнд А. Источник. – М.: Альпина Паблишер, 2009.
(обратно)
87
Richard Hall (ed), Built Identity: Swiss Re’s Corporate Architecture (Basel, 2007), 14.
(обратно)
88
Anthony Grafton, Leon Battista Alberti: Master Builder of the Italian Renaissance (Cambridge, MA, 2000), 18–19.
(обратно)
89
Ian Borden, Barbara Penner and Jane Rendell (eds), Gender Space Architecture: An Interdisciplinary Introduction (London, 2000), 363.
(обратно)
90
Robert Tavernor, On Alberti and the Art of Building (New Haven, 1998), 83.
(обратно)
91
Подразумевается поданный Адольфом Лоосом на конкурс проект здания редакции газеты Chicago Tribune в виде колонны. Manfredo Tafuri, ‘The Disenchanted Mountain: The Skyscraper and the City’, in The American City: From the Civil War to the New Deal (Cambridge, MA, 1979), 402.
(обратно)
92
Leon Battista Alberti, On the Art of Building, trans. J. Rykwert, N. Leach and R. Tavernor (Cambridge, MA, 1988), 263.
(обратно)
93
Mark Philips, Memoir of Marco Parenti: A Life in Medici Florence (Princeton, NJ, 1987), 190.
(обратно)
94
Mark Philips, Memoir of Marco Parenti: A Life in Medici Florence (Princeton, NJ, 1987), с. 208.
(обратно)
95
David Ward and Oliver Lunz (eds) The Landscape of Modernity: New York City 1990–1994 (New York, 1992), 140.
(обратно)
96
Philip Ursprung, ‘Corporate Architecture and Risk’, in Hall, Built Identity, 165.
(обратно)
97
Рэнд А. Источник. – М.: Альпина Паблишер, 2009.
(обратно)
98
Цитируется по Tafuri, 519.
(обратно)
99
William H. Whyte, The Social Life of Small Urban Spaces (Washington, 1980) 64–65.
(обратно)
100
www.mori.co.jp/en/company/urban_design/safety.html
(обратно)
101
Marshall Berman, All That is Solid Melts Into Air (New York, 1987), 99.
(обратно)
102
Jean-Denis Attiret, A Letter from F. Attiret, trans. Harry Beaumont (London, 1752). http://inside.bard.edu/~louis/gardens/attiretaccount.html
(обратно)
103
Craig Clunas, Fruitful Sites: Garden Culture in Ming Dynasty China (London, 1996), 102.
(обратно)
104
Xiao Chi, The Chinese Garden as Lyric Enclave (Ann Arbor, MI, 2001), 134.
(обратно)
105
Xiao Chi, The Chinese Garden as Lyric Enclave (Ann Arbor, MI, 2001), с. 51.
(обратно)
106
A. E. Grantham, quoted in Geremie Barmé, ‘The Garden of Perfect Brightness: A Life in Ruins’, in East Asian History no. 11, June 1996, 129.
(обратно)
107
Maggie Keswick, The Chinese Garden (London, 1976), 164
(обратно)
108
Цао Сюэцинь. Сон в красном тереме. – М.: Художественная литература, Ладомир, 1995.
(обратно)
109
Цао Сюэцинь. Сон в красном тереме. – М.: Художественная литература, Ладомир, 1995.
(обратно)
110
Attiret, op. cit
(обратно)
111
Jonathan Spence, The Search for Modern China (New York, 1990), 123.
(обратно)
112
G. J. Wolseley, Narrative of the War With China in 1860 (London, 1862), 280. http://www.archive.org/stream/narrativeofwarwi%%wols/narrativeofwarwi%%wols_djvu.txt
(обратно)
113
John Newsinger, ‘Elgin in China’, in New Left Review 15, May – June 2002, 119–140, 137. http://www.math.jussieu.fr/~harris/elgin.pdf
(обратно)
114
Newsinger, 134.
(обратно)
115
Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье.
(обратно)
116
William Travis Hanes and Frank Sanello, The Opium Wars: The Addiction of One Empire and the Corruption of Another (Illinois, 2002), 11–12.
(обратно)
117
Newsinger, 137.
(обратно)
118
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения в 39 томах. Т. 12. – М.: Госполитиздат, 1958.
(обратно)
119
Newsinger, 140.
(обратно)
120
Walter Benjamin, One-Way Street and Other Writings (London, 1979), 120.
(обратно)
121
Thomas Mann, ‘The Sorrows and Grandeur of Richard Wagner’ in Pro and Contra Wagner (London, 1985), 128.
(обратно)
122
Mark Twain, ‘Chapters from my Autobiography’, North American Review (1906–1907), 247. http://www.gutenberg.org/files/19987/19987-h/19987-h.htm
(обратно)
123
Juliet Koss, Modernism After Wagner (Minneapolis, MN, 2010), 18.
(обратно)
124
Anthony Vidler, Claude-Nicolas Ledoux: Architecture and Social Reform at the End of the Ancien Régime (Cambridge, MA, 1990), 168.
(обратно)
125
Anthony Vidler, Claude-Nicolas Ledoux: Architecture and Social Reform at the End of the Ancien Régime (Cambridge, MA, 1990), с. 232
(обратно)
126
Koss, 39.
(обратно)
127
Ernest Newman, The Life of Richard Wagner: Volume III, 1859–1866 (New York, 1941), 538.
(обратно)
128
Ernest Newman, The Life of Richard Wagner: Volume III, 1859–1866 (New York, 1941), с. 215.
(обратно)
129
Koss, 50.
(обратно)
130
Koss, с. 57.
(обратно)
131
Koss, с. 65.
(обратно)
132
Nietzsche, fragment dated 1878 (my translation). http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/NF-1878,30 [I]
(обратно)
133
Nietzsche, The Case of Wagner, trans. Anthony Ludovici, (Edinburgh and London, 1911), 11.
(обратно)
134
Theodor Adorno, In Search of Wagner (London, 1991), 85.
(обратно)
135
Theodor Adorno, In Search of Wagner (London, 1991), с. 106.
(обратно)
136
Siegfried Kracauer, ‘Cult of Distraction: On Berlin’s Picture Palaces’, trans. Thomas Levin, New German Critique no. 40, winter 1987, 91–96, 95.
(обратно)
137
Kathleen James, Erich Mendelsohn and the Architecture of German Modernism (Cambridge, 1997), 163.
(обратно)
138
Rem Koolhaas, Delirious New York (New York, 1994), 30.
(обратно)
139
Siegfried Kracuaer, The Salaried Masses, trans. Quintin Hoare (London, 1998), 93.
(обратно)
140
Karal Ann Marling (ed.), Designing Disney’s Theme Parks: The Architecture of Reassurance (New York, 1997), 180.
(обратно)
141
Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи. – М.: Прогресс, 1994.
(обратно)
142
Синклер Э. Дельцы. Автомобильный король. – М.: Правда, 1986.
(обратно)
143
Steven Watts, The People’s Tycoon: Henry Ford and the American Century (New York, 2005), 384.
(обратно)
144
Steven Watts, The People’s Tycoon: Henry Ford and the American Century (New York, 2005), с. 118.
(обратно)
145
Синклер, Э. Дельцы. Автомобильный король. – М.: Правда, 1986.
(обратно)
146
Watts, 156–7.
(обратно)
147
Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи. – М.: Прогресс, 1984.
(обратно)
148
Federico Bucci Albert Kahn: Architect of Ford (Princeton, 1993), 175.
(обратно)
149
Charles Fourier, Selections from the Works of Charles Fourier, trans. Julia Franklin (London, 1901), 59. http://www.archive.org/stream/selectionsfromw%%fourgoog#page/n2/mode/2up
(обратно)
150
Фурье Ш. Теория четырех движений и всеобщих судеб. Избранные сочинения. Т. 1. – М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1938.
(обратно)
151
Charles Fourier, The Utopian Vision of Charles Fourier, trans. Jonathan Beecher and Richard Bienvenu (London, 1972), 240.
(обратно)
152
Fourier, Selections, 166.
(обратно)
153
Carl Guarneri, The Utopian Alternative: Fourierism in Nineteenth-Century America (Cornell, 1991), 185.
(обратно)
154
Carl Guarneri, The Utopian Alternative: Fourierism in Nineteenth-Century America (Cornell, 1991), с. 18.
(обратно)
155
Nathaniel Hawthorne, The Blithedale Romance (Oxford, 2009), 53–4.
(обратно)
156
Спаффорд Ф. Страна Изобилия. – М.: Астрель, 2012.
(обратно)
157
Fourier, Selections, 64.
(обратно)
158
Fourier, Selections, с. 66.
(обратно)
159
Fourier, Selections, с. 166.
(обратно)
160
Шекспир У. Сон в летнюю ночь. – М.: Искусство, 1958.
(обратно)
161
Ivan Žakniс, The Final Testament of Père Corbu: A Translation and Interpretation of Mise au point (New Haven, CT, 1997), 67.
(обратно)
162
Бодлер Ш. Приглашение к путешествию.
(обратно)
163
Peter Adam, Eileen Gray (London, 1987), 217.
(обратно)
164
Peter Adam, Eileen Gray (London, 1987), с. 309–310.
(обратно)
165
Peter Adam, Eileen Gray (London, 1987), с. 309.
(обратно)
166
Sang Lee and Ruth Baumeister (eds), The Domestic and the Foreign in Architecture (Rotterdam, 2007), 122.
(обратно)
167
Adam, 220.
(обратно)
168
Adam, с. 334.
(обратно)
169
Adam, с. 335–336.
(обратно)
170
Beatriz Colomina, ‘War on Architecture: E. 1027’, in Assemblage no. 20, April 1993, 28–29.
(обратно)
171
Лоос А. Орнамент и преступление.
(обратно)
172
Beatriz Colomina, Privacy and Publicity (Cambridge, MA, 1994), 234.
(обратно)
173
Walter Benjamin, ‘Surrealism’ in Jennings and Eiland (eds), Selected Writings, Vol. 2, part 1, 1927–30 (Harvard, 2005), 209.
(обратно)
174
Публий Овидий Назон. Любовные элегии. Метаморфозы. Скорбные элегии. – М.: Художественная литература, 1983.
(обратно)
175
Фрейд З. Зловещее. Пер. А. Гараджи.
(обратно)
176
Экономические аспекты взаимосвязи секса и архитектуры заслуживают отдельной главы. До недавнего времени бедняки о собственной комнате могли только мечтать. В отличие от аристократов Пирама и Фисбы, играющие их мастеровые, скорее всего, ютились в одно-двухкомнатных клетушках, где интимную жизнь было труднее скрыть от посторонних. У древнегреческих рабов, средневековых крестьян и рабочих семей середины XX века, не располагавших отдельными покоями и не обремененных необходимостью продолжения династии, архитектурные оковы половой жизни оказывалась куда свободнее. Отдельное личное помещение остается мечтой немалой части населения мира, так что (например, в Китае) проявления интимного поведения на публике (такая откровенность Западу и не снилась) обусловлены именно стесненными условиями проживания.
(обратно)
177
Вулф В. Своя комната. – М.: Прогресс, 1992.
(обратно)
178
Adam, 257.
(обратно)
179
Walter Benjamin, ‘The Destructive Character’, trans. Edmund Jephcott, in Selected Writings Vol. 2, part 2: 1931–34, ed. Michael Jennings, Howard Eiland and Gary Smith (Cambridge, MA, 2005), 542.
(обратно)
180
Berthold Brecht, ‘Ten Poems from a Reader for Those Who Live in Cities’, in Poems 1913–1956 (London, 1987), 131.
(обратно)
181
Пруст М. Утехи и дни. – М.; СПб.: Летний сад, 2000.
(обратно)
182
Sunday Telegraph, 3 July 1994.
(обратно)
183
Elizabeth Darling, Re-Forming Britain: Narratives of Modernity Before Reconstruction (London, 2007), 54.
(обратно)
184
Innes Pearse and Lucy Crocker, The Peckham Experiment: A Study in the Living Structure of Society (London, 1943), 241.
(обратно)
185
Манн Т. Волшебная гора // Собрание сочинений в десяти томах. Т. 3. – М.: ГИХЛ, 1959.
(обратно)
186
Музиль Р. Человек без свойств. – М.: Ладомир, 1994.
(обратно)
187
John Allan, Berthold Lubetkin: Architecture and the Tradition of Progress (London, 1992), 29.
(обратно)
188
John Thompson and Grace Goldin, The Hospital: A Social and Architectural History (New Haven and London, 2000), 187.
(обратно)
189
Christine Stevenson, Medicine and Magni& cence: British Hospital and Asylum Architecture, 1660–1815 (New Haven and London, 2000), 187.
(обратно)
190
Thompson and Goldin, 159.
(обратно)
191
Owen Hatherley, ‘Trip to an Exurban Hospital’, on Sit Down Man, You’re a Bloody Tragedy, 25 January 2009. http://nastybrutalistandshort.blogspot.co.uk/2009/01/trip-to-exurban-hospital.html
(обратно)
192
Allan, 366.
(обратно)
193
WHO, 2012. http://www.who.int/tb/publications/factsheet_global.pdf
(обратно)
194
Peter Godfrey, ‘Swerve with Verve: Oscar Niemeyer, the Architect who Eradicated the Straight Line’, Independent, 18 April 2010.
(обратно)
195
Oscar Niemeyer, The Curves of Time (London, 2000), 3.
(обратно)
196
Obituary of Oscar Niemeyer, Daily Star of Lebanon, 7 December 2012.
(обратно)
197
Mike Davis, Planet of Slums (London, 2006), 9.
(обратно)
198
Там же, с. 19.
(обратно)
199
Catherine Osborn, ‘A History of Favela Upgrades’, www.rioonwatch.org, 27 September 2012. http://rioonwatch.org/?p=5295
(обратно)
200
Маркс высказался подобным образом в своей рецензии на «Религию нового века» Даумера в Neuen Rheinischen Zeitung no. 2, February 1850. http://www.mlwerke.de/me/me07/me07_198.htm
(обратно)
201
Rod Burgess, ‘Self-Help Housing Advocacy: A Curious Form of Radicalism’, in Self-Help Housing: A Critique, ed. Peter Ward (1982) 55–97, 92.
(обратно)
202
David Harvey, Rebel Cities (London, 2012), 54.
(обратно) (обратно)