| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Путешествие в Агарту (fb2)
 - Путешествие в Агарту (пер. Наталья Юрьевна Морозова) 708K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Абель Поссе
- Путешествие в Агарту (пер. Наталья Юрьевна Морозова) 708K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Абель ПоссеАбель Поссе
Путешествие в Агарту
Агарта (Агартха) – от санскр. «недосягаемая»; во многих мистических учениях – таинственный город, средоточие высших сил, центр мира
Предисловие автора
Я был знаком с несколькими нацистами, которые нашли себе прибежище в Аргентине в мои студенческие годы. С тех пор меня не переставал занимать вопрос: что за тайное, необъяснимое убеждение заставило этих людей встать на путь смерти, кровавых жертвоприношений, личного и национального саморазрушения? Какая сокровенная сила выбила их из предсказуемой колеи немецкого бюргерства и его культуры, достойной всяческого уважения?
Наверняка их влекло не менее кровожадное божество, чем бог мексиканских индейцев.
Эта книга родилась в попытках найти ответ на тот давний вопрос. Немецкие писатели до сих пор изо всех сил пытаются узурпировать эту тему, но она тесно связана с сутью тоталитаризма и безумием уходящего века. Таким образом, эта тема значима для всего мира и чрезвычайно актуальна для Латинской Америки.
А. П.
«Похоже, Гитлер в последний момент от отчаяния обратился к магии, пытаясь отвратить неминуемое. Он воззвал к «высшим силам», чтобы те даровали ему победу».
Найджел Пенник[1]
«Как объяснить англичанину, что судьба мира решается на Тибете?»
Луис Пауэлс[2]
«Нацисты на протяжении всей жизни ежечасно преследовали священный фантом, который им удалось превратить в историческую реальность… Если довести эту мысль до логического предела, можно сказать, что они были героями сатанинской морали».
Долтон Трамбо[3]
Глава I
Из Сингапура дорогой посвященных
СИНГАПУР,
СЕНТЯБРЬ 1943 ГОДА
Я открываю этот блокнот, чтобы скрасить томительное ожидание. Я знаю, мне предстоит пережить нечто необычайное, и свидетелей этому наверняка не будет – во всяком случае, в финале.
Я весь в испарине из-за тропической влажности, приходится класть салфетку между запястьем и страницей. Отель «Эмпайр» – слишком высокопарное название для этого убогого заведения, из которого никак не выветрится дух британского упадка и где сейчас хозяйничают японцы. С деревянного балкона я бросаю взгляд на запущенный сад, заросший тростником. Дождь остервенело барабанит по огромным зеленым шелковым листьям. Каждые пять-десять минут он стихает, и растения словно переводят дух после пережитых мучений, подсчитывая нанесенный им урон: упавшие плоды, сломанные цветы, погнутые стебли.
На улице под пальмовым навесом не занятые работой носильщики и китайские кули[4] играют в домино. Ставкой служат им трубки с опиумом. Они играют на грезы, на мимолетные наркотические удовольствия – нечто куда более ценное, чем деньги. (Ясно, что проигрыш означает для них самое худшее – остаться лицом к лицу с действительностью.)
Отсюда, с третьего этажа, можно разглядеть часть порта и воды, впадающие в Сингапурский пролив. Высится целый лес мачт: это японские грузовые суда день и ночь сгружают укрепления для обороны острова, на который не перестают претендовать англичане, считая его важнейшим стратегическим пунктом для своего господства на Востоке, ведь отсюда открывается путь в Индию. В ясную погоду можно разглядеть даже почерневшую трубу греческого грузового суденышка, которое работает на нашу разведывательную службу, «С. Д. Аусланд». На него я сяду на рассвете, с английским паспортом и замаскированный под англичанина, чтобы доплыть до Калькутты, а оттуда попытаюсь добраться до центра Высших Сил.
Долгие часы ожидания. Когда я пишу, мне становится легче. Это лучше, чем рассматривать себя в зеркале в ванной. Одиночество отступает. Это и возможность поразмышлять, и хитрая уловка, помогающая противостоять неумолимой разрушительной силе уходящего времени. С внешних обстоятельств я переключаюсь на свое глубинное «я». Я знаю, в одиночестве человек опускается. А этот внутренний собеседник, другой, который возникает, когда я пишу, делает одиночество более сносным.
Я ничем не рискую: при помощи простого химического трюка все эти слова превратятся в ничто. Полное ничто. (Это же ожидает и всю нашу культуру. Даже Данте, Ницше[5] и моего любимого Гёльдерлина.[6])
Я тщательно упаковал свои карты. Они замаскированы под английские лоции, которые чаще всего можно встретить в этих краях, всегда находившихся под имперской властью наших врагов. Сначала в путь пускались первооткрыватели и картографы, потом – оккупационные войска и наконец омерзительные миссионеры с Библией в руках и целый легион торгашей, контрабандистов и администраторов. Совершенный цикл, повторявшийся во всех уголках планеты.
Над этими английскими картами усердно трудились наши специалисты из института Аненэрбе,[7] организации, которая занимается самыми секретными научными разработками для национал-социалистского правительства. Они отметили тропы и предполагаемые тайные центры, тем самым придав метафизическое измерение безделке, созданной британскими землемерами и торговцами.
Труды Аненэрбе – результат многолетних оккультных практик. Они обобщают почти недоступные сведения, восходящие к временам, когда, по предположениям, Александр Македонский[8] совершал военные вылазки из Бактрианы[9] и Александрии,[10] а также к сомнительным интерпретациям передвижений последних ессеев по Центральной Азии после разрушения Массады легионами Флоруса.[11] Помимо этого были приняты во внимание туманные знаки, которые Рудольф фон Зебботендорф[12] оставил членам Общества Туле,[13] безумные речи Дитриха Экарта,[14] вернувшегося из Монголии. Были сделаны и попытки прояснить записи аббата Теодориха фон Хагена, сделанные по возвращении, уже после потери рассудка. Это была и впрямь адская работа.
Копия главной карты, воспроизведенная специальными чернилами на непромокаемой ткани, зашита в подкладку моей походной куртки.
Это та самая карта, которую развернул передо мной рейхсляйтер Мартин Борман, когда вызвал в свое орлиное гнездо, Оберзальцбах, для окончательного утверждения вверенной мне миссии.
Наконец-то после стольких лет учебы, проведенных в стороне от всего, из-за которых я не удостоился даже чести попасть на фронт, выбор пал на меня. Годы университетских штудий, отданные космографии, космологии, восточным религиям и языкам, исследовательская работа в институте Аненэрбе – теперь все это обретало смысл: я оказался посланцем, избранным.
– Это не просто карта, – сказал Борман, – Здесь реальное и видимое пребывает в единении с магическим и невидимым. Найди точку раскрытия, перехода от физического к метафизическому. Возможно, она соединяет вероятное с утопией, истоки с будущим…
Я не забыл ни одного его слова, ни одного его жеста. Глаза его смотрели пристально. Там, на низком столике, она казалась всего лишь обычной картой. Но множество людей в течение многих лет выполняло особые поручения и вело разведку в Британском музее, в закрытых архивах Британской короны, в почти недоступной тайной библиотеке Ватикана. Наша разведывательная служба в Москве подкупала людей и даже потеряла одного агента, пытаясь достать набросок «Плана Утраченного, но Грядущего Города», который Гурджиев,[15] спасаясь от советской оккупации, не без доли эксцентричного юмора оставил в Тифлисе в конверте, адресованном «госпоже Джугашвили», матери Иосифа Сталина (Гурджиев был однокашником Сталина по Александропольской семинарии).
Все окончательно определилось, когда я получил приказ отправиться в Зальцбург и поселиться в небольшой гостиничке, где останавливались студенты и любители Моцарта. Я зарегистрировался там под вымышленным именем, согласованным с Аненэрбе.
За завтраком я прочел в местной газете, что в Вилла-Гаджиа, близ Фельтре, в итальянском Тироле, неподалеку от австрийской границы, у Адольфа Гитлера состоялась «встреча особой важности» с Бенито Муссолини. В тот же день наши войска потерпели поражение в Африке и в России. Колесо истории вращалось не в нашу пользу.
В назначенный час появились два автомобиля, которые под охраной доставили меня в Бергхоф, легендарную резиденцию Фюрера в баварских Альпах.
Нам пришлось проехать через целый ряд контрольно-пропускных пунктов, установленных на поворотах горной дороги. На последнем посту меня обыскали. И вот полковник СС провел меня в дом, распахнутый навстречу голубому пространству и уставленный великолепными цветущими растениями. Он сопроводил меня в зал, выходивший окнами на террасу, откуда открывался восхитительный вид на Альпы и где сам Адольф Гитлер, одетый в свою обычную форму, держал в руках деревянный обруч, через который прыгала его собака Блонди.
Было 20 июля 1943 года.
Слово взял директор Аненэрбе полковник СС Вольфрам Зиверс:
– Низкие враждебные силы сумели воспрепятствовать нашему продвижению в Центральную Азию. Из-за поражения в Африке мы потеряли контроль над Средиземным морем… Мы были всего лишь этапом на этом пути. Другие в грядущем цикле истории продолжат нашу борьбу за победу сил огня над силами льда. А пока что, судя по всему, белая раса проиграла войну под Сталинградом.
Во взгляде Зиверса сквозило отчаяние, но было в нем и смутное понимание некой роковой неизбежности. Он пробормотал, глядя на Мартина Бормана:
– Таково положение дел. Но мы не должны забывать о том, что знали с самого начала: к нашей миссии не применимы банальные категории победы и поражения. Мы будем бороться до последнего дня, до последнего вздоха.
И с горящими глазами заговорил о «потусторонних силах»:
– Нам нужно снова обрести полноту сил, обновить договор! Тайные силы… Раньше нас как будто направляла чья-то рука, облеченная властью…
Потом он изложил задачи моей миссии, может быть самой странной и неправдоподобной, какую когда-либо доверяли кому бы то ни было.
– Лишь высшие духовные силы способны спасти нас и помочь одержать победу. Конечно, многие наши люди, лучшие ученые умы уже близки к тому, чтобы открыть способ высвободить тайные силы материи… Но время идет быстро, и оно работает против нас.
Рейхсляйтер Борман достал два футляра и положил на стол. Он вынул подробные пояснения к карте, подготовленные в Аненэрбе, и сведенные воедино материалы путевых заметок моих предшественников. Именно тогда, вспоминая о покойном Дитрихе Экхарте, Зиверс в первый и последний раз произнес слово «Агарта».
Борман открыл второй футляр и извлек оттуда старинную шкатулку слоновой кости, а из нее достал талисман, который должен был служить паролем в моем предприятии. Это было очень древнее кольцо из бронзы или старого золота, в которое был вделан огромный рубин грубой огранки с изображением свастики. Мы все трое в молчании не сводили глаз с этой исторической реликвии. То было кольцо Чингисхана.[16] С ним он в XII веке предпринял поход и основал племя воинов, которые установили свою власть в самом сердце Евразии, завоевав империю, простиравшуюся от Желтого моря до Днепра.
– Владея этим кольцом, они достигли высшей цели – защитить Азию от иудеохристианского извращения, от рационалистической антицивилизации. Владея этим кольцом, они остановили тех, кто готовился разрушить священное единство Земли, Человека и Космоса.
Борман, глядя на меня в упор, протянул мне кольцо. Я взял его.
Это было то самое кольцо, которое было на руке у Адольфа Гитлера утром 23 июля 1940 года, в момент высшего триумфа, когда он с высоты Эйфелевой башни озирал Париж, простершийся у его ног.
– Когда вы доберетесь до последней «точки реальности», назовем ее так, в игру вступит тот, кто ожидает прибытия этого кольца, этого талисмана, – Великий Тулку[17] Гомчен Ринпоче[18]… Тогда-то и начнется ваше настоящее испытание… Захочет он указать путь и помочь вам, всем нам или нет…
Борман принялся упаковывать материалы, которые должны были передать мне перед отъездом.
Фюрер покинул террасу и теперь развалился в мягком кожаном кресле в соседней комнате. Я увидел, как туда вошел доктор Морелле в сопровождении медсестры. Морелле держал наготове шприц, быстро и очень осторожно сделал фюреру укол в руку.
Адольф Гитлер снова вернулся в свою телесную оболочку и в реальное время. Собака лежала у его ног с таким же скучающим видом.
Борман отвел меня в другую часть зала, где стоял буфет с бутылками и вычурными богемскими бокалами. Из вежливости он предложил мне выпить. Как мне показалось, он ни на секунду не проявлял ни малейшего энтузиазма по отношению ко всему этому, не желая вовлекаться в происходящее. Холодным деловым тоном он объявил мне, какие шаги я должен буду предпринять в ближайшем будущем.
– Вы отправитесь в Сингапур. Поедете через две недели, когда пройдете окончательный курс подготовки в институте Аненэрбе. Сообщение с Сингапуром у нас налажено. Естественно, с этой минуты вы будете находиться под наблюдением гестапо…
В глубине коридора появилась изящная, очень бледная женщина в длинном, облегающем шелковом платье. Она помахала рукой, и рейхсляйтер кивнул ей. Меня поразила необычайная бледность этой женщины, которая улыбнулась перед тем, как исчезнуть.
– Я пью за успех вашей миссии, – сказал Борман. – Только неимоверным усилием воли можно изменить судьбу… Но действовать нужно лишь за секунду до того, как она свершится… Мефистофель забыл о заключенной сделке, и доктор Фауст пытается напомнить ему, что договор еще в силе… Эсэсовцу можно сказать, что при выполнении задания вероятность смертельного исхода выше, чем вероятность успеха. Вы – отряд особого назначения в одном лице…
Я пью джин-тоник. Одиночество и тропики – так недолго и опуститься. Хорошо еще, что я пью то, что больше всего приличествует британцу, за которого выдаю себя.
Говорят, когда смотришь на дождь, в памяти всплывают образы и призраки прошлого.
Я отвлекся, чтобы написать письмо своему маленькому сыну. Это последний пункт, откуда я могу отправить письмо с уверенностью, что оно дойдет. Я уже с трудом представляю себе лицо сына. Он еще слишком мал, чтобы понять смысл моих слов, особенно намеки на те причины, которые вынудили меня покинуть его.
Далекое существо, в чьих жилах течет моя кровь. Он ничего обо мне не знает. Он растет в затерянном на краю земли городе, словно не затронутом ходом истории, в Буэнос-Айресе. (Это название похоже на мирную тишину, пустынные земли, открытые всем ветрам.)
Во всяком случае, мое письмо может стать мостиком для нашего будущего сближения, для встречи. Или завещанием.
Я едва не расчувствовался, пока писал. Во мне все еще живет недочеловек, калека, которого мы тащим на закорках несмотря на то, что нам выпало преобразиться первыми. Временами еще слышатся стоны старой, отброшенной нами жизни и культуры, пропитанной чувством вины, которую мы сменили на меч.
Пройдет время, и Альберт, Альберто, узнает историю своей матери-испанки, подробности ее смерти в Бургосе,[19] когда в город вошли победоносные войска Франко21. Когда он вырастет, ему придется разобраться в том, чего сам я еще не знаю, хотела ли она восстать против франкистов или на самом деле стремилась воспротивиться моим убеждениям, моей вере.
Мне не жаль ее. Смерть кажется мне прибежищем, безопасной гаванью. В этой огненной круговерти нельзя искренне жалеть того, кто уже нашел приют во дворце смерти. (Смерти нежеланной или желанной, как это было у Кармен.)
Время от времени дождь усиливается и рвет тугой шелк огромных листьев. Когда он стихает, снова слышатся визгливые голоса вечно переругивающихся между собой кули, разгоряченных рисовой водкой. Поножовщина здесь обычное дело, так они сбрасывают с себя ношу своей жалкой жизни. Я уверен, что получивший удар ножом должен закрывать глаза, бормоча убийце слова благодарности.
Я, Вальтер Вернер, достиг звания подполковника войск особого назначения. Я – нацист. Национал-социалист. Член СС.
Я считаю, что мы не просто партия или политическое движение. Это было бы слишком банальным определением. Речь идет о неизмеримо большем: мы бойцы на службе божественного провидения. Мы создаем того самого бога, которого человечество жаждет найти вот уже двадцать столетий, с тех пор как было обмануто евреем Савлом Тарсяном.[20]
Мы закаляли себя, как булат. Только чистота стали в руках настоящих ангелов-истребителей может привести к рождению нового человека.
Сейчас, когда Германия истекает кровью, в самый тяжелый год развязанной нами искупительной войны, мне становится легче оттого, что я излагаю на бумаге эти истины.
Вполне вероятно, что все наши усилия окажутся лишь первой попыткой, которую в иных исторических обстоятельствах возобновят другие. Низкие враждебные силы остановили под Сталинградом наше продвижение к Центральной Азии, как верно заметил вождь.
Мои товарищи погибают на всех фронтах. Я видел в газетах их некрологи. Меня же берегли в резерве для этой последней, отчаянной миссии.
Неожиданно здесь, в жалком отеле «Эмпайр», появился мой дорогой Грибен, с которым мы вместе учились на курсах в Бад-Тельце. Я вижу, он сияет от гордости, получив «Мертвую голову», отличительный эсэсовский знак – череп на фуражке, то ли с улыбающейся, то ли саркастической гримасой, наверняка возникшей помимо воли художника.
Теперь он стал тем, кем хотел быть, – тружеником смерти, окруженным горами обнаженных трупов, которые он должен сжигать в работающих день и ночь печах Аушвица[21] -Биркенау, превращая их в столб едкого дыма.
– Мы будем трудиться до последнего дня, искореняя эту опасную болезнь, эту нравственную и метафизическую проказу – иудеохристианство, – сказал доктор Хильшер, поднимая бокал на выпускном вечере нашей группы особого назначения.
Узнав, что я не получил места в активно действующих частях, все стали обращаться со мной с какой-то жалостью. В глубине души они сожалели, что я был направлен на «интеллектуальную работу» в засекреченный институт Аненэрбе, который находился в ведении СС с весны 1938 года.
Но теперь я – спасительное послание в бутылке, брошенное в бушующее море. (Я пишу об этом без хвастовства, это простая констатация факта.) Мне известно, что, вполне вероятно, моя миссия повлечет за собой и мою смерть.
Нагольд, родная деревня… В Швабии,[22] на самом юге. Земля виноделов. Земля Гёльдерлина (это единственная книга, которую я взял с собой, помимо фальшивой Библии, скрывающей в себе тайные записи тех, кто стремился к Агарте).
Я вижу, как течет Некар на подступах к тихому средневековому Тюбингену с его колокольнями и высоким шпилем церкви, который видно из долины, вижу Платановую аллею. Мы с Грибеном бегали среди летних зарослей возле Некара, а весь Нагольд, наша деревенька, благоухал сидром.
Вдалеке виднелись пологие холмы Швабских Альп, покрытые лесом, которому тайно поклонялись как источнику жизни и таинственных германских сказаний.
На закате мы спускались на Рыночную площадь с неизменным источником, откуда в старые времена пил скот и лошади, привозившие товар на ярмарку, что бывала здесь по вторникам.
Летними вечерами сюда, к подножию памятника погибшим на великой войне, приходили влюбленные и пили прохладную воду, текущую по каменным уступам. (И я бы хотел спуститься с холма вместе с Инге, чтобы родниковой водой утолить жажду первой любви.)
Самые сладостные послеобеденные летние часы, когда стрекочут цикады, а шмели кружатся, словно обезумев от чувственного аромата полевых цветов, мы с Людвигом Грибеном посвящали рыбалке. Кто бы мог подумать, что Грибен испугается, когда я предложу ему углубиться в чащу леса, растущего на склоне Бисмаркова холма! Оттого, что я мог это сделать в одиночку, меня охватывала странная радость. Я погружался в прохладный голубой туман молчащего леса. Что я искал? В чем был смысл того радостного волнения?
Человек остается частью своей семьи, своей деревни, определенного уклада жизни, пока не родится заново.
Да, Нагольд был моей родной деревней. Моя семья три поколения подряд владела там главной аптекой, «Апотеке цум Адлер», что напротив гостиницы «Пост».
Это была католическая семья, тихо исповедовавшая свою веру, подобно большинству южан. Потребители агонизирующего, слабого бога.
А погребенный истинный бог, дионисийский,[23] солярный, являл себя на наших крестьянских праздниках, во время жатвы или сбора винограда. Тогда люди словно взрывались, устав подчиняться тюремным правилам, установленным местными и церковными властями. В такие дни даже из портала церкви, которую мы с гордостью называли собором, шел пьяный дух.
Некий сокровенный бог являл себя с бурным приходом каждой весны. Даже мой отец, столь же педантичный и серьезный, как и все члены нашей старинной семьи, шатался из стороны в сторону, возвращаясь с друзьями с деревенского праздника, на самом деле восходившего к культу Бахуса.[24]
В преддверии «великого прорыва» (как выразился полковник Зиверс, прощаясь со мной в здании Аненэрбе) я позволил себе вспомнить детство, как будто в завещании. Слабость, граничащая с тем грязным чувством, которое принято называть ностальгией.
Но на самом деле я описываю детство другого. Почти другого.
Отель «Эмпайр»… Это убогое место и правда достойно своего названия: оно могло бы служить символом Британской империи, которой мы уже сломали хребет, каков бы ни был исход нынешней битвы. Пока свирепствует муссон, словно разъяренная душа Азии, балконы и карнизы здания подрагивают, как безвкусные украшения на разодетой шлюхе.
С наступлением ночи меняются запахи и звуки, которые порождает «Эмпайр», этот зараженный организм. Сюда стекаются малайские торговцы, индийские контрабандисты в тюрбанах с жемчужинами, индонезийские проститутки, высокие и молчаливые, как тростники, поваленные ночным ветром, китайские сутенеры, обвешанные драгоценностями шулера, которые до самого рассвета будут играть, ставя на кон добытое бесчестным путем.
Нижние залы оказываются во власти этого человеческого отребья без роду без племени. Оттуда поднимаются алкогольные пары, доносится американская музыка – крутятся заезженные пластинки. Сквозь тонкие перегородки, разделившие на несколько комнат старинные залы в колониальном стиле, слышны похотливые перешептывания, лишенные каких-либо признаков страсти. Ветхие ковры, свидетели лучших времен, когда «Эмпайр» упоминался в путеводителе Туринг-клуба, уже не скрадывают шагов случайных любовников, договаривающихся о цене и наборе услуг. В коридорах витает дух печали и скрытого насилия.
Примерно каждые два часа все вдруг замолкает, как в диком лесу перед рассветом. Снова становится слышен шум дождя, барабанящего по тропическим зарослям. Это является с контрольным визитом японский патруль. Несколько минут все сидят не шелохнувшись. Жетоны и карты лежат без движения. В полутьме номеров проститутки отрывают свои натруженные губы. Сутенеры опускают глаза к полу. Потом слышится мотор военного бронетранспортера, и бедлам возобновляется. Машина плоти, коснеющая в своем вырождении, возвращается к тому, что она именует жизнью.
Наше истинное рождение состоялось в тот день, когда мы вступили в молодежную организацию – гитлерюгенд.[25]
Мангольд, Мартин Бульман и Людвиг Грибен были первыми. Вскоре это увлечение передалось всем нам. Люди со свастикой, штурмовики под предводительством Рема, открыли агитпункт в соседнем Тюбингене, крупнейшем в наших краях университетском городе.
Университет, один из ведущих в тот доисторический период нашей культуры, был насквозь пропитан «духом гуманизма и универсализма», о котором ректор вещал в ежегодной речи, посвященной Гумбольдту.[26] Там мы получали свою порцию охваченной агонией культуры. Руины идей. Наукообразие без космичности. Вечное шатание по музею застывших безглазых скульптур – того, что осталось от Греции и Рима. Лекции, передающие знания, которые перекатывались по скучающей аудитории, словно заржавленные монеты.
Грибен и Бульман вернулись в восторженном возбуждении, с плохо отпечатанными брошюрами в руках. В этих словах пылало великое разрушительное пламя, тайно тлевшее уже не одно столетие. Мы сразу же почувствовали, что не стоит спрашивать мнения старших о тех вещах, которые мы обсуждаем на школьных дворах и на улице.
Спустя две недели Грибен вернулся, с гордостью демонстрируя красную свастику на белой нарукавной повязке: он стал представителем штурмовиков среди нагольдских студентов. Вместе с Инге мы отправились пить и петь в пивную «Охзен». А когда вышли, мы оба обняли и поцеловали девушку.
Преподаватели и учителя стали в наших глазах служителями религии, лишенной алтарей. Университетской и муниципальной веры, покинутой богами.
Национал-социализм захватил нас, как мощный порыв ветра, разбив плотно закрытые окна аудиторий, где нам преподавали мертвую, проникнутую смирением культуру, которую распространили по всему миру иудеохристиане и англосаксы.
Все мы – подростки и даже дети – были охвачены этим порывом. Бульман, к которому уже присоединилось много других ребят, устроил летней ночью факельное шествие по холмам. Там мы принесли импровизированную клятву. Мы выпили, а потом рассвет застал нас лежащими рядом с Инге, в мокрой от росы и спермы одежде.
Мы вернулись, не боясь родительской выволочки. Мясник Гейне, отец Инге, ударил ее и обозвал шлюхой. Он был неплохой человек, просто он растерялся и к тому же испытывал страх перед величием того неотвратимого порядка, частицу которого несла в себе его дочь и который он называл будущим. Я больше ничего не слышал об Инге. Только Грибен, когда мы случайно встретились в Берлине, сказал, что она дослужилась до звания полковника и теперь руководит женским концлагерем в Равенсбрюке, который еще называют «женским адом».
Мне тоже предстояло пережить неизбежный разрыв, чтобы родиться заново. Отучившись два семестра в Тюбингенском[27] и Гёттингенском[28] университетах, я был призван в охранные отряды, в СС. Деревенька моего детства и семейный быт остались для меня в далеком прошлом.
Когда я в новенькой черной форме приехал домой на Рождество, мальчишки бежали за мной и криками звали к себе, чтобы получше рассмотреть. Мика Левина с бабушкой, которая в детстве меня очень любила, стояли на пороге лавки «Кроне» и грустно поздоровались со мной, не скрывая разочарования.
Было поздно, так что отец уже закрыл аптеку и расположился с газетой у себя в кабинете, предварительно переписав заказы на приготовление лекарств. Я поднялся по лестнице, держа фуражку под мышкой – наверное, пытался прикрыть рунический символ СС, знак смерти, знак тех, кто больше не желал мириться с позорным круговоротом.
Отец смотрел на меня из-под очков поверх газеты. Это был тихий, спокойный человек, социал-демократ, способный восхищаться жалкими песенками Курта Вайля[29] и пьесками Брехта.[30]
– Вот ты и добился своего, – сказал он. – Наверное, надо тебя поздравить?
Но улыбнуться не смог. Я уже был не я. Мы оба почувствовали это без всяких слов. Теперь я был сам себе отец. Другой, одетый в черное человек занял мое место, и это был уже не сын моего отца.
Пришлось отменить и семейное празднование Рождества… Мы распрощались еще до ужина, зная, что это навсегда. Уже в дверях в мою серую суконную перчатку впиталась слеза, которую я смахнул с материнской щеки. В семь часов, как и было условлено, явился резидент, начальник нашей местной агентурной сети, с документами, которые понадобятся мне для высадки в Калькутте. Приветливый и улыбчивый человек. В нем чувствуется опасная неискренность, свойственная многим людям, связанным с разведкой. Мне сказали, что я могу ему доверять. Это разбитной индус, весь увешанный золотом. Он сыплет намеками на проведенную им большую работу и высокое качество предоставленных мне материалов. Наверняка подозревает во мне инспектора гестапо, нашей тайной полиции, которая, как и должно быть, приводит в трепет даже собственных сотрудников.
Мы пообедали на крытом балконе, чтобы избежать толчеи внизу, хотя там привлекли бы к себе меньше внимания. К нам торжественно вкатили раздолбанный сервировочный столик с рисом, морепродуктами и белым итальянским вином.
Я говорю на безупречном классическом английском кембриджских времен. Я полностью вошел в роль Роберта Вуда, с его уэльскими детскими воспоминаниями. Мне удалось добиться того, что индус вообразил, будто я и на самом деле англичанин на службе у немцев. Эта игра меня веселит, и я прибавляю все новые английские штрихи и подробности. Я веду себя так, будто меня допрашивает британская разведка. Резидент в ответ на мою притворную искренность, чувствует себя обязанным ответить тем же и рассказывает о своей семье. Есть нечто удивительно трогательное в его желании внести человеческую теплоту в связывающие нас жесткие, принципиально бесчеловечные отношения. Он вытаскивает бумажник и показывает мне фотографии своих улыбающихся детей.
Теперь, записывая происшедшее, когда резидент уже ушел и увезли столик с остатками ужина, я понял, что, превратившись в Роберта Вуда, пробудил в индусе особую симпатию.
Я рассматриваю свой паспорт с визами, где значусь под фамилией Вуд, на самом деле принадлежащей английскому офицеру, который нашими усилиями пропал без вести во Франции. Нам пришлось уничтожить его в Шпандау. Я изучил все подробности его жизни, так что теперь благодаря моей лжи он, как ни странно, продолжает жить во мне. Я помню наизусть, какие у него были отметки по алгебре и истории в начальной школе! Он живет во мне, подобно душам в католическом лимбе.
В конце концов, по большому счету, его детство вполне сравнимо с моим, во многом оно было даже очень похоже на мое. Конечно, если не считать таинственного зова навстречу тому голубому свечению, что в послеобеденные часы сгущается в лесной чаще. Англичанам метафизика чужда, они обречены на вечное скольжение по поверхности.
В тот день, когда я получил диплом с отличием по восточным языкам и археологии, наш декан, доктор Вальтер Вюст, отозвал меня в сторону во время студенческого праздника.
– Один очень уважаемый человек заинтересовался вашими способностями, – сказал он. – Это генерал Карл Хаусхофер…
Так я начал заниматься с ним индивидуально. Он относился ко мне с симпатией, наверняка причисляя к «паломникам в Страну Востока», как он называл нас, с издевкой цитируя упадочнического писателя Германа Гессе[31] (он уроженец Кальва, что в наших краях), чьи книги мы сжигали бурными ночами 1933 года.
– Восток интересует нас не как предмет ностальгии империалистов, которые собирают и свозят в музей остатки того, что сами разрушили. Мы видим на Востоке ростки, полные жизни…
Он заинтересовался мной, потому что доктор Вюст прислал ему мою монографию о неудавшемся язычестве в европейской поэтике.
Во время летнего солнцестояния 1935 года Хаусхофер свел меня с несколькими членами Общества Туле, и я стал работать в исследовательских группах особого назначения. Он попросил меня в качестве ассистента поехать с ним в Рим на симпозиум, на открытии которого он должен был прочесть свой знаменитый доклад «Аналогии культурного развития Италии, Японии и Германии». Теплым летним вечером после официального ужина мы пешком прошли по огромному проспекту Деи-Фори-Империали до далекой громады Колизея.
Генерал говорил о своих удивительных поездках по Японии, Китаю, Тибету и Монголии в начале века.
– Мало убить Авеля, нужно покончить со всем адамовым семенем. Вот настоящая задача, единственное, что достойно усилий. Воля к жизни требует, чтобы мы вновь обрели погребенного бога. Мы лишь тени по сравнению с сиянием истинного рождения… Хватит с нас глиняных людей, этих подобий Иеговы! Мы хотим видеть человека настоящим человеком!
Тогда-то он и рассказал мне об организации особого назначения и об институте Аненэрбе.
– Сражаться на нашем фронте интереснее всего. Поверьте, творить бога – увлекательнейшее приключение!
В словах генерала была такая сила, что перед ней нельзя было устоять.
– Вам будет казаться, что вы вдалеке от великого праздника войны, от великой революции, но вы будете знать, что трудитесь в том самом затишье, которое приходится на эпицентр смерча, на оси, вокруг которой вращаются все силы, – прошептал он.
Колизей казался в ночи огромной, пустой, никому не нужной раковиной, выброшенной прибоем на грязный берег иудеохристианства. Хаусхофер, не говоря этого прямо, призывал к возрождению языческих празднеств.
Те беседы наверняка оказались для меня решающими.
Мне обязательно нужно было съездить в Мадрид, чтобы увидеть Кармен и нашего с ней сына, и здесь я должен был проявить особую решимость.
Собственный ребенок, когда поднимаешь его на руки и слышишь его невинный, счастливый смех, может пробудить непостижимую нежность. Но я должен отдалиться от него и его матери.
У нас с Кармен произошел мучительный разговор, который я инстинктивно стараюсь забыть. Может быть, я говорил сбивчиво, зато сумел остаться верен принятому решению. Как сказал Бульман, у эсэсовца нет ни семьи, ни происхождения, нет ничего, кроме задачи построить новый мир.
Несколько месяцев спустя я получил в Берлине известие о смерти Кармен.
(Все это важно для подведения жизненных итогов. Вырисовывается некая последовательность. Мне сейчас полезно обозначить основные шаги, которые привели меня к этой миссии.)
Насыщенные, странные, возвышенные месяцы учения в Орденсбурге, одной из засекреченных школ, созданных силами особого назначения.
Почти с восходом солнца мы съедали спартанский завтрак, утвержденный лично самим Гиммлером:[32] ключевая вода и овсяная лепешка.
Изнуряющая физическая и идеологическая подготовка. Мы должны были вернуть к жизни тело, ставшее похожим на полуатрофированный организм опустившегося или выродившегося животного. Надо было пробудить чувства, оживить омертвевшие участки, позволить вырваться инстинкту, порывам, воле к насилию. После этих специальных упражнений мы падали без сил, измотанные до предела.
У меня перед глазами встает лицо Фюрера, когда тот наставлял нас на собрании в замке Верфельсберг:
«Нам нужна неудержимая, властная, несгибаемая, жестокая молодежь.
Она сможет терпеть боль. Я не хочу, чтобы в ней оставалась хотя бы крупица нежности или слабости.
Пусть она будет сильна и красива, как молодой дикий зверь. В ней мы очистим нашу расу от следов тысячелетней покорности и одомашненности.
Так с ее помощью мы создадим новый мир».
Ночи в заснеженном лесу, в затерянных горах. «Уроки выживания». Мы научились улавливать запахи лесных растений и различать их в кромешной темноте, сравнивать воду из разных источников. Мы возвращали себе природные способности, возрождали утраченное животное начало.
Некоторые не выдерживали. Грибен попытался покончить с собой, повесившись на шланге от душа. У него ничего не вышло, мы пригрозили вернуть его «во мрак обыденности», пока он, наконец, не осознал всего.
Все мы боялись испытаний, составлявших своего рода обряд посвящения: не шелохнувшись, взорвать гранату у себя над каской, и тому подобное.
Я сумел одержать победу над голодным мастифом. С ним полагалось сражаться обнаженным, без оружия. «Как зверь со зверем», – сказал полковник Бок. Живущий во мне первобытный зверь с честью выдержал испытание. Я схватил разъяренного пса, взял над ним верх и коленом сломал ему хребет всего за семь минут, на пять минут быстрее отведенного срока.
Бока распределили в Испанию, в легион «Кондор». Он напился в кабачке и погиб, совершая авианалет. Кажется, в том самом городе, где дикие баски поклоняются какому-то дереву.[33]
Ну и что же мы уничтожили? Грязную культуру так называемой Веймарской республики.[34] Культуру кафешантанных педерастов и еврейских вырожденцев, завладевших типографиями, словами и образами, оседлавших заезженное словечко «демократия». Печальных, напыщенных профессоров, повернувшихся спиной к истинным богам немецкого народа. Паршивую инфляцию, основанную на спекуляциях экономику, навязанную международным капиталом, которым управляет еврей Зюсс, превративший гражданина в зрителя или загнанного мальчика на побегушках, лишенного иного выбора.
Ужасна и благородна была миссия, выпавшая на долю наших клинков. Мы вонзили их в жирное брюхо циничной берлинской буржуазии.
Когда я пишу об этом, я понимаю, что это было самое великое, что только можно пережить в юности. Мы стали главными героями великого взрыва, несущего возрождение.
«Но первый, кого должен убить человек, это тот недочеловек, который живет в нем самом. После этого он будет иметь право на все», – сказал однажды Бок.
20 апреля, в день рождения Фюрера, мы принесли торжественную клятву на крови. Вся наша боевая группа сделала себе надрезы кинжалом с рунами СС. Мы слизнули кровь и прижгли рану чистым спиртом. Праздник на силезских[35] холмах продолжался три дня подряд.
И вот я поступил на службу в Аненэрбе. У меня был новенький кабинет в доме номер 16 на Пюклерштрассе, под моим началом работал секретарь и двое молодых выпускников, которые должны были собирать материал для моих исследований.
Однажды у меня состоялся долгий разговор с профессором Хильшером. Тот был при своей неизменной трубке и говорил о секретных исследованиях, пробуждении «я» и истинном рождении.
Именно тогда Хильшер сказал мне: «Возможно, мы подошли к тому пределу, откуда уже нет дороги назад – или смерть, или явление бога, перед которым нам придется держать ответ за двадцать веков упадка».
Неужели Кармен умерла для того, чтобы родился этот новый бог?
Все это случилось в тот год, когда Инге с Грибеном поженились, сыграв в Нюрнберге свадьбу по эсэсовскому ритуалу. Посреди пьяной, суматошной ночи, когда над столицей нашего движения возносится ввысь на шесть тысяч метров «световая пирамида» – призма, образованная прожекторами, мы вошли в номер в гостинице «Германия», где молодожены смеялись и стонали, предаваясь любовным утехам.
Мы с Бульманом и Динкельхаммером сидели в темноте. Инге, обнаженная, спустилась с брачного ложа, обняла меня, взасос поцеловала в губы и вернулась в объятия хохочущего Грибена.
МАЛАККСКИЙ ПРОЛИВ[36]
6 СЕНТЯБРЯ 1943 ГОДА
Светает. «Восточный Аполлон» с трудом пробирается среди судов, теснящихся в сингапурском порту. Вдалеке, в дымке поднимающихся над проливом влажных испарений, виднеется остров Батан и вереница буев, которые указывают путь в Андаманское море.[37]
Летние муссоны свирепствуют в здешних краях до конца сентября. Их предсмертные порывы полны неистовства. Ветер дует с юга на север с такой силой, что наше незамысловатое грузовое судёнышко ходит ходуном, словно вот-вот развалится на куски. Волны с небывалым остервенением бьются о нос корабля.
«Восточный Аполлон», зарегистрированный в Патрасе,[38] находится в ведении одной из наших разведывательных служб, подчиняющихся непосредственно партии в лице генерала Шелленберга. В задачу судна входит доставка разведчиков и перевозка небольших партий оружия, предназначенных для антибританских группировок, действующих в Бирме. Судя по всему, англичане пока не видят ничего подозрительного в этом грязном суденышке с угольной топкой, являющем собой полную противоположность избитому представлению о порядке и симметрии, которые приписываются всему германскому. Наверняка им хорошо известен капитан, продажный Платон Сорианидес, который «бороздил малазийское направление» (как сам он не без гордости объявляет) еще задолго до начала войны, занимаясь в основном незаконными перевозками. «Без контрабанды плавание теряет всю соль», – как ни в чем не бывало заявил он за нашим первым ужином, едва только мы отчалили. К примеру, на этот раз они везут в трюме больше дюжины мертвых индусов, обложенных ледяными пластинами. Сорианидес берет десять фунтов за каждого. Он должен сбросить трупы в священные воды Ганга, как только судно приблизится к Калькуттской дельте. Многие индусы, работающие в Малайзии и в других местах, верят, что недостойно жить и быть похороненным вдали от родных истоков, не имея возможности очиститься в водах божественной реки. Старый индус в шафранном тюрбане должен следить за исполнением договора. Это представитель безутешных благочестивых родственников.
Сорианидес прогуливается по узкому капитанскому мостику в одной майке, но на голове у него красуется безукоризненная фуражка с позументами, которую он носит с такой гордостью, словно это корона или тиара, символ неограниченной самодержавной власти.
Экипаж «Восточного Аполлона», можно сказать, находится на положении полурабов. В основном это малайцы и китайцы, под жилье им отводится вонючий угол в трюме по соседству с трупами индусов и ящиками с оружием, как правило, украденным у японцев, которое Сорианидес продает на черных рынках Рангуна и Калькутты. Настоящий кошмар для этих бедняг – огромные липкие мешки со свежим каучуком, единственный легальный груз, который везут из Сингапура. Из-за сильной качки мешки угрожающе перекатываются туда-сюда, с глухим и одновременно гулким стуком ударяясь о переборки льяла. За ними тянется липкий след, и в конце концов весь пол оказывается измазан этой слюной.
Сорианидес делит свой столик только с начальником машинного отделения, пьяницей-французом, и старшим боцманом-японцем. Капитан и боцман все время разгуливают с револьвером на поясе.
Это представители порядка.
Француз, который ненавидит грека, рассказал мне, что единственный человек на борту, которого следует бояться, – это капитан. Напившись, Сорианидес бродит по кораблю в поисках добычи, тяжело дыша, как дикий зверь во время гона. В руках у него кусок льда, завернутый в резину. Стоит какому-нибудь малайскому подростку протиснуться через иллюминатор, чтобы подышать чистым воздухом на третьей палубе, как капитан одним ударом лишает его сознания и утаскивает в свою каюту, чтобы там садистски над ним надругаться. По словам француза, он как паук, который старательно тащит оглушенную стрекозу, собираясь сожрать ее у себя в пещере.
Из Сингапура мы десять дней плыли по Андаманскому морю, а погода все не улучшалась. И вот, наконец, вчера, ближе к закату, я заметил первые признаки приближения заболоченных, густых вод. Они, словно кровь, вытекают из жил Индии, из джунглей, неся в себе ее священную грязь.
При такой влажности трудно проспать больше двух-трех часов подряд, так что я встретил рассвет, прогуливаясь по палубе «Восточного Аполлона». Случай пожелал, чтобы я стал свидетелем церемонии сбрасывания мертвых тел в глинистые воды священной реки. Вдали за пеленой тумана едва виднелась Калькутта. Дурно пахнущие мешки падали в воду с глухим всплеском. Жуткого вида вороны, наверняка слетевшиеся с ближайших «башен молчания», набрасывались на них, но не успевали расклевать. При каждом таком всплеске Платон Сорианидес, стоявший неподвижно и державшийся даже не без некоторого достоинства, прибавлял десять фунтов стерлингов к своему личному счету.
Облокотившись на перила, я стоял на носу корабля и смотрел, как Индия посылает нам навстречу свой Ганг, словно прогнивший таран, действующий без насилия, но способный проникнуть на много миль глубоко в море. Главная река арийцев берет свое начало в мощном потоке ледниковых вод, спускающихся с тех самых высоких вершин, к которым я держу свой путь. Она пересекает тропические леса и равнины, словно нисходя из вечности в повседневность, к каждодневной суете людского муравейника. По пути река вбирает в себя жизненную силу, плоды, деревья, язвы прокаженных, искупавшихся на его порогах в надежде больше на духовное спасение, нежели на исцеление, и вот наконец образует эту огромную дельту, где бурлит убогая, но полная событиями жизнь, которую нашим презренным врагам-англичанам не дано понять.
Глава II
Калькутта, 1943. Маска один на один с врагами
КАЛЬКУТТА,
СЕНТЯБРЬ 1943 ГОДА
Должен признаться, что, когда «Восточный Аполлон» причалил в убогом, копошащемся в лихорадочной суете порту Каннинг, меня охватила тревога, подобная той, что испытывает актер накануне премьеры после многомесячных репетиций. Пришло время старательно изображать Роберта Вуда, преодолевая первые препятствия, расставленные нашим жестоким и бдительным врагом, который будет пристально следить за мной в течение всего долгого и трудного пути в Сикким[39] и Тибет.
Я приближался к так называемой зоне «риска, обусловленного человеческим фактором», если пользоваться жаргоном людей Шелленберга, работающих в Аненэрбе. Хотя, возможно, в моей необычной миссии будет особенно велик риск, обусловленный нечеловеческими факторами.
Тщательно взвесив все варианты, мы предпочли путь, лежащий через Калькутту. Другие альтернативы, на первый взгляд более простые, были отвергнуты. Конечно, я мог бы проникнуть на советскую территорию вместе с нашими войсками, уже находящимися на грани поражения, и повторить путь фон Зеботтендорфа и Экарта, попав в Центральную Азию через сибирскую границу. Но было решено, что безопасность важнее скорости. По тем же соображениям мы отказались и от «китайского» пути.
На кишащем людьми пирсе были представлены все расы, касты и секты несчастной колонизированной Азии. Ветерок доносил сладковатый запах гниющих священных коров, лежавших с бесстыдно раскинутыми из-за вздутия ногами. Течением их относило к морю вместе с пристроившимися на брюхе грифами, которые вонзали в них клювы.
Запах пота портовых грузчиков, изнывающих больше от голода, чем под тяжестью неподъемных грузов. Ни с чем не смешивающийся запах выгоревших на солнце тюков из сизалевой пеньки. Время от времени в нос ударяют обжигающие волны карри из корзин бродячих торговок в фиолетовых и оранжевых сари, которые шествуют, словно высокомерные богини рынка, обходя распростертые тела парий и больных нищих.
В сторону нашего корабля направился британский таможенник. Толпа расступалась перед ним, как по волшебству, словно Красное море перед жезлом Моисея.[40] Капитан пригласил его на борт, и таможенник расположился в капитанской каюте, скорее всего намереваясь проверить обычную документацию. Что касается меня, то я не сдвинулся с места, сохранив все ту же скучающую мину. Он выдерживал паузу сколько мог, но в конце концов у него не осталось другого выхода, кроме как самому подойти ко мне. Сорианидес уже все ему рассказал. Предваряя любые расспросы, я протянул ему паспорт. Судя по всему, мое молчание, последовавшее за кратким приветствием, которое я произнес с подчеркнутым оксфордским выговором, его обезоружило. Он изучил мою тщательно изготовленную фальшивку взглядом профессионала, наконец поставил печать и, отдав мне честь, звонко отрапортовал:
– Добро пожаловать, мистер Вуд!
Представитель пароходной компании занялся моим багажом. Я наблюдал, как он орудовал палкой, пытаясь протолкнуться ко мне по пирсу, и кричал: «Сэр Вуд! Сэр Вуд!», словно напоминая себе самому, зачем он здесь. Похоже, наш калькуттский резидент неплохо поработал. Все шло, как предполагалось.
Несколько улыбчивых носильщиков подняли мой багаж, и представитель компании подвел нас к старенькому «моррису», от которого тоже сильно пахло карри.
Платон Сорианидес, с гордостью убедившись, что меня приняли по рангу, помахал мне, стоя на капитанском мостике в засаленной майке, но в безукоризненной фуражке с позументами, как у тропического адмирала.
Как и было предусмотрено, мне забронировали номер в «Гранд-отеле», напротив Мейден-парка. Это была гостиница для людей с консервативными вкусами, в унылом британском стиле – как раз для Роберта Вуда, если бы судьба позволила ему прожить еще десяток лет и добиться звания академика, о котором он так мечтал.
Бенгальское общество оказалось таким, каким я его себе представлял по фотографиям, виденным в Берлине. Британским до карикатурности. Я без каких-либо трудностей представил свои рекомендательные письма из журнала «Нэшнл джеографик». Отставной генерал Килни, бессменный секретарь общества, выглядел намного старше, чем на фотографиях из нашего берлинского архива. Мы знали, это был респектабельнейший подлец, которого англичане сами отправили в отставку после знаменитых карательных операций в Кашмире. Его сместили в 1937 году в ответ на протест партии Конгресса. Это была настоящая победа Ганди,[41] который доводит англичан до белого каления своей даосской[42] тактикой недеяния и ненасилия.
Старик Килни, не сводя с меня пристального взгляда, пригласил к себе в кабинет на чашку холодного чая. Он машинально прихлопывал мух мухобойкой, не переставая при этом рассказывать или, вернее, докладывать о британских победах в Северной Африке, которые, по его мнению, означали окончательный разгром Роммеля.[43]
– Мне очень приятно, мистер Вуд, что вы решили порадовать нас своим присутствием. Война забрала с собой всех интересных людей. Остались только старые дураки вроде меня, вы со всеми постепенно перезнакомитесь, если задержитесь в Калькутте на какое-то время.
Я не заметил и тени иронии, которая вполне могла быть заключена в этой фразе. Я допил чай и пообещал вернуться, чтобы подготовить свое путешествие на север.
Идя по направлению к «Гранд-отелю», я подумал, что Роберт Вуд для меня – очень неплохая легенда. В этой роли я чувствовал себя комфортно и к тому же в безопасности, ведь только очень подробное расследование, в котором было бы не обойтись без телеграфа и на которое в любом случае ушел бы не один день, могло вывести калькуттских англичан на след этого самого Вуда. Пока они не заметят ничего подозрительного, то не станут ничего предпринимать. Вуд работал на британскую разведку на территории оккупированной Франции, обеспечивая связь с маки,[44] но сведения о его исчезновении (и еще менее того о его смерти) не могли еще дойти до Калькутты. Большое преимущество во времени служило мне защитой.
Оказалось, что, когда выдаешь себя за другого, это влечет за собой странные последствия, намного более ощутимые, чем если просто купить себе маскарадный костюм и начать подражать манерам персонажа, которого изображаешь. В каком-то смысле Роберт Вуд заново рождался, оживал, словно используя мое тело. Эта опасная мысль возникла у меня во время разговора с Килни, и я даже испугался, как бы Вуд не подпортил какой-то мой жест или мое тщательно отработанное произношение, чтобы подать знак своему соотечественнику, этому свирепому отставному мастифу.
У меня закралось подозрение, что в этой игре есть нечто дьявольское и комичное одновременно. Роберт Вуд служил неплохим прикрытием в моих передвижениях по империи, которую он готов был защищать даже ценой собственной жизни. Я знаю, что свою казнь он принял достойно. По правде говоря, я начинал опасаться Роберта Вуда, как будто тот в один прекрасный момент сумеет одержать верх, завладеть моим языком и телом, чтобы выдать меня.
Это было мое третье утро в Калькутте. Назначенный день настал. С хорошим запасом времени я отправился в библиотеку Бенгальского общества. Заполнил бланки на нужные мне книги и отдал их мисс Копперфилд, которая, естественно, оказалась пренеприятной старой девой, как и положено библиотекарше или почтовой служащей. Я заказал несколько изданий, не забыв и «свои собственные» статьи в сборнике Хирама Бингема[45] «Мачу-Пикчу. Цитадель инков» (Издательство Иельского университета, 1930) и в двух номерах «Нэшнл джеографик» – все, что значилось в каталоге. Не вредно было освежить в памяти публикации Вуда. Пока я ждал, появился Килни и пригласил заглянуть к нему и выпить неизменного колониального британского чаю, сравнимого с плазмой, которую вливают в вены умирающему.
– Я подумал, вам, наверное, одиноко среди мрачной роскоши «Гранд-отеля»… Может быть, знакомство с моими друзьями покажется вам не таким уж скучным. Здесь мы должны держаться все вместе, – и он пригласил меня к себе домой на какую-то вечеринку.
У меня было заготовлено несколько отговорок, но я быстро сообразил, что такой человек, как Вуд, нехотя поблагодарив, принял бы приглашение. Бывает, лучший способ не привлекать к себе внимания – это расположиться в центре гостиной. Мисс Копперфилд принесла книги, я завершил ритуал чаепития и направился к одному из длинных библиотечных столов. Было десять часов двадцать минут.
Я принялся перечитывать некоторые отрывки из работ Вуда по археологии Перу. Я внимательно изучил их на Пюклерштрассе во время подготовки, но здесь они производили на меня совсем другое впечатление. Я чувствовал себя призраком Роберта Вуда, читающим самого себя в калькуттской библиотеке. Я снова отыскал групповую фотографию без указания имен, где Вуд стоял рядом с Бингемом. В который раз отметил про себя, что волосы у него были прямее, чем у меня, более германские, без этой вьющейся надо лбом челки. Я постарался как можно внимательней вглядеться в слегка размытую фотографию, и мне показалось, что на губах Вуда мелькнуло подобие усмешки.
Я нашел в его статье о Мачу-Пикчу ту фразу, которую хотел перечитать: «Когда индейские носильщики отодвинули завесу из лиан, нас охватило чувство, которое может испытать лишь альпинист, после долгого восхождения оказавшийся на вершине. Перед нами простирался удивительный город, построенный на грани человеческих возможностей, практически между небом и землей. Без сомнения, это был скрытый от непосвященных город, где вызревали и хранились тайные знания и традиции инкских мудрецов амаутов. Мы были уверены, что обнаружили тот самый «языческий университет», о котором в XVII веке писал в своей хронике монах-доминиканец Галанча».
Угрюмые часы с бронзовым маятником пробили одиннадцать. Как и было условлено, в дверях появился человек, одетый с иголочки, который направился к столу мисс Копперфилд.
Он держался так, будто не был здесь ни полным новичком, ни завсегдатаем. Подождал, пока ему принесут заказанные книги, и направился к одному из длинных столов неподалеку от моего. Он сел на таком расстоянии от меня, чтобы я смог прочесть, что поверх сегодняшней газеты у него лежал именно шестой том Британской энциклопедии. Таков был условный знак, фотографии тоже не оставляли ни малейшего сомнения – это и был резидент, местный уполномоченный нашей разведслужбы, человек Шелленберга, прошедший специальную подготовку, чтобы организовать мое продвижение на север.
Мы как бы невзначай взглянули друг на друга, и я снова погрузился в чтение археологической статьи об открытии затерянного города инков. Я стал рассматривать фотографии невероятного Мачу-Пикчу, этого странного святилища, висящего на скалах высотой в три тысячи метров.
Как только траурные викторианские часы пробили двенадцать, я встал и, как всегда, когда бывал здесь, направился к крошечному бару, чьи окна выходили на цветущую галерею. Я заказал себе сандвич и чай. Вскоре появился и резидент, и мы с ним уселись за столик в саду. Мы завязали ни к чему не обязывающий разговор о погоде, об Индии, о войне. Он представился Милтоном Бруком и сказал, что преподает в Шотландском лицее. Явилась и мисс Копперфилд. Когда она съела свой ланч и вернулась обратно к себе в клетку, Брук шепнул мне, что все в порядке, английские ищейки не ведут за мной особого наблюдения.
– Но главная гарантия нашей безопасности – нестабильность ситуации, – сказал он. За вами не особенно присматривают, потому что они переправляют всех своих людей на африканский фронт. Да и внутри страны все непоправимо рушится…
– Ганди?
– Да. Англичане уже потеряли контроль над многими провинциями. Движение пассивного сопротивления нарастает.
Брук рассказал мне, что люди из внешней разведки, находящиеся у него под началом в Калькутте, не успевают отслеживать все отправки войск и оружия и сообщать о них.
– Полки сипаев за полками… – пробормотал он с мрачным видом.
В нем угадывалась тревога, предчувствие поражения, которое положит конец его властолюбивым планам. Он наверняка уже придумал, куда бежать, чтобы спастись. Обоснуется где-нибудь в дальних краях, прихватив с собой то, что останется от кассы. Было видно, что человек он умный, не зря выбор пал на него. Быстрый, как у птицы, взгляд, свойственный профессии. Роль предателя порядком его утомила. Брук не обладал даром тех шпионов, которые способны относиться к своей работе со спортивным азартом. Я почувствовал какой-то намек на гомосексуальность – подавленную, печальную гомосексуальность преподавателя английского колледжа.
– Мы тщательно изучили две дороги, ведущие на север. Наименее рискованный путь, который, к тому же, вызовет меньше всего подозрений, – это дорога на Дарджилинг,[46] горный курорт, где отдыхают богатые англичане. Это недалеко от границы с Сиккимом. У нас там есть надежные люди.
Брук не советовал мне в нынешних обстоятельствах ехать по Даккской[47] дороге, которую мы в Аненэрбе сочли наиболее безопасной или которая, во всяком случае, почти не контролировалась британцами.
– Там действуют бирманские партизаны, и за последние три недели мы потеряли трех внедренных туда агентов.
Брук дал мне понять, что благодаря своему положению во внешней разведке он имеет некоторое представление о моей миссии, и принялся рассуждать о ситуации в Китае, о разногласиях между националистическими силами Чан Кайши[48] и яньаньскими[49] коммунистами.
– Вот где мы могли бы воспользоваться ситуацией и провести хорошую политическую работу, упреждая события. Только бы не опоздать… – сказал он. – Хотя, по-моему, Индия и Китай уже окончательно ускользнули из рук англичан, какими надеждами бы те себя ни тешили и чем бы ни закончилась война… – решился он высказать свои сомнения.
Пора было расходиться. Он сообщил мне условные знаки, с помощью которых мы могли выйти на связь, и подробности нашей следующей встречи.
Когда я возвращался назад к своему столу, Килни выскочил мне навстречу из своего кабинета:
– Мистер Вуд, давайте как-нибудь на днях обязательно организуем ваше выступление с рассказом об археологических экспедициях по Южной Америке! Вот увидите, какой огромный интерес это вызовет у членов нашего маленького библиотечного клуба!
Я был одет самым подобающим образом. Брук, который как-никак был англичанином, позволил себе поиронизировать: «Прекрасно. Как будто сам Вуд приехал в Индию и все еще следует советам своего отца».
Просторный белый льняной костюм, полосатый шелковый галстук, широкополая шляпа из панамской соломки. В Сингапуре я купил малаккскую[50] трость, которая вполне могла бы сойти за семейную реликвию. Эта вещица – такое же воплощение британского имперского духа, как и колониальный шлем. Это и орудие власти, и проекция указующего перста, и грозящий жезл. Как только я вытягиваю ее, таксисты останавливаются. Когда я иду по улице Гордон, стоит мне выставить ее вперед, как нищие и больные расступаются, давая дорогу. Надо сказать, я без труда научился пользоваться этой тростью. По-моему, ничто так не помогает освоиться в чужой действительности, как хороший маскарадный костюм.
Необходимость быть Робертом Вудом неожиданно стала меня тяготить. Мне приходилось возвращать к жизни человека, к смерти которого я сознательно приложил руку. Меня преследовали неприятные воспоминания о тайном совещании, которое полковник СС Вольфрам Зиверс созвал в нашей резиденции на Пюклерштрассе. Он спросил:
– Итак, все согласны? Мне бы хотелось, чтобы решение было единодушным. Речь идет об агенте, которого мы могли бы обменять на одного из наших людей… Все голосуют за немедленное уничтожение?
Я почувствовал себя зажатым в угол. Сама жизнь припирала меня к стенке. Пока что я был интеллектуалом, человеком, далеким от грязной работы. До сих пор я, по решению моего учителя Карла Хаусхофера, принадлежал к утонченной элите, творившей трудную и величественную духовность национал-социализма.
Когда полковник Зиверс посмотрел на меня пристальным взглядом, я понял, что настало время полностью разделить ответственность. Что Фауст перестал быть классическим текстом моей золотой гёттингенской поры, что и мне теперь придется кровью подписать договор во имя Возрождения. Я сказал:
– Да, я голосую за уничтожение Роберта Вуда.
В тот день было как-то особенно холодно, за окном в темноте шел снег, в луче фонаря виднелись медленно падающие снежинки. Я впервые убил человека и, кажется, сумел осознать это как свой долг.
Калькутта. Каликут. Город, посвященный богине Кали,[51] в смерти зачинающей жизнь. Десятки тысяч существ, выброшенных в жизнь, в простое существование ради смерти, ради наслаждения или боли, которые приносит с собой каждый день. На закате эти миллионы обездоленных улягутся в каких-нибудь грязных углах и вознесут благодарения Кали и Шиве[52] за то, что «протянули еще один день». Вот и все. Пребывать здесь, а не на молчаливых просторах смерти или воплотившись в какое-нибудь животное или чудище, чья жизнь еще тяжелее этой. Они кланяются в темноте и бормочут свои хвалы.
Многоцветие рынков под ослепительным солнцем. Шафрановые, фиолетовые, красные, розовые сари на толстых женщинах, у которых в центре лба нарисована алая точка – космический глаз, врата познания. Эти матроны прохаживаются, улыбающиеся и властные, неся жареную снедь, корзины с пончиками, ленты с молитвами. Пахнет перцем, помидорами, манго, жженым сахаром, ладаном. Грифы кружат над толпой, всегда готовые броситься на причитающуюся им падаль. Покачиваясь, бродят голодные священные коровы, все в язвах и в червях. То тут, то там они роняют ящик лука или помидоров, тогда слышится смех и почтительные возгласы. Они проходят мимо нищего, тот лежит, задрав одежду, демонстрируя свои язвы, словно роскошные награды, которыми одарила его Кали, богиня смерти.
Отшельник с кипенно-белой бородой и благородным взором, в белом хитоне, в сандалиях и с посохом словно ждет на пороге в иной мир. Молятся йоги, живущие нищенством, уже лет десять или того больше не сходя со своей циновки. Учителя, спящие на ложе из гвоздей и битого стекла. Посвященные, которые передвигаются по-собачьи, с давным-давно сросшимися руками: ногти у них проросли сквозь парализованные ладони и торчат с другой стороны, словно когти из слоновой кости.
На рассвете проезжают муниципальные машины с британским королевским гербом. За рулем сидят отвратительные парии, прозванные «служителями смерти» – они собирают трупы тех, кто не пережил эту ночь. Их свозят к огромным кострам или на пустыри, где все черно от грифов. Это и есть «башни молчания», предназначенные для отверженных.
Вся эта мерзость простирается передо мной, пока взятый напрокат в гостинице «бентли» с трудом прокладывает себе дорогу. Шофер-индус старательно закрыл все окна и включил кондиционер на полную мощность. Мы движемся по направлению к Соленому озеру и к резиденции генерала Килни. Из-под колес летит горячая пыль, которая оседает на потных лицах людей; мальчишки радостно приветствуют нас, размахивая руками посреди всеобщего гниения калькуттских улиц.
Кали, Кали, Каликут – город последней степени вырождения.
Мы подъехали к большой черной решетке, которая открылась, как только прогудел наш клаксон. Водитель ненадолго остановил машину на подъезде к вилле, и четверо проворных слуг, вооруженных длинными метелками из перьев, старательно счистили с машины пыль.
Дорога, окруженная газоном, вела наверх к огромному зданию с белой колоннадой, которому впору было стоять в самом центре лондонской Белгравии.[53] По парку прогуливались элегантные люди, дети играли в обруч со своими боннами в неизменных белых чулках и перчатках. Все это выглядело как карикатура на колониальную жизнь. Индия, оставшаяся у меня за спиной пять минут назад, казалась далеким кошмаром. Водитель остановил машину в дворике с бетонным покрытием, и я направился к компании людей, среди которых заметил хозяина дома. Они стояли у роскошного стола, накрытого белоснежной скатертью, уставленного огромными блюдами с фруктами и заманчиво запотевшими кувшинами. Немного поодаль в ухоженном парке те, что помоложе, были захвачены элегантной безделкой – игрой в крокет.
Генерал Килни, который был великолепен в своем военном кителе, со светской непринужденностью перезнакомил меня с соседями-гостями: консулами, генеральными директорами, главными счетоводами, дантистами и врачами из университета, гарнизонным начальством и неизменным англиканским пастором, обжорой и любителем поострить при дамах. Было там и несколько очень красивых европейских женщин, которые казались птицами из умеренных широт, нашедшими себе приют в этом прохладном и уютном оазисе посреди Индии.
– Наш друг Вуд собирается предпринять увлекательнейшее путешествие в Тибет… Он пишет исследование для «Нэшнл джеографик»… Вызнаете, он знаменитый археолог.
Я улыбался и протягивал руку для пожатия. Меня внимательно рассматривали, как всякого, кто оказывался в этой хорошо оплачиваемой, но труднопереносимой ссылке. Дамы проявили ко мне интерес, как это всегда бывает, когда выясняется, что кто-то еще не женат. Со всех сторон на меня сыпались советы: придя с улицы или даже просто открыв почту или пролистав «Таймc», протирать руки спиртом; бриться и чистить зубы, используя бельгийскую минеральную или кипяченую воду («только хорошенько прокипятите!»); мыть минеральной водой с мылом даже те фрукты, которые подают в «Гранд-отеле».
Эти люди вели постоянную, упорную, неустанную, эпического размаха битву с расстройством желудка.
Я ощутил то, что должен почувствовать любой разведчик, когда говорит себе: «Вот сейчас начнется представление, пора мне открыть огонь или начать игру». С первыми победами постепенно рассеивается тревога, владевшая тобой вначале, пьянящее бесстрашие приносит удачу. Мне вспомнился любопытный совет военных моряков: те уверяют, что нет места безопаснее, чем эпицентр шторма. Это самая неподвижная точка, вокруг которой кружатся вихри.
Было очевидно, что я сильно рисковал, предпочтя тот путь, который мне указал Брук. Мне нужно быть все время начеку, отслеживая малейшие движения. Но что правда, то правда – археолог, избегающий общения и ускользнувший из Калькутты, даже не побывав в легендарном Бенгальском обществе, вызвал бы еще большие подозрения. Выбирая между двумя вариантами, я доверился интуиции. Первая встреча придала мне уверенности в себе. Я играл энергичного, находчивого, саркастического Роберта Вуда, остряка и более или менее светского человека. Я не побоялся обменяться парой фраз с военными. Многие из них обязательно сообщат обо мне своим разведслужбам, так что стоило произвести на них хорошее впечатление, показавшись симпатичным, общительным человеком. У меня было преимущество в несколько дней, и только какое-то неожиданное происшествие могло заставить бюрократическую машину начать работать быстрее обычного.
(Перечитывая эти строки, я не могу не покритиковать себя за некоторую самоуверенность. Какой неопытный разведчик не воображает себя всесильным, когда ему удается первый обман?)
После обеда в доме воцарилась благостная, располагающая к отдыху атмосфера. Устроившись в плетеном белом кресле, я стал наблюдать за этими существами, которых называют британцами. За стоящим в галерее фортепиано торжественно восседал бородатый пианист-сипай[54] в шелковом сюртуке, застегнутом на все пуговицы. Он, как и положено, наигрывал сладкие, размеренные, способствующие пищеварению мелодии: «Чай для двоих», «Туман твоих очей», «Континенталь».
Сидя с полузакрытыми глазами, я слышал, как теннисисты бегают по красноватой земле корта. Кто-то вполголоса объявлял счет, из уважения к остальным стараясь не нарушать тихий час.
Одетые во все белое, они слонялись, словно скучающие привидения. В одном углу – дамы, в другом – дети с боннами, одетыми в форму. Джентльмены что-то негромко обсуждали, передавая друг другу бутылку портвейна. Закомлексованные угнетатели. Викторианцы, насилующие мир. Умирающие с орлиными когтями. Я находился среди них, среди врагов, которых мы хотели уничтожить навсегда и которые на самом деле уничтожали нас с организованным упорством, свойственным посредственности, с невозмутимостью коммивояжеров, снова и снова звонящих в дверь.
В тишине сиесты все это напоминало санаторий для выздоравливающих альбиносов. Вот во что вырождается раса без очищения, которое приносит с собой война и геройство, – в игроков в крокет, в мужей, в автомобилистов, в бюрократов.
Я настолько погрузился в свои размышления, что вздрогнул, услышав рядом с собой женский голос. Он звучал решительно и уверенно, всеми модуляциями безошибочно указывая на свою сословную принадлежность.
– Мистер Вуд, какой же вы неисправимый англичанин! Я бы даже сказала, что все ваши мысли написаны у вас на лице, – рассмеялась она.
Мы во второй раз пожали друг другу руки. Это была одна из тех молодых дам, с которыми Килни познакомил меня сразу по приезде. Наверняка мой взгляд задержался на ней на секунду дольше обычного. Она была высокого роста, с прямыми волосами, с живым и ироничным взглядом.
– Нет-нет! Не вставайте, не хочу вас беспокоить, – и она быстро пододвинула себе стул, не дав мне времени подняться. – Я Кэтти Кауфман, – заявила она, полагая, что этим все сказано. – А вас я запомнила, вы Роберт Вуд… Ну и тоска! И кому только приходит в голову устраивать такие собрания?
– Вы считаете, что именно об этом я и думал? – спросил я.
– Да, конечно. Это было написано у вас на лице. К чему все это, зачем нас занесло в Индию, к чему эта дурацкая жизнь? Вот о чем вы думали. – В своей безапелляционной уверенности она была довольно забавна. – А еще у вас появилось искушение остаться здесь. Столько возможностей, столько мест освободилось из-за войны! К тому же в Лондоне с его отвратительным туманом… – и мы оба рассмеялись.
– Давайте условимся: я буду отдыхать здесь, в прохладе, а вы будете рассказывать обо мне. Договорились?
Но сначала она подошла к соседнему столу и принесла нам два больших бокала с манговым напитком. Я смог разглядеть ее фигуру, красивые ноги под покачивающейся юбкой из расшитой ткани. Она мне понравилась.
Не прерывая ее ни на секунду, я выслушал, как она с большим изяществом поведала мне о моем уэльском детстве, проведенном в кругу семьи; о том, как, заболев корью, я читал «Энциклопедию мира» и впервые ощутил призвание археолога; о моей предполагаемой влюбленности в очаровательную соседку, дочь протестантского пастора. Она долго рассуждала о том, что назвала моим «экзистенциальным кризисом»: я пошел против собственного отца и интересов своего класса, по призыву поэта Одена[55] записавшись в интернациональные бригады, чтобы сражаться за Испанскую республику…
– Да. Вы в тайне почти от всех сели на венгерское грузовое судно, которое выходило из этого ужасного Плимута, из дока, заваленного горами угля. Так вы окончательно вырвались из лона семьи. – И она высказала наблюдение, которое сильно меня встревожило: – Именно там, в интербригадах,[56] когда вы изо всех сил старались скрыть свое итонское[57] английское произношение, у вас выработался этот жужжащий говорок, от которого вы так и не избавились, а теперь еще и бравируете им, как неисправимый сноб…
Она покоряла своей непринужденностью и фантазией. В ее очаровательном сарказме все еще угадывались отголоски проказ, которые она проделывала, учась в закрытой школе в Швейцарии. Я решил, что не стоит слишком далеко заходить в этой игре:
– Совершенно верно. Все удивительно точно. Не хватает только кое-каких деталей. Со временем вы сами убедитесь в своем провидческом даре. – Я допил свой манговый сок, и спросил, выдержав приличествующую паузу: – Ваш супруг тоже здесь, миссис Кауфман?
– О нет! К сожалению, на дежурстве. Он врач. Его, естественно, мобилизовали. Он работает в лаборатории тропических болезней, кстати, одной из самых передовых в мире. Они там дни напролет занимаются своими исследованиями. Эта страна – сплошная инфекция. А муж – один из тех героев, которые воображают, что смогут превратить Индию, да и весь мир, в здоровую местность, не хуже графства Сассекс. Но здесь нам нечего делать с нашей медициной и нашими взглядами на жизнь. У них просто опускаются руки: разве можно лечить больного сифилисом слона, делая ему уколы дистиллированной водой.
– На самом деле, если хорошо подумать, в таком упорном труде есть нечто благородное.
– Не обольщайтесь. Они занимаются наукой, чтобы лечить сипаев. Лечить для того, чтобы те умирали за нашу обожаемую Британию на всех фронтах, на каких мы только сражаемся. Знаете ли вы, что шестьдесят пять процентов сипаев, призванных в нашу армию, больны заразными болезнями? Настоящая головная боль для английских сержантов…
Она ненадолго задумалась, а потом сказала:
– По большому счету, если в нацистах и есть что-то хорошее, так это то, что они здорово напугали всех этих отвратительных зануд-буржуа.
– Напугали? То, что происходит сейчас, намного серьезнее простого испуга. Я бы не сказал, что бомбовые удары по Лондону, унесшие сотни жизней, – это всего лишь испуг…
В моем голосе прозвучали подобающие случаю суховатые нотки. Кэтти очень обиделась. Я наблюдал за ней. Она была моложе, чем показалось вначале, ей было не больше двадцати двух.
– В любом случае, фашисты терпят поражение на всех фронтах, – сказал я.
Кэтти смотрела на меня с обидой, ведь я отказался поддержать предложенную ею игру – светский разговор о нацизме и войне. Наверняка она надеялась обрести во мне союзника для своих идеологических проказ, которыми она, похоже, любит шокировать соотечественников.
– До чего же вы… привязаны к условностям! – произнесла она с очаровательной интонацией.
Кэтти Кауфман напоминала мне персонажей из романов Форстера,[58] которые я читал, учась в аспирантуре в Оксфорде. Интеллектуалы, гуманисты, сосланные в экзотическую Индию, не знают, как теперь быть, чтобы избежать противоречия между собственными представлениями о нравственности и тем, что фактически они – агенты жестокого расистского империализма.
Существа, тяжело раненные в свое викторианское причинное место.
Капор отбрасывал ей на лицо мягкую, прозрачную тень, достойную кисти Ренуара. Я вглядывался в нежный пушок на ее втянутых щеках, пока она, посасывая соломинку, допивала манговый сок.
Нет, Кэтти не прочла ни одну из моих мыслей. Удобно расположившись в плетеном кресле, я позволил себе расслабиться. Я погрузился в то, что принято называть «частной жизнью». Я относил себя к тем людям, кто сумел или думает, что сумел, отказаться от этой самой частной жизни. Я был не такой, как эти мужчины, которые гуляют по парку и время от времени подходят к жене и детям. Но и мне однажды, в Мадриде, довелось поднять на руки сына. Я ездил в Мадрид, чтобы впервые увидеть его. Но к тому времени я уже перешел Рубикон и стал одним из тех, кто верит, что с этой минуты у них не может быть никакой частной жизни, потому что они посвятили себя великому делу.
Мой сын Альберт. Альберто. Отправляясь в путь, чтобы увидеть его, я знал, что еду прощаться с ним навсегда.
Что я мог сказать своей дорогой Кармен, что мог я сказать ее радушным сестрам? Я готовился к тому, чтобы стать одним из главных героев, человеком, которому суждено разорвать цепь бытия. Как я мог объяснить Кармен и ее сестрам, что чувствовали мы в те пламенные гёттингенские вечера, когда уверовали, будто сумеем положить предел вырождению и стать отцами Возрождения? Как отказаться от всего этого и остаться с сыном? Миф стал значить для меня больше, чем действительность.
В огромных сияющих глазах Кармен явственно читалось разочарование. По большому счету, я ничего не мог ей объяснить. Даже то, что убиваю во имя любви. Позже, вечером накануне моего отъезда, когда мы гуляли по саду Ретиро, я в шутку сказал что-то вроде «считай, что вышла замуж за тореадора…»
– Нужно говорить «тореро». А не «тореадор», как пишут во французских опереттах, – сказала Кармен и ласково улыбнулась, смирившись.
Меня позвали к главному столу, за которым сидели мужчины с генералом Килни во главе. Стол из бамбуковых стволов был выкрашен в белый цвет, над ним натянули тент в бело-красную полоску. Мальчики-индусы в тюрбанах и сюртуках, застегнутых на все пуговицы, медленно помахивали опахалами, отгоняя мух. Мужчины чинно беседовали и, следуя заведенному ритуалу, передавали друг другу бутылку портвейна.
– Мистер Вуд собирается провести очень интересные исследования в Тибете, – объявил Килни уже в который раз.
– Вуд, – сказал полковник Декстер, сверля меня взглядом, – как говорится, мир тесен. Представьте себе, я знавал вашего отца. Я его прекрасно помню.
Инстинкт выживания вытеснил из моего сознания панические упреки, которые я собирался было обрушить на себя за то, что не послушался Брука. Я отпил большой глоток портвейна, сумев сохранить внешнюю непринужденность. К счастью, никто не видел потный след, который остался на бокале от моей руки.
– В Кардигане или Аберпорте? – спросил я, используя два из шести-семи названий, связанных с моим лжедетством.
– В Кардигане, в Кардигане… В клубе. Он тогда не мог нарадоваться на этого роскошного нормандского скакуна… Как же его звали? Он еще в тридцать первом…
Но тут меня спасло неожиданное происшествие. Прибежали бонны, ведя с собой мальчика, который упал и порезал коленку о проволоку, торчавшую из изгороди. Они бросились промывать ранку спиртом и мазать дезинфицирующей мазью лизоформ. Поднялся такой переполох, точно речь шла о ранении принца, страдающего гемофилией. Надо было действовать как можно быстрее, чтобы индийская зараза не проникла через поцарапанную кожу.
Отец Вуда был предпринимателем и помимо всего прочего разводил скаковых лошадей. Фамильное имение располагалось в Аберпорте, а конюшни – в Кардигане. Я судорожно перебирал в уме известные факты, пока все вокруг постепенно успокаивались, видя, что у мальчика ничего серьезного. Я почувствовал, что все может быть поставлено под удар из-за одного-единственного слова. К счастью, Декстер, судя по всему, отвлекся:
– Кардиган! Вот бы сейчас такой прохладный вечерок, как там, а? – К счастью, он не настаивал на имени чертова коня. (Надо сказать, у каждого англичанина в подсознании бродят лошадиные имена.)
Килни снова завел разговор о моей работе:
– Вуд – автор выдающихся работ о Перу, он участвовал в открытии этого города…
– Мачу-Пикчу, – сказал я.
– Ах да, конечно!
Все снова вернулись к разговорам о войне, начатым до моего появления. К счастью, полковник Декстер поднялся, чтобы поприветствовать жену, настоящего солдата в юбке. Казалось, она проводит смотр новобранцам.
Призрак Вуда подверг меня серьезному риску. Я допил свой портвейн и только тогда заметил, как у меня пересохли губы.
Призрак имел право мстить. После того как все мы единодушно проголосовали, полковник Вольфрам Зиверс сказал мне, кажется, с какой-то иронической издевкой: «Пусть теперь майор Вернер напишет текст приказа и немедленно отправит его шифровкой». Телеграмма, составленная мной и сразу же отправленная в тюрьму Шпандау, где содержался Роберт Вуд, гласила: «Следует срочно уничтожить агента Вуда. До особого распоряжения его имя должно оставаться в списке заключенных Берлин-Шпандау, ежемесячно передаваемом в Красный Крест».
Я как раз вспоминал об этом, пока консул освобожденной Франции перечислял недавние сражения, особенно напирая на хорошие новости с итальянского фронта. Декстер обернулся и проговорил:
– Недолго осталось этой марионетке… Раз Сицилия пала, «оси Берлин – Рим» скоро конец.
Блеск глаз Фюрера угасал в сумерках, опустившихся над Зальцлахом. Но не все преимущества были в руках врагов. У нас оставалось тайное оружие: управляемые ракеты, новые самолеты, достигающие скорости звука, возможность в скором времени использовать ядерную энергию, несмотря на саботаж этих идиотов-норвежцев. Мы вели борьбу, в которой каждый час был на счету. И у нас еще оставалось последнее средство – «метафизическое оружие». Моя миссия.
Я вместе с другими поднял свой бокал. По предложению генерала Килни мы выпили за разгром Германии.
Направляясь в своем «бентли» обратно, в сторону калькуттских язв, я подумал, что несмотря на все опасности моя тактика приносит довольно неплохие плоды. Из-за проклятой лошади из Кардигана я действительно сильно рисковал. Но было и хорошее: полковник Декстер пообещал дать мне рекомендацию для английского гарнизона на границе Сиккима. Это был добрый знак. Лучше уж путешествовать в качестве приглашенного, нежели от всех прятаться, подумал я.
Я вообразил даже, что старик Килни мог невзначай поделиться со своими друзьями предположением, будто я офицер британской разведки. Многие из них приезжают инспектировать колонии, и в первую очередь Индию, где популярность Ганди растет, как раковая опухоль, даже внутри самой британской администрации, среди профессоров, журналистов, учителей и скучающих жен, не знающих, чем занять свой ум. Можно быть наивным, но не до такой же степени: я дошел до того, что вообразил, будто самая большая удача разведчика – быть принятым за тайного агента той страны, в которую его внедрили. Тогда все будут держать себя с ним сдержанно и помогать ему, чтобы он поскорее убрался восвояси.
В какой-то момент Декстер невзначай упомянул, что я мог бы даже присоединиться к их компании, которая едет отдыхать в Дарджилинг. Декстер с воодушевлением назвал шесть или семь человек из этой веселой компании, среди них оказалась и Кэтти Кауфман.
С Бруком мы, как и было условлено, встретились на рынке в Титаргарте, к северу от Калькутты. Брук беспокоился о моем «внедрении». К счастью, он не отверг саму возможность моей поездки в Дарджилинг в компании Декстера и его друзей. Он настаивал, что это может быть серьезной ошибкой, но согласился, что отказавшись я могу навлечь на себя подозрения, особенно если тоже отправлюсь на север по сиккимской дороге.
Я не дал ему заподозрить себя в предвзятости. О Кэтти Кауфман я не упоминал.
Брук заставил меня пересказать весь разговор с Декстером об отце и клубе верховой езды.
– А что, если этот старый лис копнет глубже? И он действительно друг его отца? Вдруг он был более близким другом, чем это могло показаться на первый взгляд?
Мне нечего было ответить. Брук размышлял вслух:
– В любом случае надо подготовить альтернативный путь. Переговорить с агентами в тех городах, где при необходимости вы сможете быстро скрыться.
Брук был не слишком раздосадован. Судя по всему, он привык к разным неприятностям, которые случаются с экзотическими агентами, не выполняющими задания службы внешней разведки или самого гестапо.
Два дня спустя мы встретились в третий раз, он сообщил мне список людей и мест, который мне пришлось выучить наизусть, используя обычный мнемо-технический метод. Это были не столько агенты, сколько подручные, люди, которые за небольшую плату выступают в роли посыльных или выполняют мелкие поручения, не имея представления о сети в целом. Если кто-то из них попадает в руки врага, узнать от него ничего не удастся. Было ясно, что так Брук наказывает меня за рискованную импровизацию: он не поставил под удар никого из своих людей. Я не мог понять, что это – благоразумие или извращенность или и то и другое одновременно. Своим ровным голосом он пожелал мне удачи, так как с этого момента мы больше не должны были видеться. Будучи в курсе самых свежих, драматических новостей о судьбе наших армий, я тоже пожелал ему удачи.
Игривые рассуждения Кэтти о моем прошлом словно открыли и без того неплотно запертые шлюзы. Мне не удалось глубоко заснуть из-за влажности и ящериц, которые шуршали, совокупляясь в ванной среди причудливых узоров майолики. Я не сумел похоронить свою «человеческую жизнь». Любил ли я Кармен настоящей большой любовью? Убил ли я эту любовь? Кармен умерла, брошенная мной. Может быть, так было нужно. Она умерла в Бургосе, покончила с собой. В конце концов, к ее смерти были причастны мои испанские собратья. (Я знаю подробности, мне их сообщили наши мадридские агенты.) Я ничего не могу поделать с этой упадочнической черной тенью, с этими образами, нахлынувшими на меня посреди влажной ночи под шуршание ящериц, которые дерутся, а потом неподвижно застывают, сцепившись, похожие на керамические статуэтки.
Я снова слышу смех Альберта, снова и снова поднимаю его на руки. Когда Кармен покончила с собой, сестры увезли его в Аргентину как политического беженца. К тому времени Франко уже захватил Барселону и Мадрид.
Он растет в Аргентине. В Буэнос-Айресе. Растет там, забытый, сын, в чьих жилах течет моя кровь, отголосок «простого человеческого» периода моей жизни.
Зачем только я поддался слабости и написал ему из Сингапура то опасное письмо, которое он сможет понять лишь через много лет? Не скрытое ли это завещание, порожденное моей мерзостной слабостью?
Как же непросто высвободиться из кастрирующих ловушек, расставленных иудеохристианством: жить, неся на своих плечах груз преступления, никем не называемого вслух. Вину.
Во мне все еще живет этот отвратительный другой.
Я стоял со своим багажом посреди огромного вокзала Виктории, который наводняли толпы, поражающие как своим убожеством, так и многообразием цветов и запахов. Между железными разветвлениями высоких колонн порхали стайки птиц. Грязный стеклянный купол высился как последнее воплощение завоеванного Лондона, заполоненного самыми жалкими подданными этой колониальной империи. Я вынужден был присматривать за своими многочисленными чемоданами, которые тащил целый отряд носильщиков в синих форменных жилетах «Гранд-отеля». Как только багаж был размещен в отведенном для него вагоне – а это было самое важное, – я отправился на европейскую часть перрона, где уже расположилась веселая компания во главе с полковником Декстером.
За охраняемую жандармами деревянную перегородку каким-то образом сумели пробраться несколько прокаженных, они кричали и стонали, выпрашивая подаяние у белых пассажиров. Они вели себя слишком надоедливо, и Декстер обратился к сержанту, попросив выставить их вон.
– Вуд! Дружище! Наконец-то… А мы уже подумали, что вас что-то задержало.
Влажные и горячие клубы паровозного дыма заполняли собой пространство. Едва стрелка огромных часов достигла положенной отметки, как британский поезд тронулся. Посреди экзистенциального беспорядка, царившего на перронах, эта болезненная пунктуальность выглядела как еще одна оскорбительная выходка колонизаторов.
У меня было отличное купе: светильники из граненого хрусталя, бронзовый откидной умывальник, шесть бутылок минеральной воды, термос и кипятильник для чая. Несколько кусков мыла, бутылки с дезинфицирующей жидкостью и спиртом, чтобы протереть руки в случае нежелательных контактов.
Я дал проводнику роскошные чаевые и разъяснил, что в вагоне-ресторане мне понадобится отдельный столик, так как я собираюсь читать и работать. Важно было, чтобы никто из декстеровской компании не висел у меня над душой.
Я долго спал после обеда, а ближе к вечеру, выпив чаю в вагоне-ресторане, присоединился ко всем остальным. Они сгрудились у окон, чтобы насладиться мрачноватым, но живописным видом бенгальской дельты. За больным слоном, тщательно разукрашенным цветными мелками, тянулась длинная процессия, достойная королевского двора. В вагоне спорили, что это – погребальная церемония или же празднование дня одного из богов индуистского пантеона. У некоторых на лицах были нарисованы вертикальные или горизонтальные полосы, в зависимости от того, кому они поклоняются – Вишну или Раме, как пояснил нам профессор Макколл. Индия не разочаровывала этих людей, она всегда держала для них наготове какое-нибудь удивительное зрелище. На этот раз это было особенно кстати, потому что как раз подошло время выпить по первому бокалу виски.
Кэтти не позволила легко от себя отделаться. Мы уселись в удобные кожаные кресла и продолжили разговор о восточных религиях. Я подумал, что стоит предостеречь ее от слишком упрощенной трактовки параниббаны,[59] но не успел: позвали на ужин.
– Какая тоска с этим нашим распорядком дня! Обязательно надо есть четыре раза в день, это ритуал! Пожалуйста, после ужина избавьте меня от бриджа и рома, давайте продолжим наш разговор, выпьем вместе кофе…
Я прекрасно понимал ее мужа. Действительно, трудно было предположить, что врач, делающий карьеру в колониях, способен интересоваться такими вещами, как параниббана.
Я почувствовал в Кэтти бунтарскую экзальтированность человека, который без надежды на успех борется с условностями своей среды и одиночеством в окружении других людей. Наверняка ее привлекло во мне что-то, что она не могла объяснить, какая-то неправильность, которая при полной неопытности разбередила ее ненасытное воображение.
Я понимал, что с формальной точки зрения обязан был на этом остановиться и пойти ужинать к себе в купе, отговорившись головной болью. Но искушение рискнуть было слишком велико. Кроме того, меня захватил игровой азарт. Я знал, что, попав в западню или допустив ошибку, я поплачусь за это жизнью или немногим меньше.
Вечером в поезде сделалось очень жарко. Европейцы в одних жилетах, без сюртуков глотали теплый вечерний ветерок, который дул из окна, смешиваясь с сильным запахом угля из паровозной топки. Они были похожи на только что выловленных лещей, изо всех сил растопыривающих жабры, чтобы выжить. Снова и снова они подзывали официантов в наглухо застегнутых сюртуках, требуя еще льда. Дверь почти во всех купе оставалась полуоткрытой, придерживаемая бронзовой цепочкой, чтобы создать сквозняк.
Раскаленный воздух Бенгалии напоминал дыхание тяжело больного тигра. Я трижды заходил в бар, чтобы выпить по большому стакану апельсинового сока со звенящими кусочками льда.
Трижды я видел свет под дверью Кэтти. На третий раз я решился. Уверенно, словно среди бела дня, я постучался с такой силой, с какой стучат бродячие торговцы зубными щетками или англиканские миссионеры.
– Я принес вам книгу Риса Дэвиса. Мы сегодня упомянули о ней, когда говорили о параниббане, – сказал я.
То была встреча двух конспираторов, и это придало ей особую, чудесную яркость. Для Кэтти Кауфман это был прямой бунт против викторианского корсета и всех ненавистных ей порядков высшего общества.
Пожалуй, и мне никогда раньше не доводилось пережить эротическое празднество, подобное этому. Всю ночь напролет я помогал ей преодолевать барьеры, нарушая один запрет за другим. Я был ее сообщником, учителем и немного – тайным наблюдателем за ее метаниями по просторам чувственности.
Той жаркой ночью ее тело восставало против всех запретов, налагаемых условностями брака, корректного британского брака, убивающего эрос. Моя кожа стала тропой, по которой к ней вернулась здоровая звериная сущность и устремилась к истокам, в лес первобытных инстинктов.
Я наслаждался, видя, как безумно наслаждается она. Несмолкающее постукивание колес играло роль шаманского бубна, сопровождающего обретение утраченной истины.
Поезд с трудом поднимался по крутому склону на берегу реки. Из полутьмы нашего купе мы видели покачивающиеся на поверхности воды отблески огней, оставленных паломниками плыть по воде в выдолбленных тыквах. Священная река относит трепещущие, дрожащие мольбы к морю, к богам.
Рассвет возвестил о себе дуновением прохладного воздуха. Он застал нас с пересохшими ртами и опухшими губами, мы пили воду из термоса с жадностью животных, наконец-то добравшихся до долины. В какой-то момент я задремал, вопреки благоразумию. Меня разбудил едкий дым. Кэтти стояла, высунув голову в открытое окно, волосы ее трепал ветер. Мы ехали по мосту через Ганг, наверняка уже в районе Куштии,[60] там виднелись огни, погребальные костры, зажженные монахами на глазах у коленопреклоненно молящихся родственников. Так атман покойного вместе с дымом возносится к своему Истоку.
Кэтти отпила из бутылки большой глоток джина. Она стояла обнаженная, ее длинные волосы были спутаны ветром. Я предложил ей закрыть окно, но она покачала головой и воскликнула:
– Пусть поезд наполнится дымом мертвецов!
Но едва она, обессиленная, вернулась в постель, как сразу же глубоко уснула, и мне удалось незамеченным проскользнуть по коридору.
К полудню поезд остановился. Еще не придя в себя после безумной ночи, я высунулся в окно и стал вдыхать уже совсем другой, горный воздух. Ко мне бросились бродячие торговцы, предлагавшие все – от лепешек до обезьянок, тихо взиравших на людской переполох. Случайно я заметил, как Декстер выходит из кабинета начальника станции с бумагами в руках. Наверняка телеграфная сводка новостей, какие обычно получают офицеры действующей армии.
Направляясь к бару, чтобы промочить горло, я почувствовал, как Кэтти барабанит по моей спине. Она возвращалась из вагона-ресторана в солнечных очках, скрывавших темные круги под глазами.
– Это было потрясающе! – прошептала она мне на ухо. – Я уверена, что забеременела. Тебе не кажется, что так и должно быть?
Наверное, я уставился на нее с нескрываемым удивлением. Настолько явным, что она расхохоталась.
– Дурачок! Глупышка-викторианец. Женщина чувствует, что происходит у нее внутри, это больше чем просто интуиция. – И она снова с удовольствием рассмеялась.
В этом чувствовался вызов. Задетая женская гордость. Она была слишком молода, чтобы справляться со своими чувствами, и ей приходилось искать защиты в этих затеях плохо воспитанной девчонки, напоминавших о еще совсем недавнем отрочестве.
К счастью, несколько человек оттеснило нас друг от друга. Она ушла, поглядывая на меня с иронией, как будто ждала какого-то ответа.
Я не пошел обедать и остался в своем купе, чтобы привести в порядок бумаги. Поезд старался изо всех сил, взбираясь на первые отроги – предвестья высоких вершин. Я сидел и работал у окна, когда вдруг услышал, как за моей спиной захлопнулась дверь. Это был Декстер, он целился в меня из револьвера. Устрашающего полковничьего револьвера. Его хитрые змеиные глазки шныряли по купе и готовы были заметить малейшее мое движение. Убедившись в том, что я неподвижен и беззащитен, он сказал:
– Аберпорт, дорогой Вуд. Аберпорт… Дом вашего отца находился в Кардигане, а вот клуба верховой езды там никогда не было. – Он наслаждался моим замешательством, хвастаясь собственной хитростью.
Раньше он перетасовал эти названия, чтобы поймать меня, и ему это удалось. Нормальный человек поправил бы его, когда он сделал вид, что ошибся.
– Кроме того, дорогой мистер Вуд, коня звали Малибу. Незабываемый Малибу, непобедимый, в 35–37 годах ему не было равных. Настоящая звезда, в его честь ваш отец назвал и свою конюшню, разумеется, в Аберпорте… Подобные ваши оплошности, которые я сначала принял за проявление такта по отношению к забывчивому старику, навели меня на мысль кое-что разведать… Мне телеграфировали, что Вуд сейчас не здесь, а во Франции, сражается с немцами в составе сил Сопротивления…
Из-за моего самомнения мою миссию ждал бесславный конец. Я стремительно катился к провалу. Надо было срочно что-то предпринять.
– Чертов шпион! – пробормотал зачем-то Декстер, цедя слова с нескрываемой злобой.
Старость проявляет себя в совершенно конкретных вещах. Декстер позволил себе наслаждаться своим триумфом несколько лишних секунд. Старые рыбаки часто теряют улов, вытаскивая удочку, потому что растягивают удовольствие от ловли, уделяя слишком много внимания мелочам.
Я почувствовал, что у меня появилась призрачная надежда спасти свою миссию или, может быть, жизнь.
Звонок находился в метре от Декстера. Старый полковник бросил на него быстрый взгляд, но чтобы добраться до него, ему нужно было сойти с места или переложить револьвер в левую руку. Он сделал шаг вбок, но не решился вытянуть руку, не взглянув еще раз на серебристое кольцо.
Мой удар открытой ладонью между ключицей и плечом достиг цели. Похоже, я сломал ему кость, и револьвер упал.
Я сумел переломить ему хребет меньше чем за полминуты. (Гораздо меньше, чем потребовалось для того, чтобы одолеть в Орденсбурге мастифа, когда я проходил обряд посвящения.)
Ясно было, что Декстер следил за мной, надеясь выявить мои контакты, и одновременно пытался срочно разузнать о судьбе Роберта Вуда. Ему пришлось сделать выбор – или арестовать меня, или рискнуть упустить на следующей станции. Он выбрал первое.
Я закрыл ему глаза, чтобы избавиться от неотступного взгляда этих невыразительных глаз, то ли птичьих, то ли полковничьих. То была чистая работа: я не пролил ни капли крови. Но теперь мне самому не следовало хвастаться успешным уловом. Надо было срочно все устроить и пуститься по запасному пути, подготовленному непревзойденным Бруком.
Я на себе ощутил, каким упорным может быть сопротивление мертвецов. Они невыносимо упрямы. Они обладают мощью бездействия достойной Ганди, мощью инерции. Мне пришлось долго бороться с полковником, пока я не уложил его на верхней полке. Я вытащил матрас и выбросил его в окно, когда мы проезжали по мосту. А уложив мертвеца на полку, я с трудом сумел откинуть ее к стене. Его рука дважды свешивалась вниз.
Вся жизнь, все воспоминания, все поступки, все прошлое, вся ненависть и вся любовь узколобого Декстера превратились теперь в ничто. Полное ничто. Я никогда так остро не чувствовал явственность смерти с тех самых пор, когда в детстве, гуляя по берегу Некара, убил из рогатки лесного голубя, и тот камнем упал к моим ногам.
Позвонив в звонок, чтобы вызвать прислугу, я убедился во всесилии смерти: я вытянул руку и дотронулся до того самого предмета, благодаря которому Декстер мог спасти свою жизнь и погубить меня.
Я приказал прислуге отнести весь мой багаж в грузовой вагон, чтобы сойти в Джалпайгуре. Одному из слуг я заплатил хорошие чаевые, поручив сообщить миссис Декстер, что полковник отправился в почтовый вагон, чтобы подготовить служебную телеграмму, которую ему срочно понадобилось отправить.
В вагоне-ресторане я появился, когда все неторопливо доедали десерт. Я сел за свой всегдашний стол и заказал чай и сандвич.
Сидевшие за главным столиком поздоровались со мной, и к своему успокоению я убедился, что миссис Декстер только что взялась за огромную порцию мороженого. Мне почудились ироничные взгляды. Может быть, кто-то заподозрил нас с Кэтти.
Я погрузился в книгу, чувствуя, что минуты становятся все длиннее, что они тянутся в три-четыре раза дольше положенного. Казалось, поезд ползет вверх с огромным трудом. Джалпайгур был последним пунктом перед подъемом на Дарджилинг. Я повторил по памяти все контакты, чтобы не ошибиться: права рисковать и импровизировать у меня уже не было.
Я открыл «Тайме» так, чтобы все видели, и стал читать о подробностях поражений Роммеля на всех фронтах, о продвижении союзников по Сицилии.
Возрождение откладывалось. Победа была на стороне приземленных людей. Этих продавцов Библий и пальто, которые после обеда принимаются расставлять образцы товара и проверять счета. Моя миссия была жестом отчаяния. Я должен был сражаться за почти проигранное дело.
Во имя него мне впервые пришлось своими руками убить человека. Того, кто сейчас был так непочтительно зажат между откидной полкой и перегородкой в поезде, принадлежащем Королевской индийской железной дороге. Полковника, который из легкомысленного существования вновь вернулся в пустоту. Я убил человека, и этим все сказано. Может быть, в не лишенной юмора игре, именуемой жизнью, это компенсировалось зачатием другого существа, пусть даже еврейской крови, в утробе Кэтти Кауфман.
Глава III
Традум: прорыв к тропе очарованных
ПО НАПРАВЛЕНИЮ К СИККИМСКОЙ ГРАНИЦЕ,
12 ОКТЯБРЯ 1943 ГОДА
Маневр в Джалпайгуре вполне удался, я сумел затеряться на перроне среди суетливой толпы в лохмотьях, по обыкновению теснящейся там. Благодаря щедрым чаевым мой багаж выгрузили очень быстро.
Было очевидно, что меня еще не раскрыли, и после короткой пятиминутной остановки поезд возобновит свой путь. Никогда еще время не казалось мне таким медлительным, как на огромных часах над перроном. Когда стрелка достигла положенной отметки, а паровоз издал пронзительный гудок, я понял, что дело наполовину решилось в мою пользу. У меня оставалось не больше получаса, чтобы выйти на связь с человеком, которого мне указал Брук. Люди Декстера наверняка замешкались в поисках своего начальника, а про меня подумали, что я сижу в купе, отдыхая после обеда.
Я нанял носильщиков и приказал доставить мой багаж ко входу в отель «Брайтон». Я дал фунт главному из них и пообещал добавить еще два,· если он будет ждать меня с багажом у дверей гостиницы. Он забавно выпучил глаза: теперь благодаря мне он целый месяц сможет не беспокоиться о прокорме семьи.
Я затерялся среди садов, чтобы не сразу было понятно, куда я направляюсь. Пришлось то останавливаться, то возвращаться, пока я не убедился, что за мной не следует ничей взгляд. С нищими я обходился по-британски непринужденно, прокладывая себе дорогу тростью и время от времени отвешивая затрещину какому-нибудь слишком настырному мальчугану.
Я добрался до площади Королевы Виктории и уселся возле фонтана. Меня вполне можно было принять за служащего префектуры.
Ничего подозрительного я не заметил. Прошло двенадцать минут. Аптека была прямо передо мной, вывеску ни с чем не спутать. Я подождал три минуты, пока скрылся из виду жандарм-индус, и вошел в магазин. Это была обычная индийская аптека: весы с позолоченными чашечками, склянки со сладостями и лекарствами, таблетки хинина и хлора возле кассы, бочка с дурно пахнущей тиной и кишащими в ней пиявками, жаждущими крови несчастных апоплектиков.
У прилавка стояли двое юношей. За занавеской из металлических колец я разглядел пожилого мужчину в тюрбане. Сказал, что хотел бы поговорить с ним, и меня провели в подсобное помещение, где посетителям измеряли давление.
Это, судя по всему, и был господин Бота. Я поздоровался и сказал пароль. Он с невозмутимым видом прихлопнул резиновой мухобойкой муху и, поклонившись, ответил, доставая свой аппарат:
– Добро пожаловать в края Вишну.[61] – Это был пароль.
Он сказал, что мы можем поговорить здесь. Мгновенно и со всей ясностью он осознал, какая опасность угрожает ему и мне. С невозмутимостью человека, которому некуда торопиться, он принялся мерить мне давление, а между тем подозвал одного из юношей и дал ему быстрые и четкие указания. Тот куда-то помчался. Бота провел меня к кассе и на глазах у метиски, ожидавшей своей очереди, старательно записал мое нижнее и верхнее давление и взял с меня деньги. Когда стрелка часов достигла пятичасовой отметки, я вдруг увидел безжизненную руку Декстера, упавшую в проем у верхней полки, словно маятник сломанных часов, качнувшийся в последний раз.
Следуя полученным указаниям, я медленно вышел из аптеки и свернул налево в переулок, пока не добрался до навеса, под которым стояла машина. Там меня ждал юноша, Шаба.
Прошло всего двадцать пять минут с тех пор, как я покинул поезд. Оставалось еще десять до того момента, когда местная полиция получит сигнал тревоги. Мы проехали по рынку, распугивая кур, затормозили перед священной коровой, переходившей проспект Гордона. Юноша вел машину как безумный, но мы все-таки добрались до подъезда «Брайтона», где главный носильщик охранял мои чемоданы, которые мы погрузили так неторопливо, как только смогли. Я дал носильщику два фунта и сказал, что остановлюсь у друзей. Нам удалось устроить так, что он не увидел лица Шабы.
Граница была всего в нескольких километрах от нас. Мы понеслись, поднимая облака пыли. Шаба знал дорогу контрабандистов. Он был знатоком своего дела: по его словам, ему не раз приходилось переправлять через границу людей из немецкой внешней разведки, выполнявших в Индии сложнейшие миссии.
– Здесь почти все за немцев. По нам, так кто угодно лучше, чем англичане…
Это была горная дорога, по которой шли очень бедно одетые люди. Мы доехали до склона горы неподалеку от Сиккима, там у Шабы были знакомые. Надо было дождаться ночи. Я умылся в источнике и переоделся. Мне казалось, я навсегда расстаюсь с этим снобом Робертом Вудом. Одним ударом я разломал малаккскую трость и бросил ее на дно колодца.
Уже спускались сумерки, когда появился караван шерпов[62] -контрабандистов, которые должны были провести меня по ущельям в Непал. Шаба вернулся в Джалпайгур, я дал ему десятифунтовую купюру.
Наш переход по обрывистым тропам обошелся без происшествий, правда, двигались мы очень медленно. Шерпы обычно возят в Непал сахар, лекарства, ткани, а возвращаются с разной утварью, наркотиками и магическими предметами.
На рассвете, уже в Непале, мы выпили за удачный переход по чашке дымящегося чаю, который показался мне удивительно вкусным. Пришло время достать зимнее снаряжение.
Несколько долгих дней мы шли по пустынным высокогорным долинам, тянущимся вдоль немыслимо высоких гималайских вершин. На мулах ехали только мы, всадники, все остальное везли теперь мощные медлительные яки.
Мы шли по ложбинам Тамура и Сункоси.[63] Дни сменяли друг друга, не принося ничего нового. Я смог по достоинству оценить умения и спокойный нрав этих удивительных вечных кочевников, которые наслаждаются, глядя на холодные и пустынные горные склоны. Вечера их тоже насыщены впечатлениями: разбив лагерь и расположившись у огня, они рассказывают друг другу истории и смеются. Эти существа еще сохраняют близость к изначальному вселенскому порядку, которую мы, так называемые цивилизованные люди, давно утратили. Все в них казалось мне ясным, простым, чистым. Они спали, укрывшись толстыми одеялами и устремив взгляд в небеса, где звезды сияли, словно светильники.
В конце концов мы добрались до реки Кали и повернули на север, начав трудное восхождение к тибетскому плоскогорью.
Мы пробирались по затерянным долинам. На востоке остался горный массив Аннапурны,[64] и вот наконец, через двенадцать дней тяжелого пути, мы достигли пустынных границ Тибета. Он встретил нас бурей – ветер дул с такой силой, что казалось, наши яки вот-вот взлетят.
Спустя еще день пути мы увидели красные крыши Традума. Там располагалась база наших агентов, которыми руководил Петер Аухнайтер, человек Аненэрбе.
Этап британских преследований оставался почти позади. Я подумал, что, несмотря на мои ошибки и самоуверенность, все прошло легче, чем я мог предположить. И понял, что сейчас-то и начинаются настоящие опасности.
Петер Аухнайтер был высокого роста, худощав и мускулист. Его руки, цепкие, как крюки, выдавали в нем опытного альпиниста. Этакая смесь интеллектуала и атлета. Он представил мне своих людей: Лебенхоффер, Харрер, Петер Калемберг. Все из подразделений особого назначения. Они проводили исследования, служа зарождающейся «новой науке», доступной лишь немногим посвященным, которых связывали особые доверительно-заговорщицкие отношения.
В Традуме к ним относились хорошо, и это давало возможность спокойно работать. В Лхасе[65] были британские представители. Именно поэтому был выбран затерянный Традум. Бонпо, местный правитель, выделил нам два деревянных дома. Как это принято в Тибете, три-четыре вдовы занимались стряпней и уборкой.
Во время нашей первой встречи наедине Аухнайтер сообщил мне сведения о контактах, запланированных Аненэрбе.
– Человек, которого вы ждете, прибудет в очень далекий монастырь на границе пустыни Такла-Макан.[66]
Он развернул карту и указал на ней точно обозначенный пункт – Тателанг. Это было затерянное селение в районе Синьцзянь,[67] неподалеку от караванного пути, ведущего из Гоби,[68] который был отмечен на карте едва заметной пунктирной линией.
– Там, в Тателанге, вы получите сообщение, которого ждете и о характере которого мне, естественно, ничего не известно.
Я постарался показаться откровенным и упомянул о политической миссии, направленной на установление контактов с коммунистическими силами, действующими в Яньане. Я попросил его сохранить все в строжайшей тайне и сказал, что это очень деликатная миссия, поскольку Гоминьдан[69] занимает открыто пробританскую позицию, а влияние японцев неуклонно ослабляется во всем Китае.
Аухнайтер пристально смотрел на меня. Он был не так прост, но мне показалось, что я сумел убедить его. У меня не появилось неприятного чувства, будто я солгал своему товарищу, ведь объяснить словами истинную цель моей миссии практически невозможно.
Он рассказал мне, какого труда стоило выполнять приказания Аненэрбе, и показал папку с шифрованными телеграммами. Им удалось разместить в Кум-Бумском монастыре нескольких лам, которые больше двадцати лет назад поддерживали контакты с Обществом Туле. К счастью, мы зашли не слишком далеко в этом рискованном предприятии. Я спросил, каковы новости о военных действиях. Он удрученно сообщил о последних несчастьях.
Тем же вечером люди Аухнайтера неожиданно устроили ностальгический пир: жареный на шпике картофель, яичница, ливерный паштет, и все это в огромном количестве… Вино и пиво лились рекой. После однообразной пищи кочевников такое пиршество пришлось как нельзя кстати. Спускались сумерки, и, уже порядком напившись, мы принялись распевать старые гимны гитлерюгенда и «Хорст Вессель».[70]
Отведя меня в сторону, Аухнайтер спросил, правду ли говорят о массовом уничтожении евреев.
– Неужели такое возможно? Говорят, их свозят в пломбированных вагонах в лагеря смерти, которые построены в странах, оккупированных рейхом…
– Так и есть, – подтвердил я. – Это возвышенное жертвоприношение, окончательный разрыв с вырожденческой культурой. Совершив это жертвоприношение, мы окончательно вырвемся из пут нынешней истории. Фюрер разъяснил нам в Аненэрбе, в чем состоит конечный смысл… Начиная с этого момента для нас уже не может быть ни укрытия, ни пути назад.
– Жертвоприношение? – Аухнайтер посмотрел на меня широко раскрытыми глазами, судя по всему, он не был готов к величию избранного им пути и масштабу последствий, которые повлекла за собой абстрактная теория. Я сказал ему:
– Евреи – носители смертельного идеологического вируса, который подтачивает западную цивилизацию. Они заразили нас идеей бога, высасывающего всякую человеческую жизнь, разрушающего все благородное, инстинкт, здоровое животное начало. Этот бог учил презирать землю, не доверять природе. Мы уничтожаем их не во имя мести, а из соображений гигиены. С этой гигантской жертвы начинается Возрождение. Окончательный разрыв с прошлым…
Но к нам уже приближались Калемберг и Харрер, так что пора было сменить тему разговора.
Аухнайтер рассказал мне, какого рода геодезические, геологические и космологические задачи он решает вместе со своими людьми. Они исследовали магнетические поля, в частности, гору Кайлас, священную гору Западного Тибета. Этот конус из камня и льда стоит особняком от ближайших к нему горных цепей. Тибетцы называют его «троном богов». Ему поклоняются не только буддисты. К его подножию стекаются паломники из Индии, Малайзии, Китая и Бирмы.
– Древние ламы считали Кайлас положительным полюсом Мировой Оси. В таком случае, можно предположить, что отрицательный полюс находится у антиподов, на острове Пасхи, чьи огромные статуи, глядящие в море, существуют лишь ради того, чтобы заклинать и призывать «отсутствующих создателей». Южное полушарие – отрицательный противовес мира.
– Высота Кайласа – 6 700 метров, и его вершина совершенно недоступна…
То были труды ради «новой науки», во имя космогонии и космологии, призванных питать Рейх, который должен был просуществовать еще тысячу лет. Но теперь, подумал или почувствовал я, когда Рейх неминуемо гибнет, труды этой самоотверженной группы отходят в сферу чистой эстетики, а то и кажутся простым сумасбродством. Все это были люди, занимавшиеся «исследованиями особого назначения», которые должны были совершить революцию в нашем болезненном «научно-техническом» подходе к реальному существованию материи, к Земле. Они изучают ее как живое существо и как космический организм. Систему волновых излучений. Материю, вибрирующую в энергии, и энергию, которая воплощается в материи, подчиняясь еще непонятному нам циклу.
Эти люди трудились целый год, порой в тяжелейших условиях. Шифрованными телеграммами они переслали огромное количество технической информации. Они провели потрясающие естественнонаучные и археологические исследования.
– Новая космология зарождается благодаря именно таким сопоставлениям. Вокруг энергетической оси мира сосредоточен положительный полюс «материнских земель», которые простираются от Кавказа и горы Эльбрус до Туркестана, Памира и Гоби…
Было очевидно, что Аухнайтер полностью разделяет доктрину нашего учителя Хаусхофера, который говорил, что географическое пространство не средство достижения власти, как полагали ранее стратеги-механицисты, а сама власть.
Он поведал мне о настоящем героизме, который проявили альпинисты, добираясь до одного высокого тибетского плоскогорья на северных склонах Гималаев, на высоте 5 700 метров, где им открылась система пещер, выдолбленных прямо в скале, в расщелинах ледника. Там на каменных стенах они обнаружили барельеф с картой звездного неба, где были изображены невидимые сейчас звезды. По подсчетам астронома группы, Петера Калемберга, карта могла быть создана примерно 13 000 лет назад. Мне показали фотографии и копии рельефа. Находка пока оставалась необъяснимой. Они были от нее в восторге. Один из них утверждал, что когда-то, задолго до крупного геологического катаклизма, этот район располагался на уровне моря.
Вечер был воплощением гостеприимства и товарищеского духа, только вот выпили мы слишком много. Ближе к рассвету в одиночестве и тишине этого поселка-монастыря меня стали одолевать тревожные сны. Словно та самая «частная жизнь», которая, как мне казалось, навсегда осталась у меня за спиной, все еще преследовала меня.
Перед глазами вдруг неожиданно возник целиком выдуманный образ моего далекого сына. Забавно, но поскольку я не видел его и у меня не было его фотографии, я постепенно создал в воображении человека с вполне определенными чертами лица, даже с характерными жестами и манерой говорить на языке, которого я не понимаю. Интересно, каков из себя этот город, Буэнос-Айрес? У меня о нем довольно туманные представления – по фотографиям, виденным в туристическом фотоальбоме. Я представляю себе город с низкими постройками, очень тихими улицами, длинными и однообразными проспектами, как в некоторых лондонских кварталах. Это нечистокровный народ, но все же почти белый и дружественно настроенный к Германии.
Мы не верим в вину. Быть может, весь смысл нашей битвы сводится к попытке навеки уничтожить это гнусное слово, пришедшее из вырожденческого арсенала иудеохристианства.
Только в глубине нашего «я» есть другая жизнь, внутреннее существо, хранящее верность упадочническим традициям. Глубинное «я» движется, словно кадры фильма, что идет дождливым днем в пустом заштатном кинотеатре. Вина – ловушка для двухмерного человека, которого мы пытаемся окончательно уничтожить, как эндемическую болезнь. Этого человечишку, который живет на дне, среди теней, словно старуха в заброшенном доме, никак не желающая умирать.
Альберт, Альберто, мой сын. Сейчас он бегает по широким улицам, где слышатся далекие гитарные переборы. Добрые Ветры, Буэнос-Айрес. Когда-нибудь Альберто прочтет письмо, которое я отправил ему из Сингапура.
Интересно, а как он представит меня?
Традумский бонпо принял меня со всей церемонностью. В молчании я сидел напротив чиновника, который точно хотел сперва просветить меня рентгеном. Мы оба пили чай с жиром, национальный тибетский напиток. Я успокоил бонпо, объявив, что несмотря на надвигающуюся зиму скоро продолжу свой путь к северным районам. На его невозмутимом лице невозможно было прочесть никакой реакции.
Эти люди знают, что причина их несчастий – иностранцы, алчные, вечно стремящиеся навязать тибетцам законы своего времени. Особенно это касается британцев, едва ли не единственных, кто, помимо китайцев, всерьез заявил о себе на этих вершинах. Англичане хотят изменить тибетцев, осовременить их, чтобы продавать им свою саржу, свою обувь, свои зонты и презервативы, но те твердо убеждены, что так называемый западный прогресс очень опасен. Тибет даже не входит в Международный почтовый союз, и письма, которые отправляют немногочисленные иностранцы и путешественники, приходится доставлять необыкновенно медленными караванами яков до какого-нибудь почтового отделения в Индии. Не прижился здесь и метр, метрическая система. Тибетцы ненавидят колеса, их запрещено использовать на территории многих районов. Они видят в колесе самую серьезную угрозу природному равновесию. Они знают, что все, что придает силу человеческим рукам, способно нести лишь смерть и разрушения. Не принимают они и западную медицину, которую считают наглым вмешательством в равновесие смерти и жизни, делом рук мясников, готовых ампутировать все что угодно, лишь бы сохранить ничтожное прозябание.
Он сказал, что даст мне дом и Белу, вдову, которая будет обо мне заботиться, пока я нахожусь здесь. Все это можно считать большой удачей, так как в Тибете нередки неожиданные проявления ксенофобии, а не будь дома, мне пришлось бы уехать, не подготовившись как следует. Последняя чашка чаю, которую мы выпиваем вместе, сопровождается чем-то вроде тоста:
– Я хочу пожелать путешественнику, чтобы он как можно скорее добрался до китайской границы, ибо такова его собственная воля…
Я, в свою очередь, поблагодарил за оказанное мне гостеприимство. Один из послушников показал мне, как следует поклониться на прощание, и мы с ним покинули зал.
Когда мы направлялись в сторону лежащих за стеной кварталов (храмы расположены на огороженной территории), послушник улыбнулся детской улыбкой и сказал:
– Бонпо просил, чтобы я сказал: пока вы в Тибете, лучше вам остаться мистером Вудом. – И он засмеялся. Я удивленно посмотрел на него.
– Но ведь Аухнайтер и другие мои товарищи, которые живут здесь, еще несколько месяцев назад сказали вам, кто я. Я Вальтер Вернер, я немец.
– Бонпо сказал, что вы Роберт Вуд. Вам придется остаться мистером Вудом. Шерпы дали нам это имя, когда вы приехали. Иначе бонпо вынужден будет сообщить о вашем присутствии через вестника, который отправляется в Лхасу.
Вздор какой-то, но я понял, что логика послушника и его начальника неколебима. По моим планам, я должен был снова воспользоваться английским именем и документами, только если попаду на советскую территорию.
Похоже, придется вытерпеть еще одну шутку этого призрака.
Спустя два дня после того, как я обосновался в доме, который отвел для меня бонпо, я принялся за свою работу. Аухнайтер предоставил мне нужные химические реактивы, и вот вечером, в одиночестве, как можно надежнее установив керосиновую лампу, я взял в руки английское издание Нового Завета (предмет, совершенно необходимый тому, кто едет в Индию под именем Роберт Вуд) и подверг его предусмотренной обработке. За три вечера я покончил со святыми Марком и Лукой, и проступил текст «Агартского бревиария», подготовленный специалистами из Аненэрбе. Теперь были четко видны все путевые заметки, выводы из них и, что самое важное, наброски.
Передо мной лежала настоящая лоция для удивительнейшего плавания, в конце которого меня ожидал не порт, а скорее миф или магическая реальность. Мало кто из моряков сумел бросить якорь в этом порту, и порой им приходилось платить за это безумием или смертью.
Я отметил на большой карте пункт, где назначена встреча, – Тателанг, крошечная точка на краю пустыни Такла-Макан. Чтобы добраться туда, придется пересечь весь Тибет по самым труднопроходимым плоскогорьям.
Я был готов принять вызов, энтузиазм переполнял меня. Никогда не забуду эти утренние часы, овеянные чистым горным воздухом, когда после завтрака, который готовила для меня старательная монастырская вдова, я принимался за работу, отмечал на карте пути и расшифровывал парадоксальный язык тех немногих, кто проделал путь в Агарту.
Хотя я и до того неплохо представлял себе весь этот материал, перечитанный уже в разгар путешествия, он приобретал совсем иную глубину.
Одним из самых интересных был рассказ Гурджиева. Этот удивительный русский с восточными корнями, любитель приключений, посвященный, торговец коврами, соблазнитель декадентствующих интеллектуалов, живет сейчас в эмиграции в Париже, проворачивая темные делишки в некоем фонде или «Институте гармоничного развития человека» – не более и не менее. Это заведение располагается в полуразрушенном замке на окраине Парижа, в Фонтенбло. При всем том нет никаких сомнений, что этот человек обладает непостижимыми способностями. С ним, по приказу Хиршера, вступил в контакт один из самых подготовленных агентов Аненэрбе, агент Э. Ю., находящийся сейчас во Франции. Несмотря на тяжелое состояние после автомобильной аварии, Гурджиев сообщил множество сведений и открыл тайны, о которых, возможно, умолчал бы, будь он совершенно здоров.
В период между 1897 годом и Первой мировой войной Гурджиев совершил несколько поездок по Центральной Азии, но, наверное, самое существенное – путешествие по Гоби в 1989 году. Всякий раз, когда я перечитываю его воспоминания об этом, меня охватывает чувство неуверенности и тревоги, словно речь идет о чем-то, что колеблется между чистым вымыслом и областью заветного. Э. Ю. готов предположить, что именно во время этой поездки Гурджиев побывал «в районе Агарты» (сказать «в Агарте» он не отваживается). Гурджиев умолчал об этом, будучи не в силах или не желая рассказывать о пережитом. Он сообщил лишь, что экспедиция закончилась, когда один из его товарищей, «искателей истины», геолог Соловьев погиб, укушенный в затылок диким верблюдом.
Я перечитываю фрагмент рассказа Гурджиева, посвященного этой одиссее:
«Тайна скрыта гораздо лучше и глубже, чем можно было предположить…»
«Есть несколько упоминаний о местности в пустыне Гоби, где расположен огромный подземный город. Это была тайна, передаваемая от отцов к детям, и всякий, кто выдаст ее, должен был подвергнуться каре, сопоставимой по тяжести с подобным предательством».
«Никогда не ходите по проторенным дорогам».
Гурджиев лжет или же развлекается, намеренно все запутывая. Символы вырастают из действительности, а действительность тонет в символах. Видимое и умозрительное переплетаются.
Судя по всему, самая достоверная часть его рассказа заканчивается на описании некоей области в Тибете, о расположении которой он едва упоминает.[71]
Но главное, что в какой-то им самим не обозначенный момент Гурджиеву удалось преодолеть невидимую преграду. И тогда время в его рассказе сменяется отсутствием времени, а топография – утопией. Здесь он становится особенно многословным, и кажется, будто слова поднимаются над строками «Бревиария», словно желтый песок пустыни, затуманивающий всякое правдоподобие.
Я пью чай в одиночестве, передо мной стоит лампа и разложены странные карты. Я охвачен радостным волнением, подобным тому, что чувствует ученый или путешественник-первооткрыватель. За этими порой символическими или полубезумными речами таится нечто, настолько меня увлекающее, что часы летят с невероятной скоростью. Лишь изредка из храмов доносится звон колокольчиков, бой барабанов или гудение деревянных труб, с помощью которых монахи сзывают друг друга на свои ритуалы.
Вслед за записками Гурджиева я постарался прояснить и свести воедино тексты членов Общества Туле. Фон Зеботтендорф не оставил описаний, были только косвенные свидетельства, в том числе свидетельства профессора Хаусхофера и тех, кому довелось общаться с ним в его редкие появления. Известно, что он был крепкого сложения, невысокий. Происходил он из низшего сословия, в молодости был железнодорожным рабочим. Настоящее его имя было Рудольф Глауер. Очень рано в нем проснулась тяга к приключениям, и он принялся путешествовать по самым невероятным странам. Был золотоискателем. В 1900 году обосновался в Турции и завязал дружбу с бароном фон Зеботтендорфом, знаменитым востоковедом, который усыновил его, передал свой титул и послал учиться тайному знанию у друзов, суфиев и дервишей.[72] Вернулся он в Германию при больших деньгах и наделенный «необычными способностями», по словам Хаусхофера. Он был одним из основателей мюнхенского Общества Туле, стоявшего у истоков нашего движения, национал-социализма.
В 1919 году они вместе с Дитрихом Экартом, тоже членом Общества Туле, совершили чрезвычайно важное путешествие. В Аненэрбе о нем принято говорить как о «магическом путешествии». В самый разгар революции они добрались до полной опасностей Москвы, откуда с тысячей приключений доехали до Иркутска. Их могли расстрелять и красные, и белые: лихорадка насилия захватила тогда всех. Они спаслись благодаря английским фунтам. В конце концов они выбрались из районов боевых действий и организовали экспедицию для перехода границы. В Монголию пробирались по ущельям Цаган и Селенги.[73] Перенеся все возможные невзгоды, какие выпадают на долю путешественников в тяжелые, неспокойные времена, они добрались до монастырей, где, судя по всему, фон Зеботтендорф уже бывал раньше.
Экарт заразился тяжелой формой лихорадки, от которой ему уже не суждено было оправиться. Он проехал большой отрезок пути в бреду, привязанный к седлу своего мула, а потом погруженный на верблюда. Судя по всему, мучения его были ужасны. 16 июня 1919 года путешественников застигла песчаная буря, которая не стихала несколько дней. Было не видно ни зги. Порывы ветра достигали ста километров в час, палатки лагеря вырывало с корнем. Люди и животные рассеялись по пустыне. Фон Зеботтендорф привязал Экарта к колу, вбитому в землю.
С этого момента они потеряли всякую связь между собой. Экарт полагал, что за ним ухаживали дервиши. Он утверждал, что ему казалось, будто о нем все время кто-то заботится, но полностью утратил ясность сознания и чувство пространства и времени. «Бывал в каких-то местах, говорил с существами», и все.
Его память постепенно восстановилась в калькуттском госпитале, где он оказался два месяца спустя, в конце августа. При содействии немецкого консула его отправили на родину на голландском трансатлантическом судне «Штраат Малака», в нищенских условиях. Вот он уже в Мюнхене, и члены Общества Туле встречают измученного лихорадкой, совершенно разбитого товарища, отчаянно пытающегося, по выражению Карла Хаусхофера, «вновь овладеть логикой нашего языка».
Все поняли, что страдающий лихорадкой Экарт, который, казалось, забыл немецкий язык, был посланцем фон Зеботтендорфа. Именно тогда, исполнив свою миссию и, быть может, запустив в действие свой план, фон Зеботтендорф бесследно исчез, и все усилия разыскать его оказались тщетны. Пользуясь званием почетного консула Мексики в Стамбуле, он отправился в Мексику и Перу, чтобы заняться там некими исследованиями, причем так никогда и не выяснилось, какого рода.
Но вот что известно доподлинно, так это то, что в 1921 году избранником Общества Туле стал Адольф Гитлер. Именно ему будет передана власть, тайное учение Верховных Властителей. Экарту в сопровождении Розенберга и Гесса была поручена миссия чрезвычайной важности. «Гитлер уже дышит воздухом истинного рождения», – скажет он незадолго до того, как в последний раз попадет в больницу. В декабре 1923 года у него началась агония, причем никто из врачей в больнице так и не смог выяснить природу этой «азиатской лихорадки». Всю последнюю неделю жизни Экарта его навещал Гитлер. Фюрер сообщил ему нечто очень важное о том, как разрабатывается символика движения. Созданное доктором Кроном знамя включает в себя белый цвет национализма, красный цвет революционных социальных требований. Свастика, символ солнца и плодородия, станет знаком движения на том необходимом этапе, когда будет пылать очистительный огонь, символ воинов Шамбалы.[74]
За несколько минут до смерти Экарт передал Обществу Туле знаменитый «черный камень», наследие Основателей, и произнес слова, которые я впервые услышал в Аненэрбе: «Идите за Гитлером. Это он. Он исполнит танец. Я был только его пророком, его провозвестником. Я лишь передал ему музыку для танца. Он уже обладает силой Верховных Властителей».
Я допил чай и попытался сосредоточиться на записях и набросках. Но в истории Экарта есть нечто завораживающее, головокружительное, и это нечто все время ускользало от меня. В «Докладе Аненэрбе», который мне однажды удалось прочесть, были зафиксированы такие слова: «Ни один человек, переживший видения и откровения, подобные моим, не сможет терпеть эту жизнь. Все начинает казаться таким незначительным, эфемерным».
Что он имел в виду? Что ему приоткрылось? Почему задолго, очень задолго до своей смерти, со времен мюнхенского путча, он отошел от нацистского движения настолько, что вызвал недовольство Гитлера? И почему позже Фюрер с ним помирился и посвятил ему второй том «Майн кампф»?
У меня не оставалось сомнений: они сумели разбудить силу, источником которой является Врил,[75] космическо-духовная энергия огромной мощности. Так или иначе, я понял, что послан прежде всего за тем, чтобы восстановить связь с этой силой, как засылают разведчиков, чтобы украсть, выторговать или выпросить тайну ядерного синтеза.
Я попросил Белу сшить мне пару тех своеобразных балахонов или накидок, какие жители Тибета надевают во время путешествий. Так я смогу закрыть свою куртку и сапоги, слишком западные и потому бросающиеся в глаза. С огромной радостью, но как будто немного посмеиваясь над столь странной прихотью, Бела купила несколько метров шерстяной ткани под названием «намбу», которую здесь, кажется, используют для всего подряд. Заливаясь смехом, она сняла с меня мерки. Одно из одеяний она выкрасила в каменной лохани в традиционный фиолетовый цвет. Другое оставила некрашеным, беловато-сероватым. Цвет бедняцкой одежды, как у погонщиков. Эта моя просьба особенно насмешила ее. Она хохотала, широко открыв рот с двумя-тремя оставшимися зубами.
Видя, что я читаю и работаю с бумагами, она вбила себе в голову, будто я монах, скорее всего католический (они порой бывают в этих краях). Мне так и не удалось разубедить Белу.
Трудно как-то ограничить ее самостоятельность на кухне, которой она так дорожит. Мне пришлось незаметно выбросить кое-какую стряпню в канаву за домом, которая служит сточной ямой. Бела очень расстраивается, когда я говорю, чтобы она лишь развела огонь и испекла лепешку цампу. Когда она уходит, я кладу на угли кусок мяса ягненка, срезав и спрятав подальше жир, чтобы она не клала мне его в чай.
Закончив дневную работу, Бела застывает, прислонившись к каменной арке у входа, и смотрит на меня, все время улыбаясь. Местное гостеприимство со всей естественностью предполагает и дополнительные услуги, которыми, возможно, пользуются некоторые путешественники.
«Тому, кто, допущенный к тайным вратам, вступит в Агарту, не следует быть уверенным, что он не проходит мимо, а ускользающая Агарта не остается навеки за его спиной». Это любопытное высказывание очень характерно для рассказа Теодориха фон Хагена, несомненно самого восторженного из путешественников. Специалистам из Аненэрбе было непросто вычленить его маршрут из этого океана песка и скрытых намеков. Остается неясным и причина, по которой он в 1856 году покинул бенедиктинское аббатство в Ламбахе и, как оглашенный, понесся на Восток. В какой-то момент христианство, которое он исповедовал всю свою жизнь, показалось ему невыносимым духовным рабством. На то у него были теологические причины. В одном из своих дневников он записал: «Я понял, что мы девятнадцать веков соблюдали не заветы Христа, а лжеучение иудея Савла Тарсянина, то есть святого Павла». Фон Хаген поплыл на польском паруснике «Князь Орлов», перевозившем уголь в Александрию. Добравшись до Яффы,[76] на осле отправился в Иерусалим. Не прося пристанища в христианских монастырях, обосновался в необжитой части пустыни Кумран, на берегу Мертвого моря, на родине ессеев,[77] которые прожили там до II века, когда секта перебралась в другие края или распалась. Фон Хаген жил как отшельник, в пещерах, вырытых ессеями в горах Иудеи. Возможно, разыскивал тайные Евангелия. Он был убежден, что Библия и Новый Завет были обезображены неким дьявольским умом.[78]
Известно, что в конце 1857 года он побывал на Кавказе, откуда и совершил свой «путь» по направлению к территории священного треугольника. Двенадцать лет спустя после своего ухода он вернулся умирать в Ламбах. Он ничего не рассказал монахам о подробностях своих поисков. Последние дни жизни провел взаперти, все время писал. Лишь в одном он проявил свою власть, попросив строителей, которые ремонтировали одну из стен монастыря, чтобы те вырезали знак свастики на каменной арке, выходящей в клуатр. Я побывал в Ламбахе незадолго до отъезда, в те дни, когда останавливался в Зальцбурге, прежде чем фюрер вызвал меня к себе на инструктаж. Я видел свастику, выгравированную на камне. Тот самый крест, который каждый день видел девятилетний Адольф Гитлер, учась в бенедиктинской школе в Ламбахе, куда на время переехала его семья. Там фон Хаген исписал своим почти не поддающимся расшифровке почерком те самые три черные тетради, которые спустя несколько десятков лет благодаря разысканиям Ланца фон Либенфельса окажутся в руках Общества Туле. К счастью, братья-монахи не впали в соблазн из-за богохульств, подобных этим:
«Мы прожили почти две тысячи лет, поклоняясь фальшивому богу, коснея в иудеохристианском суеверии, чьи козни я развенчал, рискуя собственной жизнью. Плод этого обмана – западный недочеловек и западная недокультура.
Но, несмотря на нашу европейскую гордыню, мы всего лишь жалкое подобие. Истинный человек еще родится и победит. Его семя и его мощь зреют в самом сокровенном тайнике Востока.
Его рождение будет ужасно и кроваво. Но он придет и завоюет себе то самое место, которое отведено ему в Космосе: будет казаться, что оно меньше нынешнего, но оно будет больше».
Петер Аухнайтер запротестовал, узнав о моем решении уехать.
– Это безумие. По нашим сведениям, зима будет очень суровая.
– Мне надо ехать, таков приказ, – лаконично ответил я, поблагодарив за доброе отношение. Аухнайтер пообещал подготовить караван.
– Чтобы набрать подходящих людей, придется заплатить им втрое больше обычного…
Мы выпили за успех предприятия. Он поделился со мной новостями, только полученными с помощью примитивной радиостанции.
– Муссолини смещен, 13 октября предатель Бадольо[79] объявил войну Рейху. Русские продолжают наступление на Кавказе…
Мне не хотелось углубляться в подробности этой катастрофы. Я чувствовал, что мой долг – быть выше всякого пессимизма.
– С узковоенной точки зрения, только секретное оружие может дать нам преимущество, – сказал Петер Калемберг.
Мы выпили за секретное оружие. Я не стал им ничего рассказывать о саботажах на норвежском заводе, производящем тяжелую воду. В холодном саду Харрер изо всех сил старался поддержать разведенный на помете яков огонь, на котором медленно поджаривались ребрышки барашка.
Мы много раз подряд подняли бокалы, придумывая поводы для энтузиазма и новые возможности. Я задумался о физическом и метафизическом оружии. Заезженная пластинка Шумана в который раз крутилась на граммофоне, купленном у непальских контрабандистов. Откуда взялась пластинка Шумана на этих затерянных высотах?
В какой-то момент меня охватило уныние, и я забился в кресло, сконструированное из огромных подушек, пахнущих карри. На секунду я почувствовал себя как наш Фюрер во время падения альпийской виллы, на которой он принимал меня. У меня перед глазами вновь возникло его лицо. Я почувствовал совсем не то, что можно ощутить при виде поверженного тирана, утратившего свою мощь. Я увидел, как доктор Морелле делает ему укол в бледную руку. Этот человек казался мне скорее монахом, который потерпел поражение в борьбе с сомнениями. Монахом, думающим, будто он теряет силу веры, с которой созывал людей к чудовищному причастию. Это одиночество проповедника, начинающего чувствовать, как возлюбленные боги покидают его. И в ужасе застывшего перед необходимостью быть всего лишь человеком.
Таинственная сила Врил.
Я снова, совершенно как наяву, услышал (и по-настоящему понял) слова Фюрера, когда тот сказал мне, что все будет зависеть от моей воли, от силы, с которой я буду противостоять сомнению.
Я отпил большой глоток обжигающей водки и заставил себя присоединиться к компании, которая радостными возгласами встречала появление жареного мяса.
За неделю моим товарищам удалось нанять караван, подходящий для зимнего перехода по дорогам, ведущим в самые отдаленные монастыри. Лебенхоффер съездил верхом в деревню контрабандистов и сумел договориться.
Бела хохотала до упаду, увидев меня в белом, как у погонщика, одеянии. Но потом, поняв, что расставание неизбежно, безутешно разрыдалась. Она села на пол и, глядя на изображение Далай-ламы[80] – обязательное украшение всякого тибетского жилища, – принялась молиться, прося, чтобы демоны «не выдули из меня душу», а если я умру, то «смерть моя была быстрой, и рядом был кто-то, кто сможет помочь преодолеть первый страх и смятение». Она зажгла палочку ладана, чтобы молитва должным образом вознеслась к небесным властителям.
Сумма, которую я заплатил Беле, показалась ей настолько огромной, что, как она сказала, теперь ей придется отдать половину «бедным монахам и старым брошенным животным».
Перед рассветом мы собрались за стенами храмового квартала, где начиналась суровая равнина, овеваемая дьявольски холодными ветрами. Караван состоял из трех яков, восьми мулов и около сорока баранов, навьюченных грузами для монастырей, мимо которых мы собирались идти. Это была живая еда.
Мы с Аухнайтером и его людьми устроили прощальный завтрак, выпив по чашке шоколада с лепешками, посыпанными сахаром и политыми ромом. Этот рецепт Калемберг называл «тибетскими блинчиками». Аухнайтер показал мне телеграмму, которую он собирался послать шифровкой в Берлин и где сообщалось, что я отбыл к месту встречи. В последний раз выходил я на связь с рейхом. С этого момента я становился полновластным капитаном своей миссии, своего утлого суденышка. Мне оставалось только привязать себя к рулю и отправиться в плавание по невероятным путям.
Оседлав своего мула, одетый в овечьи шкуры, я ощутил великую радость, которую дано пережить первооткрывателю или искателю приключений. Я оглянулся и увидел рассвет над высокими вершинами Гималаев. Вдалеке махали руками последние немцы, я их теперь очень долго не увижу. (Или не увижу вообще.) Эту фразу я вычеркнул из своей тетради, потому что пессимизм – уже начало поражения.
Глава IV
По направлению к пустыням на краю земли
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ТИБЕТ.
ОКТЯБРЬ 1943 – ЯНВАРЬ 1944 ГОДА
В однообразии дороги день тянется нескончаемо долго. От холода нетрудно погрузиться в опасную дремоту. Весь мир лежит под ледяным стеклом. Приходится встряхивать головой, пришпоривать мула, шевелить руками.
Чанг, вожатый каравана, – скорее китаец, чем тибетец. Его выдает особая цепкость и прагматизм. Он обветрен, закален климатом и трудностями жизни контрабандиста. Чанг внушает мне доверие: он единственный из всех, кто, похоже, далек от какого-либо представления о боге. Он управляет своими людьми с помощью односложных слов и полунамеков. Погонщики почти все тибетцы, не считая двух-трех шерп, которые нанялись к нам ради хорошего заработка. На привале они играют в кости и пьют чай с медленно растворяющимся прогорклым жиром, похожим на желтый островок.
Разговор с Чангом был у меня единственный раз за все это время, накануне отъезда. Он сказал, что мне нечего бояться, потому что на самом деле бонпо ненавидят британцев и никто не узнает о моем путешествии. Его откровенность задела меня, но не встревожила. Ему, в принципе, все равно, кто я – немец или англичанин. Для этих людей великая война – всего лишь прихоть европейцев, малозначительная гражданская смута.
«Эх! Эх!» – этим криком они то и дело понукают животных.
«Рак! Рак!» – так они созывают неловких вьючных баранов, сбившихся с пути, который указывает им вожак.
Ни с того ни с сего бараны пускаются в отчаянный, неконтролируемый галоп, рискуя сорваться вниз. Тогда кто-то из погонщиков скачет за ними на муле, пока не нагонит.
Первые дни пути дались мне тяжело из-за разреженного воздуха, дышать приходится очень осторожно. Следуя советам Аухнайтера, я каждые два часа медленно рассасывал таблетку корамина с глюкозой.
Днем температура опускалась до 25 градусов ниже нуля. Все это можно вынести, пока не налетит порыв ветра. Это бывает нечасто, но когда такое случается, приходится закутываться в овечьи шкуры, спасаясь от морозных игл, которые вонзаются в кожу как раскаленные острия.
Большинство погонщиков мажет себе лицо вонючим гусиным жиром. Его же они кладут в горячий чай, чтобы восстановить потраченные калории.
На заснеженных участках плоскогорья мы движемся особенно медленно. Животные, в основном бараны, проваливаются в снег. Порой приходится вытаскивать их из колодцев, откуда они пристально глядят своими невозмутимыми, похожими на стеклянные пуговицы глазами.
По вечерам мы останавливаемся в расщелинах или котловинах, более или менее защищенных от ветра. Меньше чем за полтора часа обустраивается загон для скота и устанавливаются шатры. Я живу в кожаном шатре, куда помещается походная кровать, керогаз и лампа, при свете которой я делаю свои записи. Всю ночь я не даю чаю остыть. Добавляю туда водку. Пытаюсь читать. Развлекаю себя тем, что осталось от Нового Завета в бревиарии Аненэрбе, и единственной книгой, которую взял с собой в рюкзаке, – стихами Гёльдерлина.
Огонь радует всех. Люди группками усаживаются подле него. Они познали науку непогоды. Они разговаривают и смеются. Шерпы спорят из-за игры в кости или в карты и все время пьют чай. Только Чанг, вожатый, иногда позволяет себе глоток спиртного. Огонь очень слаб, и людям приходится терпеливо ждать, когда зажарятся ломтики мяса ягненка или овцы. Тибетцы готовят цампы, свои неизменные овсяные лепешки. Я научился ценить их за питательность, но предпочитаю добавлять соль, вместо специй и приправ, которыми их обычно сдабривают.
На рассвете шатры сворачивают и привязывают на спины яков, от которых идет пар. Потом сгоняют скот. Несмотря на холод, люди смеются и перебрасываются шутками. Наступил новый день. Еще один день во Вселенной.
Из чашек с чаем и изо ртов поднимаются мимолетные призраки пара. И снова в путь, в путь.
Порой в вышине появляется парящий орел, приходят на ум слова аббата Теодориха фон Хагена, и я Думаю, что, возможно, мне еще придется вспомнить о них в будущем.
На такой высоте одолевает дрема. Иногда мне приходится делать усилие, чтобы не уснуть. Погонщики подбадривают друг друга криками, тишина просто невыносима. Это полное, давящее, неземное молчание.
Дрема сладка. Время течет незаметно. Единственная угроза – морозные уколы, которые время от времени добираются до кожи.
В середине утра пятого дня мы разглядели вдалеке в опалово-перламутровом сиянии снега человеческую фигуру, пересекавшую равнину нам наперерез. Я остановил мула и постарался навести на него свою подзорную трубу (непросто вертеть колесико в перчатках на подкладке из овечьей шерсти).
Это был худощавый мужчина, бритый, как это принято у монахов, в короткой фиолетовой накидке. Удивительно, но на нем не было шапки. Были видны его обнаженные икры. Он бежал, двигаясь большими, равномерными прыжками.
До этого я слышал разговоры об удивительных «бегущих ламах», способных в мистическом трансе преодолевать огромные расстояния. Он бежал в ста с чем-то метрах от нас. Погонщики и вожатые, развеселившись, принялись кричать. Один из непальцев кинул камень из пращи, как бывает, когда надо перерезать дорогу обезумевшему барану. Камень отлетел, подняв облако снега.
Лама постепенно затерялся вдалеке.
– Это лунг-гомпа, – сказал мне Чанг. – У них очень легкое тело. Подошвами они едва касаются земли…
Бегут они в трансе, высоко задрав голову, не выходя из экстаза. И хотя это кажется невероятным, они предпочитают совершать свои одинокие вылазки по ночам.
Я заметил, что тибетские погонщики склонили головы в знак благочестивого почтения.
– По ночам они бегают, глядя на звезды. Волки на них не нападают: эти монахи издают какой-то особый запах, – продолжил свои объяснения Чанг. – Они предпочитают такие высокогорные равнины, как эта, называемые цангами.
– Но они останавливаются? Когда они останавливаются?
– Они бегут часов двенадцать-четырнадцать, пока не находят место, где могут накапливать тепло, не выходя из транса. Обычно это бывает в каменных святилищах, которые возводят паломники на путях какого-нибудь святого тулку. Они могут прибегать из самых отдаленных монастырей. Не знаю, что их гонит, зачем… – сказал Чанг.
4 НОЯБРЯ
Продвигаясь по этой мрачной пустыне, наш караван словно возвращается в предыдущие столетия. Двадцатый век остается у нас за спиной. Мы нисходим в центр первобытной эпохи, где существуют лишь жизненно важные связи.
Возвращение к великой триаде Вселенная-Человек-Земля.
Наточенный нож, кожаный шатер, огонь кажутся бесценными дарами. Рождение каждого дня встречают торжественным приветствием. Наступил еще один день жизни, в которой ничто не дается даром.
Это время выделанной кожи, искусства разжигать, использовать и хранить огонь.
Здесь на деле поверяется все, на что я способен. Тяжелее всего выносить холод. Я снова и снова повторяю саркастическую фразу нашего инструктора из эсэсовского «бурга»: «Это всего лишь физическая трудность. А потому ее не следует принимать во внимание».
Мы, нацисты, хотим вернуться к земному человеку, к сильному животному, которое способно выжить вопреки упадочнической культуре. На мою долю выпало с лихвой испытать на себе это желанное возвращение.
Я чувствую, как во мне просыпается прекрасная, здоровая германская кровь моих предков. Тех самых предков, которые пожирали дымящееся мясо буйволов, поваленных в чаще заполярных лесов. Вместо меда я пью восхитительный чанг, густое тибетское пиво, не замерзающее на теплых бараньих спинах.
Я сумел пережить этот переход по самому пустынному уголку планеты как праздник. Праздник моего возвращения.
Я учусь восхищаться этими нищими людьми (погонщик в среднем зарабатывает два фунта в месяц), которые позволяют себе высшую роскошь – быть отважными, бросать бескорыстный вызов природе, не ожидая иного вознаграждения, кроме самоутверждения. Они способны броситься на край пропасти, спасая барана. А потом посмеиваются над похвалами товарищей, пару минут переводят дух, и присоединяются к идущему каравану.
Наградой им служит сознание того, что они удостоились выжить.
Я учусь понимать язык их взглядов. Их молчание и хмыканье. Их вселенски-братские отношения с животными.
Я учусь мириться с ритмом жизни людей, не знающих, что такое время. Если хоть один баран отбивается или теряется, они готовы потратить пол-утра на его поиски.
В зимнее время переход заканчивается в два часа пополудни. Животные выискивают ростки, скрытые под покровом льда, и выкапывают их копытами.
Слово «добраться» и временные сроки здесь лишены всякого смысла. Только Чанг понимает, что западные путешественники могут куда-то спешить.
Я один здесь задумываюсь о датах и целях. Вечером в своем шатре я записываю то, что случилось за день.
Я говорю себе: «У меня есть миссия. Я посланец, мне нельзя терять время». Я вспомнил взгляд Фюрера, когда он говорил мне: «Мы близимся к тому, чтобы высвободить сокровенную мощь атома и научиться управлять ею. Это залог нашей победы. День и ночь наши ученые трудятся не покладая рук, чтобы добиться этой цели, которая ознаменует собой начало нашей победы. Но вам мы доверили нечто не менее важное – достичь иного источника силы. Источника метафизической силы, которому я обязан всем и благодаря которому состоялся наш крестовый поход… Без этой силы любая материальная победа была бы иллюзорной, несущественной, лишенной предназначения. Вы должны будете попытаться овладеть силами Агарты».
8 НОЯБРЯ.
ОРЛИНОЕ УЩЕЛЬЕ
Мы идем на высоте более сорока тысяч метров. Животные дышат так, будто стараются вдохнуть в себя весь оставшийся кислород.
Я очнулся от дремоты, едва не упав с мула, и меня охватило желание взглянуть в бинокль. Я уверен, что кто-то следует за нами по противоположному склону долины, которую мы преодолеваем с таким трудом. Я внимательно всматриваюсь в горы, в заснеженные скалы. Все покрыто белесой дымкой, негустым туманом.
Чанг и погонщики заметили, что я остановил мула и наблюдаю.
Мною овладела уверенность, что англичане снарядили караван, чтобы идти по моему следу. Я понял, почему традумский бонпо посоветовал мне «оставаться Робертом Вудом».
Только камни, заснеженные пространства и пелена проклятого тумана. Наконец на третий раз мне показалось, что я вижу движущиеся силуэты. Это всего лишь отблеск на зеркальной поверхности соседнего ледника. Я дрожу от возбуждения. Делаю знак Чангу и спешиваюсь.
Как я мог предположить, что они станут бездействовать, оплакивая Декстера и Вуда? Как же им было не пуститься следом за немецким агентом, проникшим в зону их интересов, хотя Тибет и считается нейтральным?
У нас всего одно ружье с прицелом, Чанг взял его на случай, если нам попадется стадо буйволов или джейранов. Это винтовка «маузер», заряжаемая пятью мощными снарядами. Я кричу Чангу, чтобы он дал мне оружие.
Фигуры едва можно разглядеть в бинокль. Я в ярости, мне трудно сдерживаться. Чанг пытается что-то сказать, но я прерываю его, и он отдает мне винтовку. Все совершенно ясно.
Я разрядил всю обойму. Звуки выстрелов нарушили покой гор. Мне показалось, что силуэты на фоне ледяной стены забегали в поисках укрытия. Но на выстрелы никто не ответил. На самом деле, судя по всему, пуля, выпущенная из «маузера», не могла долететь до них. Я дал предупредительный выстрел. Но это было слишком поспешное решение. Я сам от себя такого не ожидал.
Чанг забирает у меня винтовку и засовывает ее в чехол. Я ловлю на себе иронический взгляд. Мне слышатся приглушенные смешки, люди ждут меня, опустив голову, словно не желая встречаться со мной взглядом.
Мы возобновляем путь. Неужели это была высокогорная галлюцинация?
Я как-то слышал историю о «горных видениях» и «параллельных путниках», существах из других измерений, которые сопровождают тех, кто дерзнул появиться в определенных местах. Записывая все это у себя в шатре, я думаю, что вполне мог оказаться игрушкой в руках призраков, живущих внутри меня. Но как распознать их?
Устроившись в походной кровати, я видел приятные сны (кажется, я обнимал Кэтти Кауфман и разговаривал с Гретой, моей берлинской подругой), когда меня всполошили крики и беготня. Из окна палатки я увидел, как Чанг и еще два или три погонщика тащат за собой парня. Розоватый рассвет еще только занимался.
Они заставили его встать коленями на камень и обнажить спину. Послышались удары чудовищного бича, сделанного из кожи яка.
Шерпа, который принес мне сыру и горячих лепешек на завтрак, объяснил на своем ломаном английском, что по недосмотру наказанного погибли два барана с поклажей.
Выйдя из палатки, я разглядел в бинокль двух растерзанных баранов на дне расщелины, кровь их перемешалась с сахаром.
Тибетский юноша молча терпит жгучую боль. Он рискует получить заражение крови, а потому натирает себе спину жиром и сухими травами, которые достал из кожаной сумки.
Перед началом пути наказанный торжественно благодарит Чанга за науку. И весь день, несмотря на боль, старается справляться со всеми своими обязанностями.
Правосудие у этих людей по необходимости быстро и сурово. Правосудие – это выживание. Его неизменные законы зародились еще на заре времен. Это законы тысячелетних караванов.
МЕНДОНГ ГОМПА,
12 НОЯБРЯ 1943 ГОДА
К полудню мы уже видели вблизи красные черепичные крыши, громоздящиеся на каменном холме.
Нам встретился караван паломников. На холмах реют цветные ленты и хоругви с молитвами, которые позже вознесет ледяной ветер.
Мычат яки, этим глубоким звуком животные возвещают о предстоящем отдыхе. Даже покорные бараны как будто убыстряют шаг, утомленные тяжелой ношей.
Улица вымощена грубыми камнями. Выпал снег, так что все кажется удивительно чистым. Мальчишки с блестящими озорными глазами пробираются под брюхами наших мулов. Они кричат и смеются. Женщины смотрят на нас из крошечных окон каменных домов. Чанг договаривается о постое. Он то и дело отправляется к воротам города-монастыря. Наконец ему удается договориться с местным бонпо, но тот, к моему удивлению, заявляет, что нам придется остаться на десять дней. На неделю дольше, чем предполагалось! Я едва сдерживаю возмущение. Чанг предупреждает, что, если мы не останемся на этот срок, погонщики перестанут радеть за нас в пути, и это будет очень опасно для всего каравана. Дело в том, что они не хотят, чтобы за привезенные грузы платили в китайских долларах или рупиях, так что нужно дождаться приезда гонцов, которые доставят деньги из монастыря Амдо. Но есть и другая причина. После долгих расспросов я выяснил, что они хотят присутствовать на «красном пиру» (или ритуале Тшед), который состоится не раньше, чем через неделю. Специально для этого сюда прибудет тулку, то есть святой лама. В Мендонг-Гомпе завелись демоны, лаконично поясняет Чанг. В этих краях все воспринимается как неизбежность, кажется, что человеку не под силу что-либо изменить. Ярость и бессилие – худшее из сочетаний. И это именно то, что я чувствую. Но я понимаю, что если стану протестовать, это может навредить еще сильнее. Чтобы меня успокоить, Чанг говорит, что узнал, что здесь уже много месяцев не проезжали иностранные путешественники. Возможно, ему кажется, будто он успокаивает сумасшедшего, говоря ему, что его никто не преследует. Нам отвели несколько холодных вонючих домов и хлев. В Мендонг-Гомпе живет около тысячи монахов всех видов, от почитаемых мистиков до прислужников. Некоторые женаты на двух-трех женщинах и живут в нижнем квартале. Есть и женщины, у которых чуть ли не по три мужа-монаха. Здесь допускают многоженство и многомужие как нечто совершенно естественное. Существует и особый вид ритуальной проституции, к которой прибегают самые утонченные.
Здесь секс – обычное проявление чувств, лишь немного более сильное, чем рукопожатие. Для иностранцев это один из видов гостеприимства. Мистики используют его как трамплин для своих прыжков к священным высям. «В наивысшей экзальтации оргазма божество омывает нас росой высшего наслаждения».
Лама Сурханг принимает меня в церемониальном зале. Стоит чад от жира, горящего в сотне ламп. С фресок на убогих сводах глядят демоны с выпученными глазами, они призваны закрывать вход дурным душам.
Мое посольство состоит из Чанга и шерпы, у которого осталось больше всего зубов. Представ перед ламой, я разворачиваю белый платок «кната» и протягиваю его в знак дружбы.
По тибетскому обычаю усаживаюсь на подушку напротив возвышения, где сидит лама. Нам подают чай и сладости. По-китайски очень медленно объясняю, что хотел бы остаться всего на три дня, но люди из моего каравана ждут денег из Амдо.
– Нет. Твои люди ожидают не этого. Они ждут, когда прибудет святой брат, лама Капчепа, который принесет жертву Тшед. Демоны кричат, воют в ночи… Мендонг-Гомпа полон вырвавшихся на свободу демонов. Они правы, что хотят подождать, ибо воплотившиеся демоны, тулпы,[81] попытаются ускользнуть, завладев телами тех, кто выйдет из города.
Я слушаю его с удивлением. Он говорит четко, но едва слышно, уверенным, хриплым, ворчащим голосом. Говорит так, словно боится, что тулпы могут его подслушать. Помолчав, он спрашивает:
– Ты едешь в Китай?
– Да. Я хочу попасть в Китай через северную границу.
– Так всегда делают люди из ваших народов… Почему вам не сидится на месте? К чему это все?
Я не знал, что ему ответить. Последовало долгое молчание.
– Судя по всему, люди из твоего народа побеждают в великой войне, – сказал лама.
Я кивнул (вернее, это кивнул Роберт Вуд). Сурханг предостерег меня с каким-то усталым безразличием:
– Не всегда слово «победа» означает жизнь и процветание. Надо знать, чего стоила победа. Часто бывает, что люди, добыв победу, умирают от ран…
Я согласился, склонив голову. Я подумал о смертельно раненом британском льве, который уже не оправится, лишенный морей, где так долго пиратствовал.
Когда мы вышли, Чанг подошел ко мне, пристыженный. Лама ясно показал, что он солгал насчет английских фунтов. Чанг пустился в долгие объяснения, подыскивая самые понятные слова. Он сказал:
– Когда ты выстрелил из ружья в тени на леднике, люди испугались. Они подумали, что тобой завладела тулпа.
– Тулпа?
– Демон, который высасывает из тебя «дыхание жизни». Вот что делают тулпы. Люди боятся, что ты убьешь и их… Пускаться в путь до окончания Тшеда будет опасно…
В городе-монастыре чувствуется напряжение. Выйдя из главного здания, мы заметили наверху множество молодых монахов, которые бегали, разорвав на себе туники. Повсюду им видятся демоны. Монахи-полицейские, внушающие страх доб-добы, пытаются разогнать их ударами бича, словно обезумевших волков.
Мой домишко стоит у входа в нижний квартал. Я постарался привести его в жилой вид. Раздобыл керосиновую лампу. Меня преследует чувство, что я бессмысленно теряю время. Я решил вновь просмотреть документы Аненэрбе.
Я погрузился в чтение доклада об иезуите Тейяре де Шардене.[82] Он живет в Пекине, фактически отвергнутый церковью, которая запретила ему публиковать свои исследования. Наши агенты разыскали его, но не смогли войти к нему в доверие. Аненэрбе предполагает, что Тейяр отправился в Гоби, вдохновленный тайными сообщениями отцов Хука и Габе в XIX веке. Описания чудес, которые они наблюдали, были обнародованы лишь частично. Остальное, скорее всего, хранится в тайных иезуитских архивах в Равенне. Нашим специалистам не удалось преодолеть предрассудки и почтительный страх Муссолини по отношению к церкви.
Тейяр воспользовался возможностью присоединиться к нескольким экспедициям по Центральной Азии (Гаардта-Ситроена и Роя Чапмена-Эндрюса). Аненэрбе предполагает, что примерно в 1923 году (вскоре после поездки поляка Оссендовского[83]) он кружил в районе магической Агарты. Считается маловероятным, что он, как утверждалось, действительно удостоился посвящения в Хамсы, или Анагами, – сан, соответствующий «высшему духу, который, несмотря на все препятствия, сможет исполнить свою просветительскую миссию».
Работа Тейяра «Геологические наблюдения в Турфанской области[84]» доказывает, что он приблизился к Тайной Области. Его сопровождали проводники, которых он нанимал сам, отделившись от остальных участников экспедиции Ситроена.
Считается вероятным, что он искал скрытые следы пребывания секты ессеев, которые могли быть учителями Христа. Некоторые иезуитские ученые полагают, что после того, как Иерусалим был захвачен римлянами, ессеи переселились в некую тайную область Азии.
Больше всего сбивает с толку у Тейяра его «языческое», пантеистическое путешествие. Его погружение «в сердце всеобъемлющей материи», как он записал в одном из своих запрещенных трудов. Он не обычный еретик. Церковь не ошибается.
Я провел дурную ночь. Ближе к рассвету меня начинает лихорадить. Я то и дело внезапно просыпаюсь. Мне снятся кошмары. В какой-то момент стали слышны призывы мрачных ритуальных труб и свистящий звук каньлингов, дудок, изготовленных из человеческих берцовых костей. Дует дикий ледяной ветер, от которого дребезжит стекло в моем крошечном окошке. Я просыпаюсь в ужасе: мне привиделось, будто меня высасывает тулпа, один из этих пьющих души вампиров которые, похоже, водятся здесь в избытке.
По улицам зеленого города идет мальчик, он совсем один. Совершенно нереальный пейзаж, достойный кисти Пьеро делла Франчески.[85] Это Альберт. Меня охватывает мучительная тоска, но я не в силах ни проснуться, ни пошевелиться. Я словно парализован. Ребенку угрожает опасность, он идет по самой кромке пропасти.
Наконец я просыпаюсь. Дрожу, усевшись на кровати, зуб на зуб не попадает. Хилый огонь, разведенный на навозе, давно погас, температура, наверное, градусов 15 ниже нуля. Меня гложет тоска. Собрав все силы, я открываю дверь на улицу. В лицо пахнуло ночным ледяным воздухом. Вдалеке мерцают огни на главном храме. Я выхожу, несмотря на жуткий мороз. Беру немного снега и тру им лицо, пока оно не начинает гореть. Потом шею. Целебным инеем пытаюсь побороть внутреннюю тулпу, остатки сентиментального недочеловека, который меня преследует.
Я эсэсовец. Моя первая заповедь – убивать или умереть, убивая эту грязную прилипалу, порождение разлагающейся сентиментальной культуры, – ностальгию, паршивую человечность и ее ублюдка, так называемый «гуманизм».
Я стараюсь одолеть бурю, которая бушует внутри меня. Усаживаюсь возле огня, выпиваю пару глотков «живой воды». Пытаюсь осознать, что в этих приступах нет ничего неестественного или необъяснимого. В одиночестве проделываю путь в Агарту, подобно тем мистикам, чьи дары собрал Аненэрбе и кому пришлось принести чудовищные жертвы, а порой даже утратить разум, как фон Хагену. Я не могу ожидать поблажек и снисхождения. Я мистик, как и они, хотя моя религия – действительность и все преображающая власть.
Ощущение того, что я теряю время, убивает меня. Немецкие войска сметены на всех фронтах. Я воображаю, как ученые из института Макса Планка трудятся без отдыха в подземных лабораториях, под бомбовыми ударами, почти без средств, чтобы овладеть этой ядерной силой, которая сможет повернуть колесо истории в нашу пользу. Вижу лик Фюрера, когда тот говорит: «Понадобятся всего три или четыре такие бомбы, чтобы парализовать все армии мира… Но от военной мощи не будет никакого проку, если мы вновь не обретем силу Врил…»
С появлением святого ламы возбуждение в городе достигло предела. В его честь заиграли барабаны дамару и гигантские ритуальные трубы длиной в четыре метра. Добдобы ударами палок пытаются удержать толпу.
Члены Труниви-Чемо в красных шапках вышли вперед. Они преподнесли ламе своего рода высокую тиару, сделанную по образцу епископской в католическом обряде.
Этот лама – тулку, то есть реинкарнация другого святого, который жил и почитался как бог в XVI веке. У потомства этого великого святого есть две ветви: человеческая и растительная – дерево, которому поклоняются в монастыре Кум-Бум в провинции Амдо.
В воздухе чувствовалось нетерпение и какое-то мучительное беспокойство. Этой же ночью должен был состояться Тшед, что по-тибетски означает «резать», «уничтожать», «вырывать с корнем».
Вечерело, когда тулку направился из храма к площади в сопровождении полдюжины одержимых монахов, которые дергались и вопили, словно не обращая внимания на остальных участников торжественного ритуала.
Большая часть жителей шла за сановниками и монахами-полицейскими, которые пытались внести порядок в процессию. Кое-кто из паломников полз, сбивая колени в кровь. Они двигались к ледяной равнине, где должно было состояться жертвоприношение. Над низиной, где располагались зрители, были возведены большие подмостки, напоминавшие сцену летнего театра. Я заметил расставленные вокруг масляные светильники, которые должны были зажечься, как только станет темнеть. Ледяной ветер дул изо всех сил, но никто не обращал внимания на эту помеху.
Тулку принялся ритмично кружиться под звуки барабанов и каньлингов. Он очень быстро погрузился в танцевальный транс, и его движения стали удивительно легкими. Несмотря на почтенный возраст, он, казалось, едва касался земли, опускаясь после прыжка. Тут послышались женские крики, хотя он не открывал рта. Согласно обычаю, в нем начинало прорастать женское божество, которое должно было превратить его в двухголовое чудовище. Это божество – настоящая фурия, карающая всех. Зрители, казалось, видели или предчувствовали ее появление так ясно, что принялись завывать, охваченные ужасом. Божество занимает тело тулку или, по крайней мере, полностью им завладевает. Непонятно откуда, у фурии в руках появился меч (во всяком случае, в полутьме виднелись металлические отблески сабли, которую кто-то крутил в воздухе). И вот голова тулку склонилась, словно окончательно отделившись от тела. Послышался чудовищный, душераздирающий крик.
Тулку медленно согнулся и упал, распластавшись на помосте. Прислужники, дрожа от ужаса, окружили его и принялись с воем пожирать плоть жертвы. Они жевали как будто по-настоящему. Тулку протягивал пожирателям свои ноги и руки. Он разорвал на себе тунику, дзен, чтобы облегчить им задачу. Потом и сам присоединился к ним.
Многие зрители впали в неистовство. Они ползли к помосту. Казалось, можно было почувствовать запах крови. Это было дикое, восторженное, хищное причастие, лишенное католических ухищрений и символизма.
Люди из моего каравана (только тибетцы), стоящие на соседней скале, кричат мне, чтобы я тоже склонился и жевал внутренности тулку. Они делают знаки и кричат. Они хотят, чтобы из меня изгнали тулпу, возможно овладевшую мной. Я делаю вид, что жую, чтобы не разочаровать их.
Так называемый «красный пир» достиг апогея: тулку, прислужники и те, кто сумел приблизиться к помосту, пожирают внутренности жертвы и окропляют лоб ее кровью.
Монахи в красных шапках распевали молитву, которую тулку едва бормотал, завывая от боли: «Я отдаю свою плоть тем, кто голоден. Я отдаю свою кровь тем, кто погибает. Свои кости – огню, что согреет дрожащих от холода».
В конце, в момент кульминации, тулку отдает дыхание жизни, чтобы оживить агонизирующих и обессиленных.
Тулку сжимается, подобно горстке пепла. Все одержимые в городе испытали облегчение. Они вознеслись духом благодаря жертвоприношению. Тулпы и злые духи уже не смогут завладеть ими, по крайней мере какое-то время.
Ритуальная жестокость католицизма[86] наверняка именно отсюда заимствовала эти метафизические небылицы, скорее всего дошедшие через Египет.
Слышны крики, воздающие хвалу тулку, который уже восстал из пепла и поднимается во весь рост в сиянии светильников.
Сейчас посвященный должен одолеть свою гордыню, он распевает молитву, в которой поясняет, что не следует ошибаться: он ничего не отдавал и никому не должно благодарить его за что бы то ни было, ведь сам он – ничто.
Светает. Кажется, никто не чувствует холода. Эти люди телом и душой пережили удивительное событие, побывав в самом средоточии зла. Сейчас они чувствуют себя омытыми духовным светом, неуязвимыми. Идите, служба завершилась.[87]
НОЯБРЬ 1943 – ЯНВАРЬ 1944 ГОДА
Через два дня мы снова пустились в путь, в направлении норд-норд-ост, по самому высокогорному и пустынному краю мира.
Погонщики уже получили и проиграли в азартные игры деньги за доставленный товар. Сейчас некоторые яки и бараны везут на себе сумки с ритуальными предметами, лечебными травами, волшебными снадобьями, амулетами, – словом, то, что всегда вывозят из такой страны, как Тибет. К одному из баранов привязали кожаную суму, из которой при движении слышится жутковатое постукивание черепов. Это два-три черепа блаженных, или магов, выдолбленные наподобие чаш, с бронзовыми ручками. По-моему, чаши, используемые в католической литургии, тоже пришли из Тибета. За эти чаши-черепа в монастырях, расположенных в китайских провинциях, платят огромные деньги. Чанг неплохо заработает на них.
Единственный способ бороться с дремотой, которая одолевает во время холодного и однообразного пути, – это писать дневник. Вначале мне приходится долго разминать затекшую руку. На это уходит не меньше десяти минут. Я европеец, и размышление необходимо мне как наркотик. Я не могу не раздваиваться, глядя на мир, не думать о нем, не оценивать… Сейчас мы проходим всего по десять-пятнадцать километров в день, но мы обязательно доберемся до высокогорий.
Мы пересекаем перевал Сангчен-Ла, где высокогорные ледники отбрасывают синеватый отсвет. В Нишане начинается спуск с высоты почти в пять тысяч метров. Погонщики называют это место дорогой озер.
Сегодня 18 ноября. Я записываю: температура вполне сносная, 16 градусов ниже нуля, но без ветра. Слепящая белизна ледников. Я ехал на муле, покачиваясь, укутавшись в овечьи шкуры, почти в полусне. Еду, ни о чем не беспокоясь, и вдруг неожиданное происшествие: пытаюсь опереться на стремя, но нога съезжает вниз, и я падаю, ударившись о каменную стену. Мул пугается и падает в пропасть. Сбегаются люди. Шерпа, прислуживавший мне, забыл как следует затянуть подпруги. Чанг сразу же устраивает ему порку, беззлобно, как будто исполняет не подлежащий обсуждению ритуал.
Растерзанный мул лежит на дне, в тумане. Весело блестят пятна густой, алой крови. Все сожалеют о потере животного. К счастью, мою главную суму и всю поклажу везут другие.
Если бы я оперся на другое стремя, со стороны пропасти, погиб бы я. Моя миссия закончилась бы легко и бесславно. И уже мой мул смотрел бы на меня, лежащего на дне пропасти, своими большими, глупыми и благородными глазами.
В этих широтах жизнь и смерть значат очень мало. Это просто игра случая.
Я перечитываю слова фон Хагена: «Пока движешься по реальному пространству, опасности и трудности очевидны, их легко предусмотреть. Все становится гораздо сложнее, когда выходишь за пределы так называемой реальности. Когда невидимое, словно туман, окутывает и спутывает видимое. Когда приходится ориентироваться по символам и двусмысленным знакам, чтобы продолжать путь. Тогда-то мы и чувствуем себя как Дети, заблудившиеся в огромном темном доме. Но это и есть настоящая среда обитания человека, о которой человек предпочитает ничего не знать».
Заледеневшие озера кажутся с высоты металлическими пластинами, лужами ртути. Дрейфующие глыбы льда похожи на изваяния слепых богов, забытых в холодной пустыне.
Погонщики поймали двух огромных серых уток. Они избавили от тягот жизни двух жалких тварей, брошенных в пустыне. На такой высоте огонь едва греет, так что мы почти весь день потратили на жарку этих сомнительных птиц. Но людям нужно было расслабиться, они смеялись, шутили. Им не противны ни едкий запах, ни темное, сладковатое мясо. Оно кажется им настоящим яством.
Вечером поднимается страшный ветер, грозящий сорвать шатры. Совсем близко слышится вой волков. Они рыщут, привлеченные острым, резким запахом уток.
Мы вошли в опасную страну По. Ее обитатели практикуют ритуальный каннибализм, поедая лишь жир своих жертв. Это выродившаяся ветвь какой-то тантрической секты.[88] Они живут вдалеке от всех, и никто не отучит их от суеверий, которые они передают из поколения в поколение, как христиане. В бинокль мне удается разглядеть пещеры, в которых они ютятся. Это дыры в земле, вход в них закрыт каменными плитами.
Чанг сказал, что это очень неловкий народ. Лишь изредка удается им поймать какого-нибудь нищенствующего или больного монаха или же сбившегося с пути паломника. Они верят, что жир – знак счастья и буддийской гармонии. А съев его, они добудут для себя эти дары.
Они смотрят на нас. Лохматые мальчишки, завернутые в шкуры, высовываются, провожая караван взглядами. Они не делают нам никаких знаков.
Они никогда не нападают, просто дожидаются, как паук в своей паутине, когда появится кто-то слабый или сбившийся с пути.
Шерпы приближаются, погоняя мулов, и насмехаются над жителями По. Они смеются, выставляя свои огромные желтые зубы, и бросают им мешок со сгнившими внутренностями уток. Те с жадностью утаскивают внутренности.
Если они могут есть людей, то какие отбросы способны вызвать у них отвращение?
Короткие дни. Разгар зимы. Возле Дагце-Тшо мы пересекаем одну из немногих дорог, проложенных по Тибету. Это всего лишь небольшой участок пути, затерянный в ледяной пустыне. Тысячелетняя тропа, которая в далекие времена соединяла Кашмир с китайской провинцией Сычуань.
Погонщики радуются, будто мы добрались до какого-то города. На самом деле здесь есть лишь следы человеческого присутствия, ничего более, но, кажется, их обрадовало и это. Они пьют и играют в китайские кости.
Вместе с Чангом я отъезжаю на несколько миль к полуразрушенному чортену,[89] или святилищу, которое, скорее всего, относится к эпохе великого переселения народов. Это каменное здание с куполом, опирающимся на спиралевидную колонну, которую венчает круг, символизирующий эфир. Обрывки лент с молитвами и множество следов огня на стенах. Здесь использовано пять фигур, которые символизируют пять элементов: землю, воду, огонь, воздух и эфир. Запад ограничился лишь четырьмя. Мы – единственные, кто ищет пятый элемент, эфир, вселенское измерение, Целостность.
Чанг помочился. Он сорвал обрывок ленты с молитвами, и ветер унес их в серую даль. На притолоке виднеется вырезанная на камне свастика, глядящая на призрачную дорогу. Аухнайтер говорил мне, что этот знак повторяется во многих святых местах, но для меня это первая подобная находка, и я вижу в ней подтверждение, что это и есть путь в Агарту.
Вращение свастики направлено вправо.
12 ДЕКАБРЯ 1943 ГОДА
Долгие дни мы невыносимо медленно пробираемся по плоскогорью. На подъездах к Нишану разражается ужасная снежная буря, которая чуть было не разбросала и не замела людей и животных. Чанг превзошел самого себя. Он сумел найти дорогу среди вьюги и вывел нас в защищенное место. Ночью мы не смогли развести огонь, и это было для нас худшим наказанием. Мы выжили, пристроившись поближе к смрадному теплу, идущему от животных.
Прожив два дня в этом напряжении, мы наконец разыскали на берегу замерзшего озера селение, которого не заметили раньше. Мы договорились о постое, чтобы перестроить наш караван. Главная наша потеря – умирающий от тяжелой раны як. Животное исходит слюной и глухо мычит. В конце концов было решено добить его, один из шерп берет это на себя. Тибетцы встают на колени вокруг агонизирующего яка и прощаются с ним странными молитвами, вероятно, из Тибетской книги мертвых, которые читаются вслед тем, кто начинает «возвращение к Единому».
Я подсмотрел за шерпой: он накрыл мешком голову яка и нанес ему точный удар топором, который зазвенел в ледяном воздухе.
Вечером мы порадовали себя самым вкусным жареным мясом, какое только можно вообразить, а буря тем временем стихла.
Наши хозяева – любопытная троица, состоящая из женщины и двух ее мужей. Они охотятся на буйволов и оленей и ловят рыбу во время оттепели. После долгого ужина старший муж подходит ко мне и отвешивает поклон. Я не понимаю его слов, Чанг переводит: он предлагает мне свою жену, которая сияет от радости и поглядывает издалека, отмывая кастрюлю мокрым песком. Она вся в морщинах, хотя ей наверняка не больше тридцати лет. Это властная, привыкшая командовать женщина, но видно, что она будет рада оказать обычный знак гостеприимства.
Я прошу Чанга объяснить, что мне нужно первым встать на ночную стражу, потому что вокруг каменного хлева, где мы оставили скот, бродят волки (их привлекла кровь зарезанного яка). Мужчина настаивает. Женщина оставила в покое кастрюлю и смотрит угрожающе. Вряд ли она что-то понимает, но догадывается, о чем говорит Чанг.
– Он говорит, его жена впервые видит мужчину с золотыми волосами… – сообщает мне Чанг. Но я снова отказываюсь, готовый три часа провести на ветру, слушая вой волков.
Заглянув с улицы в окошко, я вижу, как Чанг залезает под одеяло к хозяйке, в то время как двое ее мужей, объевшись, спят на другой кровати.
Погода улучшается. Мы возобновили свой обычный ритм. Лишь снег поглощает здешний холод.
Мы пересекаем район Красного соленого озера, и, по словам Чанга, нам предстоит преодолеть последнюю часть бесконечной пустыни – Дунгбуре, который угрожает северу своими ледниками.
Я делаю все возможное, чтобы не переставать записывать. Десять дней прошли в невероятных усилиях, все усугубилось из-за высоких сугробов, которые порой доходили мулам до самого брюха. На обрывах мы потеряли двух мулов. Чанг даже пригрозил вернуться и выждать, пока не наладится погода. Мне пришлось договориться с ним о дополнительной плате по два фунта в день, пока не доберемся до пустыни. Он согласился. (Я знал, что он сильно проигрался в Мендонг-Гомпе.)
Вчера мы наконец начали спускаться к синьцзянским степям.
31 декабря. Эта дата здесь ничего не значит.
Мы разбили лагерь возле Карамуранского перевала. Развели огромные костры в пещерах, где люди и животные явно хотят остаться подольше, чтобы восстановить утраченные силы.
Готовится похлебка из засоленного мяса яка, а я напиваюсь, почти исчерпав свои запасы водки.
Ностальгия сжимает мне сердце грязными бархатными коготками: мне представляется снежная ночь в Нагольде. Тепло очага, подарки. Окна средневекового квартала со свечами, мерцающими в синей морозной ночи. Вальсы на балу в отеле «Пост». Запах огня в домашнем камине. Двоюродные братья и сестры. Подарки. На рассвете прогулка сильно подвыпившей молодежи к белеющим берегам невозмутимого Некара, главной артерии глубинной Германии.
А когда я уснул, мне привиделся дикий сон. Я проснулся и увидел, что сижу в одеялах с револьвером в руке. У меня появилось страшное ощущение, будто подле меня лежит окоченевшее тело Кармен. Обнаженная, мертвая Кармен среди одеял, пропахших овцами.
Неделю спустя мы с легкостью двигались вперед по руслам замерзших рек. 12 января мы добрались до границы. Слышны вопли радости и восторга. Для всех, в том числе и для тибетцев, путешествие закончилось. Они радуются, как спортсмены, завоевавшие трудную награду.
Похоже, на твердой равнине наша скорость увеличилась втрое. Мы добрались до места, где китайские кочевники стояли лагерем в ожидании караванов, с которыми можно поторговать. Они живут в плоских шатрах, не похожих на наши. Это первые юрты, которые я вижу. Кочевники приходят сюда примерно раз в два месяца, и нам повезло, что не надо их дожидаться. У себя в шатрах они устраивают пиры, играют и поют. Жизнь бурлит в китайском мире. Тибет кажется ледяным высокогорным монастырем, оставшимся позади.
Я готовлю каждому деньги и подарки, в зависимости от его заслуг. Я проникся таким уважением к достоинствам Чанга, что расстанусь со своим запасным биноклем. Это лучший подарок, который только можно было ему сделать.
Я удивляюсь, что никто не отдает предпочтения золотым монетам. Фунты стерлингов в банкнотах кажутся им не менее надежными и более удобными в дороге. Я понимаю, это говорит о том, какой оборот приняла Великая война. Это война белых, и никого здесь, похоже, не интересуют ее результаты и подробности. Они путают имена священных вождей. Здесь евроцентризм разваливается на куски.
Я прошу Чанга сходить в палатку к кочевникам и спросить, не проезжали ли здесь путники. Вернувшись, он говорит, что да. Этого я и боялся. Но Чанг темнит, говорит, что китайцы выразились не очень ясно, может быть это были советские агенты. Мои сомнения не рассеиваются. Меня не так учили, чтобы я поверил в оптические иллюзии или в призраков.
Мне нужны уточнения, подтверждения, подробности, а эти люди живут вне времени и вне определенности.
Погонщики прощаются со мной как с другом. Я был хорошим хозяином. Шерпы пытаются меня обнять. Чанг роняет похвалу, которую трудно вообразить в этих устах, твердых и сухих, как лезвие.
– Ты из породы сильных. Твои выиграют войну…
Теперь меня сопровождают семеро китайцев. Они вооружены, как партизаны. Это полунезависимая банда из тех, что иногда присоединяются к силам Мао Цзэ-дуна, вождя вооруженных коммунистов, который заслуживает отдельного разговора.
Мы движемся по пустынному руслу реки Черчен.[90] Пейзаж стал совсем другим. Сейчас это бесконечная равнина, пустыня Такла-Макан.
Путешествие было недолгим. Все время следуя вдоль русла реки, мы разглядели вдалеке на возвышенности китайские крыши, как у пагод. Это и есть монастырь Тателанг.
Меня охватывает огромная радость, когда вывожу в дневнике это название, пока отдыхают наши мулы. Я сумел добраться до места встречи по самой трудной дороге из всех, какие изучили мои коллеги из «Немецкого Аненэрбе». Мне приятно это сознавать. Теперь только лама Гомчен Ринпоче сможет сказать мне, возможен ли путь в Агарту. Я чувствую, что заключил чудовищное пари, требующее отваги и безрассудства. Как и все выходящее за рамки обыденности, мой удивительный путь идет по лезвию ножа, отделяющему возвышенное от смешного.
Эти степи неописуемо пустынны. Мне вспоминаются слова Гурджиева, который словно насмехался над нетерпеливыми искателями и оккультистами-любителями: «Если тебе кажется, что пустыня закончилась, значит, она только начинается… Терпение и еще раз терпение! Когда кажется, что худшее уже позади, надо знать, что ты преодолел лишь половину пути…»
Глава V
Из Тателанга в монастырь Танцующих
МОНАСТЫРЬ ТАТЕЛАНГ.
ЯНВАРЬ 1944 ГОДА
Монастырь высится как последний бастион, противостоящий пустыне Такла-Макан. «Это самое заброшенное место на Земле», – как писал Свен Хединен в своем докладе.
Мы покидаем караванный путь, ведущий в Лопу-чуань, и через день добираемся до последнего перевала на границе долины.
Меня охватывает чувство, которое испытывает игрок, делая самую большую ставку в своей жизни. Вот место, где Аненэрбе может войти в контакт с ламами. Если этого не произойдет, придется воспользоваться альтернативным планом.
Молодой монах, встретивший нас во дворе у входа, приветствует меня поклоном. Он дал несколько Указаний китайцам, а потом сказал мне:
– Ты тот путник с Запада, которого мы ждем… – Я не понял, утверждение это или вопрос.
Я пошел за ним, не расставаясь со своей основной поклажей. Он провел меня в огромный каменный зал, выходивший окнами на широкий и хорошо освещенный внутренний двор.
Монахи-прислужники двенадцати-четырнадцати лет принесли мне козьего творога и сладкую лепешку цампу. Входя и выходя, они в знак уважения приветствовали меня, высовывая язык и склоняя голову.
В этом монастыре много светлых помещений. Он выстроен из крепкого камня. Здесь все кажется более веселым, чем в мрачном Тибете, оставшемся за моей спиной.
Через два часа (я едва успел помыться чуть теплой водой из печки) за мной пришли. Меня провели к монаху-управляющему, которого они называют преподобным Цзы Линь.
Я церемонно поздоровался и, как положено, преподнес ему белый платок. Я выпил чашку чаю, то был китайский чай, без отвратительных островков жира, как в Тибете.
Поблагодарив за гостеприимство, не упоминая о предыдущих контактах и ничего не рассказывая о себе, я ограничился тем, что сказал, что ожидаю знака от Гомчена Ринпоче.
Лама низко поклонился, как всегда при упоминании какого-либо тулку или представителя высшей духовной иерархии буддизма.
– Просветленный сумеет подать тебе сигнал, – едва слышно прошептал Цзы Линь, уклончиво и словно желая показать, что никаких объяснений больше не последует.
Справа от нас располагалась богатая библиотека. Некоторые книги были на европейских языках.
Видя мой интерес, Цзы Линь сказал не без иронии на чистом немецком языке:
– Может быть, мистер Вуд понимает по-немецки… Было время – кажется, в другой жизни, – когда я учился в Германии. А еще в Швейцарии и в Англии…
Среди многочисленных книг и рукописей была любопытная карта, нарисованная на покрытой лаком доске. Она была выполнена в проекционной системе, явно не имеющей ничего общего с системой Меркатора. От центральной точки (видимо, какое-то место в Азии) расходились к краям страны и континенты, Индия, Аравия. Европа казалась лоскутком, распластанным в правом верхнем углу картины.
Я не сомневался, что это была одна из тех странных карт, подобные которым наши агенты получили от Гурджиева. Это были карты, где реальная география корректируется переносом философских, религиозных и других ценностей. Иногда в них допускается искажение топографии символами.
– Ваши страны сейчас переживают худший момент войны. Горят города. Смерть, голод… – сказал Цзы Линь.
Я кивнул. Я чувствовал себя ужасающе неловко, как ребенок, застигнутый за какой-то шалостью. Что я мог объяснить ему в этой атмосфере покоя и уединения? Я впервые ощутил себя представителем легкомысленного, поверхностного мира. Скандального, шумного, по сравнению со спокойствием, царящим в этом монастыре на границе лунной пустыни, вселенского молчания Такла-Макана.
Тогда-то лама и произнес, как бы между прочим:
– Ваше имя, или хотя бы ваше официальное имя… Оно меня заинтриговало.
– Мое имя?
– Да. Роберт Вуд… Много лет назад здесь побывал человек с таким именем. Археолог.
– Вы уверены? Когда это было?
– Очень давно. Кажется, в год петуха… Меня здесь тогда, конечно, не было… Но в книге управляющего сохранилась запись.
Я почувствовал, что все невероятно запутывается. Неужели наши агенты, полагая, будто им все известно о Роберте Вуде, не знали о такой важной его поездке по району, который находится в центре наших тайных интересов? Тот ли это самый Роберт Вуд? Фамилия не самая редкая. Но мысль о возможном совпадении тревожила меня не меньше. Цзы Линь наблюдал за мной:
– Кажется, этот человек был археологом. Говорят, как вспоминают некоторые старые монахи, он искал следы ессеев…
Я вместе с молодым монахом хожу по монастырю. Он представляет собой вереницу двориков и больших кубических зданий из известняка. Их белизна радует глаз. Красные черепичные крыши с закруглениями, как у пагод. Это мир труда и медитации, в отличие от тибетского, с его демонами и тантрической магией.
Одно из зданий служит мастерской для переписывания священных текстов. Монахи работают в зале, пропахшем чернилами и самодельной бумагой, ее делают в бочках, а потом растительную массу раскатывают валиками.
Некоторые каллиграфы пишут прямо по тонкому пергаменту из козьей или оленьей кожи. Они пишут по-тибетски, по-монгольски, по-китайски.
Молодой монах с невинной застенчивостью объяснил, что они должны уберечь «священные знания». Тексты развозят по тайным монастырям.
– Дерево-бог в Кум-Буме провозгласило, что грядет великое разрушение священных книг, – сказал он.
Мы поднялись по длинной винтовой лестнице в своеобразную астрономическую обсерваторию, по форме напоминающую Джайпурскую в Индии.
Там, в своего рода каменном кабинете, сидел старый монах. Мой юный проводник низко поклонился, высунув язык и задержав дыхание.
Оттуда открывался поразительный вид на пустыню: бесконечная степь с низкорослыми кустарниками. Легендарный Такла-Макан.
Справа, на высоком холме, вдали от остальных зданий, высилась гигантская постройка.
– Туда ходить нельзя, – объяснил мне монах, словно немного посмеиваясь. – Туда ходят только Просветленные, те, кто достиг благодати Татхагаты.[91] Они приблизились к уничтожению, вернулись к Истоку, перешли от не-жизни к вечному бессмертию. Просветленные способны проходить сквозь это тонкое стекло.
Я разглядел через окно, что стол монаха был завален астрономическими картами. Наверное, это один из многочисленных астрологов.
Когда мы спускались по лестнице, заканчивая экскурсию по открытой для посещения части монастыря, старый монах сказал:
– Тот, кого ты ждешь, придет или должен будет прийти вон оттуда, – и он указал на восток пустыни, где видны были лишь призрачные песчаные покровы, движимые ветром, который к вечеру дул все сильнее. – Эти пески, как морские волны, – сказал старик со своего возвышения. – Пустыня не обладает бытием. Она все время меняется. Много лет, много десятилетий назад, во времена великих бурь, ламы Тателанга видели, как далеко на западе возник город с высокими башнями. Это была крепость Хубилай-хана.[92] Она прекрасно сохранилась. А через несколько дней она снова исчезла, и никто не знает, где она… Волны, как морские волны, приходят и уходят…
Только сейчас я понял, как опасен был переход через Тибет. Мне кажется, повторить его невозможно. К счастью, я пустился в путь, не подумав как следует.
Мое тело измождено после долгого пути на такой высоте, в таком холоде. Первую неделю, проведенную в тишине Тателанга, я спал до десяти часов кряду.
Я отдыхаю, но не могу успокоиться. Меня мучают тревога, сомнения и загадки. Я часами лежу на удобном тюфяке, уставившись в сводчатый каменный потолок.
Умер ли Вуд, как я предполагаю? Можно ли быть уверенным, что такой человек как оберштурмбаннфюрер Вольфрам Зиверс, достаточно посвященный, чтобы быть безжалостным, не оставил в живых пытаемого Вуда, чтобы вырвать у него тайны Агарты, которые потом было решено скрыть от меня?
Год петуха был 1933-1934-й, им же будет и 1945-й.
Записывая эти вопросы, я словно изгоняю дьявола. Оказавшись на бумаге, они перестают мучить меня, словно черные птицы, которые спускаются, чтобы клюнуть, а потом ускользают.
В полном одиночестве моей миссии слово, мой дневник, служит единственным местом, где я могу встретиться с самим собой. Это место, где я разговариваю с другим, который всегда со мной.
Читая «Бревиарий Аненэрбе», я чувствую, что скрытого в нем столько же, если не больше, чем явного. Все фрагментарно. Окончательная последовательность не выстраивается. Владеет ли ею хоть кто-то? Может быть, Хаусхофер, профессор Хильшер или сам фюрер?
Я разложил на столе тайную карту, которая, судя по пятнам, в старые времена принадлежала какому-то копировщику. Несколько отверстий для краски, выдолбленных в твердом дереве, засохшие краски.
Следы и свидетельства путешественников никак не согласуются между собой, несмотря на все усилия специалистов из Аненэрбе. Цель – Агарта – остается в тумане, между легендой и реальностью. Люди, которые могли что-то прояснить, или умерли, или утратили всякую способность мыслить ясно, как это случилось с ван Хагеном или Экартом. Аненэрбе, несмотря на всю свою мощь, так никогда и не сумел заполучить тайные архивы Общества Туле. И почему фон Зеботтендорф как раз в момент триумфа национал-социализма спрятал их и исчез, так и не вернувшись больше в Германию? Сам профессор Карл Хаусхофер в последний год впал в немилость, с тех пор как было найдено окончательное решение еврейской проблемы. (Его жена Мария – еврейка.)
Хаусхофер, несмотря на постоянные контакты с Обществом Туле, был скорее посланником, связующим звеном. Его встречи с ламой Гомченом Ринпоче в Киото в начале века и более поздние встречи с Гурджиевым «где-то в Тибете между 1905-м и 1908 годами» сыграли решающую роль. Обменивались ли они информацией, планировали ли что-нибудь вместе, были ли у них разногласия? Даже в последние недели подготовки мне не сообщили ничего о подробностях, о сути этих встреч.
Не ясно мне и то, каков источник власти фон Зеботтендорфа, который фактически предстает как центральная фигура. При этом, начиная с ночи на 16 июня 1919 года, с момента расставания с Дитрихом Экартом во время песчаной бури, которая погребла караван, его поведение меняется, тогда как Экарт, хотя практически и потерявший разум, становится провозвестником таинственных сил и знамений.
Сам Гурджиев отказывается от всякого сотрудничества с Обществом Туле, уходит от контактов и посвящает себя преподаванию. Только во время оккупации Парижа нашему лучшему агенту Эрнсту Юнгеру удалось выманить у него обрывочный и парадоксальный рассказ о его путешествиях по тем краям.
Никто из путешественников, указанных в «Бревиарии», не утверждает однозначно, что побывал в Агарте. Экарт перед смертью пробормотал лишь, что «бывал в местах, говорил с высшими существами». Гурджиев, со свойственной ему страстью к путанице, сообщил нашему агенту, что «тайный город, или город тайной власти, находится там, куда стекается всякая мудрость. Там живут люди, которые сумели продвинуться дальше других, и боги, которые все еще терпят близость людей».
Фон Зеботтендорф исчез, хотя официально его местожительство зарегистрировано в Турции. Наше посольство сообщило за подписью фон Папена: «В его предполагаемом местопроживании никто не отвечает. Его считают странным, необщительным человеком, грубым и невежливым. Возможно, он остался жить в Мексике, поскольку перенимал там у индейцев племени тараумара мистический опыт, достигаемый с помощью наркотиков». Известно только, что он не оставил ни одного слова об Агарте, помимо совета, который дал Экарту, покидая его: «Никто не в силах найти Агарту. Агарта сама ведет того, кто ею избран».
Теперь мой черед. Я в одиночестве стою на пути паломников в город тайной власти. Пришло время бросить жребий. Я должен это осознать.
Так, в бездействии, прошла неделя. Беспокойство не перестает мучить меня. Мне горько чувствовать, как уходит впустую время в этом краю, где времени нет или же его не принимают в расчет.
Ближе к полудню я с помощью своего секстанта измеряю высоту солнца. Я произвожу операцию так тщательно, как это сделал бы моряк, знающий, что скоро потеряет все известные ему ориентиры. Хронометр надежно защищен кожаным чехлом. Я начищаю до блеска его бронзовую поверхность и, как зачарованный, смотрю на вращающуюся секундную стрелку. Неумолимый механизм сбрасывает никчемные мгновения в пустоту.
Вчера утром послышались взрывы петард и звуки рожков. Несколько очень юных монахов с лицами, раскрашенными как маски демонов и фей, вошли в главный внутренний двор праздничным шествием. К ним присоединился и кое-кто из пастухов-кочевников, живущих у дороги на Лопучуань. Все вместе они волнообразно раскачивали змея из цветной бумаги. Они празднуют начало года Деревянной Обезьяны, китайцы называют ее обезьяной Чиа.
У меня вошло в привычку каждый день подниматься на смотровую башню. Я беседую с монахом-астрологом, в то время как два послушника внимательно смотрят на равнину. Подозреваю, это монастырское послушание возникло в древние времена, когда область подвергалась нападениям грабителей.
Сегодня 24 февраля. На рассвете играли тонкие костяные трубы и звенели колокольчики. Отправлялся некий ритуал, так как один из Просветленных прошел сквозь пелену невидимого.
Процессия лам в желтых головных уборах направилась к отдельно стоящему зданию помочь умершему тибетскому ламе совершить освободительное путешествие. Они читают ему «Бардо тодол», Тибетскую книгу мертвых.[93] Один из них три дня подряд будет нашептывать эти молитвы на ухо покойнику.
Другие Просветленные, как объяснил мне астролог, не участвуют в погребении своего собрата. Ничто не может отвлечь их от взращивания собственной смерти, движения к состоянию Татхагата, безболезненному возвращению из видимого мира к великой невидимой матери, источнику всякой жизни. Мягкий переход от существования к истоку.
Три дня спустя я увидел со смотровой башни, как с холма Просветленных поднимается дым от костра, разведенного на особой площадке. Глядя в бинокль с мощными цейссовскими линзами, я сумел рассмотреть едва заметные очертания тела, лежащего на белом пламенеющем ложе. Тело становилось пламенем и возносилось в утреннее небо.
В первую неделю марта я всерьез принялся за работу над «альтернативным планом». Дни проходят, но я так и не получил ни знаков, ни вестей.
Я постарался более точно определить расположение сферического треугольника и возможные границы тайной области. По моим расчетам, от западной и восточной сторон треугольника меня отделяют 1 100 и 1 500 километров.
У меня не будет другого выхода, кроме как проделать четырехдневный путь назад по дороге на Лопучуань до того места, где я смогу нанять людей и снарядить собственный караван.
Оттуда мне пришлось бы пуститься в странствие по чащобам разных реальностей и символов, разбросанных моими предшественниками в их двусмысленных писаниях. Наверняка я буду вынужден договариваться с китайскими партизанами, которые практически захватили власть в Синьцзяне и на границе с Монголией.
Цзы Линь рассказал мне, что именно они снабжают многие тайные монастыри. Это было для меня неожиданностью: я не думал, что бойцов-коммунистов могут волновать подобные вещи. Цзы Линь пояснил, что их лидеры связаны с древними тайными обществами Японии и Китая, в особенности с ложей Хунт.
Я определил для себя дату, после которой прекращу ожидание.
10 МАРТА
С восходом солнца, когда уже стало совсем светло, меня разбудил гулкий звук рога, принадлежащего монаху-дозорному. Потом послышался пронзительный звон колоколов на смотровой башне.
Я выбежал со своим биноклем. Вдалеке виднелась крошечная темная точка. Дозорный сказал, что это не заблудившаяся лань. Он уверил меня, что это всадник.
С каждой минутой фигура виднелась все четче. Человек двигался против ветра, а потому закрывался широкой накидкой или туникой, так что его лица не было видно. Он скакал на одной из тех крепких мохнатых лошадок, которых ловят в диких табунах пустыни с помощью шеста с петлей, так называемой урги. Такие же кони были у Чингисхана, у его воинов, которые защитили всю Азию от «европейской заразы и разложения».
Я ни на секунду не сомневаюсь, что это может быть только «гонец».
Я делаю записи в дневнике, пытаясь справиться с безумным волнением, охватившим меня с прибытием вестника. Это волнение игрока, который вот-вот получит свой выигрыш. Контакт состоялся. Лама Гомчен подал знак.
Для меня прозвучали последние обращенные ко мне слова Фюрера, так, словно он был сейчас передо мной: «Вам нельзя сдаваться, необходима неколебимая убежденность. Если вы усомнитесь, значит, вы уже потерпели поражение. Мы все потерпели поражение… Только ваша убежденность и воля!»
Я бросался на кровать, но через минуту снова принимался нервно расхаживать по комнате. Настал решающий миг. Сорок лет назад, в 1904 году, в Токио два человека создали нечто, что изменило судьбу Германии и изменит ход мировой истории. Сегодня, четыре десятилетия спустя, мне выпало сыграть решающую роль в воплощении этого фантастического замысла. Если все получится, жертва, принесенная нашей замечательной молодежью из штурмовых отрядов и СС, будет не напрасна. Те, кто сражается за возвращение солнечного греческого бога, несут сейчас потери на всех фронтах.
Но партия еще не проиграна. Остался последний ход. Секретное оружие, ядерное могущество и, возможно, вмешательство Потусторонних Сил, сил Агарты…
Я вижу лицо генерала Хаусхофера, словно он стоит сейчас передо мной. Он обращается к нам в Орденсбурге: «Не может быть иного возрождения человека, кроме увеличения возможностей мозга. Кто сумеет развить этот удивительный орган, обладающий еще неведомыми способностями?» Тогда-то он и сказал: «Это те самые способности, о которых грезил Ницше в Зильц-Марии. Сила пророков в том, что они способны объединить и повести массы к единственной достойной цели, к возрождению, к сверхчеловеку».
Акаша[94] или Мана.[95] Священные силы. Скрытая энергия человека, мощь Кундалини,[96] огненной змеи, которая спит, обвившись вокруг позвоночного столба каждого недочеловека. Сиддхи,[97] путь могущества.
В тот же вечер Цзы Линь сообщил мне, что вестник готов пуститься со мной в путь, как только мы получим лошадей.
– Просветленный Гомчен повелел, чтобы тебя доставили в один из тайных монастырей. Проводник сведет тебя с людьми из секты Сармунг. Не пытайся ничего требовать. Старайся не говорить с ними, они и так хорошо знают, в чем состоит их долг.
Цзы Линь стоял передо мной, как всегда, исполненный достоинства и спокойствия. На нем была фиолетовая туника.
Эта встреча была прощальной.
Ночью я не мог заснуть от волнения, поднялся на башню и выпил чаю с монахом-астрологом, который рассказал мне о разных любопытных особенностях секты Сармунг.
14 числа мы с проводником отправились в путь. Мы выехали при розовом свете зари. Земля здесь ровная, пустынная, а потому движемся мы быстро.
Пустыня Такла-Макан живет своей тайной жизнью. Дикорастущие цветы с жесткими стеблями возвещают о наступлении теплого времени года. Полуденное солнце жарит немилосердно, по вечерам дует холодный ветер.
Я выясняю направление по компасу. Мы едем на ост-норд-ост, между 84-м и 88-м градусами.
Китайский проводник немногословен. По вечерам он готовит на костре ту еду, которую я даю ему, а сам питается отдельно. Потом он расставляет для меня маленький шатер из буйволиной шкуры.
За четыре дня мы проехали 210 миль.
На сухой почве появляется все больше островков растительности. По утрам прилетают птицы. Мы спускаемся к озеру Лобнор.[98] Пролетают цапли. Здесь должен быть оазис с водой.
Мы огибаем селитряные русла.
Сегодня под утро меня разбудил топот множества копыт. Это прискакали воины сармунги. Я слышу голоса и высовываюсь из палатки. Они выпроваживают моего спутника, и тот на своей лошадке отправляется на север. Они не дали ему увидеться со мной и получить деньги, которые я для него приготовил.
Я быстро и сухо кивнул тому, кто был у них за главного. Он оглядел меня, судя по всему оценивая мою физическую силу, оружие, имущество, и не сделал никаких движений в ответ.
Я вытаскиваю мешочек с монетами и встряхиваю его, показывая, что хочу заплатить ему перед тем, как мы отправимся в путь. Тогда он протягивает руку в знак согласия.
Кстати, Аненэрбе было известно о существовании воинов из секты Сармунг. В докладе о Гурджиеве говорится, что одной из целей его путешествия в 1897-м была попытка войти в контакт с ними.
Кроме того, в удивительном рассказе Теодориха фон Хагена, ламбахского аббата, среди записей 1863 года говорится о том, что «заблудившись в самой дальней пустыне, он был спасен племенем, практикующим обрядовый каннибализм».
Сармунг – секта гордых и мрачных людей, их уважают в пустыне, как всякого, кто соседствует со смертью и имеет с ней дело.
Известно, что эта секта существовала уже в Вавилоне за тысячу лет до рождества Христова. Тогда это были пантеисты и солнцепоклонники, наверняка одно из ответвлений зороастризма. Они жили кочевыми объединениями, которые назывались эрно.
Из рая Месопотамии они, подобно Адаму, были изгнаны в пустыню, которая и стала местом их обитания. Постепенно они все больше склонялись к почитанию черных сил. Под исламским влиянием они превратились в наводящих ужас езидов,[99] последователей халифа Езида, который убил внука Магомета.
Сармунги езиды поклоняются Дьяволу. Они считают его незаслуженно забытым божеством и утверждают, что зло – такая же часть мира, как и добро. Их магические ритуалы направлены на то, чтобы скрасить одиночество и обиду этого раздосадованного бога, сиречь Дьявола. Он указывает им жертву с помощью некого внутреннего шепота, который понятен исполнителю ритуала. Они убивают ритуальными ножами, подобно непальским гуркхам,[100] или душат жертву шелковой витой веревкой, на каких носят шейные амулеты.
Насколько я понял из слов монаха-астролога, эти кочевники-еретики из поколения в поколение обеспечивают связь между монастырями и охраняют тропы, ведущие в тайные поселения и обители. В качестве платы им по традиции разрешается посылать туда кого-то из своих, чтобы изучать, копировать и хранить две их единственные священные книги: Черную Книгу и Книгу Откровения.
Грамотных клириков среди них немного, они нужны лишь для того, чтобы хранить традицию.
Через четыре дня пути мы покинули степь и вошли в бескрайнюю пустыню, которая на рассвете окрашивается в розовый цвет, а в сумерках – в фиолетовый.
Время от времени здесь может промелькнуть заяц или олень. Далеко в высоте парят птицы. Рептилии глядят на нас из своих незаметных пещерок, вырытых в песке.
Все мы едем на мулах с киргизскими седлами, а четыре верблюда везут поклажу.
Сармунги молчаливы и подчеркнуто вежливы. Каждый вечер они устанавливают мою юрту, разводят огонь и удаляются, простившись гордым кивком головы. Это странный народ, как будто смесь ассирийцев с китайцами. У них длинные, прямые, иссиня-черные волосы, сплетенные в косу или собранные в хвост.
Известно, что они не приветствуют размножение людей, видя в нем опасность. Но если, несмотря на их щадящие противозачаточные методы, женщины все-таки беременеют, они смиряются с этим как с волей Дьявола, желающего иметь нового служителя, который посвятит свою жизнь защите мира от засилия людей, «посланцев добра».
Мы движемся не по прямой линии, как пытаются делать европейцы, отважившись углубиться в пустыню, а описываем одну за другой широкие дуги. В полдень я стараюсь определить наше местоположение с помощью секстанта.
Наверняка это тот самый долгожданный путь, совпадающий с приблизительной картой, которую составили в Аненэрбе на основе разных источников.
Мы движемся через Синьцзян по направлению к Гоби, пересекая то, что безумный отец фон Хаген называл «ожерельем сменяющих друг друга пустынь».
2 АПРЕЛЯ 1944 ГОДА
Вчера мы первые столкнулись с песчаными бурями. В дело идут своеобразные шерстяные плащи сармун-гов, снабженные коническими капюшонами для защиты от ветра. Они закрывают голову целиком, шерстяная ткань фильтрует песок. Я тоже учусь пользоваться таким плащом.
Мы свернули на север, к Турфанской котловине.
Ветер усиливается, не отступает. Мы живем внутри пыльного облака. Теряется целостное представление о реальности и о расстоянии.
Я нахожу покой только в юрте, при свете керосиновой лампы. Подбадриваю себя словами из «Бреви-ария»: «Человек, каким мы все пока являемся, не более чем жалкое подобие, примат, дальний предок того, кому мы еще не дали возможности родиться».
Когда Теодорих фон Хаген утверждает, будто во время своего путешествия 1863 года (двенадцать лет странствий по пустыням после отъезда из Иерусалима) его спасли «ритуальные каннибалы», он не указывает прямо на сармунгов езидов. Нужно иметь это в виду. Правда ли, что они спасли его? Где? И от чего?
Возможно, очень возможно, что я приближаюсь к тем краям, где Гурджиев, как он сам признался нашему агенту, искал город тайной власти. Я перечитываю в «Бревиарии» доклад, где воспроизводится его рассказ:
«Хотя мы очень далеко продвинулись в поисках легендарного города, который надеялись встретить на своем пути, мы изменили свои планы и решили как можно скорее покинуть пустыню».
Как всегда, его рассказ обрывается, намеренно оставляя двойственное впечатление. Гурджиев никогда не объясняет причин, не приводит реальных фактов.
Он подыскал себе оправдание, сославшись на ужасное происшествие, во время которого погиб инженер Юрий Соловьев, его товарищ по приключениям и один из «искателей истины», как Гурджиев называет его со свойственной ему экстравагантностью стиля.
В какой-то момент Соловьев, знаток тибетской медицины, отдалился от лагеря и на него напали дикие верблюды, один из которых ударом челюсти размозжил ему затылок. Далее Гурджиев приводит персидскую молитву, в которой звучат непочтительные саркастические нотки по отношению к погибшему:
«Убей, Господь, того, кто, ничего не зная, дерзает указывать другим дорогу, ведущую к вратам Твоего Царства».
Движемся мы довольно быстро. Мы достигли предполагаемого притока реки Ончжин раньше, чем я рассчитывал. Теперь целый день мы стоим лагерем, чтобы дать отдохнуть животным.
Сармунги скользят по быстрым водам, как лососи. Они то исчезают, то снова выныривают смеясь, их мокрые волосы напоминают конские хвосты.
Как меня предупредили, отсюда начинается заповедный участок пути. Мне завязали глаза и покрыли голову коническим капюшоном. Двое всадников ехали рядом с моим мулом, по очереди направляя его.
Дорога шла по твердой почве и по гористой местности.
Вечером сармунги сняли с меня повязку, но остались неподалеку от моей юрты.
Я записываю все это как любопытные подробности пути. Страха во мне нет.
Кошмарный день. Около полудня мы оказались в своеобразном ветряном коридоре, образованном узкой долиной. Проводники кричали друг другу, что надо делать, с таким отчаянием, как моряки во время сильного шторма. Мне показалось, что они едва не потеряли одного из верблюдов, который обезумел в этом вихре. Из-под темного капюшона я слышу, как хрипят животные с мордами, запачканными песком.
Наверняка эта вечная ветряная завеса служит естественной защитой тому месту, в которое меня везут. Сейчас мы переводим дух. Судя по всему, ночью здесь немного спокойнее, но тьма кажется особенно непроглядной из-за висящей в воздухе пыли.
Мы спустились по спиралевидной тропе. Сквозь капюшон я видел оранжевый отсвет, предвещавший прекрасный день.
Около десяти часов утра главарь сармунгов приказал снять с меня повязку. Я увидел потрясающей красоты долину, обрамленную двумя низкими горными цепями. Вдалеке виднелась ровная серебряная лента – поливной канал и отходящие от него в геометрическом порядке ответвления. Зеленые сады. Стайки разноцветных птиц.
А чуть дальше – обычные для тибетского или, вернее, китайского монастыря строения: крыши в форме пагод, балки, выкрашенные в алый цвет. Множество каменных построек, примостившихся на горе. Сверкают на солнце бронзовые башни главного храма, символизирующие эфир.
Сармунги останавливаются у деревянного моста с аркой. Рядом с ним хлев.
Несколько монахов-прислужников сердечно приветствуют меня поклоном и начинают суетиться над моим багажом.
Сармунги со мной не прощаются. Я вручаю монахам большую сумму в фунтах стерлингов.
Сегодня 19 апреля 1944 года.
Глава VI
Тайный монастырь. Танцующие
Встретивший меня монах был одет в тунику из блестящего черного шелка. На нем необычный головной убор с вырезом наверху, откуда торчала косичка из волос, тока держалась на ней, приколотая белой нефритовой брошью. Это был даос. Он благосклонно взглянул на меня и сказал:
– Мы поселим гостя в квартале для иностранцев… Ты можешь называть меня Ли Лизанг, это мое имя в ордене. Тебя отведут в дом, предназначенный для Роберта Вуда…
Эти слова звучали двусмысленно. Мне захотелось поправить его:
– Я Вальтер Вернер. Вам это прекрасно известно, хотя я и путешествую под другим именем. Наши люди в Традуме сообщили вам… – Ли Лизанг продолжал подчеркнуто вежливо улыбаться. Улыбкой он, скорее всего, отгораживался от меня, как стеклом равнодушия. Так обычно поступают китайцы, когда западные люди слишком докучают им своими уточнениями.
– Да-да, конечно, – сказал он с равнодушным видом, как будто речь шла о незначительных мелочах.
Дул весенний ветерок. Зеленые сады блестели на солнце, а скалы отбрасывали металлический отблеск.
Послушники-слуги, два китайских мальчика, подняли мои сумки и повели меня по козьей тропе к «кварталу для иностранцев». Со склона я смог разглядеть вдалеке силуэты женщин, наверняка работавших в саду.
Я чем-то насмешил мальчиков. Одному я подарил металлический карандаш, а другому – позолоченную брошь.
Дом оказался каменным. Деревянный пол выложен так, чтобы нивелировать наклон горы. Гранитная дверь сделана в форме обрезанного конуса. В доме есть помост из гибких досок, на котором лежит циновка, служащая постелью. Меня ждет жестяной термос с горячим чаем и блюдо с зерном и инжиром.
Почти ледяная, необыкновенно чистая вода из горного источника льется в каменную лохань по хитроумно расположенным бамбуковым трубам. Я помылся ледяной водой, выйдя на солнце. Мои волосы наконец освободились от песка, накопившегося в них за долгую дорогу.
Я раскладываю свои вещи. Распаковываю баулы. Проверяю, в порядке ли часы и секстант. Мне приходится стряхивать песок со страниц дневника.
Принимаюсь рассматривать в бинокль храмовую территорию и сады. Людей почти не видно.
Записываю по памяти высказывание фон Хагена, которое пришло мне на ум при виде шапки Ли Лизанга:
«Агарта, вероятно, располагается на стыке буддизма и даосизма, во времени, застывшем вне времени».
22 АПРЕЛЯ 1944 ГОДА
Наконец-то все стало двигаться многообещающе быстро: рано утром пришел один из мальчиков и объявил, что скоро я предстану перед Просветленным. Произнося это слово, он скосил глаза и поклонился так низко, что едва не коснулся пола.
Когда солнце уже сияло высоко в небе, явились два монаха и сопроводили меня на храмовую территорию, расположенную на самой вершине холма.
Мы прошли сквозь несколько церемониальных залов. В одном из них около десяти послушников, бритых, но с косами, декламировали нескончаемую молитву. Вдоль шеренги расхаживал монах, вооруженный бамбуковой палкой, и время от времени раздавал сильные сухие удары по затылкам сбившихся с ритма или недостаточно сосредоточившихся на молитве послушников.
Ли Лизанг приказал мне подождать при входе в покои Просветленного, где несколько старых монахов, одетых в роскошные шелка, молились, согнувшись на своих циновках. Это были китайцы, даосы или тантрические буддисты, в красно-желтых головных уборах, по форме напоминающих петушиный гребень. Они с навязчивой монотонностью повторяли несколько священных слов, смысл которых был мне совершенно непонятен. Из курительницы распространялся аромат сандалового дерева.
Не привлекая к себе внимания, мы подошли к последнему залу, в котором царил полумрак. От молящихся он был отделен широкой, роскошно украшенной аркадой. Я почти ничего не видел, словно в темном кинотеатре. Ли Лизанг проводил меня до циновки, лежащей напротив помоста, возвышавшегося в метре от пола. Я сел скрестив ноги. Ли Лизанг удалился.
Я увидел, как кто-то медленно приближается к переднему краю помоста. Чувствовалось, что это тело глубокого старика. Мне показалось, я услышал шуршание шелков. Очень медленно он сел в позу лотоса. Теперь я мог лучше разглядеть его. Просветленный вышел на помост своеобразной конструкции из бамбука и циновок, напоминающей огромный короб. Там виднелась скамейка для молитвы и лежак. Наверняка это его комната для метафизических путешествий. К одной из стенок этого строения был прикреплен рисунок, едва различимый, несмотря на все мои усилия, но форма его показалась мне знакомой.
Вспоминая этот эпизод, я должен признать, что чувствовал себя раскованно, не испытывая волнения, столь естественного в момент встречи с человеком, который во многом был центральной, ключевой фигурой в судьбе моей миссии.
Перед тем как войти, Ли Лизанг сказал мне: «Вы ни о чем не должны беспокоиться. И не беспокойте Просветленного речами. Не говорите. Не действуйте. Просто пребывайте. Он тулку, ему прекрасно видны все цвета вашей ауры, все оттенки, самые потаенные стороны вашего существа. Он увидит ваше прошлое, грозящие вам опасности, ваши стремления. Возможно, он увидит и вашу судьбу…»
Сейчас мне трудно сказать, сколько времени мы провели в этом многозначительном молчании. В какой-то момент я почувствовал, что должен достать футляр с предметом, который Фюрер вручил мне в Бергхофе. Я положил кольцо-талисман поверх футляра. Было достаточно светло, чтобы разглядеть рубиновую свастику, вделанную в податливый, много переживший круг из бронзы и золота. Чингисхан и Хубилай-хан носили этот перстень на правой руке в дни решающих сражений. Хубилай и подарил его седьмому Далай-ламе в эпоху расцвета своей империи. Аненэрбе так и не удалось до конца выяснить, как и где искатель приключений барон Унгерн мог заполучить его. Никто не знает, как фон Зеботтендорфу удалось переслать его Обществу Туле и Фюреру с помощью умирающего Дитриха Экарта. Я вдруг представил себе, как барон Унгерн фон Штернберг в окружении платиновых проституток выходит из какого-то монпарнасского кабаре. Он только что продал награбленные в Монголии сокровища.
Кажется, молчание было долгим и насыщенным. То и дело возобновляемые молитвы монахов не нарушали ощущения покоя.
Было это сокровище знаком, символом некоего договора или же проклятия? Оно лежало передо мной, наделенное мистической силой, особой властью. Оно напоминало о звоне тысяч конских копыт, утаптывающих бесконечные азиатские равнины. Ночные вылазки, боевые костры, жестокость, чудовищные и героические деяния воинов.
Согласно одной из среднеазиатских традиций, этот талисман – символ возрождения Азии в пику европейскому варварству, варварству «цивилизации».
Что-то заставило меня встать, и я подошел к помосту. У старца были почти неразличимые черты лица. От него как будто пахло древними бумагами, словно сам он уже превратился в пергамент. По-моему, в эту минуту (или, может быть, позже) я подумал, что именно это духовное существо в 1904 году встречалось в Киото с генералом Хаусхофером.
Я положил сокровище перед ним на помост. В эту минуту меня охватило безумное волнение, словно я вот-вот потеряю контроль над собой. Может быть, это случилось оттого, что я попытался произнести имена Хаусхофера и фон Зеботтендорфа. Я был не в силах этого сделать. Так бывает, когда хочешь закричать во сне, но чувствуешь, что не можешь двинуть ни одним мускулом, потому что воля спящего отделена от тела. По-моему, я тщетно силился выговорить слово «Агарта». Кажется, Просветленный, исполненный спокойствия, протянул ко мне даже не руку, а невероятно широкий рукав своей даосской туники из черного шелка. Этим жестом он хотел успокоить меня. Мое отчаяние отступило: я почувствовал, что слова, которые я старался произнести, каким-то образом уже давно были сказаны, а потому больше не нужны. Риторика, пустые метафоры. Не более чем упрямство западного разума.
Что же касается сокровища, талисмана, то он вернулся к своим хозяевам. Я был не в силах постичь смысл и символику всего этого. Я оказался главным действующим лицом в каком-то важном событии, но моя роль была служебной, и тайное значение моих действий было от меня скрыто. Я был актером, играющим в эпизоде, возможно, заключительном, но истинный смысл его был известен лишь немногим.
Из соседнего зала донеслось позвякивание колокольчиков, а затем гулкий удар гонга. Казалось, мощные волны звука сотрясают неподвижный, наполненный благовониями воздух.
Я низко поклонился Просветленному и вышел в соседний зал. Замечу, что ослабевшие ноги едва слушались меня, а сам я чувствовал себя потерянным, словно только что очнулся от глубокого сна.
Ли Лизанг ждал меня. Мы прошли сквозь анфиладу залов и вышли на площадку. Свет солнца показался мне ослепительным.
– Возможно, Просветленный пожелает помочь тебе исполнить задуманное, – сказал Ли Лизанг.
Мы пересекли пустой двор, где одиноко лежали две ритуальные трубы длиной около четырех метров. Ли добавил:
– Тулку уже очень тяжело возвращаться сюда, к нам. Он почти все время проводит, созерцая две реальности, видеть сиюминутное ему становится трудно. Он обитает уже в самом сердце материи. Теперь тебе остается только надеяться и ждать от него знаков… Нам обычно кажется трудным войти туда, куда мы на самом деле не хотим попасть…
Я заканчиваю рассказ об этом удивительном дне. Хотя я выспался накануне, мною снова овладела неодолимая сонливость.
С завтрашнего дня я должен по-новому организовать свои размышления. Я должен ясно определить для себя цель своей миссии.
Я исполнен надежды: я уверен, что стою на пути в Агарту.
Вот что поведал Гурджиев нашему парижскому агенту:
«Надо сказать, вся эта область образована сплетением узких долин. До этого нам никогда еще не приходилось исследовать более непроходимую местность. Можно было подумать, что Высшие Силы создали или избрали эти труднопроходимые, внушающие трепет места, чтобы ни один человек не дерзнул явиться сюда».
У меня есть все основания подозревать (и надеяться!), что я добрался до того самого места, которое русский метафизик называл «Монастырем Танцующих». Если так оно и есть, то я нахожусь в двухстах-четырехстах милях от «сферического треугольника, относящегося к Агарте», как указано на секретной карте. Но действительно ли это мили или же новые символы, обозначающие неизмеримые расстояния?
Я принялся всматриваться в бинокль. Описание холмов совпадает: они образуют закрытую дугу, так что храм и постройки более дальних кварталов, возведенные на внутренней стороне холмов, надежно скрыты от взглядов.
Я разволновался и принялся искать еще какие-нибудь описания, пролистывая страницы «Бревиария»:
«По ночам здесь царила наводящая ужас тишина. Ее нарушал только шум водопада да еще время от времени крик какой-нибудь птицы».
Не центральный ли канал, соединяющий все кварталы и несущий воду к садам, он называет водопадом?
Мне попадается на глаза запись Теодориха фон Хагена, скорее всего сделанная в самом начале последнего этапа его путешествия, еще до того, как он потерял рассудок.
«Агарта все время в движении. Она отступает, когда приближаются навязчивые западные варвары, которые движутся по миру, лишенные сакральной проекции. Бывает, путник думает, будто добрался до Агарты, и не знает, что он уже и без того пребывает в Агарте».
Что-то подсказывает мне, что слишком углубляться в подробности рассказов других путешественников может быть опасно. Я должен сосредоточиться на собственных целях, не позволяя заманить себя в западни, в которые попадали другие. Если это и есть Монастырь Танцующих, значит, именно здесь Гурджиев встретил русского аристократа, которого считал давно умершим:
«Князь Любоведский, которого я встретил там, хотя думал, что он давно умер, попросил у монахов разрешения провести меня в особое здание…»
Я несколько раз подряд перечитал эти слова, которые офицер Юнгер наверняка записал особенно тщательно. Гурджиев описывает князя как высокого старца с гордой осанкой, аристократичного, с белыми как лунь волосами и седой патриархальной бородой. По словам Гурджиева, эта встреча состоялась во время его поездки 1898 года. До той поры он считал, что князь умер в Тифлисе, и даже заказывал службу за упокой его души.
Я не могу позволить подобной ерунде сбить себя с толку. Я здесь лишь проездом. Мне следует строго следовать завету отца фон Хагена: «Как можно скорее выбирайся из этих краев, где мертвецы уже смешались с живыми».
Я, как могу, цепляюсь за реальность. Следуя правилу, выработанному старым немецким буржуазным воспитанием (оно все еще действует!), сегодня утром я отправился в здание на верхней площадке и попросил Ли Лизанга принять меня. Хотя он ничего не просил у меня, я настоял на том, чтобы заранее заплатить за свое пребывание в монастыре. Ли смотрел на меня своими черными глазами, юркими и подвижными. Он был в растерянности, не зная, какую цифру назвать. Я спросил, предпочитает он золотые монеты или фунтовые банкноты. Он ответил, что ему все равно. Я положил две стофунтовые банкноты на платок, завязал его на манер церковного пожертвования, по тибетскому обычаю, и оставил на столе. Монах смотрел на меня, не притрагиваясь к деньгам.
– Думаю, этого будет достаточно… Я пробуду здесь недолго, как только Просветленный… – Ли Лизанг кивнул, словно соглашаясь, но продолжал улыбаться своей неизменной улыбкой. Затем он задал вопрос, который показался мне банальным и неуместным:
– Свежая ли вода у вас в термосе?
– Да. Послушники каждый день наливают новую из каменного источника.
– Зимой, если потребуется, они ближе к вечеру будут разводить для вас огонь на сухом верблюжьем навозе…
Мы вышли на террасу. Он обвел рукой горы и объяснил, что эта местность неприступна. Он сказал так, будто это случилось вчера, что во времена царя Александра им пришлось немало поволноваться, когда русский отряд, заплутавший, возвращаясь с турецкой границы, попытался найти здесь прибежище от не на шутку разбушевавшегося ветра. Он сказал, что это был единственный раз, когда сармунгам пришлось закрыть проход с помощью заранее разработанного приема, устроив обвал в южном ущелье. И добавил, что, помимо этого, были отравлены ближайшие ко входу источники, на тот случай, если кто-то к ним прорвется.
– Монастырь принимает лишь тех, кого пожелает или кого призовет сам… Есть еще много тайных обителей, подобных этой. Они спрятаны от черного мирового цикла. Ведь полночь еще не миновала и самые злые люди еще не родились, как предсказывал великий Хутукту Та Куре… С самых давних времен мы получаем пожертвования и защиту из деятельного мира, господин Вуд.
– Меня зовут не Вуд.
– О да, конечно. Простите, господин Вернер… Так вот, нас защищали властители торговли, великие проститутки Шанхая, Кантона, Токио, Нанкина, Бирмы… Военачальники, князья… Два раза в год сармунги приводят сюда караваны, присланные Яньаньскими воинами, Красной армией.
– Коммунистами?
– Они победят. Люди Гоминьдана слишком развратились. В мире грядут новые времена. И Китай снова станет центром притяжения. Люди из древней ложи Хунт, Старцы с Пяти Террас, одержат победу…
Ли Лизанг проявил необычную для него разговорчивость. Прощаясь, он произнес фразу, которая окончательно сбила меня с толку:
– Вы дали мне две очень красивые банкноты. На обеих прекрасные рисунки с изображением короля. Это очень любезно с вашей стороны. Присылать вам больше инжира и козьего сыра на завтрак или и так достаточно?
25 АПРЕЛЯ 1944 ГОДА
Этой ночью мне приснились, привиделись наши войска в самом пекле боя, охваченные мучительной тоской. Рвались бомбы, поднимая песчаные ураганы. Смятение, крики. Нас громят силы вырождения, люди-тени, двухмерные полки микробов, населяющих планету. Это был дурной сон, в какой-то момент мне привиделось объятое пламенем сокровище нашей деревни – старинный отель «Пост». От глубокого Некара поднимался дьявольский дымок, словно его тихие воды тоже запылали от жара фосфорных бомб.
Я встаю в тоске. Меня охватывает беспокойство человека, которому надо уехать, но он не может.
Да, мы – поколение новых людей, настоящий человек еще жив в нас, но он как отмирающий орган. Нельзя поддаваться искушению, подпуская к себе грязную вину или слабость сострадания. Единственное допустимое сострадание – сострадание к уничтоженному человеку, которого мы несем в себе и которого только мы, нацисты, способны возродить.
Монах-прислужник застал меня в тот момент, когда я смотрел в бинокль. Хотя нам трудно было понять друг друга, он сказал, что за последним холмом находятся источники термальных вод. Потом он несколько раз подряд повторил слово, которого я не понял, и исполнил изящный пируэт в воздухе, изображая танцовщицу. Кажется, он сказал, что именно их иногда можно видеть в садах долины.
Это было еще одно подтверждение того, что я добрался до легендарного Монастыря Танцующих. «Конечная точка на границе невыразимого», – как написал фон Хаген в своей хронике. И если Гурджиев рассказал правду, то именно начиная с этих мест его стали преследовать неудачи в поисках Утраченного, но Грядущего Города.
К чему такая уклончивость в его рассказе? Что он скрывал?
Ночи стоят теплые. Тишина здесь невыносимая, меня мучает бессонница, и я выхожу прогуляться. При свете луны канал кажется серебряной лентой. Я пью прохладную, почти ледяную воду. Она бодрит. Я следую взглядом за течением, бегущим в сторону гор на другом конце долины. Очень далеко на склоне я вижу дрожащие огни. Наверное, это масляные лампы. Я поудобнее устраиваюсь между скал и принимаюсь наблюдать. Около четырнадцати фигур в белых туниках по крутым тропам спускаются к выдолбленному в камне пруду, питающему основной канал. Впереди идет высокий мужчина, судя по одеревенелым движениям, наверняка старик, ему помогает прислужник. Рядом с ним несколько более изящных женских силуэтов.
Они расселись на каменных скамьях вокруг стола из плитняка, осторожно расставили на нем лампы, возможно, образующие какую-нибудь символическую фигуру· Они декламировали, бормотали что-то, – скорее всего, молитву. Высокий мужчина с седыми волосами сидел во главе стола и пил из кувшина воду, которую одна из женщин принесла из ближайшего к столу источника. При свете почти полной луны все это выглядело величественно и классически просто, как библейская сцена.
Потом они встали вокруг водоема и омочили себе руки и лоб. Старик выбрал двоих, мне показалось, что это девушки, и отвел их к каменной лестнице. Обе они погрузились в воду, держа старика за руки. Когда они вышли, их туники прилипли к телу. Закончив ритуал, преломили хлеб и стали есть. Пили они одновременно, пристально глядя друг на друга с той же торжественностью, с какой венские щеголи ведут себя на своих празднествах.
Было чуть заполночь, когда они пустились в обратный путь по крутым горным тропам, освещая себе путь дрожащими лампадами. Живут они на самой высоте, в пещерах, которые раньше в бинокль показались мне необитаемыми.
Когда я подошел поближе, думая, что все уже ушли, я увидел, как двое несут удивительный предмет – знамя с косами из конского волоса, металлические колокольчики, центральная металлическая фигура изображает орла. Римский орел! Знамя легионов, их символ. Высшая гордость войска, попав в руки врагов, оно становилось причиной боевых операций и карательных походов, пока его не отвоевывали обратно. Наверняка эти люди передают его из поколения в поколение со II века, когда их изгнали из Иудеи вслед за уничтожением легионов Флора и Тита.
У меня перехватило дыхание, когда я понял, что все это означает. Прошлое становилось современным настоящему, и я, агент СС, убедился, что эти евреи, вроде бы побежденные славными римскими язычниками, упорно продолжают существовать.
С тех давних времен, когда они обитали в Кумране и Энгеди,[101] на берегах Мертвого моря, они хранят свои тайны, свою мудрость, которая породила Христа, великого солярного ниспровергателя, потерпевшего поражение из-за предательства Савла, Святого Павла, настоящего Иуды.
Я дрожу от волнения. Надо записать все эти странные события. Я просматриваю «Бревиарий Аненэрбе», но нахожу только несколько коротких фраз о ессеях в докладе о Рене Геноне. Он писал, что ессеи хранят традицию Еноха[102] и его тайное евангелие. Енох, оберегаемый Богом для будущих времен. Генон связывает все это с Метатроном, создателем земной власти, верховным демиургом, князем мира.
Я нахожусь в месте, где слово «реальность» начинает терять всякий смысл.
Мне приходит в голову, что Монастырь Танцующих-удивительная точка схождения, своего рода метафизический сток, где есть место и для ессеев, и для даосов из секты Луньмен. Резервуар разнообразных тайных знаний.
Я позволяю себе строить рискованные догадки. Надо контролировать себя, не обращая внимания на необъяснимые вещи, которые здесь творятся.
Дошло до того, что я вообразил, будто ессей с седыми волосами вполне может оказаться князем Любоведским, другом Гурджиева, которого тот встретил в 1898 году, думая, что он давно умер!
При виде необъяснимого разуму угрожает крушение. Я не должен поддаваться головокружительному искушению погрузиться в эти тайны. Моя задача состоит в другом.
Светает, но я чувствую, что не смогу уснуть.
Сегодня я наконец решился пойти в направлении, которое указал мне монах-прислужник. Когда я выходил, мне пришло в голову, что я поступаю опрометчиво и, прежде всего, рискую потерять расположение Ли Лизанга, а возможно, и самого Гомчена Ринпоче, поскольку нарушаю предписание «стараться не выходить за пределы гостевого квартала».
Я пустился в путь вдоль канала со стороны теснившихся на склоне скал, так что меня не должны были заметить из храмового квартала. Мною управлял бес любопытства.
В конце последнего склона, в его южной части, долина углублялась, спускаясь к котловине, где виднелось несколько строений, увенчанных красными черепичными крышами с загнутыми на китайский манер краями.
Я дошел до первых двориков, выложенных плитняком, и смог пробраться дальше, ни с кем не повстречавшись. Дворики соединялись между собой каменными аркадами. Так, прижимаясь к стенам безлюдных галерей, я добрался до главного здания. Судя по качеству обработанного камня, мне показалось, что ему больше ста лет.
Я набрел на большой зал с каменными колоннами, в конце которого высился деревянный помост, напоминавший огромную сцену. Там сидело несколько девушек в очень широких шароварах, присобранных на щиколотках, и в коротких жилетах, расшитых цветными нитями и драгоценными камнями. Волосы у всех были собраны в пучок, а на лбу красовались бронзовые диадемы. На ногах – синие туфли без задников. Удивительнее всего были их лица.
Я незаметно приблизился к этому залу, длиной не меньше пятидесяти метров. Пробирался, прячась за колоннами, пока не остановился на разумном расстоянии. Я забился в неосвещенный угол, прислонившись к цоколю.
Танцовщицы казались застывшими. Время от времени они делали какие-то движения, не согласованные друг с другом. Очень редко кто-то из них вставал, в основном они сидели на пятках. Порой они быстро двигали руками и пальцами или изменяли положение головы, как автоматы. Иногда вдруг слышался бой барабана или растворялась в пространстве нота, взятая на цитре (справа от большой сцены в полутьме сидели три монаха…)
У всех девушек лица были густо накрашены белой известью, как маски театра Кабуки. Глаза были подведены яркими черными дугами. Все лица казались одинаковыми. Подводка и белила были призваны уравнять физические различия.
Музыкальные ноты падали размеренно, как капли, время от времени звенящие в почти полной тишине. Все это показалось мне невыносимо скучным. Я зевнул и вытянул ноги, охваченный дремотой, мне было лень встать и уйти. В этой неспешности было нечто завораживающее: с трудом удавалось сосредоточиться на собственных мыслях. Казалось, вот-вот что-то откроется, и я постигну тайный смысл этих движений и этой музыки, в которой не было и намека на мелодию или ритм.
Глядя в сторону монахов-музыкантов (это были буддисты в шафрановых туниках), я заметил странное искусственное сооружение – геометрически правильное дерево, с ветвей которого свисали шары из слоновой кости и металлические пластинки, повернутые в разные стороны. Я заметил, что время от времени, когда колокольчики звенели особым образом, все Танцующие поворачивали головы к этому предмету. Мне пришло в голову, что это может быть неподвижный метроном. Конечно, это – противоречие, необъяснимое, как и многое другое в этих краях.
Я потерял счет времени, глядя на девушек, которые двигались очень медленно и при этом негармонично. Похоже, меня одолела дремота. В какой-то момент кто-то коснулся моей ноги, чтобы разбудить. Я в испуге открыл глаза. Но это была одна из танцовщиц, она уже удалялась с ничего не выражающим лицом, быть может улыбаясь под маской из белил. Она присоединилась к группе, которая уходила по двору в сторону бокового здания.
Я заканчиваю сегодняшние записи. Я уже не сомневаюсь в том, что нахожусь в Монастыре Танцующих. Едва добравшись до своего стола, я бросился к «Бревиарию» и принялся просматривать доклад о Гурджиеве, пока не нашел этот абзац:
«Я дошел до дворика центрального здания, который называют женским, где жрицы-танцовщицы наставляли послушниц и посвященных в священных танцах Монастыря.
Может быть, когда-нибудь я смогу в подробностях описать Монастырь, его значение и что я там делал. В любом случае я постараюсь описать странное сооружение, которое я там видел и чья структура, когда я понял ее смысл, произвела на меня головокружительное впечатление».
2 МАЯ 1944 ГОДА
Выждав три дня, я решил выбрать момент и пробраться в храмовый квартал. Я долго вел наблюдения в бинокль. Только сегодня выпал подходящий случай, так как многочисленная процессия монахов покинула террасу и отправилась на площадку для церемоний.
Я знаю, что не должен так поступать, что это ребячество, но бегу туда, словно мальчишка, отправляющийся воровать фиги.
Я пробрался по козьей тропе и спустился к Храму с верхних склонов. Никто не мог меня видеть.
Я не ошибся: двор и галереи, ведущие в покои Просветленного, были пусты. Ни одного монаха при входе. Горела одна-единственная масляная лампа. В полутьме я разглядел сооружение из циновок и бамбука и предусмотрительно подождал, пока глаза не привыкнут к темноте, чтобы убедиться, что молельня Просветленного пуста, как я и предполагал. Тогда я приблизился к внешней перегородке и осветил своим фонариком покрытую лаком гравюру, которую пытался разглядеть во время встречи с тулку.
Рисунок был сделан на козьей коже, очень сухой и посеревшей, это подтверждало ее древность. Я постарался скопировать его, насколько возможно, сохраняя спокойствие, и закончил как раз в тот момент, когда прогремели ритуальные трубы, наверняка возвещая возвращение процессии.
Вернувшись, я долго держал перед собой рисунок. Я уверен, что это не символ, а скорее план города-крепости. Я не могу удержаться от того, чтобы мои предположения не переросли в опасную убежденность: я не сомневаюсь, что это и есть план «Утраченного, но Грядущего Города», рисунок, который Гурджиев послал Сталину, спасаясь из революционной России в 1917 году.
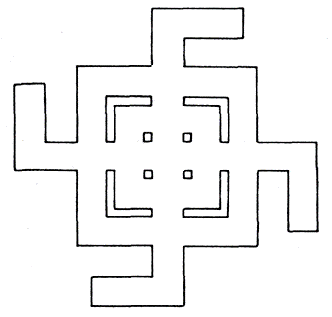
Не это ли крепость Агарты? Почему Просветленный Гомчен Ринпоче хранит его на стене своей молельни, где он предается медитации? Неужели Агарта не просто символ, а настоящий город, выдолбленный в толще неведомого горного хребта, как утверждает сомнительный пробританский агент Оссендовский?
Мои сомнения и размышления ни к чему не приводят. Я знаю, что вступил на опасную территорию; я и проник туда, чувствуя, что делать этого не следует.
Я просыпаюсь посреди ночи. Рисунок никак не идет у меня из головы. Внешние выступы городской стены образуют свастику и сообщают городу движение, копирующее вращение Галактики, движение мировой материи после великого взрыва.
Я фантазирую и сильно рискую. Я уже сейчас дорого расплачиваюсь за свое безрассудство.
Я нахожусь в краях, описанных фон Хагеном, где символы и реальность переплетаются, грозя погубить всякий разум.
Дни проходят один за другим. Я вычеркиваю их в календаре, как это делают заключенные. Время от времени во мне просыпаются необъяснимые страхи, надо решительно пресекать их. Например, я чувствую, что в какой-то момент время на моих часах или в моем календаре могло затеряться или спутаться. Сама эта возможность приводит меня в неописуемый ужас. Дурацкие мысли, подобные этой, упрямы, как сорняки.
Я здесь слишком одинок. Я дожидаюсь вечера, чтобы после скромного ужина склониться над чистой страницей дневника. Тогда я чувствую, что вновь обретаю себя. Я как будто смотрюсь в зеркало, чтобы побыть самим собой. Я готов до бесконечности блуждать в дебрях риторики, лишь бы не расставаться с ручкой и не возвращаться к одиночеству.
Каждый день я хожу в квартал Танцующих. Я превратился в постоянного посетителя. Кто-то уже в курсе и даже потворствует мне в моем новом увлечении: возле своей обычной колонны я нашел циновку и тростниковую подушку, чтобы было куда положить голову.
Без тоски или нетерпения я отдаюсь движениям танцовщиц как ритуалу, смысл которого мне вот-вот откроется. Этот танец наверняка обладает гипнотическим действием, потому что я перехожу от зачарованности ко сну, судя по всему, не слишком краткому (вчера я проснулся после заката).
Чувствую, это идет мне на пользу. Я возвращаюсь умиротворенный, медленно ступая по берегу канала. Эта музыка ударных инструментов, когда каждая нота растягивается и растворяется в долгих промежутках тишины, кажется мне единственно возможной музыкой. Я с ужасом вспоминаю «Тетралогию», которую мы слушали в Байройте на специальном представлении для членов СС. Эта молчаливая, уводящая в глубокий транс музыка – полная противоположность, антипод Вагнера или Брамса.
25 АВГУСТА 1944 ГОДА
Мои страхи, связанные с потерей временных ориентиров, времени моего мира, растут. Сегодня в полдень я постарался как следует измерить высоту солнца с помощью секстанта. Я работал, стараясь добиться максимальной точности, но моя неловкость и медлительность в применении этих простых расчетов были очевидны.
Ли Лизанг, возвращавшийся с обхода садов, застал меня за чисткой секстанта. Как всегда, он говорит с улыбкой-гримасой, в которой перемешались вежливость и насмешка. Мне это неприятно.
Я завел разговор о Танцующих, чтобы он не подумал, будто я что-то от него скрываю. Это было бы опасно, ведь я начинаю понимать, что нахожусь в руках этих людей, как мышь в когтях кошки, которая может быть и игривой и беспощадной.
– О, это своего рода жрицы… Они стекаются сюда из разных мест: из Индии, Бирмы, Малайзии, Китая, Монголии, Тибета, даже из Японии. Раньше, в очень древние времена, вторая дочь каждого крупного сановника должна была стать весталкой… Чтобы на своем теле нести священные тексты. Есть очень красивые, не так ли? – произнес Ли Лизанг чуть ли не с пафосом.
Они показались мне почти детьми, изящными, удивительно гибкими в своей неподвижности. Но известковые маски лишали их индивидуальности. До этой минуты я не думал о них как о женщинах. Ли Лизанг добавил:
– Некоторые из них – тулпы. Их тела полностью принадлежат демонам или людям, которые продолжают переживать в них свою собственную жизнь…
Мне было непросто понять его двусмысленные речи. Во всяком случае, я предпочитаю не записывать то, чего не понял.
Я стараюсь не уделять слишком много внимания этим странностям. Я твердо решил изо всех сил держаться за свою миссию и как можно раньше получить ответ от Просветленного. Я должен строго следить за собой, чтобы не поддаваться любопытству. Я не могу позволить, чтобы всем вокруг овладела завораживающая нелогичность.
Чувствую, что нахожусь на последнем перевалочном пункте перед восхождением на вершину. Я не могу позволить себе ни одного неверного шага.
Запишу последнюю фразу, брошенную Ли Лизангом о масках Танцующих:
«Маска очень, очень нужна… Не следует, чтобы наше лицо было слишком прозрачным, иначе оно может выдать нечто ужасное».
Я часами лежу на циновке. Взгляд мой пересекает каменный дверной проем моего домика и теряется в дальних горах и в синем небе, напоминающем фарфоровые чашки, которые моя мать доставала по праздникам или при гостях. Моя мать, хранительница домашнего очага, тайного ритма набирающих силу жизней.
В моем расслабленном уме сменяют друг друга бесконечные сцены. Я знаю, что это нездорово, но я устал бороться с призраками и ностальгией.
Сегодня я с невероятной четкостью представил себе лицо профессора Хильшера, как он говорит со мной в своем кабинете в институте Аненэрбе. Промозглый осенний ветер в сумерках раскачивал сосновые ветки в саду на Пюклерштрассе.
«Мы называем словом «Врил» космическую, изначальную силу, которая скрыто пребывает в каждом человеке. Это атрофировавшаяся сила гениев и героев. Сила, которая дышит под осколками нашего умирания. Возможно, это то же самое, что в Индии называют Акаша, а в Полинезии – Мана. Силы, дремлющие вдоль позвоночного столба, змея Кундалини, Сиддха… Поверьте, это та самая сила, к которой так близко подошел Ницше в своих видениях в Зильц-Марии. Не исключено, что это и есть легендарное преображение Христа на Фаворе. Мы носим в себе эту силу в скрытом виде, как нечто забытое нами. Точно так же, как атом заряжен энергией, которую мы когда-нибудь высвободим и научимся использовать. Тулку Гомчен Ринпоче – последний из посвященных, много лет назад указавших нам путь… Фюрер воплотил в себе все эти силы, а люди Агарты владеют ключом тайной власти, Врилом».
Я подолгу предаюсь размышлениям. Стараюсь ухватиться за образы прошлого, которое кажется мне безумно далеким, сомнительным, а может быть, и неправдоподобным. Это вполне могло быть прошлое другого человека! Но все мы и хотели стать другими. Нельзя считать наказанием то, к чему сам стремился. Я представляю себе, как бегаю и играю в школьном дворе Нагольда. Летние воды Некара среди лугов. Передо мной предстают мельчайшие подробности; из прошлого, словно по мановению волшебной палочки, всплывают лица. Прежняя жизнь не желает умирать в нас, так торжественно отказавшихся от нее ради бытия. Я никогда не хотел поощрять в себе воспоминания о Кармен, но сегодня они прочно обосновались у меня в голове. Я вижу нас с ней в Берлине, потом в Мадриде. Ко мне вернулся аромат ее кожи, я вновь пережил бурную ночь с ней в далемской гостинице.
Целые часы я провожу вот так, в ностальгии и сентиментальничаньи, как недочеловек, охваченный меланхолией.
Тем же путем пробрался и обосновался во мне маленький Роберт Вуд со своими незаконнорожденными воспоминаниями. Заученные в разведшколе с тем, чтобы завладеть жизнью Вуда и научиться изображать его, они стали приобретать невероятную живость. Уэльское детство, шапочка с символикой аристократического колледжа. Воскресные богослужения, радостное волнение во время поездки «на Континент» на пароме, где мы с братьями и сестрами играли в прятки. Забравшись в спасательную шлюпку, со своей деревянной шпагой, я воображал себя Нельсоном. Я представляю себе даже то, как еду на муле, взбирающемся по склонам Анд по направлению к затерянному городу Мачу-Пикчу.
Короче говоря, Вуд оккупировал меня и прочно во мне обосновался. То, что я выучил по обязанности: даты, места, события, родственные связи, эпизоды, связанные с профессией, – все это стало невероятно реальным. Легче договориться с прошлым, чем с настоящим. Выдуманное, то, что мы с трудом включили в свою жизнь, постепенно с полным правом занимает свое место в нашем существовании.
Удивительно, как много жизни еще остается у покойного Роберта Вуда.
Он проживает ее во мне.
Глава VII
На предпоследнем пороге
СЕНТЯБРЬ 1944 ГОДА
Дни проходят за днями, и это меня тревожит. Из деревянного ящика слышится металлическое тиканье моего хронометра, оно звучит в звездной тишине этого места, этого затерянного края.
Я получаю ежедневную порцию отрешенности, отдаваясь странному ритуалу Танцующих. Неподвижные, торжественные, они похожи на статуи, оживляемые правилами, чуждыми всякому западному представлению о ритме и мелодии.
Я питаюсь сушеным мясом ягненка, инжиром, сыром, козьим молоком. Делаю гимнастику, а затем купаюсь в ледяной воде из каменного источника.
Каждый день я привожу в порядок и чищу какой-нибудь инструмент. Сегодня пришел черед моему пистолету. Я разложил на белой ткани все его составляющие и протер их фланелевой тряпочкой. Каждая деталь совершенна, создана в соответствии с самыми современными нашими технологическими достижениями. В одной из боковых стенок выстроились пули в своих стальных или свинцовых шлемах – крошечное войско, несущее смерть. Одну только смерть. Я собрал все детали, и пистолет снова обрел свою странную привлекательность – сочетание технического совершенства и смертельной мощи. На белом холсте его вороненая сталь кажется мне идеальным символом всей техники нашего человека, гегелевского «человека Духа».
В этих краях власть оружия сомнительна, ей многое препятствует. Чего бы я добился здесь с помощью пистолета? Смог бы я к чему-то принудить Просветленного? Сумел бы преодолеть ворота Агарты, приставив холодное дуло к затылку Ли Лизанга?
Здесь этот предмет выглядит ненужным, почти неприличным. Я кладу его в кобуру и прячу в куртке.
Он скорее напоминает семейную реликвию. Я предчувствую, что мне придется употребить его смертельный заряд против кого-то, может быть против себя самого.
Термальные источники расположены в вулканических пещерах над Храмом Танцующих. В длинных галереях множество известняков и сталактитов. В каменном лабиринте, ведущем в самую глубину горы, образовалась цепочка естественных бассейнов.
Я начал бывать там три дня назад. В узких местах горячая сернистая вода образует настоящие потоки.
Устраиваюсь и подставляю тело благотворному массажу. Я несколько раз прокричал: «Вальтер, Вальтер», и услышал эхо, его звук словно падал в далекую бездонную пропасть.
Все это меня успокаивает, скрадывая напряженное ожидание.
Я обнаружил под водой валун, который использую как диван. Это позволяет мне вытянуться под струями воды во весь рост. Я могу даже задремать, ухватившись рукой за углубление в камне.
Я думаю, причина моего нервного истощения в неопределенности и долгом ожидании, в страхе перед необъяснимым.
Я наслаждаюсь массирующим теплым течением. Мои мышцы размягчаются, становятся безвольными, как водоросли.
Я вижу своих товарищей, погибших в Африке, похороненных в песках вместе со своими наградами. Курт, Шустер, Николай, Шелер. Самое ужасное впечатление производят те, что лежат с открытыми глазами, недвижимые подо льдом, у Сталинграда и на равнинах Ладожского озера. Мой дорогой Магольд, Йохин, Мартин Бульман, Отто Шлаувиц. Под стеклом. «Лед никогда не сможет одолеть дух огня, солнечный порыв», – говорил профессор Хильшер на своих лекциях… Я вижу их лица ясным весенним утром в Берлине, когда мы только начинали дело Возрождения. Кто еще остался в живых? Я вижу их всех в своих воспоминаниях, некоторые уже стали призраками.
Другим достался еще худший удел. Они стали ангелами-истребителями, навсегда попав в липкие объятия смерти.
Так случилось с Грибеном. Я помню, как мы вместе ехали в поезде из нашей родной Швабии, чтобы поступить на армейскую службу. Когда я уезжал, он был начальником Аушвица, самого крупного секретного лагеря смерти. Он сказал, что ему удалось довести количество сжигаемых до восьми тысяч в день. «Печи нас подводят. Они не справляются. Они слишком малы и плохо спроектированы». Его лицо было выедено смертью. Он пожал мне руку при входе в Тиргартен, где его дети играли под присмотром безукоризненной, чистенькой бонны.
Я знаю, что в то время у Грибена была чудовищная, садистская любовь с еврейкой, заключенной лагеря, без которой он не мог обойтись. Я знаю, что он отказался уволиться в запас. Он живет, как в огне, мучается, не в силах преодолеть свою зависимость от еврейки. Они любят друг друга, чувствуя себя предателями, вдыхая едкий дым крематориев, работающих днем и ночью, ненавидя самих себя.
Среди чудовищных дел, вершимых во имя Возрождения, мне выпал не самый тяжелый удел.
(Должен признаться, что, когда я подумал о Грибене, меня на мгновение охватила паника. Что-то вроде головокружения, как будто в моем сознании промелькнула мысль о возможности ужасной ошибки.)
6 СЕНТЯБРЯ
Я буду помнить, о чем подумал, когда возвращался из термальных бассейнов: мне на долю выпала пустыня, тишина, лес символов. Это мое поле битвы.
Не позволять себе ни малейшей слабости. Я должен ждать своего часа, как единственный солдат в окопе посреди ледяной пустыни. Таково положение вещей.
Естественно, у меня могут начаться всплески депрессии. Наш мир, наша титаническая борьба за создание Третьего рейха, кажется мне далекой и даже бессмысленной. (Далекая Европа, похожая на неистовое животное, распластанная на краю карты, которую я видел в монастыре в Тателанге…)
Я, наверное, провел больше двух часов в сернистых водах потока. Я подумал: какие книги я мог бы предложить Просветленному или Ли Лизангу, одному из верховных священнослужителей даосизма, если бы они попросили меня об этом? Ницше? Шопенгауэра? Недалеких англосаксонских прагматиков, которые пишут, чтобы оправдать лавочников, торгующих по всему миру?
Какую культуру? Бетховена с его истерическими терзаниями? Нашего Вагнера?
Эта культура надломлена. Академики призывают тени потерянного величия, начиная с греков и мощной римской цивилизации. Истерическая культура, культура мертвых мифов.
Я подумал, что предложил бы им свою книгу, стихи Гёльдерлина. Единственную, которую взял с собой Роберт Вуд, двуязычное издание, чтобы не вызывать подозрений. Мне пришлось бы объяснить им: это голос тоски по утраченным богам, по солнечной власти, которую лишь мы одни, национал-социалисты, сумеем возродить.
Остальные книги, вся наша знаменитая Культура – не более чем вопли неуравновешенных проституток и торгашеских сынков, выгнанных из родительского дома.
Я прервал свои размышления, с удовольствием задремав в источнике. Меня разбудили певучие голоса. Среди облаков сернистого пара я разглядел белые лица четырех танцовщиц, которые наверняка не заметили моего присутствия.
Четыре лица-маски плыли по воде, как те тыквы с молитвенными свечами, которые мы с Кэтти Кауфман видели ночью над Гангом.
За белизной свинцовых белил их подвижные глаза блестят, как огоньки.
Послышался смех. Наверняка они заметили меня. Они нырнули ловко, как лягушки, и поплыли к другому бассейну, пробираясь по переходам лабиринта. Я слышу их голоса уже вдалеке, как певучее эхо.
Записывая дату, я собрался было отметить, что сегодня понедельник. Это здесь лишено всякого смысла. Я знаю, что воскресенья не было, не будет и вторника. Весь жизненный уклад рушится, когда значение слова «понедельник» становится непонятным.
Здесь царит непрерывная целостность. Я погружаюсь в иное время, в иное измерение.
Я заготовил таблицу с днями и часами. Так я сопротивляюсь простому существованию, вселенскому времени, в котором живут эти непостижимые люди.
Закончив чертить таблицу, я заметил, что получается решетка. Это попытка запереть время в тюрьме, управлять его течением с помощью шлюзов и каналов.
Воображаемая уловка бедного западного человека.
Потом я перечитал статью Роберта Вуда в старом номере «Нэшнл джеографик». Там есть его маленькая фотография рядом с археологом Хирамом Бингемом. Она сделана в 1922 году, в месте, называемом Мачу-Пикчу, в затерянном священном городе Анд.
Вуд рассуждает об оледенениях, произошедших тринадцать тысяч лет назад, и о передвижениях народов Центральной Азии в поисках «колыбели Солнца». Они преодолели Берингов пролив. Вуд утверждает, что с ними были хранители мудрости евразийских народов. Они воссоздали центры, где суждено было зародиться доколумбовым цивилизациям: Теотиуакан, Тиауанако.
Почему Вуд держал в тайне свои исследования в этой части Азии? Даже люди из Аненэрбе не узнали о них, хотя Роберт Вуд был у них в руках. Почему?
Лицо Вуда, улыбающегося на фоне храмовых развалин, сейчас разлагается под слоем цемента на кладбище в Шпандау. Мне представляются его золотистые волосы и гниющее лицо, изуродованное нашими пулями. Моими пулями. Полковник Вольфрам Зиверс сказал мне: «Составьте приказ о расстреле и зашифруйте его методом ОВЦ».
Теперь я – единственная жизнь, оставшаяся у Вуда. Та, которой живет его палач, подобно тибетской тулпе похитивший у него жизнь.
Как уже бывало не раз, мои мысли блуждают по жизни Вуда, многие подробности которой я заучил наизусть.
У него были добрые отношения с отцом. Они по-настоящему дружили. Я много раз думал об этом. Вуд не возражал против преемственности в мире. Ему не пришлось брать на себя роль Каина. Не пришлось класть на стол в отцовском доме фуражку со значком СС. Похожая на паука свастика на безупречно чистой скатерти, постеленной для воскресного обеда.
Сегодня, следуя тому, что запланировал в своем календаре, я отправился к термальным водам.
Снова появились Танцующие (я не хочу называть их танцовщицами). Они ведут себя как обычно. Иногда они погружаются в воду и скользят по проходам, соединяющим вереницу бассейнов. Я заметил, что их накрашенные лица не боятся воды, они выныривают, как были. Это какой-то жирный и устойчивый крем.
Я, как обычно, принялся плавать, несколько раз пересекая бассейн в самом широком месте. Плывя на спине, я столкнулся с одной из девушек. Та испугалась и удивленно посмотрела на меня. За белилами и нарисованными линиями я поймал ее тихий, сияющий, твердый взгляд, как у птицы. Я встал на дно и обнял ее. Я попытался ее поцеловать и почти насильно добился своего. Я постарался прижать свои губы к ее губам. Несколько секунд она сопротивлялась, но потом перехватила инициативу. Она с силой и агрессивной решимостью обхватила меня ногами за талию. Когда я сдвинулся с места, чтобы разобраться в ситуации, попытался опереться на край бассейна, она выскользнула ловко, как рыбка, и скрылась в глубоком лабиринте, наверняка в направлении узких бассейнов при входе в пещеру.
Мне стыдно об этом писать. Я едва не совершил глупость (а возможно, и нанес оскорбление), подобную приключению с Кэтти Кауфман, из-за которого я чуть не погиб.
Меня беспокоит, что я не сумел сдержать свой порыв. Это еще одно тревожное свидетельство внутренней слабости. «Тело подобно голодной собаке».
Явился с провизией монах-прислужник. С трудом объясняясь, он сумел передать мне, что я не должен приближаться к храмовому кварталу.
Я стал наблюдать в бинокль и ближе к вечеру увидел ни на что больше не похожие плащи сармунгов, подъезжавших к деревянному мосту. Виднелось множество мулов и верблюдов. Люди что-то сгружали на носилки, наверняка продукты. Чуть поодаль стоял китайский офицер, он ждал, когда закончится разгрузка. У него на груди перекрещивались два патронташа. Я оперся биноклем о ветку, чтобы видеть четче. Военный сел на один из мешков, кажется, с сахаром, и я смог разглядеть значок на его фуражке: это была красная звезда Яньаньской армии.
То были повстанцы Мао и маршал Чу Тех. Эти люди живут в пещерах, вырытых в горах, и десятилетиями сражаются, веря, что смогут дать свободу народу курильщиков опиума, развращенному британской гадиной.
Я отдаю себе отчет в своем смятении. Это чувство с каждым днем шаг за шагом приближает мое поражение.
Когда я увидел, что Ли Лизанг направился осматривать шлюзы главного канала, я бросился за ним вниз по холму. Он смотрит на меня с удивлением. Я стараюсь скрыть гнетущее меня беспокойство.
Я здесь единственный, у кого сохранилось понятие и чувство проходящего времени. Ли живет вне времени, да и сам он кажется человеком без возраста, вне эпохи.
Я попытался что-то пробормотать, спросить, что происходит в мире. Ли смотрит на меня. Здесь нет другого пространства помимо триады китайских мистиков: Земля-человек-божество.
Я почувствовал себя ужасно неловко, словно выдавший себя невежа.
Я дерзнул произнести имя Гомчена Ринпоче, Ли Лизанг ответил мне, словно в полусне:
– Для Просветленных, для тулку, нет ни смерти, ни времени. Потому что тот, кто не считает, не взвешивает, не измеряет, уже пребывает на пологом холме небытия. Кто в силах рассуждать о смерти или жизни? – Он говорит размеренно, монотонно. – Пребываем ли мы в бытии? Живем ли мы? Умираем ли?
Он говорит, что тулку способны поглощать память других посвященных. Они несут в себе опыт и мудрость Просветленных, которые им предшествовали.
Еще он говорит, что они проникают в затаенную память крови. Говорит, что все мы – результат длинной цепи жизней, наши клетки и гены несут в себе коды существ, которые были до нас. Тулку могут погружаться в это прошлое. В генетический коридор.
– О, они странствуют по невероятным местам, господин Вернер. И порой уже не возвращаются… В разных областях материи, Вселенной или в самой сокровенной части мироздания…
Я возвращаюсь выбитый из колеи и с ощущением, что выглядел как дурак.
Вчера вечером после скудного ужина я уснул. Кажется, даже безмятежно. Но в какой-то момент почувствовал, что рядом кто-то есть или кто-то меня разбудил. Высоко в синем ночном небе стояла луна. Мне не пришлось доставать фонарик. Изящный силуэт танцовщицы, стоящей на помосте, вырисовывался очень ясно. Я был уверен, что она улыбалась в темноте. Она медленно, грациозно раздевалась.
Меня охватил необъяснимый страх, который в какой-то момент взял верх над сексуальным влечением. Должно быть, белое лицо, покрытое известковым кремом, показалось мне маской смерти. Правда, чувство это быстро прошло.
Она встала на колени подле меня, на циновке, и начала расплетать косу. Ее волосы, черные и блестящие, бурным потоком разметались по телу.
Я заговорил, но она не ответила. Я обнял ее и, прижавшись лицом к ее плечу, уловил аромат растительных благовоний.
Ни разу за всю эту яркую, неожиданную и безумно возбуждающую эротическую встречу я не произнес ни слова. Я только слушал ее любовные стоны, в которых угадывалось что-то извращенное, потому что они казались детскими и к тому же выдавали, что она только делает вид, что отвергает мои домогательства. Все было необычайно ярко.
Так продолжалось почти до самого рассвета. Меня охватила непреодолимая истома, я словно забыл о своих тревогах. И уснул.
Наверное, именно тогда она оделась.
Я проснулся уже утром. На циновке, к моему стыду, виднелись пятна крови. Я незаметно пробрался к каменной лохани и принялся отмывать циновку песком и мылом, которого у меня оставалось всего несколько кусков.
Я не сомневаюсь, что это была та самая девушка из термального источника.
Моя моральная неустойчивость меня пугает.
Вчера вечером она вернулась. Я попытался заговорить с ней по-китайски, потом несколько слов по-монгольски, по-английски, по-немецки. Она невозмутимо хранит молчание.
Она смеется. Потом, во время любви, стонет и делает вид, что плачет. Она возбуждает меня, и я с неистовством набрасываюсь на нее, словно пытаясь окончательно сломить ее отрешенность.
В тишине синей ночи, когда огромная луна катится по небу, мы схватились, сплелись, как клубок охваченных яростью животных, борющихся за жизнь.
От нее пахнет морем, словно это морская улитка, которая неизвестно как оказалась посреди Гоби, этого испарившегося, сожженного моря. Я не пытался общаться с ней иначе, как через прикосновения к коже. Ее язык стонов и возгласов – единственный ответ на мои слова, которые повисают в воздухе, еще более бессмысленные, чем когда-либо.
Наша чувственность постепенно обретает новое измерение. Открываются новые тропы, о которых я не подозревал. Раньше у меня все завершалось всегда одинаково, с одной и той же интенсивностью.
С танцовщицей не действует представление об однообразии и «линейности» любви, идущей от возбуждения к кульминации.
Она увлекает меня по незнакомым тропам, чертит прихотливые узоры. Странствие уводит нас далеко от всякой обыденности.
В момент соития напряжение уходит из моего тела и я погружаюсь в поток времени, которое невозможно измерить.
Танцовщица всегда уходит, когда я засыпаю.
Ее не было две ночи, но вчера она пришла. Она натерла мне поясницу какой-то мазью. Она удивительно искусна в ласках, которые превращаются у нее в массаж. Вот она кое-где касается моих позвонков большими пальцами. Я чувствую, как теплая волна окатывает позвоночник и спускается по костям до самых пяток. Кажется, словно она разлила внутри меня теплый бальзам, животворящую влагу.
– Это спинной мозг тигра. Ты станешь тигром, – сказала она по-китайски.
Это были первые слова, которые я от нее услышал. Она рассмеялась, но вскоре притихла и посерьезнела, вновь охваченная желанием.
– Кундалини, – сказала она. – Дремлющая змея.
– Скажи, как тебя зовут, – произнес я.
Но она уже начала ласкать меня губами. Она находит самые неожиданные уголки моего тела. И, насколько возможно, оттягивает мой страстный, предсказуемый ответ.
Она целует меня своим цветком. Она владеет его губами не хуже, чем руками или ртом. Так она целует меня в затылок, в уши и наконец находит мой рот, и мы сливаемся в долгом судорожном объятии.
Она избегает взгляда и слов. Мы все выражаем только телом.
– Кундалини, – повторяет она. Но в ответ на мои расспросы продолжает молчать.
Я взял ее лицо и попытался приблизить фонарик, но она одним ударом сбросила его с помоста. Мне отдаются только ее губы. Ее лицо всегда покрыто белой мазью, и она не позволяет мне прикасаться к нему.
Я записываю слова Ли Лизанга, сказанные во время разговора о Танцующих:
«Тулпа – существо, созданное чьим-то психическим усилием. Кто-то создает ее или управляет ею. Чаще всего случается, что люди вдыхают их, и те вытесняют их из тела. В Тибете вы наверняка слышали о тулпах, господин Вуд…»
«Создатель тулпы может потерять контроль над ней. Не удивляйтесь, все так называемое «образование», которое так ценят люди в ваших странах, – не более чем дело рук тулп».
«Знаменитые проститутки часто отправлялись на поиски мест, подобных этому. Они устраивали дорогие паломничества, взяв с собой всю свою роскошь, своих управляющих и служанок. Эти женщины обладали большой властью, были связаны с могущественнейшими в Азии кланами. Они приезжали, уже затронутые страхом перед болезнями, старостью, смертью. Они поглощали силу янь, высасывая ее из своих любовников».
«Кхадомы[103] странствуют по разным мирам. Это очень хрупкие существа, воплощение женственности. Они пролетают сквозь так называемую реальность, как бабочки, и на крыльях у них таинственные знаки. Они зажигают то единственное, что нужно поддерживать в себе, если выбираешь жизнь, – любовь. Кхадомы…»
Сейчас мне кажется, что все в мире крутится вокруг моих чувственных странствий с удивительной ночной возлюбленной.
Три ночи подряд я прождал ее, время от времени засыпая. Мне снились только эротические сны.
После обеда я отправился смотреть на церемонию Танцующих, но медлительность их движений и размеренная музыка вывели меня из себя, хотя раньше завораживали.
Я подумал, что одно из этих хрупких тел, которые сейчас двигались так одинаково и чинно, было причиной охватившего меня любовного безумия. Но с этими масками и в одинаковой одежде их невозможно было различить.
Но когда я уже совсем отчаялся, она вернулась. Мне показалось, я услышал шепот, будто кто-то о чем-то спорил, понизив голос, возле каменного пруда. Я сделал вид, что сплю, и она разделась у моей циновки.
Ее жаркие, напряженные бедра и лобок едва касались моей спины. Ее тепло и аромат окутывали меня. Все случилось еще один раз.
Меня охватило желание, неистовое, почти несдерживаемое. Обняв ее, я испытал огромное наслаждение. Я вообразил, что она тоже соскучилась за три дня разлуки. Ее вздохи показались мне глубокими, страстными и отчаянными. Мне показалось, что рядом есть кто-то еще. Я обернулся и увидел в дверях силуэт другой танцовщицы.
– Если ты согреваешь мою сестру, сможешь согреть и меня, – ясно произнесла она по-английски. Тогда я подумал, что они бирманки.
Но моя возлюбленная издала возглас, полный гнева и удивления, и одним прыжком соскочила с помоста, кое-как прикрываясь одеждой.
Гостья не уходила. Сейчас, когда я пишу об этом, мне кажется, что голос ее звучал твердо, как будто взрослее, словно она была наделена властью. Говорили они, судя по всему, по-тайски.
Послышался сердитый шепот, и моя сообщница (как еще я могу назвать ее?) разрыдалась. Она быстро надела длинное шелковое платье, застегнула сандалии и обняла гостью, не переставая плакать. Так они ушли, перешептываясь и обмениваясь сердитыми возгласами. Я видел, как они удалялись по тропе вдоль канала.
Я не знал, что делать. Меня охватило какое-то странное уныние. Я был не в силах пошевелиться. Я понимал, что все это ни к чему, что здесь есть что-то губительное или запретное. В любом случае это тайное ночное приключение не сулит мне ничего, кроме опасностей и бед.
Я стал пленником чувственности, которая оказалась сильнее, чем я мог предположить. Оборвалось мое странствие, постепенное молчаливое узнавание. Я знаю, что нелегко будет снова привыкнуть к одиночеству.
Это никак нельзя назвать словом «любовь».
Все это выглядит почти смехотворно, но отрешиться мне не удается.
18 СЕНТЯБРЯ
Дата на чистом листе вызывает у меня ощущение неловкости. Это свидетельство напрасно потраченного времени. Времени, проведенного в сомнительном ожидании в этой печальной местности, на пороге последнего этапа.
«Три месяца ждал генерал Хаусхофер ламу Гомчена Ринпоче в Киотском храме в 1904 году», – сказал мне профессор Хильшер во время нашей последней встречи в Берлине. А теперь и слово «Берлин» звучит для меня как нечто далекое. Весь тот мир кажется принадлежащим четвертому или пятому, измерению. Нереальность, безвременье, антивремя или надвременность этого мира, затерянного на окраине, в конце концов подействовали на меня.
Ближе к вечеру меня охватывает невыносимое уныние.
Мне бы так хотелось, чтобы вернулась моя сладостная тулпа. Мне не хватает ее игр, в которых мои кажущиеся победы и обладание всегда оказываются лишь этапами нескончаемого пути.
В своей последней игре моя танцовщица научила меня сдерживать оргазм. Она все объяснила жестами, не прибегая к словам. Потом она повела меня от кажущегося разочарования к странному ощущению, удивительному состоянию, которое она усилила, массируя мне определенные точки на позвоночнике.
Ее игры несут в себе неведомую мне мудрость. Тело, аромат кожи и дыхание цветка делают ее невыразимо привлекательной. Мы привыкли видеть в сексе потребление и ждем кульминации, а моя возлюбленная, судя по всему, видит в нем путь постоянного восхождения.
Ночью она вернулась.
Она подарила мне недвусмысленное, нескончаемое объятие. Мы продолжали быть вместе уже за пределами оргазма. Я дышал ее дыханием. Мой воздух был ее воздухом, мой член – ее членом, а я был ее женщиной.
Тогда я понял, что оргазм, эта «высшая цель», эта вершина эротических достижений, – не более чем граница. Одним словом, оргазм – это то же время. Те же наши часы. Это еще одно звено в цепи тюремных камер, воздвигнутых нашей Великой Культурой.
Наслаждение было очень острым. Я почувствовал, как во мне поднимается неудержимая волна благодарности к ней, но не знал, как ее выразить. Потом я уснул, умиротворенный, омытый ее любовной росой. Я ощутил бесконечную безмятежность, как будто впервые в жизни, которую понимал как движение, героическое, воинственное, я провалился в складку времени. Материнского времени, изначального, вселенского, неделимого. Как будто бытие и действие слились воедино в пребывании. Просто пребывать в мире, избегая вреда и боли. То, на что никогда не будет способен наш грозный «Запад».
Меня разбудили голоса, они спорили горячим шепотом, как накануне. Гостья вернулась. Моя возлюбленная едва сдерживала слезы.
Мне показалось, я разобрал фразу гостьи, которую можно было бы перевести так: «Если ты не пойдешь, я остаюсь».
Я постарался сделать вид, что крепко сплю. Рядом с нами заскрипел помост: гостья укладывалась, накрываясь нашей простыней из льняных волокон.
Я никак не мог уснуть, тело захватчицы влекло меня. Она дышала глубоко, словно уже собираясь заснуть, но потом повернулась, и я почувствовал, как ее бедро коснулось моего.
Я медленно высвободился из объятий своей возлюбленной, которая, казалось, спала, и стал поворачиваться, пока не оказался лицом к лицу с вторгшейся к нам кхадомой.
Мы обнялись и соединились, испытав наслаждение, свойственное всему запретному и опасному. К уже пережитому возбуждению прибавилось новое. Я почувствовал, что для захватчицы во всем этом есть привкус мести. Мы сдерживали дыхание. Казалось, наше извращенное удовольствие вот-вот вырвется наружу, разорвав купол навязанной нам тишины.
Моя возлюбленная вскочила в бешенстве. В полутьме сияли гневом ее глаза, мокрые от слез. Женщины принялись выкрикивать друг другу оскорбления и покатились, сцепившись, как два бойцовых петуха. Захватчица, на несколько лет старше своей соперницы, была сильнее и решительнее, она царапалась острыми ногтями, и на белом лице и шее моей подруги появились две или три кровавые полоски.
Этот скандал напугал меня. Нежные и хрупкие танцовщицы могли оказаться и оказались теперь двумя шанхайскими проститутками, дерущимися из-за сутенера или в драке прикрывающими лесбийское влечение.
Я вмешался и оттащил более слабую, которая пыталась укусить меня за руку. Обнаженная гостья смеялась, встав коленями на циновку.
Ярость моей возлюбленной перешла в любовные стоны, и я лег на нее. Она обняла меня с такой же силой, с какой только что выражала свою ненависть. Гостья подобралась к нам, как кошка, и принялась слизывать кровь с царапин своей подруги-врагини.
Должен признать, что все это постыдно. Но я не в силах противиться чарам этих тулп, которые завладели моим временем. Это похоже на сцены театра Кабуки с обнаженными актерами, играющими в полутьме при свете масляной лампы.
Три ночи они не приходили, а потом вернулись, когда я уже уснул.
Избегая насилия и треволнений, мы затеяли игру втроем. Они зажгли палочки, пахнущие индийскими благовониями.
Старшая, «гостья», села на циновку, сдвинув бедра, и белым костяным гребнем принялась расчесывать волосы себе и моей возлюбленной. Она принесла с собой термос и, словно исполняя некий ритуал, наполнила три керамические чашки, которые мы осушили. В течение долгой ночи она несколько раз повторила эту церемонию.
Началось удивительное путешествие. Они умело дозировали ласки. Это была цепочка вечно меняющихся ритмов и схождений. Обезумев от наслаждения, мы катались, обнявшись, под теплым покровом звездной ночи.
Старшая кхадома, «захватчица», верховодила, но в свой черед и она оказывалась поверженной, покоренная моей мужской властью и любовным пылом, слившимися воедино. Мы по очереди становились то победителями, то побежденными. Побежденный наслаждается попеременно (я бы сказал, диалектически), то беря верх, то полностью отдаваясь на волю двух других тел. В это время происходит нечто, напоминающее жертвоприношение Тшед, которое я наблюдал в монастыре Мендонг-Гомпа. Здесь есть доля каннибализма и саморазрушения, но завершается все экстазом, финальным освобождением.
Всякий раз, когда буря чувственности стихает, жрица садится на коленях на циновку и принимается расчесывать свои прямые черные волосы. Хотя она ни разу не ответила на мои англоязычные вопросы, как будто слова несут опасность для наших игр, я не сомневаюсь в ее бирманском происхождении. Она разливает ритуальный чай, горячий и очень ароматный.
Они вдвоем своими мудрыми движениями массировали мне спину. Я уснул как обычно. Но не смог проснуться, чтобы возобновить игру. Сейчас, когда я пишу о вчерашних событиях, мне кажется, они сделали так, чтобы сон и бодрствование слились для меня в одно.
Все было очень ярким, невероятным, а порой драматическим. Вместе с Кармен я поднялся по лестнице в гостиничку на Фридрихштрассе. Был тот самый день. После ужина с белым рейнским вином. Моя первая встреча с этой темноволосой женщиной, в которой было что-то цыганское, женщиной, пришедшей из солнечного мира, где правили иные силы. Наши объятия, вкус ее дыхания, ее цветок, ее обнаженные смуглые плечи при свете ночного Берлина. (Не знаю, кого я обнимал тогда на самом деле, или же действительно вновь обрел во сне Кармен Хименес Лорку…) Я вновь пережил, как запоздалое откровение, настоящую любовь, которую испытывал к ней в ту ночь и несколько последующих ночей, когда мы зачали Альберта.
Я не мог позволить себе любить. Меня ждала высшая, неотвратимая миссия. Она не сумела этого понять.
Потом я, кажется, кричал в тоске, и кхадомы окружили меня, согревая удивительным теплом своего тела. Я оказался вместе с Кармен в бургосской гостинице «Кондестабль», где никогда в жизни не был. Обстановку я помню по фотографиям, которые прислали мне агенты нашей внешней разведки. На той самой зловещей кровати я обнимал Кармен. Обнимал ее остывшее тело. Мне казалось, что только ее длинные черные волосы остались живы. И я стал целовать их, объятый тоской. Я прижался к холодным губам на посиневшем лице с полицейского снимка. Я ласкал языком ужасный шрам на шее. Кусал шелковую ленту, врезавшуюся в чудесную кожу. Я попытался войти в ее окоченевшее тело и изо всех сил сжал в объятиях, словно запоздало желая вернуть ей утраченное тепло.
Как будто встав на ее место, я испытал сексуальное наслаждение, которое доставлял ей сам своим членом. А потом, словно прогоняя мои страхи, материнские руки легли мне на лоб, освежая и умиротворяя, как в детстве, когда я болел в далеком Нагольде. Я в слезах поблагодарил за это неожиданное проявление любви. Чистой, давно утраченной материнской любви.
Я не помню, были ли у меня оргазмы. В том долгом странствии, которое я, несмотря на свои ограниченные возможности, пытаюсь описать, не было ни времени, ни кульминаций.
Мне сейчас вспоминаются слова профессора Хильшера: «Сексуальность для них не сводится к размножению или наслаждению. Они умеют направлять ее к центральным областям бытия. Они верят или знают, что с помощью сексуальности можно достичь преображения и привести в действие определенные участки или точки личности, которые они называют чакрами».
Наверняка я кричал, в страхе обливался холодным потом. Были ли они тогда рядом? Я помню лишь охвативший меня невыразимый ужас.
Я не могу долго говорить об этом. Если я и пишу, то только потому, что чувствую здесь нечто, выходящее за рамки моего понимания, ускользающее из-под моего контроля, и это нечто кажется мне более опасной ошибкой, чем история с Кэтти Кауфман.
Кажется, на какое-то мгновение я превратился в Роберта Вуда, но при этом оказался на берегу той самой реки, о которой так скучаю. Это был Некар в самый разгар лета. У нас в Швабии оно не приходит, а разражается, как гроза, принося с собой шмелей, жаркие полдни, запах забродившего сидра. Первый сексуальный опыт Вуд переживает с моей соседкой Карин. Возбуждение и чудо обнаженного тела едва не обрывают удовольствие раньше времени. Вуд приносит клятву, отрезав у Карин золотой локон, и они оба поправляют одежду. Вдали среди платанов виднеется Башня Гёльдерлина, где поэт прожил тридцать четыре года, впав в неизбежное безумие.
Сегодня я внимательно изучил свое отражение в зеркале. Я похудел. Кажется, появились новые морщины, наверняка из-за сухости воздуха.
У меня странное чувство, будто я уже не тот, что был раньше. Я провел три дня, практически не вставая с лежанки. Засыпал я поздно, дожидаясь кхадом, которые не приходили.
Вчера я ходил (это единственное мое занятие) к сернистым источникам и дремал там, среди теплых водных потоков.
Сегодня утром я предпринял несколько слабых попыток призвать себя к дисциплине: я просмотрел бумаги, пролистал карты, вычеркнул три дня в начерченной мною хронологической таблице. Фланелевой тряпочкой натер до блеска секстант. Отметки и точная нумерация на нем могли бы, если бы я того захотел, со всей точностью сказать мне, в какой точке мира я нахожусь. Но я убрал его.
Разум уступает. Моя стальная воля сдает свои позиции. Внутренний голос предостерегает меня. Но мне не хватает силы воли, и я снова вытягиваюсь на циновке и устремляю взгляд в синее небо, где время от времени пролетает какая-нибудь птица из долины.
Сейчас я уже немного успокоился. Но сегодня утром я совершенно вышел из себя. Я не нашел костяной гребень и принялся швырять свои вещи о стены.
К счастью, при виде коробки с хронометром я сдержался.
Собирая разбросанные вещи, я прочел в «Бревиарии», который открылся на этой странице (к сожалению, она разорвалась):
«Агарта влечет и ослепляет. Она становится страстью. Поддавшийся ей почувствует, как его неудержимо влечет к ее центру, словно бабочку – к свету, горящему в ночи. Приближаясь к Агарте, посвященный почувствует, что прежняя жизнь стала для него чужой. Он ощутит ужасные вещи, но это хорошо. Агарта требует перехода в иное измерение».
Эти слова принадлежат Теодориху фон Хагену. Для него другим измерением стало долгое тихое безумие в Ламбахском монастыре, в окружении свастик и милосердных забот благочестивых монахов.
Я не смог уснуть. Я взволнован до предела. В полночь я вышел прогуляться вдоль канала. Удивительные ессеи собрались вместе, наверняка они праздновали что-то, следуя своим таинственным обычаям. Знамя с римским орлом виднелось здесь же, возле стола. Как всегда, во главе стола сидел старик с белыми как лунь волосами.
Им бы и в голову не пришло, что в тот момент, когда они преломляют свой ритуальный хлеб и пьют родниковую воду, со скал на них смотрит эсэсовец. А ведь эсэсовец – возрожденный римлянин.
26 СЕНТЯБРЯ (?)
Только теперь, после нескольких попыток, я сумел взять в руки ручку и начать выводить слова.
Это был кошмарный день.
Я побрился и решил отправиться в дом Танцующих. Судя по яркому солнечному свету было часов десять утра.
На помосте сидели одни монахи, игравшие на своих дамару. Танцующие и странное сооружение, геометрически правильное дерево с шарами из слоновой кости и металлическими пластинками, исчезли.
В эту минуту я потерял всякий контроль над собой. Я кричал как безумный, блуждая среди колонн. Я оскорблял монахов и даже принялся трясти одного из них, схватив за шафрановую тогу. Мне сказали по-китайски, что Танцующие уехали в другой монастырь, где готовятся к приезду Хутукту[104] (это значит Просветленный, чудотворец, посвященный высшего ранга).
Я почувствовал себя жалким, осмеянным, опустошенным, брошенным. Я разбросал несколько барабанов и, кажется, попытался сломать цитру. Два очень худых монаха легко справились со мной. Они прибегли к своим боевым искусствам. Я помню, как летел по воздуху и с грохотом свалился на упругий помост. В них не было ненависти.
Я был без сил. Я понял, что не смогу им противостоять. Сильно кружилась голова, колени дрожали.
Меня охватила невыносимая тоска. Танцующие уехали. Мои молчаливые возлюбленные, желанные кхадомы или тулпы или просто бирманские весталки уехали.
Не знаю, упал ли я там или ушел пошатываясь.
Сейчас я не в силах продолжать писать. Я теряю ясность ума, не могу держать ручку. Отдамся на волю гнетущего бездействия.
Я весь в холодном, липком поту. Меня лихорадит. Только на закате ко мне вернулись сознание и воля. Мое «я» стоит на коленях где-то в дальнем углу этого тела, охваченного дрожью. Я пишу с огромным усилием, но это моя «серебряная нить» – единственное, на чем держится разорвавшаяся связь.
Кажется, в какой-то момент здесь побывал Ли Лизанг с другими монахами. Я будто бы видел их через матовое стекло, не в силах различить черты лица. Они говорили по-монгольски, и звучание этого языка напомнило мне о венгерских офицерах, приезжавших в Берлин учиться на наших курсах.
Молодые монахи поят меня чем-то вроде бульона. Они заставляют меня глотать, потому что я пытаюсь выплюнуть его. Я знаю, меня хотят отравить. И знаю, что они почти победили. Я прячу дневник под циновкой. Слова, которые я способен писать в минуты, когда у меня появляется немного сил, придают мне сознание того, что я продолжаю жить в моем «я» как оберштурмбаннфюрер Вальтер Вернер.
Время ускользнуло от меня. Наверняка я целыми днями пребываю в забытьи. Я не перестаю заводить хронометр, хотя это стоит мне огромных усилий. Из коробки доносится его тиканье. По ночам оно слышно очень отчетливо, словно систола и диастола моего времени. Лихорадка не отпускает меня. (Моя ручка словно весит несколько килограммов.)
Во сне (как я предполагаю) у меня состоялся долгий разговор с Грибеном. Он повторил то, на что успел намекнуть во время нашей случайной встречи в Берлине.
Он командовал «рабочей бригадой», отрядом СС особого назначения. Голос Грибена звенел как сталь, но звучал он, словно на пределе, словно вот-вот превратится в вопли безумного. Это был голос человека у последней черты. Они расстреливали евреев у свежевырытой общей могилы в какой-то части Аушвица, когда к нему подошел солдат с дымящимся автоматом в руках…
«Вас зовут. В той группе евреев говорят, что знают вас. Они знакомы с вами по Нагольду». В сером тумане зимних сумерек белели истощенные обнаженные тела следующей двадцатки, которая уже готовилась спуститься в яму в ожидании смертельной вспышки и упасть на окровавленные тела предшественников, многие из которых еще шевелились. «Тела, похожие на трупы, точно как на картине Лукаса Кранаха, которую мы видели в мюнхенской Старой пинакотеке, помнишь?» «Да, они спрашивают именно полковника Грибена», – настаивал солдат.
Грибен говорит мне: «Ты, конечно, помнишь Левиных! Бабушка Левина всегда бросала нам по конфете, когда мы проходили под ее окном на Банхофштрассе. Дочери (одна работала в галантерейной лавке, другая – в магазине «Кроне») раздевали бабушку. Сами они уже были голые. Пергаментные фигуры в тумане. Они поддерживали парализованную бабушку. Могу тебе сказать, они раздевали ее с любовью. Но позвала меня именно Мика. Мика! Пианистка из нашей компании, та, которая подражала Саре Линдер,[105] и которую я… Конечно же ты помнишь! Ты же помнишь, как мы любили Мику!»
«Солдат смотрел на меня. Меня бросило в жар, я весь покрылся испариной. Мика махала мне рукой и улыбалась! Улыбалась как оскаленный череп. Все они танцевали с нами на ежегодном балу в «Шлоссе». Все мы подходили поздороваться к столу бабушки Левиной, которая знала самого Падеревского![106] Солдат смотрел на меня, ожидая приказа. «Я их не знаю, – сказал я ему. – Не позволяйте себя обманывать, иначе сами окажетесь на дне ямы». Наверное, в такую минуту восприятие обостряется. Мы были в тридцати метрах от нее, но Мика, словно услышав мои слова, повернулась к бабушке и с любовью, очень бережно принялась помогать ей спускаться в кровавую могилу. Вскоре я услышал несущую облегчение смертельную очередь».
Я тщательно записываю все. Это слова Грибена, но я почувствовал нечто ужасное. Это сатори, как здесь называют неожиданное и полное осознание истины. Я осознал банальность зла. Я побывал на месте Грибена и, несмотря на свою слабость, ощутил жар, и капли пота катились у меня по лбу и подмышкам. Это был его пот в тот момент, когда он увидел, как всеми уважаемые фрау Левины, обнаженные, в молчании готовятся к унизительной смерти, которую придумали для них мы.
Банальность зла предстала передо мной во всей своей силе. Все, что было с нами, оказалось не более чем дурацкой историей. Скандал, устроенный пьяным идиотом, который вытаптывает сад, выкрикивая слово «Возрождение»!
Кажется, здесь стало очень холодно, и молодые монахи из милосердия разводят огонь в железной печке.
Я целые часы провожу то в Нагольде, то в Аберпорте. Говорю по-английски с собственным отцом.
Я знаю, что брежу. Иногда у меня бывают минуты просветления, и тогда мне удается что-то записывать.
По-моему, у меня выпали волосы.
Меня убивают с восточным изяществом. (Я пытаюсь спрятать то, что они заставляют меня жевать. Но они насильно вливают в меня бульон, пахнущий жиром ягненка.)
Я медленно пью воду из термоса. Она уж точно чистая. Я стараюсь держаться. Сейчас утро. Вчера был решающий день для моей миссии. Приходил Просветленный, тулку Гомчен Ринпоче.
Я очнулся от забытья, потому что почувствовал, что рядом с моим помостом, перед дверью, кто-то есть.
Его величие подсказало мне, кто это. Он молчал. Казалось, он терпеливо дожидается, когда я очнусь.
Насколько я помню, он говорил едва слышным голосом, на чистом немецком языке.
– Вы должны вернуться. Вы должны уйти. Вы должны вернуться к руинам, которых заслуживаете. Ваша страна проиграла, там только руины, огонь и смерть. Уходите.
Кажется, я пробормотал имя Агарты и попытался сказать что-то о высших силах. Кажется, я смог заговорить, но не услышал собственного голоса. Нечто похожее произошло во время моей первой встречи с Просветленным, сразу по приезде в монастырь.
Я попробовал приподняться, но сил было мало. Мне не хотелось смотреть в упор на этого человека. Его лицо, само его присутствие были для меня упреком.
– В этой войне потерпели поражение все твои народы. Колесо времени повернулось, но в другую сторону. Это начало конца тех, кто пытался присвоить себе все. Кто все хватал, все измерял, изменял. Конец разрушителей мира. Вам не принадлежит ничего из того, что вы захватили: вы проходите, лишенные бытия, как лебедь, который пролетает над озером, не замочив перьев. Вы так свято верите в смерть, что в конце концов обретаете лишь ее. Это конец для всех твоих народов. Ты со своим чрезмерным янем[107] – воплощение всех этих людей. Ты – воплощенное поражение тех, кто унижал Восток. Да, колесо времени повернулось, но в другую сторону.
Он поражал своим величием, несмотря на хрупкость. Это был не просто старец, облаченный в шелковую тунику, с морщинистой кожей, похожей на сухой пергамент.
Я уверен, это был не сон. Несмотря на то, что Гомчен Ринпоче будто излучал некое сияние, волны света.
– Поднимаются народы, долго ждавшие своего часа. И прежде всего Китай.
Я попытался настоять на своем. Пробормотал что-то о высших силах, о своей миссии достичь Агарты. Мой голос звучал слабо, издалека. И, может быть, напрасно, ведь Просветленный словно уже побывал в моих мыслях и намерениях. Я сказал ему что-то о кольце Великого Хана.
– Твой вождь горит в огне. Все кончено. Твой город сровняли с землей. Твои товарищи умирают, окруженные сталью и пламенем. Ваша страсть мертва.
Я сказал или спросил что-то о профессоре Карле Хаусхофере и команде людей, пустившихся на поиски тайных сил.
– Твой учитель сделал себе харакири, следуя обычаю японских самураев. Он вспорол себе живот острым кинжалом с бамбуковой рукоятью…
Мне нанесли глубокую рану. В маленьком зеркале я вижу состарившееся жалкое подобие самого себя.
Они думают, что сумели обмануть меня. Думают, что я потерял дар речи, сошел с ума.
Теодорих фон Хаген писал о «последней напасти на пороге безумия, в преддверии Агарты».
Я крепко держусь за свое время и пространство, хронометр и секстант.
Я должен быть хитрее. Они наводнили мое сознание видениями. Я изможден, но еще не потерял себя, и я воспряну, ловко и незаметно, подобно рыбе, ускользающей из сетей, расставленных в водном потоке.
Снова я трясусь в лихорадке. Приходится отложить ручку и закутаться в плащ, подаренный сармун-гами. Я знаю, что, пережив первые приступы дрожи, начну плакать и стонать, тоскуя по кхадомам (чудные дьяволицы, воображающие, что высосали из меня душу). Я дрожу из-за яда, который здесь выдают за чай. Мне видится чашка между совершенных колен моего гостя.
В глубине моего разбитого тела, как зародыш, бьется мое истинное «я». Поэтому я знаю, что победа останется за мной.
А они воображают, что погубили меня своими наркотиками.
Глава VIII
На штурм тайны
Мчится буран,
и бесятся вихри;
это предвестья
кончины богов.
Прорицание Вельвы[108]
1 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА
На чистых листах дневника я решил возобновить календарь, выбрав среди нетронутых дат апрель, месяц, который мне особенно дорог. Весна на Некаре, прозрачный утренний воздух. Я предполагаю, что сейчас 1945 год, то есть на самом деле год Петуха Джи.
Это мой собственный, личный календарь, но сознание того, что я создал эту систему отсчета времени, меня успокаивает.
«Серебряная нить «выдержала. Я не утратил связи со своим глубинным «я», со своим самосознанием, со своей миссией. Я даже позволяю себе притворяться, что слабее, чем на самом деле. У меня есть план.
Недавно я смотрел на себя в зеркало. Мне было непросто подняться с лежанки. Лихорадка истощила, изъела меня.
В задних комнатах дома я занялся дыхательной гимнастикой. Сперва упражнения давались мне невероятно тяжело. Но потом я не только стал ходить, а даже пробежался до фиговых деревьев. Я постарался сам приготовить себе еду. В дальнем канале я поймал несколько доверчивых лососей, загородив им выход камнями. Это было нетрудно. Я медленно, очень медленно съел их благородное мясо. Оставшееся я спрятал, чтобы засушить и приготовить муку, которая мне очень скоро понадобится. Я должен помешать им отравить меня.
Я добрался до канала и вытянулся на мхах, пытаясь найти грибы, но уснул, охваченный усталостью. Там меня и нашел Ли Лизанг, который, к счастью, вообразил, что я чувствую себя хуже, чем на самом деле. Он приказал послушнику, несшему корзину, поднять меня.
Тогда-то Ли Лизанг и сказал мне:
– По краю Турфанской котловины проехали какие-то путешественники. Их видели сармунги, которые приезжали вчера. Они двигались на Восток. По дороге сармунги встретили яньаньский патруль, они тоже заметили путников.
Я уверен, что Ли Лизанг именно так и сказал. Это надо записать. Я почти уверен, что он сказал это как ни в чем не бывало. Это Вуд.
Да. Это могут быть только те, в кого я стрелял на леднике. Это мой двойник. В Аненэрбе я узнал, что разведчики называют двойником человека, которого засылают в зону действия другого агента под тем же именем и в том же обличье, чтобы спутать его шаги, выяснить его намерения и раскрыть вспомогательную агентурную сеть.
Да, проклятые англичане заслали двойника, и, возможно, он добрался до Тателанга.
Это может быть и еще одна уловка тех, кто хочет свести меня с ума.
Но меня уже ничто не тревожит. Все это кажется мне смехотворным. Ребяческим. Ничто не может остановить меня. Я должен крепко держаться своих убеждений, своей миссии!
Нет. Я не сошел с ума.
Только когда я пишу, я выхожу на затуманенную тропинку своего разума. Мое глубинное «я» сопротивляется. Я все еще существую. Нет у бытия иного зеркала, кроме слова, кроме письма.
Порой мною овладевает непреодолимое желание вновь увидеть кхадом. Даже если они принесут смерть!
2 АПРЕЛЯ
В нагольдском квартале, спускающемся к реке, пахнет вином. Неужели это сидр? В апреле, так рано?
С какой стати англичане стали бы бездействовать? Порой, как в тумане, я снова и снова переламываю хребет полковнику Декстеру. Роберта Вуда вывели во двор Шпандау. Он оцепенел, глядя на выстроившийся для расстрела отряд. «Игра по правилам» кончена. Я могу очень живо представить себе иронию в последнем взгляде капитана СС, когда тот приказывает отряду выстроиться. Меня расстреливают.
Я чувствую, как ко мне возвращаются силы. Я доедаю лосося. Я прячусь от ессеев, которые вечером спускаются к источнику, чтобы исполнить какой-то ритуал. Их волнует только мудрость и пресная вечность. Ублюдочная страсть, одним словом.
Я не позволю заманить себя в метафизические ловушки.
14 АПРЕЛЯ
Я зачеркнул два дня в календаре. Не уверен, что не пропустил ни одного. Стараюсь ставить пометку сразу же, как только вижу утреннюю зарю. Но если засыпаю снова, то запутываюсь: мне начинает казаться, что день уже прошел.
Я с трудом расстегнул пояс, в котором спрятаны золотые монеты. У меня оказалась невероятная для этих мест сумма – примерно тысяча фунтов стерлингов.
Я терпеливо выжидал две недели, набираясь сил с помощью упражнений и еды. Позавчера наконец пришли погонщики. Они оставили животных в хлеву у моста. Мне повезло – сейчас новолуние.
Ночью я пробрался к хлеву мимо источника ессе-ев. Я разглядел двух-трех лошадей, на которых приехали красные солдаты, пригнавшие караван с грузом на следующие полгода.
Я загнал в угол коня, показавшегося мне самым смирным, и надел на него повод, который смастерил из куска веревки. Это небольшие лошадки с длинными гривами. Я как следует ухватился и собрал все силы для прыжка. Рюкзак казался невероятно тяжелым.
Незаметно я проехал вдоль речного потока, а потом поскакал по дороге, огибающей гору, до узкого ущелья, которое ведет к монастырю. Дальше ехать было уже совсем просто.
Я не дал коню передохнуть. На рассвете я уже видел Турфанскую долину и легкие шатры сармунгов.
Наконец я остановил коня в сотне метров от них. Я стоял неподвижно, пока не рассвело. Прождал так довольно долго, а потом двинулся к ним. Они уже сидели вокруг костра, разведенного на верблюжьем навозе. Мне показалось, я узнал вожака той группы, которая перевезла меня из Тателанга.
– Я ищу город из гранита и мрамора, город, имя которого не произносят. Я хочу, чтобы ты провел меня в пустыню, – и я бросил к ногам сармунга пояс с монетами. Послышался глухой звон, похожий на подавленный смешок. – Это все, что у меня есть.
Сармунг смотрел на меня молча, без удивления или интереса. Потом он повернулся, поднял пояс, подошел к своим и сел с ними.
Я незаметно открыл патроны и зарядил пистолет. Они долго совещались. Потом вожак вернулся в сопровождении глухонемого.
Тот встал передо мной и наклонил голову в знак согласия. Потом сказал по-китайски с горловым акцентом, с трудом выговаривая фразы:
– Тебе известно, что никто не может войти в Город по своей воле. Ты должен знать, что, может быть, не сможешь сохранить свою жизнь…
Я согласился, тоже склонив голову по обычаю пустынных контрабандистов, когда те хотят показать, что сделка свершилась.
Я подумал, что они вполне могут расплатиться за то, что сопроводят меня в пустыню (возможно, это будет нарушением их принципов), исполнив заповедь и убив меня. У них ведь совсем иные законы милосердия и спасения. Но у меня не оставалось другого выхода, кроме как пойти на самый крайний риск.
Когда окончательно рассвело, мы тронулись в путь. Пять верблюдов на трех всадников. С нами поехал и молодой глухонемой сармунг, он должен был заботиться о животных и выполнять разную работу. Двое верблюдов везли поклажу, прежде всего воду.
Я попытался указать проводнику направление, показав ему круглый компас, который привязал к сбруе своего верблюда. Сармунг мотнул головой, словно говоря «это не годится». Он не понимает и не принимает абстракций. Но когда темнеет и мы разбиваем лагерь, мы договариваемся о примерном маршруте, ориентируясь по ранним звездам.
Я уверен, что наступит момент, когда сармунг захочет заманить меня в одно из тех мест, где можно будет принести ритуальное жертвоприношение во благо всего их народа. Как правило, это возвышения с небольшими святилищами из грубого камня, так называемые «обо». Они напоминают тот каменный холм, ту скалу, куда бедуин Авраам привел своего единственного сына, чтобы зарезать его, исполняя приказ жестокого незримого бога, стоящего у истоков трех великих монотеистических религий, которые опозорили мир. Недоумок, ухаживающий за животными, будет прислуживать при ритуальном жертвоприношении. Я это знаю.
Как и мы, нацисты, сармунги знают, что тигр или змея так же невинны, как птицы. Но только не человек. Они полагают, как и уры, живущие у озера Титикака, о которых Вуд писал в одной из своих статей, что их народ древнее современного человечества и что последнее – всего-навсего результат вырождения или инволюции людей, которые когда-то «пребывали в единении с Потусторонними Силами». Ошибка сармунгов в том, что у них слишком мало власти. Из-за своей гордыни они обречены на то, чтобы ограничиваться ремесленным уничтожением единичных особей.
Животные знают или чувствуют, что человек – отвратительное выродившееся начало творения.
16 АПРЕЛЯ
Переход этот может растянуться не больше чем на четыреста миль. Мне необходимо достичь точки «А», чтобы с ее координат спроецировать на подготовленной в Аненэрбе карте треугольник священной зоны.
Монастырь Танцующих расположен к северу от Турфанской котловины, на отрогах Покотошаня, где начинается Джунгарская равнина, наша первая пустыня. Мы должны двигаться в направлении ост-норд-ост, и тогда примерно через двести миль я смогу определить точку «А». Это «долина фон Зеботтендорфа», как сказано в руководстве Аненэрбе.
Я сплю, положив рядом пистолет со взведенным курком. Натягиваю у входа в палатку веревку, конец которой привязываю к руке. Мне приснилось изображение Авраама на картинке в учебнике по священной истории. Отец Майнц из нагольдской школы. Школьный двор в Аберпорте. Похожее изображение в часовне. Я что-то говорю своему однокашнику по-английски. Я, Вуд, в том году не слишком преуспевал в священной истории и получил 12 баллов из 20.
18 АПРЕЛЯ
Область «желтых ветров». Именно здесь, как поведал нашему агенту Гурджиев со свойственной ему иронией, он соорудил необыкновенно высокие ходули, чтобы можно было дышать, не наглотавшись песку. Тейяр де Шарден забредал в эти края во время одной из своих «одиноких вылазок», как он сам называл их.
Сармунги, похоже, знают, что нас ждет. Они надевают верблюдам на шею бронзовые колокольчики. Проводник возглавляет шествие, все пять верблюдов идут, связанные одной длинной веревкой, прикрепленной к недоуздкам. Мы похожи на альпинистов.
Каждый час, а то и чаще, приходится вытирать верблюдам морды, забитые песком и пылью. Песчаная пелена становится все гуще. Разбивая лагерь, нам приходится как следует привязывать верблюдов к шестам, которые глухонемой втыкает глубоко в землю.
Мой главный враг – слабость. Непрекращающаяся песчаная буря, похоже, сводит на нет все попытки вернуть себе физическую форму. Я как можно лучше обустраиваю свое седло, превращая его в некое подобие дивана. Стараюсь ехать полулежа, чтобы не напрягать мышцы. Я воображаю себя Артюром Рембо, пересекающим его последнюю пустыню в Абиссинии.
Сармунги, словно кающиеся испанские грешники, едут согнувшись, с головы до ног завернутые в свои мрачные конусообразные плащи. Они смотрят и дышат через толстое, грубое тканое переплетение.
19 АПРЕЛЯ
В этих краях всякое представление о реальности становится сомнительным. Всего за пару часов низину скрывает под собой высокая дюна, а дюны, которые казались высокой горной цепью, исчезают, и на их месте возникает ровное, пустое пространство.
Из-за этих странных передвижений возникают и, как правило, за несколько часов или дней исчезают древние города, быть может, возведенные еще до великих ханов. Океан песка обнажает их и снова скрывает, как улиток, которых уносит отливом.
Путешественник начинает здесь доверять миражам, оптическим иллюзиям, они становятся для него уютным убежищем от сводящей с ума реальности.
Я как раз записывал эти наблюдения, когда послышался шум мотора. Три бронемашины незаметно подобрались к нам, двигаясь против ветра.
Это броневики на гусеничном ходу, с красной звездой на дверцах.
Сармунг поговорил с их командиром. Они встали с подветренной стороны от машины в ярком свете мощных фар. У командира-монгола на фуражке и погонах были красные звезды. Говорили они по-монгольски.
Я подумал: наверное, судьба пожелала, чтобы я умер смертью солдата, о которой мечтали и которой, быть может, уже умерли многие мои товарищи.
Солдат было не больше дюжины. Я смогу убить двух или трех, прежде чем они доберутся до меня. Как ни странно, при мысли о смерти я ощутил невероятную усталость и скуку. По своему равнодушию я понял, как сильно я ослабел.
Похоже, проводник что-то рассказал им обо мне, потому что, как мне показалось, среди непонятных звуков прозвучало имя «Роберт Вуд». Они принялись при свете фар просматривать толстую стопку бумаг, наверное, какой-то список. Ни один из них не производил впечатление человека, умеющего читать.
Я сел на песок у своей палатки, окруженный завесой песчаного ветра.
Вот офицер приближается ко мне. У него огромные усищи, как у мексиканского бандита. Поняв, что он сказал или хочет сказать, я протягиваю советскую визу Роберта Вуда. Это пропуск с прекрасно сфальсифицированной печатью советских властей. Офицер уносит его, чтобы получше рассмотреть при свете фар. Судя по всему, его руки никогда еще не переворачивали ни одной страницы. Он похож на бизона, несущего канарейку между копытами.
Сейчас я должен достать револьвер или же окончательно отдаться на волю случая.
Офицер подходит и возвращает мне паспорт. Кажется, он на свой манер отдает мне честь. Как будто уже слышал обо мне, как будто его предупредили.
Они уехали.
Я пишу об этом, еще не оправившись от удивления. Я понимаю, что это еще одна выходка флегматичного проказника Роберта Вуда и что он спас мне жизнь. Да, это призрак. Но призрак человека, учившегося в Оксфорде.
21 АПРЕЛЯ
Глядя на дату в дневнике «21 апреля», я понимаю, что она воображаемая. Но пока я буду видеть в своем дневнике слово «апрель», это будет мимолетным напоминанием о зелени, которая пробивается сейчас на берегах Некара.
Мне стоило огромных усилий установить секстант для измерений. Приходится бороться с непреодолимой сонливостью. Я не так привычен к непрестанно бушующему ветру, как сармунги.
Совершенно невозможно определить высоту солнца, оно превратилось в неподвижный отсвет, затянутый песчаным покровом. Я отказываюсь от своего плана.
Тщательно заворачиваю хронометр в пропитанную воском ткань. Этот песок, мельчайший, как пространство, отводимое на циферблате одной десятой секунды, может забиться внутрь и окончательно испортить чувствительный швейцарский механизм.
Страшно устав, я вытягиваюсь на верблюде, и тот везет меня, словно я безжизненный куль.
23 АПРЕЛЯ
По-моему, мы достигли точки «А». Я довольно тщательно все рассчитал, несмотря на то что двигались мы медленно и неравномерно. По ночам у себя в палатке я подпарываю подкладку куртки и достаю непромокаемый конверт. Там хранятся данные о координатах. Конечный итог трудов Аненэрбе – две конкретные цифры, противостоящие безумию. При свете фонарика цифры производят странное, зачаровывающее впечатление.
Это стоило мне огромных усилий, но я все же сумел при помощи компаса перенести эти данные на карту. Потом соединил все точки, и наконец получился треугольник. Я всего в шестидесяти или семидесяти километрах от Агарты!
Хотя мне не удалось точно определить точку «А» (102° восточной долготы и 47° северной широты), ошибка не может превосходить 30–40 километров.
Я страшно взволнован. Я осознаю всю свою слабость и, быть может, нищету, когда полные песка слезы капают на руку, держащую перо.
24 АПРЕЛЯ
Мои расчеты не могут быть ни ошибочными, ни иллюзорными. В полдень я попытался установить секстант. Сармунги смотрели на меня, ничего не понимая в этом занятии, оно кажется им бессмысленным ритуалом солнцепоклонника. Мне очень трудно стоять неподвижно под желтым ветром, стараясь навести цейссовскую линзу на колеблющийся солнечный блеск. Получив нужную цифру, я бросаюсь к хронометру, который блестит на шершавой охристой земле как экзотическая драгоценность. Кажется, мне удалось определить 47° северной широты, но у меня нет сил еще раз замерять высоту, чтобы уменьшить погрешность расчетов.
Стараясь вернуть себе силы, я медленно съедаю кусок мяса, который мелко крошу или разбираю на волокна. Медленно выпиваю прокисшее козье молоко, нечто вроде питательной простокваши.
Я хватаюсь за свою ручку. Тщательно протираю ее и убираю в деревянный футляр. Она стала для меня очень важной частью жизни.
Благодаря ей я сохраняю способность размышлять. Это «серебряная нить» моего глубинного «я», которое порой затуманивается, но стоит мне уединиться с наступлением сумерек, чтобы начать писать, как оно вновь обретает четкость.
25 АПРЕЛЯ
Вчера вечером мы поднялись на возвышенность, где ветры, кажется, меняют направление. Там были руины, почти неразличимые в темноте. Сегодня утром небо совершенно расчистилось, и мы увидели, что находимся у подножия скалы, которая когда-то служила опорой для каменных сооружений.
Мы взошли на холм. За южной частью разрушенного города открывается захватывающее дух зрелище: отвесная скала нависает над пропастью в несколько сотен метров, а внизу расстилается бесконечная пустыня. К счастью, мы движемся не в этом направлении.
Мы увидели стену из огромных гранитных панелей, подогнанных друг к другу с удивительным мастерством. В верхней части стены, выходящей на пропасть, есть три трапециевидных отверстия.
Я поднялся по склону, выложенному широкими каменными плитами в форме ступеней. Все здесь сделано с великанским размахом. Все необъяснимо.
На вершине склона лежит геометрически ограненная глыба черного гранита, увенчанная прямоугольником из того же камня. У меня появилось ощущение дежа вю. Этот странный предмет был очень похож на каменный алтарь, или «солнечный причал», описанный Робертом Вудом в его работах о Мачу-Пикчу в Андах! И каменная стена с тремя трапециевидными отверстиями копировала сооружение на фотографиях, опубликованных экспедицией Хирама Бингема в номере «Нэшнл джеографик», который я видел в библиотеке Бенгальского общества.
Все это невероятно, но в этих краях я уже почти утратил способность удивляться новым странностям. Известно, что примерно одиннадцать тысяч лет назад, во времена великого оледенения, произошло масштабное переселение центральных народов, хранителей тайных знаний. Быть может, народы-основатели преодолели Берингов пролив, неся с собой зачаток великих американских цивилизаций.
Но меня ждала моя собственная встреча с неведомым. Я медленно спустился к нашему небольшому лагерю, где сармунги и верблюды ждали, когда на них с новой силой обрушится желтый ветер. Кто знает, стоит ветрам изменить направление, и дюны снова засыплют холм с городом, и тот скроется от человеческих взоров, быть может, на столетия…
Это край «городов-призраков», как называет их Гурджиев в своем описании.
26 АПРЕЛЯ
Произошла настоящая катастрофа.
Мы разбили лагерь еще до наступления сумерек. Было почти ничего не видно, мы ориентировались только по направлению веревки, соединявшей верблюдов. Из-за усиливающегося ветра звон колокольчиков у них на шеях был едва слышен.
Мы вошли в зону, о которой возвещал в своей запутанной тайной хронике Дитрих Экарт: стрелка компаса кружится, не в состоянии точно указать на север. Я понимаю, что теперь полностью завишу от власти и прихоти сармунгов. Специалисты из Аненэрбе описывали местность на подходах к центру тайной власти, где было зафиксировано значительное усиление земного магнетизма. На всей планете известно лишь шесть-семь точек с подобными свойствами.
С огромным усилием они установили мой шатер, и я уже готовился сесть за свои записи, когда мы подверглись чудовищному нападению. Галопом надвигались дикие верблюды. Скрытые за завесой желтого ветра, они застигли нас врасплох. Эти обезумевшие от голода животные умудряются выживать, приспособившись к существованию в этом вечном, ни на секунду не стихающем урагане. Это их дом, они передвигаются вместе с песчаным ветром, который служит им защитой. Послышался рев и фырканье, которое они издают, чтобы стряхнуть с морды песок. Казалось, верблюдов очень много, может быть больше полусотни. Они кружили по лагерю, круша все на своем пути. Я лег в углубление в земле и при ярком свете фонарика сумел разглядеть одно из этих демонических существ с покрасневшими глазами и лязгающими зубами. На секунду в моей памяти всплыл рассказ Гурджиева о смерти Соловьева, одного из «искателей мудрости», которому такой вот демон раздробил затылок.
Они кружат по лагерю галопом, поднимая чудовищный шум. Я догадался, что они носятся вокруг углей, которые проводник разжег в центре нашего скромного лагеря. Послышался рев и истошные крики наших привязанных верблюдов, на которых напали дикие твари. Мне почудился острый, сладковатый запах крови. Колокольчики наших животных звенели все отчаяннее, а потом зловеще стихли. Своими мощными челюстями чужаки рвали и разбивали наши бурдюки и кувшины. Было слышно, как, обезумев от жажды, они фыркают, глотая воду, льющуюся на песок.
В луче фонарика я увидел, как в нескольких метрах от меня показались две шеи этой многоголовой гидры. Они добрались до моих пожиток. Я увидел, как в луче света взлетела вверх, рассыпаясь на клочки, моя единственная книга – стихи Гёльдерлина. Одним движением разъяренные челюсти раздавили секстант и отбросили его куда-то далеко, в темноту.
Меня наверняка спасло то, что я сидел неподвижно.
Сожрав своих собратьев, дикие твари, кажется, удалились.
Я вдыхаю запах крови. Преодолевая невыносимую усталость, привстаю и кричу среди порывов ветра, призывая сармунгов. Никто не отвечает, и я засыпаю, не в силах бороться с внезапно охватившей меня усталостью.
На рассвете я вижу проводника, который приближается к лагерю, волоча за собой растерзанные, изъеденные останки глухонемого. Как всегда, даже в этой ситуации проводник ни слова не говорит мне. Он полутра собирает колья, к которым была привязана разорванная упряжь, и разводит костер. Он потратил целый день, дожидаясь, когда слабый огонь окончательно сожжет останки. Таков ритуал Братства, и он свято исполняет его.
Теперь у нас не осталось ничего. Но мы стоим на пороге Агарты. Это подтверждают характерные магнитные аномалии. Поляк Оссендовский в своем описании упоминает место, где «земля и небо сдерживают дыхание». Крайняя точка земли, где можно ориентироваться лишь по полету орлов.
Секстант окончательно испорчен (я даже не стал искать его). От хронометра остались одни блестящие обломки. Жалкий предмет, раздавленный одним ударом копыта.
Я медленно пишу эту хронику пережитой катастрофы. Сармунг пытается развести огонь и зажарить кусок верблюжьего мяса, очистив его от крови и песка. Все послушно своей судьбе. Все продолжается.
С моим Пространством и Временем покончено. Эти светские боги – не более чем измерения, цифры, математические абстракции.
28 АПРЕЛЯ
Я пытаюсь писать. Пишу очень медленно. Мы шли целую неделю. Жажда дает о себе знать, мы небольшими порциями допиваем то, что осталось во фляжках. Но помыться уже нечем, мы превратились в две песчаные маски.
Цикл подошел к своему завершению. Мы приближаемся к концу или к началу.
Я наблюдаю за сармунгом. Он отдыхает, завернувшись в свой первобытный плащ. Он следит за мной через ткань. Я чувствую на себе его твердый, блестящий взгляд.
Не сомневаюсь, он только и выжидает момент, чтобы убить меня. Рукоять ножа вырисовывается у него под плащом на уровне пояса. Он носит нож на животе, на арабский манер.
Мы достигли такого этапа пути, на котором у него уже не может быть других намерений, кроме как найти подходящий момент для того, чтобы принести меня в жертву, исполнив тем самым свою заповедь. Предполагаю, что «интиуатана», или солнечный причал, может оказаться подходящим местом. Вуд писал в статье, которую я прочел в прохладной библиотеке Бенгальского общества, что на подобных солярных алтарях инки приносили огненные жертвы, порой человеческие. Это были их «обо».
Сейчас я снова берусь за перо. Я совершенно спокоен. Всего мгновение назад я положил его на тетрадь, вытащил пистолет и трижды выстрелил в сармунга. Пули вошли в его тело с глухим звуком, как монеты, упавшие в стоячую воду. Я знаю, что сармунг был живым лишь наполовину, половина его тела никогда не покидала своего Истока, а благодаря трем выстрелам он целиком оказался на той стороне. Неожиданно я увидел, как из глубины другого во мне из дальней дали протянулась рука джоттовского[109] ангела, изображенного на синей стене в часовне дельи Скровеньи в Падуе. Падуя…
Сейчас сармунг тихо истекает кровью, как жертвенный агнец. Его густая кровь сочится и стекает тонкой красной струйкой, образуя на песке совершенную окружность. Эфемерная смальта. Он агонизирует, упав на бок, и мне кажется, что мое перо описывает каллиграфию его смерти.
Я остался один. Теперь я совершенно один.
Фон Хаген писал: «Бойся земли, где бремя мертвых легко, где мертвецы смешиваются с живыми».
На одной из страниц «Бревиария» сказано:
«Приходит время, и движение перестает нести тебя вперед. Ты можешь быть допущен, не двигаясь. Можешь быть изгнан, не двигаясь. Достаточно будет, чтобы Высшие приняли или отвергли тебя. Твоя воля уже не будет иметь значение. Так бывает, когда ты уже стоишь, допущенный, на пороге Агарты».
Перо. Буквы, слова, точки. Капли бытия. Теперь это единственная реальность, в которой я пребываю. Случается, одна строчка требует не меньше усилий, чем пробежка или подъем по отвесному склону. Но я знаю, что если перестану писать, то растворюсь в воздухе, утрачу целостность. Превращусь в воздух, слившийся с воздухом. Стану песчинкой в море песка.
Ужас возвращения, ужас пустоты.
Буквы служат мне якорем, укрытием. Единственным убежищем, когда все корни торчат в пустоте, когда уже нет никакой мыслимой защиты.
Больше всего я боюсь, что у меня снова начнется лихорадка. Этого я уже не выдержу, и тогда все пропало.
Я лежу дожидаясь, когда окончательно рассветет. Внезапно у меня откуда-то появились силы. При розовом свете зари я перечитываю слова Рене Генона, искавшего Агарту, которые я переписал к себе в дневник:
«Внашем земном цикле, черном цикле так называемого Кали-Юга, есть еще заповедная земля, которую бдительная стража охраняет от захватчиков-непосвященных. Хотя это место могло бы поддерживать связь с внешним миром, оно предпочитает оставаться невидимым и недоступным. Оно само выбирает тех, кого впускает в себя».
Мой разум слабеет. Может быть, сомнение – это признак жизни, извращенное подтверждение жизни. Я снова задал себе вопросы, которые, кажется, в последний раз возникали у меня в Тателанге или в термальном источнике Монастыря Танцующих. Действительно ли это некая область, какое-то место? Или символ? Психическое состояние искателя, посвященного, или дворец, который описывает Оссендовский, основываясь на рассказе Хутукту из Нарабанчи? «Это место, где кончается география и начинается лабиринт символов…» (Гурджиев).
Фон Хаген вторит: «Агарта как живой организм, как Вселенная, как всякий человек. Это интеллектуально-духовный организм. Видя, что ей угрожает вторжение, она приводит в действие свои мощные защитные силы. Если захватчик, вопреки им, сумеет прорваться, то превратится в посвященного…»
Я засыпаю, сон непреодолим, опасен, но он помогает восстановить силы. Я проснусь только на следующее утро, зато у меня будет больше сил, чтобы двигаться вперед.
Часов в десять, в минуту затишья, я заметил в вышине на фоне безбрежной голубизны затянутого дымкой неба черную точку. Это орел. Жаль, у меня нет бинокля, хотя я все равно не смог бы удержать его дрожащими руками. Орел. Орлы парят, встраиваясь в потоки холодного воздуха. Эти своеобразные реки прохладного ветра, тайные воздушные реки, выбирают свое направление в зависимости от концентрации тепла над тектоническими плитами и в разломах – в котловинах, в низинах. Я слежу за полетом птицы и вижу, как она движется к выжженному солнцем участку пустыни. Теперь я знаю, в каком направлении идти. «Последний знак подаст тебе орлиный полет» (фон Хаген).
Жажда измучила меня.
Солнце палит немилосердно. Даже камни становятся нереальными, полупрозрачными. Наконец-то мне удалось догнать проклятого Вуда.
Он едет верхом на верблюде, на нем бриджи из светлой ткани, высокие сапоги, тропический пробковый шлем с подкладкой, льняная куртка. Он одет гораздо лучше, чем я мог предположить.
Кажется, он едва повернул голову в мою сторону, окруженный невыносимо ярким светом. Он ни единым жестом не выражает удивления, словно встретить здесь человека – дело вполне естественное. Увы, весь он излучает горделивое спокойствие.
Я попытался пошевелиться, сделать движение, чтобы привлечь его внимание, но передумал. У меня есть своя гордость. Лицо у меня обожжено солнцем, а кожа покрыта песком, как у клоуна.
Я приложил руку ко лбу, чтобы лучше видеть. От земли поднимается дымка, которая искажает все контуры и края, нарушает перспективу. Да, это Вуд. Ачуть дальше едут другие всадники. Над одним из верблюдов реет, подобно знамени, полоса голубого тюля, с невероятным кокетством прикрепленная к тропическому шлему. Я ни на секунду не сомневаюсь, это Катти Кауфман. Очаровательная еврейка. Неужели она станет матерью моего сына?
Все это напоминает фарс. Я открываю рот, чтобы расхохотаться, но натянутые уголки губ отзываются болью. Я превратился в высохший кожаный мешок.
Не в силах сдерживать ярость, я делаю несколько шагов в их сторону. Несмотря на боль и на то, что язык у меня стал как шершавая деревяшка, мне удается выкрикнуть им хриплое оскорбление: «Sons of a bitch!»[110] Потом я кричу немецкие ругательства, как будто от этого будет меньше гореть рот.
Хвастливые трусы! Пугала! Они скачут дальше. У них во фляжках полно воды. Вот они уже скрылись в дымке. Я машу руками. Свиньи!
Я нащупываю пистолет, но патронташ не открывается, и они удаляются, теряются на горизонте. Я бы выпустил в них всю обойму.
Вот то печальное будущее, которые ожидает человечество без нашего Возрождения: Вуд и еврейка, побратимы и любовники. Да, это они. Меня охватывает невыносимая тоска.
Я ползу. Снова вокруг какие-то руины.
Пересохший язык раздулся. Я ползаю среди камней. Я вытягиваю ноги, опираясь на камень. Мимо прошмыгнула ящерица, но я не успел схватить ее, чтобы высосать жидкость из ее тельца. Рядом лежит высохшая, окаменевшая сандалия. Я знаю, она принадлежала какому-нибудь солдату из легионов Александра Македонского, из отрядов, посланных из Бактрианы, чтобы достичь скрытой мудрости Агарты.
Среди высохших руин я ощупываю тени, воображая, что это вода. В отчаянии слизываю песок, принимая тени за следы влаги.
Временами мне становится легче, и я продвигаюсь вперед. Почва становится каменистой. Кажется, я поднимаюсь по пологому склону. Подъем дается мне нелегко, день уже катится к закату.
Тогда-то я и увидел Ворота. Легендарные ворота.
Сердце застучало как колокол, запертый в клетке из ивовых прутьев.
Они из беловатого мрамора или из белого гранита. Их форма мне знакома, фактурой и пропорциями они напоминают ворота, которые я видел в статье проклятого Вуда, на фотографии, сделанной на берегу озера Титикака. Помню, как в Париже мы с Гретой (кажется, это было в другой жизни) видели репродукцию в Музее человека. Ворота Солнца.
Мне кажется возмутительным, что я могу испытывать тот же самый восторг археолога, который Вуд пережил в Боливии. Мое «я» тяготеет к его чувствам, которые занимают место моих собственных.
Я внутренне хватаюсь за себя, за Вальтера Вернера. Но быть Вальтером Вернером требует невероятных усилий. Я скатываюсь к другому. Тихо падаю в другого, как бы утратив собственную силу тяжести.
У меня больше нет сил. У меня кончилась моча, которую я пил, и мне трудно представить, что кровь еще не высохла у меня в жилах.
Я заправил ручку, а потом с жадностью, но так медленно, как только смог, выпил из чернильницы остаток чернил. Печальная судьба самозваного писателя: я выпил дом своего Бытия.
Я уверен, если мои примерные расчеты верны, что сегодня 30 апреля 1945 года.
Ворота.
Можно подумать, они обладают гипнотическим воздействием. Они стоят посреди равнины. Наступили сумерки, и, кажется, ветер стал уже не таким горячим.
От них невозможно отвести взгляд. Они величественны, как портик, ведущий во дворец, чьи пропорции бесконечно огромны. Дворец, куполом которому служит весь небосвод. Если войти туда, переступив через порог, покажется, что выходишь в открытое пространство. Почувствуешь, как вступаешь в бесконечность, в этот гостеприимный и одновременно внушающий страх дворец.
Сомнений у меня нет. Меня охватило величайшее умиротворение. Это и есть ворота в Агарту, о которых писали Ямвлих[111] и безумный Экарт.
Я чувствую, что мне подан знак – на меня повеяло прохладным воздухом. Об этом знаке писал агент Оссендовский: «Верблюды нашего каравана в испуге прядали ушами. Дул легкий ветерок, доносивший издалека безмолвную музыку, которая проникала в сердца людей».
Я вытягиваюсь в этой нежданной прохладе. Кладу тетрадь к себе на грудь и очень медленно вывожу букву за буквой. Я чувствую, что плачу, но без слез: кожа вокруг глаз сморщивается и горит. Да, это порог Агарты! Я должен наслаждаться этим невероятным покоем, пока не появится посланец Верховного Хутукту, царя тайных сил, Царя Мира.
Всевышний снова вдохнет силу Врил в нашего Фюрера. Высший покой, покой того, кто выполнил свою миссию. Триумфальный покой…
Эпилог
Дневник Вальтера Вернера обнаружил патруль китайской Народно-освободительной армии в неспокойные времена между окончанием Второй мировой войны и победой сторонников Мао в 1949 году.
Интересно, что Вернер полагал, будто продвинулся далеко в глубь монгольской территории. Судя по всему, патруль, хотя в докладе ООН не приводится более точных сведений, обнаружил тетрадь в районе Турфанской котловины. Это может означать, что Вернер ходил по кругу, несмотря на все расчеты, о которых он пишет в последней части дневника.
Странно и то, что в докладе ничего не говорится о теле. Впрочем, в те военные времена войска делили между собой имущество покойников и с помощью караванщиков сбывали его на черном рынке.
Только в 1979 году имя офицера Вальтера Вернера было подчеркнуто каким-то китайским чиновником в одном из бесчисленных списков пропавших без вести и разыскиваемых людей, который ООН рассылает странам-участникам.
Дневник при посредничестве ООН переслали в ФРГ, и немецкое консульство в Париже смогло разыскать сына автора, журналиста Франс Пресс Альберто Вернера Лорку.
Консул подготовил полагающиеся документы. Он воздержался от каких-либо упоминаний о содержании текста и личности автора. Дневник нацистского офицера был явно неудобным грузом для бюрократического аппарата, который изо всех сил пытается продемонстрировать свой антифашистский пыл и беззаветную верность демократии.
Вернер Лорка потребовал, чтобы при нем вскрыли толстый конверт, так как его заставили подписать бумагу, где говорилось о содержании конверта. Это была толстая пожелтевшая тетрадь. Из нее выпало несколько мелких песчинок, которые чиновник с досадливой миной сдул со стола наискось от своего собеседника.
Вернер Лорка поскорее вышел из консульства и расположился поблизости в летнем кафе на Елисейских Полях. Он читал не отрываясь. Благодаря этим строчкам, в конце становившимся почти нечитаемыми, он вновь обретал отца, который всю жизнь оставался для него загадкой, вопросом без ответа.
Нацизм уже отошел в прошлое. Затерялся в пустыне, подобно дневнику Вальтера Вернера. Это была хроника безумия и окончательной гибели богов.
И все же за ужасами истории и чудовищной жестокостью идеологии он сумел ощутить, как билось сердце отца, которого он никогда не знал.
Невероятно упорство, каким обладают сердца этих микробов, населяющих планету.
Примечания
1
Найджел Пенник (род. в 1946) – английский исследователь, биолог по образованию, автор более сорока книг о языческих верованиях, духовных традициях, оккультизме и др. (Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, – прим. перев.).
(обратно)2
Луис Пауэлс – аргентинский писатель, автор книг по оккультизму.
(обратно)3
Долтон Трамбо (род. в 1905) – американский киносценарист.
(обратно)4
Кули – в Китае – неквалифицированные низкооплачиваемые рабочие.
(обратно)5
Ницше Фридрих (1844–1900) – немецкий философ, представитель интуитивистской «философии жизни», отвергавшей рационалистические и механистические традиции классической западной философии. Его труды, написанные ярким, афористическим языком, оказали огромное влияние на философию и литературу своего времени. Созданный Ницше миф о «сверхчеловеке» был воспринят в том числе и идеологами фашизма. Наиболее значительные работы: «Рождение трагедии из духа музыки» (1872), «По ту сторону добра и зла» (1886), «Так говорил Заратустра» (1883–1884).
(обратно)6
Гёльдерлин Фридрих (1770–1843) – немецкий поэт-романтик Его лирические стихотворения, оды и гимны обладают особой экспрессией, проникнуты верой в гармонию природного бытия, трагедия «Смерть Эмпедокла» (1798–1799) и роман «Гиперион» (1797–1799) повествуют о трагическом разладе личности с миром и с собой. В 1804 году сошел с ума, более 30 лет провел в клинике для умалишенных.
(обратно)7
Институт Аненэрбе – фашистский научно-исследовательский институт (другое название – Общество по изучению наследственности), создан в 1935 году, находился в ведении Гиммлера. Занимался антропологическими исследованиями, изучением древних культов, философским обоснованием нацистских теорий, разработкой ритуалов, способных влиять на массовое сознание. Известно, что под эгидой института организовывались экспедиции на Тибет. Упоминаемый далее директор Аненэрбе штандартенфюрер Вольфрам Зиверс – реальное лицо, был осужден на Нюрнбергском процессе, как и вся деятельность его института. Доктор Хильшер, геополитик профессор Карл Хаусхофер – также вполне реальные исторические персонажи.
(обратно)8
Александр Македонский (356–323 до н. э.) – царь Македонии, в результате систематических военных походов создавший крупнейшую в Древности империю.
(обратно)9
Бактриана (Бактрия) – историческая область в Средней Азии, в VI–IV вв. до н. э. входила в государство Ахеменидов, затем была завоевана Александром Македонским.
(обратно)10
Александрия – город в Египте, основан Александром Македонским. В IV веке до н. э. был столицей Египта и центром эллинистической культуры.
(обратно)11
В I веке, уже после падения Иерусалима, иудейская крепость Массада, охраняемая тысячью воинами-зелотами, 1000 дней сопротивлялась римскому завоеванию. Понимая, что они больше не смогут противостоять 15-тысячным легионам римского полководца Флавиуса Сильвы (а не Флорусу), защитники крепости покончили с собой. Эти события описаны в «Иудейских войнах» Иосифа Флавия.
(обратно)12
Рудольф фон Зебботендорф (наст, фамилия Глауэр, 1875–1945) – немецкий мистик и политический деятель, один из создателей Общества Туле. Много лет провел на Востоке.
(обратно)13
Общество Туле – немецкое политико-эзотерическое общество (1918), оказало решающее влияние на формирование фашистской идеологии. Поддерживало нацистскую партию не только идеологически, но и материально, в том числе оружием. Адольф Гитлер был членом Общества Туле.
(обратно)14
Дитрих Экарт (1868–1923) – немецкий писатель, журналист, переводчик. Член Общества Туле, поддерживал Гитлера.
(обратно)15
Гурджиев Георгий Иванович (1877–1949) – философ-мистик, разработал синкретическое учение о духовной реализации человека, сочетающее в себе элементы христианства, ислама, буддизма, йоги, различных мистических практик. Создал так называемый «Институт гармоничного развития человека». Духовные поиски приводили его на Тибет, в Среднюю Азию, Индию, Эфиопию, Египет. После революции 1917 года эмигрировал сначала в Грузию, затем во Францию.
(обратно)16
Чингисхан (ок. 1155–1227) – основатель Монгольской империи, завоевал значительные территории в Азии и Восточной Европе.
(обратно)17
Тулку – в тибетской теории реинкарнации учитель, перевоплотившийся, чтобы помогать другим существам вырваться из круга перевоплощений. Нередко это новое воплощение того или иного далай-ламы.
(обратно)18
Ринпоче – в тибетском буддизме титул, означающий «драгоценный».
(обратно)19
Бургос – город в Испании, в исторической области Кастилия Франко Франсиско (1892–1975) – генерал, возглавивший в 1936 году мятеж против Испанской республики, диктатор, глава Испанского государства с 1939 по 1975 год.
(обратно)20
Савл Тарсян – то есть св. Павел, апостол. В его 14 посланиях, вошедших в Новый Завет, были заложены многие основы христианской догматики.
(обратно)21
Аушвиц – немецкое название Освенцима.
(обратно)22
Швабия – историческая область в Альпах, на Юго-западе Германии и Севере Швейцарии.
(обратно)23
Противопоставление «дионисийского», жизненно-оргиастического, и «аполлонического», рационально-упорядочивающего, начал в европейской культуре восходит к работе Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» (1872). Дионисийство предстает у Ницше как забытый идеал, к которому необходимо вернуться, отвергнув аполлоническое начало, ведущее к упадку и вырождению.
(обратно)24
Бахус (Вакх, Дионис) – в античном пантеоне бог виноделия сын Зевса.
(обратно)25
Гитлерюгенд – фашистская молодежная организация в Германии, основана в 1926 г. как юношеское отделение национал-социалистской партии.
(обратно)26
Гумбольдт Вильгельм (1767–1835) – немецкий, филолог, философ, государственный деятель, реформатор образования и гуманист. Основал Берлинский университет (1809), ныне носящий его имя. Придавал огромное значение разностороннему («универсальному») развитию человеческой индивидуальности, считая его главной целью государства.
(обратно)27
Тюбинген – город на Юге Германии, университет там существует с 1477 года.
(обратно)28
Гёттингенский университет – один из лучших в Германии, основан в 1737 году.
(обратно)29
Вайль Курт (1900–1950) – немецкий композитор, работал в основном в жанре сатирической драмы с музыкой («Трехгрошовая опера» по пьесе Брехта, 1928, и др.), после эмиграции в США – в жанре мюзикла.
(обратно)30
Брехт Бертольд (1898–1956) – немецкий писатель, реформатор театра. Его т. н. «эпический театр», экспериментальные драмы на остро актуальные темы («Трехгрошовая опера», 1928, «Мамаша Кураж и ее дети», 1939, «Добрый человек из Сезуана», 1938-40, и др.), нацеленные не на «сопереживание», а на критический анализ, оказали огромное влияние на всю театральную культуру XX века.
(обратно)31
Гессе Герман (1877–1962) – немецкий писатель. Испытал существенное влияние «глубинной психологии» Юнга. Одна из важнейших тем его романов «Демиан», 1919, «Степной волк», 1927, – внутреннее развитие личности, поиск «пути в себя». Интеллектуально-философский роман-утопия «Игра в бисер» (1943). Лауреат Нобелевской премии (1946). Повесть «Паломничество в страну Востока» (1932) появилась после поездки Гессе в Индию и отражала интерес писателя к восточным духовным учениям.
(обратно)32
Гиммлер Генрих (1900–1945) – немецкий политический деятель, руководитель СС и гестапо, разработал систему концентрационных лагерей в фашистской Германии.
(обратно)33
Кажется, в том самом городе, где дикие баски поклоняются какому-то дереву – имеется в виду Герника, город на Севере Испании, в Стране Басков, в 1937 году разрушенный немецкой авиацией. Именно этому событию посвящена знаменитая картина Пабло Пикассо.
(обратно)34
Веймарская республика – германское государство (1919–1933), парламентская федеративная республика, в конце 20-х годов переживала сильнейший политический и экономический кризис.
(обратно)35
Силезия – область в верхнем и среднем течении Одры, до Второй мировой войны часть ее принадлежала Польше, часть – Германии.
(обратно)36
Малаккский пролив – пролив в Индийском океане между полуостровом Малакка и островом Суматра.
(обратно)37
Андаманское море – море в Индийском океане между материковой Азией, Андаманскими и Никобарскими островами (Индия) и островом Суматрой.
(обратно)38
Патрас – город в Греции
(обратно)39
Сикким – штат в Индии, в Восточных Гималаях, на границе с Тибетом.
(обратно)40
«И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды» (Исх., 14,21).
(обратно)41
Ганди Мохандас Карамчанд (1869–1948) – идеолог и лидер индийского национально-освободительного движения, возглавлял партию Индийский национальный конгресс, боровшуюся за независимость от Великобритании. Его политическое и религиозно-философское учение, в основе которого лежит теория ненасильственной борьбы, получило название гандизма.
(обратно)42
Даосизм – китайское религиозно-философское учение. Основное понятие – дао, разработанное в трактате Лао-Цзы «Дао де цзин» (III–IV в. до н. э.), означающее податливость и неодолимость. Моральный идеал даосизма («у вэй») предполагает уподобление дао через недеяние, уступчивость, отказ от желаний и борьбы.
(обратно)43
Роммель Эрвин (1891–1944) – немецкий генерал-фельдмаршал, в 1942–1944 годах командовал немецко-фашистскими войсками в Северной Африке, Италии и Франции.
(обратно)44
Маки – французские партизаны
(обратно)45
Бингем Хирам (1875–1956) – американский археолог, историк, писатель и общественный деятель. Совершил несколько экспедиций по Южной Америке, в 1912 году группа ученых под его руководством в Перу открыла святилище инков Мачу-Пикчу, построенное в XV–XVI вв.
(обратно)46
Дарджилинг – курортный город на Севере Индии в Восточных Гималаях.
(обратно)47
Дакка – столица Бангладеш.
(обратно)48
Чан Кайши (1887–1975) – китайский маршал, с 1927 года возглавлял националистическую партию Гоминьдан, которая правила в стране до победы Мао Цзэдуна в 1949 году. Позднее руководил правительством Тайваня.
(обратно)49
Яньань (Шеньси) – провинция в Китае, где начиная с 1934–1935 годов базировались войска китайских коммунистов во главе с Мао Цзэдуном.
(обратно)50
Малакка – полуостров в Юго-Восточной Азии, принадлежит Малайзии и Таиланду.
(обратно)51
Кали – богиня индуистского пантеона, воплощает губительную сторону божественной энергии Шивы, изображается черной, в ожерелье из черепов и с ритуальными ножами. Культ Кали, связанный с кровавыми жертвоприношениями, больше развит в различных сектах, чем в традиционном индуизме, и особенно распространен в Бенгалии. Название бенгальской столицы Калькутта восходит к имени богини.
(обратно)52
Шива – один из верховных богов индуистского пантеона, наряду с Брахмой и Вишну. Олицетворяет созидающее и разрушающее начало в мире, в танце регулирует мировой порядок, воплощает мужское начало универсума. Изображается четырехруким и четырехлицым.
(обратно)53
Белгравия – фешенебельный квартал в Лондоне.
(обратно)54
Сипай – в Индии солдат английской колониальной армии из местных жителей.
(обратно)55
Оден Уистен Хью (1907–1973) – англо-американский поэт, в лирике живо отзывался на политические события своего времени. Гражданской войне в Испании посвящен его сборник «Испания» (1937).
(обратно)56
Интернациональные бригады – международные добровольческие отряды, во время гражданской войны в Испании 1936–1939 годов сражавшиеся за Республику против генерала Франко.
(обратно)57
Итон – город в Великобритании, знаменитый Итонский колледж был основан в 1440 году.
(обратно)58
Форстер Эдуард Морган (1879–1970) – английский писатель и теоретик литературы, автор психологических романов («Комната с видом», 1908, и др.) В романе «Поездка в Индию» (1924) критикует британский колониализм.
(обратно)59
Параниббана – то же, что паранирвана, состояние окончательного освобождения от перерождения в мире живых существ. В отличие от нирваны, может быть достигнуто только после физической смерти.
(обратно)60
Куштия – город в Бангладеш
(обратно)61
Вишну – одно из верховных божеств индуистского пантеона, обычно изображается в виде четырехрукого юноши во всеоружии, держащего магические предметы. Выполняет функцию хранителя мироздания, выступает как главное божество, абсолют, основа и суть бытия.
(обратно)62
Шерпы – немногочисленный народ, проживающий на Востоке Непала и в пограничных с ним районах Индии и исповедующий буддизм.
(обратно)63
Тамур, Сункоси – реки в Непале.
(обратно)64
Аннапурна – горный массив в южном отроге Главного Гималайского хребта, в междуречье Кали-Гандак и Марсенгди (высоты от 8 000 до 8100 м).
(обратно)65
Лхаса – город в Китае, на Тибетском нагорье, религиозный центр тибетского ламаизма.
(обратно)66
Синьцзянь – провинция на Северо-западе Китая.
(обратно)67
Такла-Макан – пустыня на Западе Китая, простирается более чем на 1 000 км.
(обратно)68
Гоби – полоса пустынь и полупустынь, расположенных в Северо-Восточном Китае и в Юго-Восточной Монголии.
(обратно)69
Гоминьдан – националистическая политическая партия в Китае, основана Сунь Ятсеном в 1912 году, находилась у власти с 1927 по 1949 год, под руководством Чан Кайши.
(обратно)70
«Хорст Вессель» – марш национал-социалистов, назван по имени активиста штурмовых отрядов Хорста Весселя (1907–1930), убитого во время уличных столкновений.
(обратно)71
Друзы – одна из шиитских сект в исламе; суфии – последователи мистического течения в мусульманстве, сочетающего метафизику с аскезой; дервиши – нищенствующие члены суфийских братств.
(обратно)72
В 1960 году, спустя одиннадцать лет после смерти Гурджиева, была опубликована его книга под названием «Встречи с выдающимися людьми» с рассказами о некоторых из этих удивительных путешествий, в одном из которых упоминается о смерти Соловьева. Гурджиев был всемирно известным знатоком оккультных наук, создателем секты. Вернер был знаком с ним лишь по докладам немецких агентов. Прим. издателя.
(обратно)73
Ущелья Цаган и Селенга – имеется в виду хребет Цаган-Шибэту на юго-западе Тувы и река Селенга.
(обратно)74
Шамбала (Шамбхала) – в буддистской мифологии – таинственная страна, предположительно к северу от Индии. Существует представление, что Шамбала – идеальное место для обретения просветления, и само нахождение в ней позволяет вырваться из круга неблагоприятных перерождений. В тибетских «путеводителях» в Шамбалу о ней обычно говорится как о неком внутреннем состоянии, однако нередко предпринимались и попытки найти эту страну в Гималаях или на Памире. Термин воспринят и переосмыслен в теософии.
(обратно)75
Врил – в некоторых теософских учениях мистическая сила (энергия) космического происхождения. Нередко связывается с легендой об Атлантиде. В Германии после Первой мировой войны существовало тайное общество с таким названием.
(обратно)76
Яффа – город в Палестине, ныне часть Иерусалима. Впервые упоминается в египетских текстах XVI века до н. э. В древности принадлежала ханаанеям, филистимлянам, евреям, римлянам, в средние века – арабам. В XX веке, до захвата Израилем, входила в британские территории.
(обратно)77
Ессеи – религиозное течение мессианско-эсхатологического характера в Иудее во II веке до н. э., считается предшественником христианства.
(обратно)78
Речь, возможно, идет о «гностических Евангелиях», которые были случайно обнаружены в 1945 году, когда двое рабочих рыли землю на кладбище Наг-Хаммади в Верхнем Египте. Это записанные во II веке тексты версий Евангелия от Фомы, от Марии, от Филиппа и «Евангелие Истины» Фон Хаген мог искать и тайные книги ессеев там, где они жили. В 1948 году, тоже случайно, были найдены так называемые «Свитки Мертвого моря», причем как раз в одной из пещер Кумрама. – Прим. издателя.
(обратно)79
Бадольо Пьетро (1871–1956) – итальянский маршал, политический и военный деятель, начальник генерального штаба при Муссолини. В 1943 году участвовал в смещении Муссолини.
(обратно)80
Далай-лама – первосвященник тибетской ламаистской церкви.
(обратно)81
Тулпа – в тибетской мифологии демонические существа.
(обратно)82
Тейяр де Шарден Пьер (1881–1955) – французский философ, теолог и палеонтолог, во многом повлиявший на обновление современной доктрины католицизма. В 1923–1946 годах жил в Китае. Проводил также исследования в Индии, Мьянме, на Яве. Создатель т. н. научной феноменологии, снимающей противоречия между наукой и религией. С христианской точки зрения разрабатывал теорию эволюции космоса, результатом которой ему виделось образование духовной оболочки Земли – ноосферы.
(обратно)83
Оссендовский Антон (1878–1945) – русско-польский писатель-фантаст. Много путешествовал по Сибири и Дальнему Востоку, оставил серию путевых отчетов.
(обратно)84
Турфанская котловина – самое низкое место в Центральной Азии, расположена на Западе Китая.
(обратно)85
Пьеро делла Франческа (ок. 1420–1492) – итальянский художник Раннего Возрождения, теоретик живописи.
(обратно)86
Ритуальная жестокость католицизма – имеется в виду христианское таинство евхаристии, преосуществления хлеба и вина в тело и кровь Христа.
(обратно)87
Идите, служба завершилась – фраза, знаменующая собой окончание католического богослужения.
(обратно)88
Тантризм – эзотерическое направление в буддизме и индуизме, особенно распространено в Тибете.
(обратно)89
Чортен – то же, что ступа, буддистское ритуальное сооружение.
(обратно)90
Черчен – река на северо-востоке Китая.
(обратно)91
Татхагата – в буддистской мифологии эпитет Будды, означает обретшего просветление и постигшего истинную сущность.
(обратно)92
Хубилай (1215–1294) – внук Чингисхана, великий хан Монголии Завоевал Китай. Остальные его завоевательные походы были неудачны.
(обратно)93
«Бардо тодол», Тибетская книга мертвых, – цикл тибетских ритуальных текстов, записанных в середине XIV века. Читается умирающему и рядом с умершим во время похорон.
(обратно)94
Акаша – в индуистской мифологии пространство или эфир, вещество, из которого состоит Вселенная.
(обратно)95
Мана – в полинезийской мифологии священная жизненная сила, которой обладают божества, тотемные животные и герои-основатели кланов.
(обратно)96
Кундалини – в тантрической мифологии змея, олицетворяющая половую энергию и спящая в каждом человеке.
(обратно)97
Сиддхи – в индуистской мифологии полубоги или достигшие совершенства люди, обитающие в воздушном пространстве и способные достигать желаемого силой мысли, подчинять себе время, пространство и любые предметы. Обладают верховной властью над миром.
(обратно)98
Лобнор – бессточное мелководное соленое озеро в Западном Китае.
(обратно)99
Езиды – курды, исповедующие религию, в которой сочетаются древнеиранские (манихейские), иудаистские, несторианские и исламские элементы.
(обратно)100
Гуркхи – объединение различных народов, населяющих Непал, в XVIII веке создавшее единое государство на его территории.
(обратно)101
Кумран и Энгеди – области на западном побережье Мертвого моря.
(обратно)102
Енох – в Ветхом Завете потомок Адама в седьмом поколении (Быт, 5, 21–24). С ним связано множество позднеиудейских легенд, отголоски которых присутствуют в раннем христианстве, исламе, каббале, где он выступает как образец мистического общения с Богом, царь-законодатель, взятый на небо. В некоторых текстах он называется Метатроном, то есть «стоящим у престола» в царстве Яхве.
(обратно)103
Кхадомы – в тибетской мифологии демонические существа женского рода.
(обратно)104
Хутукту – в тибетской мифологии реинкарнация Будды или другого Просветленного.
(обратно)105
Сара Линдер (1907–1981) – немецкая певица и актриса шведского происхождения, звезда немецкого кинематографа времен Третьего рейха, снималась в основном в музыкальных мелодрамах.
(обратно)106
Падеревский Игнацы Ян (1860–1941) – польский пианист и композитор.
(обратно)107
Янь – в древнекитайской мифологии мужское светлое начало, противопоставленное женскому темному началу (инь), причем мироздание понимается как результат гармоничного взаимодействия обоих начал.
(обратно)108
Прорицание Вельвы – одна из «песен о богах» в составе «Старшей Эдды», сборника древнеисландских мифологических и героических песен, записанных в XIII веке. Рассказывает о возникновении и гибели мира и богов.
(обратно)109
Джотто (1266–1337) – итальянский проторенессансный художник. Его фрески сохранились в Падуе, во Флоренции, в Ассизи.
(обратно)110
Сукины дети! (Англ.)
(обратно)111
Ямвлих (III в.) – античный философ-неоплатоник, в его учении присутствуют элементы восточной мистики.
(обратно)